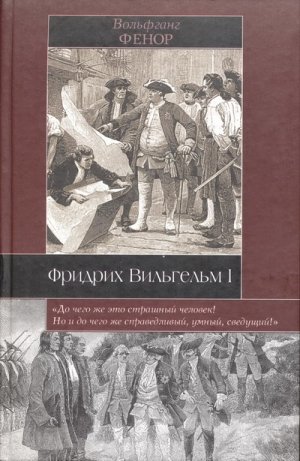
От автора
Лучший знаток прусской истории, Теодор Фонтане, будучи 27-летним молодым человеком, сочинил стихотворение о Фридрихе Вильгельме I и тут же, в первых строках, отмежевался от своего героя, не являвшегося «властителем его дум». Полвека спустя, в романе-завещании «Штехлин» (1897–1898), он писал о том же короле:
«Этот человек, удивительно вписавшийся в свое время и тогда же опередивший его, не был оценен достаточно высоко. Он не только упрочил королевскую власть, но и, что гораздо важнее, создал фундамент для новой эпохи. Разобщенность, своекорыстную раздробленность и произвол он заменил порядком и справедливостью».
Такой вывод — результат многолетних исследований и напряженных размышлений о Пруссии — едва ли был принят во внимание, в том числе и специалистами-историками. Всегда — и в XVIII, и в XIX, и в XX веках — Фридрих Вильгельм I, так называемый король-солдат, оставался фигурой негативной. И 300-летие со дня рождения Фридриха Вильгельма I (1988), и 250-летие со дня его смерти (1990) немецкое общественное мнение почтило великим молчанием. Масс-медиа не упомянули этого выдающегося человека ни в одной строчке, ни в одной минуте эфирного времени.
Впрочем, быть властителем — плохо уже само по себе. Сидящий «на самом верху», а тем более на троне, имеет плохую прессу ex ipso. Мир любит «ниспровергать», а кругозор лягушки временами выгоден. Разумеется, нового здесь ничего нет. Об этом уже писали (правда, более остроумно) публицисты Древнего Рима в III и IV веках после Рождества Христова, вплоть до Прокопия и Аммиана Марцеллина. Так меняются моды, а с ними и критерии исторических оценок.
Но прусский король-солдат всегда пользовался дурной славой. При всех европейских дворах смеялись над прусским «солдатом-дураком», великий Вольтер без обиняков называл его вандалом, король Англии Георг II, шурин Фридриха Вильгельма I, — «фельдфебелем на троне», собственная жена презирала, а старший сын ненавидел. Дочь Вильгельмина на века очернила его в «Байройтских мемуарах». А когда Фридрих Вильгельм I умер, берлинцы, обязанные ему очень многим, от радости танцевали на улицах и площадях.
Почти столетие единогласно вынесенный вердикт оставался неизменным. Сбитое с толку общественное мнение задавалось вопросом: как гениальный сын (Фридрих Великий) мог иметь столь грубого варвара-отца (Фридриха Вильгельма I)? Затем, в 1835 г., вышла биография короля-солдата, написанная неким доктором Фёрстером. Но кто ее прочитал? Пятью годами позже Куглер написал, а Менцель проиллюстрировал биографию Фридриха II, и в этом издании отец снова оказался в тени, отброшенной сыном. Мир однажды вынес приговор (то есть предубеждение), и надеяться на его отмену не приходилось.
Лишь в XX веке устоявшиеся суждения о Фридрихе Вильгельме I были пересмотрены (отчасти). Йохен Клеппер написал проникновенный роман «Отец», которым наслаждалась образованная ост-эльбская буржуазия. А широкие массы были немало удивлены, когда увидели в роли короля-солдата Эмиля Джаннингса (фильм студии UFA «Старый и молодой король»; сценарий: Tea фон Гарбо; постановка: Ганс Штейнхоф). Вот и все, пожалуй.
После 1945 г. быть пруссаком оказалось очень плохо. И надолго. Американцы, англичане, французы и русские, сообща или порознь спалившие в своих войнах куда больше чужих стран и народов, чем канувшая в небытие Пруссия, теперь вошли в роль наставников Германии. Давно не существовавшая Пруссия была «запрещена», а при этом, разумеется, в немилости оказался и Фридрих Вильгельм I. В начале 50-х гг. прошлого века старый добрый профессор Карл Хинрихс, лучший знаток эпохи короля-солдата, вместе со студентами Свободного университета Берлина приступил к изучению реестров советника по налогам Рейнхардта, то есть документов, запечатлевших поразительную социальную политику Фридриха Вильгельма I. Но общественное мнение и тогда сочло более выгодным для себя воинствующее незнание о короле-солдате.
И действительно, король-солдат Фридрих Вильгельм I был человеком ужасным. Оценивая властителя прошлого, следует спросить себя: «Если честно, хотел бы ты жить при нем?» Что касается меня, я бы в ужасе замахал руками и прокричал: «О нет, ни коем случае! Только не при таком драчливом короле!» Конечно, праздник, устроенный берлинцами при получении известия о смерти (да как они посмели!), не говорит об их утонченной вежливости. Но понять их все же можно. Современники короля-солдата действительно страдали от его жестокой натуры, от необузданной и первобытной свирепости этого монарха-берсеркера.[1] Более того: при виде Фридриха Вильгельма I и его палки они тряслись в буквальном смысле слова. Можно ли вообразить что-либо более унизительное для человека, чем животный, рабский страх?
И все же… И все же я не могу отрицать: «злюка» Фридрих Вильгельм I энергично встряхнул прусское государство, а вместе с ним и моих предков из Восточной Пруссии и Бранденбурга и радикально изменил этих людей, причем в большинстве своем к лучшему. Когда я появился на свет, а это произошло в 1925 г., мой родной Берлин являлся одной из мировых столиц наряду с Лондоном, Нью-Йорком и Парижем. Как и эти города, его переполняла жизнь — но она протекала в гораздо более быстром темпе. Таким Берлин существовал уже полвека, и таким он оставался еще пятнадцать лет, пока в 1940 году на него не упали первые бомбы. В течение семидесяти лет это был главный город народа, опередившего к тому времени весь мир в экономике, науке, технике, изобретениях. Но в 1713 году, когда Фридрих Вильгельм I занял королевскую должность, Берлин был всего лишь главной деревней неразвитой страны, простиравшейся от Эльбы до Мемеля.[2] Огромной страны прекрасных и суровых пейзажей, края непуганых зверей, населенного дремучими, не всегда умытыми людьми, о которых уже в XIX веке помнили лишь такие эксперты, как Виллибальд Алексис и Теодор Фонтане. И из подобных людей в течение всего лишь нескольких десятилетий выросли — это граничит с чудом! — обитатели Пруссии, собеседники Гёте, отважные люди, без чьего созидательного подвига немецкая нация не смогла бы состояться еще очень долго.
Этого добился не один только Фридрих Великий. Благодаря блистательному уму и отточенной шпаге просвещенного рыцаря старофранцузской школы Фридриха Великого Пруссия приобрела вид великой европейской державы. Но Пруссию как таковую — государство, полтора века поражавшее мир стабильностью, пережившее все исторические бури, сотворенное из перманентного хаоса и все это время занимавшее немыслимое с точки зрения геополитики промежуточное положение, — эту Пруссию создал Фридрих Вильгельм I! Создал доводами, палкой, силой, приказом.
С некоторых пор историки в нашей стране ведут беседы об «особом немецком пути». Был ли он у нас? Давайте посмотрим.
Немецкие революции (1525–1526 и 1848–1849 гг.) потерпели поражение так же, как французская, английская или русская революции, и все они не создали «нового человека», но породили новые господствующие классы.
С 1871 г. немецкая буржуазия вела себя не более и не менее эгоистично, чем французская, итальянская, британская и другая. Немецкий «революционный» пролетариат, подобно русскому, французскому и прочим, выродился в потребительскую буржуазию. Государство Бисмарка ни в чем не отставало от западноевропейских стран (правда, оно было несколько более миролюбиво, а в социальном отношении более прогрессивно). Следовательно?
Нет, конструировать «особый немецкий путь» — это ненаучно, это служит политической цели: отбить немцам вкус к собственной истории и испортить нацию.
Но вот особый прусский путь действительно существовал в течение ста пятидесяти лет, — с 1713 г., то есть с момента восшествия на трон Фридриха Вильгельма I, до 1863 г., когда Отто фон Бисмарк сумел переделать прусское военно-аграрное попечительское государство в буржуазную либерально-капиталистическую Германию. Объединенные немцы не встали на особый прусский путь, а совсем неоригинально пошли дорогой западных держав (Англии, Франции, США), под знаменами капитализма, колониализма, империализма и экспансионизма. То есть они не стали торить особую национальную тропу, а принялись маршировать в историческом арьергарде по бедственному пути капиталистического, империалистического Запада (да еще и разбили лоб, пытаясь галопом обогнать лидеров).
Западная и прозападная буржуазия всех стран — была ли она представлена Мирабо, Наполеоном, Авраамом Линкольном или Карлом Марксом — пропагандировала нацию (вначале) и класс (позднее) как политических мессий. Прусским особым путем было государство, отличавшееся от аналогичных своей полнейшей свободой от идеологии. Прусская государственная мысль как в теории, так и на практике была весьма далека от притязаний на мировое господство или от попыток предложить эрзац-богов жаждущим верить. Пруссия никогда не пыталась найти своих приверженцев. Служба государству ни в коем случае не означала служения земным идолам.
Того, что стали требовать от человека пятьдесят, шестьдесят, семьдесят лет назад — а требовать стали отказа от внутренней свободы и подчинения всесильному духу времени, на чем настаивают капиталистическая, фашистская, коммунистическая или демократическая идеологии, — прусское государство никогда не вымогало у своих подданных. Пруссия нуждалась не в восторге (то есть самоотдаче), а в выполнении обязанностей (то есть определенном налоге). Такие первичные добродетели, как вера, надежда, любовь, приберегались для Бога; государству хватало и добродетелей вторичных — прилежания, пунктуальности, храбрости. Идеологического трезвона не слышалось. В Пруссии звонили только церковные колокола. В повседневной жизни здесь довольствовались трезвым, прагматичным руководством, учитывавшим реальность. Желавшие над ней воспарить, имевшие «высокие запросы» могли свободно обратиться к религии или к философии. (Все это описал в своей непревзойденной манере граф Мирабо, один из вождей Французской революции.)
И все же благодать и сила Пруссии соседствовали со слабостью и хрупкостью. Утратило силу то веление времени, собственно, и предопределившее существование страны: жизненный срок Пруссии истекал по мере того, как человечество охватывало безумие идеологий, а Бог заменялся мировоззрениями. Для эпохи нетерпимости и фанатизма подобное государство было немыслимо — его не скрепляла собственная агрессивная идеология.
За последние десять — двадцать лет для нас стало модным измерять народы и страны в революциях, то есть в величинах их структурных сдвигов и общественных перемен. Хорошо, продолжим в том же духе.
Революции никак не обязаны всегда начинаться только снизу (единственной революцией в истории, действительно начавшейся с «базиса», явилась Крестьянская война в Германии 1525–1526 гг.). Они могут исходить и «сверху». Когда Александр Великий огласил неслыханную идею объединить ценности западных и восточных народов в единую мировую культуру, это стало беспримерным актом в ряду высочайших волеизъявлений. И «базис», его греко-македонская армия, взбунтовался тоже. Когда Ленина осенила идея смешать западное просвещение с русским деспотизмом под лозунгом «коммунизм плюс электрификация» и таким образом получить Советскую власть, он ввергнул безграмотное население страны в революцию; покорность масс судьбе осталась неизменной. Культурная революция Мао вершилась сверху. Революционное предприятие «банды четырех» не создало для китайского «базиса» ничего, совсем ничего.
Перемены в сознании и в жизни, насаждаемые Фридрихом Вильгельмом I долгие годы правления, тоже были не чем иным, как революцией сверху. Но с одной колоссальной разницей: она удалась! С дубиной в руке этот человек прокладывал дорогу сквозь джунгли средневековых прерогатив дворянства и привилегий нарождавшейся буржуазии. На просеке он воздвиг государство общественного блага. Равенство тогда еще не провозглашалось, девиз эпохи гласил: «suum cuique» — «каждому свое». И все же: из нерях получались чистоплотные люди, из неграмотных вырастали школяры и производители шерсти, жадные, грубые юнкеры становились ограниченными, тщеславными офицерами, из закоренелых лентяев выходили усердные чиновники, галломаны превращались в немцев. Классовый эгоизм отдельных сословий не был сломлен, но был ограничен и приспособлен к нормам гражданского поведения.
Идеологическая ограниченность прячет от современных историков беспрецедентное достижение Фридриха Вильгельма I. Если Французскую революцию 1789 г. можно назвать юридической, а русскую революцию 1917 г. — социальной, то прусскую революцию «сверху», проведенную королем-солдатом, следует считать педагогической. И более того! Французская буржуазия до и после 1789 г. оставалась одной и той же. Она ни в коем случае не изменила своей алчности и своим классовым взглядам, а ее идеология в национальном вопросе окончательно выродилась в узколобый шовинизм. Деспотизм начальства и пассивность масс оставались неизменными на просторах России и до, и после 1917 г.; это, например, продемонстрировал провал горбачевской «перестройки». Однако в Пруссии благодаря Фридриху Вильгельму I «новый человек» возник. Кому еще в истории удавалось подобное? Конечно, новый человек не был образцовым. Даже просветительская страда Фридриха Великого не смогла довести до высокого уровня упрямых, неотесанных ост-эльбцев. С учтивостью в Пруссии всегда было трудно. Но когда речь идет о существовании государства, упрямство становится добродетелью, своенравие — усердием и храбростью, неуклюжесть — терпением и стойкостью. Привлекая подданных к государственной службе, Фридрих Вильгельм I изменил их человеческие качества.
«Если я строю и украшаю страну, не создавая христиан, ничто мне не поможет…» — писал он в 1722 году. Это, на мой взгляд, самая глубокая мысль из всех, когда-либо изложенных на бумаге. Одна лишь переделка властных структур — единственный результат всех революций в истории — ничего, по сути, не меняет. Замена одного класса другим, одной деспотии на следующую, насильственное улучшение придворного этикета не имеют смысла и не оправдывают кровопролития и горы трупов. Нельзя изменить мир согласно требованиям Маркса. Единственное, что хоть как-то может быть изменено, — сам человек. Вот что подразумевал Фридрих Вильгельм I, когда из грубиянов-днкарей Бранденбурга, Померании, Восточной Пруссии он хотел создавать добрых «христиан», то есть сознательных людей. Он, ни разу в жизни не сказавший слова «просвещение», являлся все же величайшим воспитателем народа — в духе Монтескье, через три с половиной десятилетия по восшествии короля-солдата на престол написавшего в самой известной из своих книг: «Просвещение есть воспитание».
Конечно, педагогический фактор имеет сегодня совсем небольшую ценность. Да и вообще — имел ли он большую ценность когда-либо? Воспитание и «свобода» — отнюдь не близнецы-братья. Общественное мнение всех времен никогда не прощало Фридриху Вильгельму I трагедии кронпринца и Катте. На все, что сделал или мог бы не сделать он сам, потомки смотрели сквозь пальцы. Но они упрямо хранят в памяти его бесчеловечную строгость по отношению к собственному сыну и жесткость, позволившую ему казнить в Кюстрине 6 ноября 1730 г. 26-летнего лейтенанта фон Катте.
Либеральный, гуманный, весьма критично настроенный историк Пруссии Теодор Фонтане, всю жизнь презиравший ура-патриотизм и ложные представления о геройстве, считал мрачный день 6 ноября величайшим днем прусской истории, «поскольку он самым ужасным образом показал духовную мощь, породившую эту страну — равно ненавидимую и любимую Пруссию».
«Равно ненавидимая и любимая Пруссия» — под этим определением Фонтане подразумевал и короля-солдата. А «духовная мощь» отсылает нас к печально знаменитой фразе, написанной Фридрихом Вильгельмом I в конце приговора фон Катте: «Когда военный трибунал зачитает Катте приговор, ему следует сообщить, что Его Королевское Величество весьма опечален. Однако будет лучше, если умрет он, чем если бы из мира ушло правосудие».
И это приговор тирана, произвольно решавшего вопросы жизни и смерти? Похоже на то. Да и его сын, кронпринц Фридрих, тоже так думал. Но сострадательный, понимающий Фонтане писал: «Эти величественные слова я никогда не перечитываю (а я их перечитываю часто) без глубочайшего потрясения».
В небывалом прежде конфликте поколений, в разладе короля и принца, отца и сына, мир и сегодня принимает сторону наследника трона, сострадая ему и не желая принимать к сведению то обстоятельство, что первые тридцать лет своей жизни Фридрих II был гениальным, но в высшей степени несимпатичным созданием — наглым, самонадеянным, высокомерным сыном Софьи Доротеи.
Но что привело Фридриха к «чудесному» изменению в 1741 г., когда легкомысленный молодой человек вдруг оказался усердным и самокритичным учеником, когда заядлый картежник внезапно превратился в ответственного государственного мужа, когда он дал себе отчет в собственных мечтах и целях, в результате чего и стал «Великим»? Почему и благодаря кому так случилось? Когда дело приняло очень серьезный оборот, и на кон было поставлено существование государства, а приключение перерастало в судьбу — вот тогда в сыне и проснулась суть его отца. К службе государству и обществу в течение следующих десятилетий Фридриха II привлекла та самая смерть — назидание и завещание короля-солдата.
Как же определить нам этого необычного человека, Фридриха Вильгельма I? Это был король и скряга, пример для подражания и берсеркер, влюбленный в дубину фетишист и фанатик общего блага; гений финансов и экономики; вожак и теленок одновременно; он был удивительно сообразителен (как его мать Софья Шарлотта) и совсем не разбирался в людях (как его отец Фридрих I); он всячески презирал просвещение, но проповедовал немецкое самосознание и заложил основы всеобщего обязательного обучения; милитаризовал государство с головы до пят и в то же время проявил себя умнейшим и мужественным поборником прав человека, сделав Пруссию, наряду с Америкой, пристанищем всех гонимых и беженцев; он не давал покоя подданным и боролся с крепостным правом, с эксплуатацией бедных; признавал только приказ и повиновение, но одновременно все же был убежденным сторонником терпимости и свободы вероисповедания. Он являлся злым деспотом, но и первым в истории социалистом государственного масштаба. Короче: он ни в чем не имел примера, прецедента, первообраза.
Эпитет «король-солдат», приставший к такому человеку, и тесен, и убог. В моих глазах Фридрих Вильгельм I навсегда останется королем-революционером.
Декабрь 2000 г.
Вольфганг Фенор
Пролог
Во вторник 15 апреля 1688 г. Потсдам-на-Хафеле — захолустный городок к юго-западу от Берлина — готовился встречать владетельного князя. Вовсю буйствовала весна. Оживленные, празднично одетые горожане собрались перед замком, дабы достойно принять 68-летнего курфюрста Фридриха Вильгельма Бранденбургского из дома Гогенцоллернов — властителя сильного и любившего эту силу применять. Почти полвека, с 1640 г., он правил страной, и уже лет десять весь мир называл его «Великим курфюрстом». Во второй половине дня курфюрст со свитой прибыл в Потсдам. Когда народ увидел Великого курфюрста, тот, устало кивая подданным, кряхтя и опираясь на палку, выбрался из кареты. Прямая осанка с трудом давалась старику князю из-за подагры, изуродовавшей его ноги и руки. Придворные поспешили заметить, что весна уже прошлась по деревьям на берегу Хафеля. Но тяжелобольной курфюрст лишь печально улыбнулся, когда рядом поставили паланкин: «Я очень хорошо понимаю: мне эта весна пройтись не даст». Царедворцы смущенно переглянулись и закивали, когда заходящийся от кашля Фридрих Вильгельм заявил, что и в Потсдаме работать они будут так же, как и в берлинской резиденции.
Десятью днями позже, в Страстную пятницу, курфюрсту стало ясно: срок его жизни подошел к концу. Ему принесли серебряное зеркало, курфюрст стал разглядывать свое бледное, искаженное болью лицо. «Мой священный долг, — сказал он подданным, почтительно замершим у его кресла, — успеть что-то совершить в этом мире, пока не кончился день. Когда наступит ночь, нельзя будет уже ничего сделать».
В семь утра пасхального воскресенья курфюрст велел одеть себя. Затем созвал Тайный совет и пригласил на него своего сына, 31-летнего принца Фридриха. Когда все собрались, курфюрста в кресле перенесли в зал заседаний. Боль в суставах мучила его невероятно. Но мощная голова в парике, вселяющие страх голубые глаза, воинственно торчащий орлиный нос — все это никак не свидетельствовало о дряхлости курфюрста. «Я чувствую, что присутствую на этом совете последний раз, — тихо начал он свою речь и добавил со вздохом: — Песок в часах моей жизни скоро истечет, и я отлично знаю: мне остались одни лишь страдания». Но затем голос курфюрста окреп, и он продолжил, критически осматривая собравшихся: «Божьей милостью я правил долго и счастливо, но с большими трудностями, изживая беспорядки и войны. Я стремился привести свой дом к славе и величию. Я хорошо знаю, каких тягот и забот мне это стоило, какие страдания причинило стране. После смерти отца я нашел Марку Бранденбург разоренной войной, в состоянии плачевном. С Божьей помощью я привел страну к благополучию и миру. Ее боятся враги и уважают друзья».
Болезненный кашель прервал его слова. Курфюрст захрипел, с трудом глотая воздух. Придя в себя, он взглянул на сына, наследного принца Фридриха. Хилый и сутулый, с опущенными глазами, стоял он между советниками. Фридрих Вильгельм жестом подозвал нелюбимого наследника и сначала посмотрел на него пристально и строго, но, встретив взгляд сына, слегка улыбнулся и сказал: «Прошу тебя, Фридрих, править так же и всегда уповать на Бога». Наследник всхлипнул. Отец продолжал, повысив голос: «Жизнь научила меня: в этом мире нельзя быть правым без железной руки и сильной армии. Заботься об этом».
Курфюрст замолчал: силы покинули его. Но он опять взял себя в руки и протянул сыну манускрипт. «Здесь правила, по которым ты должен править своей страной». Роняя слезы, наследник поцеловал кончики его пальцев. А когда кресло подняли, курфюрст добавил: «Ты должен служить общественному благу, а не своей выгоде».
В последние дни и часы Фридрих Вильгельм испытывал невыносимую боль. Врачи не могли облегчить ее. Снова и снова, через равные промежутки времени, у курфюрста наступали судороги и приступы удушья. Между ними он лежал, закрыв глаза, вспоминая прошлое, снова и снова размышляя о жизни, о победах и поражениях в ней, постигая основы своего существования: честолюбие и карьера, власть и слава.
И действительно, этот неизлечимо больной человек, боровшийся теперь с ангелом смерти в своем потсдамском замке, имел все основания для подведения итогов. Когда на двадцатом году своей жизни он стал курфюрстом Бранденбурга, в Германии еще бушевала Тридцатилетняя война — невообразимая катастрофа, ужасы которой не превзошла даже Вторая мировая. Средневековое государство немцев, семь веков, с 919 до 1618 г., державшее в повиновении Европу, теперь, в 1640 г., содрогалось в последних конвульсиях. Северные, протестантские, области Германии уже потеряли от половины до трех четвертей населения и половину своего добра. Из-за войны Северная Германия отстала от Европы в развитии на целый век.
А как же «его» Бранденбург? Какое наследство получил он в двадцать лет?
Ни одна немецкая провинция — за исключением Силезии, Нижней Саксонии и Мекленбурга — не была опустошена до такой степени, как его Марка Бранденбург, земля между Эльбой и Одером, для которой в 1640 г. он стал защитой и опорой. С 1625 г. по Марке Бранденбург разгуливали разбойничьи полчища графа Тилли и Валленштейна, шведов и саксонцев. Через пятнадцать лет из 340 тысяч бранденбургцев в живых оставались едва ли 200 тысяч. (В сравнении со Второй мировой войной это было, как если бы к 1945 г. из 80 миллионов жителей Германии погибли около 33 миллионов!) Городов как таковых в Марке Бранденбург больше не существовало: численность берлинцев снизилась с 13 до 6 тысяч, в городах Бранденбург-на-Хафеле и Франкфурт-на-Одере, каждый из которых прежде населяли по 12 тысяч горожан, теперь не жило и по две с половиной тысячи, а в некогда 12-тысячном Пренцлау теперь обитали лишь 600 человек. Городской совет Берлина, столицы, безжалостно доложил юному курфюрсту при его восшествии на трон: «Торговли больше не существует; людям есть нечего. Уже в четырех милях отсюда нельзя встретить ни человека, ни зверя, ни кошки, ни собаки. Многие подданные утопились, повесились или закололи себя. Многие умерли вместе с семьями в полнейшей нищете». Когда Фридрих Вильгельм совершал первую поездку по сожженной и разграбленной стране, посетив Бранденбург и Восточную Померанию, из городских руин и обугленных остатков деревень навстречу ему выползали полуголые люди, почти животные — спившиеся, запуганные, полусумасшедшие. Это были живые скелеты, они немедленно съедали все, что могли добыть, а сухарь считали высшей роскошью. При посещении местности Уккермарк, в Пренцлау, ему рассказали: «Часто бывает, люди нападают друг на друга. Тот, кто сильнее, убивает слабого, а потом съедает его».
В 1648 г., но окончании Тридцатилетней войны, Фридрих Вильгельм начал беспримерное дело восстановления страны. Заносчивый, властный, беспощадный и к врагам, и к друзьям, он сделал из своего суверенитета почти неограниченную монархию. Жесткими мерами утверждался он в Бранденбурге и в Восточной Померании, а также в Восточной Пруссии, с 1618 г. принадлежавшей его дому, но все еще бывшей в польском лене. Осторожно и энергично помогал он крестьянам и ремесленникам, драконовскими мерами вразумлял и приводил к покорности дворянство, ожесточенно боровшееся за свои привилегии.
А разве все это время ему не приходилось вести изнурительную войну на два фронта? Внутри своей страны нужно было подавлять классовые притязания и социальный эгоизм юнкерства. И в то же время великие державы Европы — Франция, Испания, Польша, Швеция, Нидерланды и император в Вене отвернулись от него, когда он отважился высказать притязание на равенство. Но разве не было оно справедливо? «Священная Римская империя германской нации» практически выбыла из ряда великих держав, когда на предварительных переговорах о мире 1645 г. император в Вене под давлением извне признал за каждым из многочисленных немецких княжеств право на самостоятельную внешнюю политику. И даже вступать в союзы с другими государствами они могли теперь без согласия императора. Вот и он, Фридрих Вильгельм, действуя самостоятельно и подвергаясь огромному риску, втянул Польшу и Швецию во взаимные интриги и, в конце концов, ко всеобщему недовольству, отобрал в 1657 г. у Польши ленное право на герцогство Пруссию — уж на этой территории он воистину был сувереном. Что касалось курфюршества Бранденбургского, Фридрих Вильгельм признал (и написал об этом в своем политическом завещании 1667 г.): только время покажет, сможет ли оно, опираясь лишь на «собственные силы», сохранить равновесие в отношениях между великими державами, между австро-испанской и франко-шведской партиями. Давно известно: «слабаки не бывают в безопасности». Союзы могут быть хорошими и даже очень хорошими, писал он дальше, но «собственные силы лучше».
Через несколько лет судьба подвергла его власть тяжелому испытанию. На стороне германского императора Фридрих Вильгельм со своими бранденбургцами защищал Эльзас от французских разбойников. Но шведы, союзники французов, вторглись в его родную страну. Со своей маленькой 18-тысячной армией он промчался от Рейна до Рина («моторизированными» колоннами, посадив солдат на крестьянские телеги). На месте, при поддержке партизан из бранденбургских деревень, Фридрих Вильгельм внезапно атаковал прославленную шведскую армию и 27 июня 1675 г. уничтожил ее при Фербелине. За это эльзасская народная песня воспела его как «Великого курфюрста». Но когда в награду за свою победу он потребовал Штеттин, главный город и порт Померании, великие европейские державы совместными действиями показали ему, как низко ценят они бранденбургского выскочку. Штеттин он не получил. Уязвленный до глубины души, Гогенцоллерн выкрикнул, сжав кулаки: «На моих останках вырастет мститель!»
Через десять лет пробил час еще более тяжкого испытания. Всесильный король Франции, Людовик XIV, начал гонения на гугенотов. Все французские протестанты должны были либо отречься от своей веры и перейти в католицизм, либо немедленно покинуть родину. Старый курфюрст Бранденбургский встал, как лев, на их защиту. 29 октября 1685 г. он издал Потсдамский эдикт, в котором бесстрашно заявил о «тяжелых гонениях» (persecutio aspera) на «наших единоверцев во Франции». Сенсационный документ венчали слова: «Испытывая глубокое сочувствие к нашим братьям по вере, сим эдиктом я с радостью предлагаю им безопасность и приют в своей стране».
Этим поступком он стяжал неугасимую ненависть Людовика XIV. Больше 20 тысяч гугенотов переселились в Бранденбург, в неизвестную пустынную страну на востоке, ставшую с тех пор оплотом терпимости, убежищем всех гонимых. В следующем 1686 г. Фридрих Вильгельм передал двум тысячам вальденсам, ради веры пожелавшим покинуть Пьемонт, вольные земли в Альтмарке. Мало выгоды, но много радости доставило Великому курфюрсту прозвище, которым наградили его в некатолической части континента — «supremum caput reformatae religionis in Europa» («глава европейской Реформации». — Примеч. авт.).
Бранденбургский герой яростно сражался со смертью в своем потсдамском замке, гоня мучительные думы на поля минувшего. И наконец этот сильный человек покорился судьбе.
В последний вечер августейшее семейство вместе с советниками, министрами и генералами собралось у постели курфюрста. Он благословил своих детей и сказал: «У меня есть и другие дети. Я принял их из любви к ближнему. Но они дороги мне как родная кровь. Это изгнанные из Франции за их веру. Не выдавайте их!» Курфюрст опустил голову на подушку и взглянул на сына Фридриха: хилая, сутулая фигура, бледное подергивающееся лицо, в расплывчатых чертах которого он, отец, не мог прочесть ничего. «Всегда сверяйся с истиной и с Евангелием», — сказал он ему. Затем курфюрст улыбнулся снохе, девятнадцатилетней Софье Шарлотте, галантно попросил у нее прощения за то, что не в состоянии снять ночной колпак. Курфюрст велел стереть с него предсмертную испарину, и Софья Шарлотта коснулась губами его лба. Еще на миг он воспрянул духом, кинув взгляд на живот снохи: Софья Шарлотта была беременна уже шестой месяц. Она надеялась родить внука Великого курфюрста.
На следующее утро, в девять часов, он умер со словами: «Я знаю, мой Спаситель жив». Он оставил своему наследнику страну, площадь которой увеличил почти вдвое (с 65 до 100 тысяч квадратных километров), население которой при нем удвоилось (с 750 тысяч жителей до полутора миллионов), 25-тысячную регулярную армию, экономику с ежегодным государственным доходом в два с половиной миллиона талеров (из которых сорок процентов уходило на армию) и государственную казну с запасом в 650 тысяч талеров золотом и серебром.
Детство
14 августа 1688 г. в Берлине, столице Бранденбурга, родился принц. Здоровый мальчик весом в шесть с половиной фунтов был крещен Фридрихом Вильгельмом — в честь деда. Родился внук Великого курфюрста, мысль о котором умиляла прославленного князя из рода Гогенцоллернов на смертном одре три месяца назад.
Позднее историографы Пруссии пытались увидеть нечто особое в этом дне рождения, озарившем всю прусскую историю. На самом же деле день 14 августа никому — кроме родителей, конечно, — не давал поводов для особых волнений и надежд. Одним принцем и маленьким горожанином в Берлине стало больше — ну и замечательно. Это событие не стало политическим, оно утонуло в суете, охватившей тогда двор курфюрста в Берлине так же, как и всю Европу. Минуло три месяца с того дня, как великий курфюрст почил, а его сын, Фридрих III, взошел на отцовский трон. Три месяца, как Вильгельм Оранский, протестантский штатгальтер Нидерландов, высадился в Англии и, одолев католических Стюартов, предрешил становление Великобритании как мировой державы и по-прежнему вековой соперницы Франции.
Очевидно, что рождение бранденбургского принца Фридриха Вильгельма произошло в наименее благоприятный момент. Государства, как и люди, имели слишком много других забот, чтобы беспокоиться о новорожденном принце, крещенном водой Шпрее. Даже его отец, курфюрст Фридрих III, не способен был сосредоточиться на рождении наследника. Вот уже три месяца курфюрст участвует в спектакле по поводу смерти своего отца, желая обратить внимание света на Берлин. Уже в день отцовской кончины он отправил ко всем дворам Европы курьеров с детальной программой траурных церемоний и приглашениями. Днем позже в бранденбургских крепостях Шпандау и Кюстрин войска присягали на верность новому господину, а возле замка в Потсдаме губернатор, генерал-фельдмаршал и лейтенант фон Шёнинг при народе взмахнул своей шляпой и трижды прокричал: «Виват Фридриху Третьему, курфюрсту Бранденбурга!» В четыре утра 17 мая набальзамированное тело Великого курфюрста доставили из Потсдама в драпированный черным зал берлинского дворца и положили на золотую парчу церемониального ложа. Позднее, 21 мая, покойника торжественно перенесли в замковую часовню. Четыре месяца министры и генералы, полковники и лейтенанты с креповыми повязками на шляпах и с черными шелковыми лентами на эфесах шпаг стояли у открытого гроба в почетном карауле. И все это время шли и шли послы европейских властителей, чтобы оказать почтение покойному и поклониться новому курфюрсту.
Лишь 12 сентября, через четыре недели после едва замеченного рождения принца Фридриха Вильгельма, усопшего торжественно доставили в фамильный склеп старого берлинского собора, где уже лежали останки пяти бранденбургских курфюрстов, и тело Великого курфюрста воистину обрело покой. (До 1750 г., когда гробы с курфюрстами были переправлены в склеп заново отстроенного собора в берлинском Люстгартене. Фридрих Великий, лично наблюдавший за этим, велел оставить гроб курфюрста открытым. Лик и верхняя часть тела покойного хорошо сохранились. Огромное жабо, желтые перчатки с отворотами до локтей и роскошный княжеский парик украшали его. Правнук долго смотрел на деда, затем поклонился и сказал приближенным: «Messieurs, celui-ci a fait des grandes choses» — «Господа, сей муж вершил великие дела».)
Но не только почести предку, небывало пышные для тесных улиц Берлина, удерживали Фридриха III от порывов радости и отвлекали его от колыбели, где барахтался в своих пеленках сыночек Фридрих Вильгельм. На горизонте европейской политики собирались тучи, и в берлинском дворце одно заседание Государственного совета следовало за другим. Сильнейший властитель континента, Людовик XIV, прославленный французский «король-солнце», шесть лет назад переехавший в роскошный Версальский дворец — отныне символ королевского достоинства, — подтянул воинские части к границам рейха. Император в Вене Леопольд I поспешно заключил союз с «морскими державами» Англией и Голландией, которые не признавали первенства Франции ни в Европе, ни в заморских землях. Война витала в воздухе, и Европа раскололась на два блока. Пропаганда опиралась на то, что уже тогда лицемерно называлось «европейским равновесием», хотя речь шла о другом: Франция Людовика XIV использовала к своей величайшей выгоде тридцатилетнюю бойню 1618–1648 гг. и теперь собиралась унаследовать старинную власть германских императоров, в то время как Лондон при виде континентального конфликта намеревался уйти в его тень и распространить свое превосходство на море и на прибрежные земли Атлантического океана.
Девять лет (1688–1697 гг.), вплоть до Рисвикского мира, борьба идет во всех направлениях, но прежде всего в Германии и в Голландии. Это и первые годы жизни маленького принца Фридриха Вильгельма, подраставшего во дворцах Берлина и Потсдама. Но ведь известно, как важны впечатления, дающие пищу уму и фантазии ребенка в первые десять лет его жизни.
Что может впечатлить маленького Фридриха Вильгельма в те 1688–1697 гг., когда повсюду звучит боевая труба и грохочут пушки? О чем разговаривают взрослые, когда он сидит с ними за столом или прислушивается к их вечерним беседам у камина?
Осенью 1688 г. две французские армии напали на Пфальц и Рейнланд и прошли через эти земли с грабежами и пожарами. Людовик XIV, уже в 1679 г. отхвативший Эльзас и Лотарингию, в 1681 г., нарушив мир, напал на имперский город Страсбург и сделал его своим. Он учел затруднительное положение императора Леопольда, с 1683 г. едва сдерживавшего натиск орд турецкого султана, дошедших до ворот Вены. Впервые за всю историю Германии перед ней встала проблема войны на два фронта, впервые ей приходилось вести борьбу, оказавшись между Западом и Востоком (и это положение стало ее участью на следующие двести пятьдесят лет).
Уже сорок лет, с Вестфальского мира 1648 г., немецкий рейх — лишь призрак самого себя: безвластный, бессильный, расчлененный. Курфюрст Баварии, например, открыто симпатизирует французам. Но вот по Германии прокатился крик ужаса: стало известно, какие жестокости творили французы на немецкой земле. Под началом генералов Меласа и Лувуа они прилагают все усилия к тому, чтобы превратить Рейн-Пфальц и даже всю юго-западную Германию в пустыню. Это подлинное варварство. Славные имперские города Вормс и Шпейер стали грудами щебня, весной 1689 г. французские вояки взорвали гейдельбергский дворец (и создали — нечаянно, разумеется, — аттракцион для туристов на ближайшие двести лет).
В мае того же года бранденбургские отряды спешно выступили на помощь императору, освободив в июне город Кайзерсверт. Затем. 16-тысячный отряд бранденбуржцев окружил хорошо укрепленный Бонн, занятый восемью тысячами французов. 24 июня начался обстрел города из 161 орудия. Обстрел длился четыре дня и четыре ночи и превратил город в руины. 12 октября, после упорного сопротивления, французские оккупанты вынуждены были сдать Бонн бранденбургжцам.
Через несколько дней герольды прискакали в Берлин и огласили радостное известие: «Бранденбуржцы взяли Бонн!» Берлинцы праздновали победу, а во дворце у окна стояла юная принцесса Софья Шарлотта. Она показывала народу своего четырнадцатимесячного сына.
Но вскоре стало известно, что французский маршал де Крекю, чей корпус разграбил и сжег Вормс, ознакомил офицеров с планом по уничтожению в Германии еще 1200 городов и сел. 21 октября правительство курфюрста издало в Берлине торжественное объявление германского императора, где говорилось на тогдашнем косном и педантичном языке:
«Дошло до нас, что Франция учинила в Священной Римской империи, возлюбленном Отечестве германской нации, дела столь мерзкие и лютые, о которых не слыхивали в войны языческие и турецкие, не говоря уж про христианские; оказалось, что Франция хочет не только поработить германскую нацию, но и пожрать ее без остатка. Опустели города наши древние Шпейер, Вормс, Мангейм, Оффенбург и прочие, где в неслыханном буйстве не только сожгли и разграбили дома, но осквернили могилы, не пощадив прах императоров и королей, издревле упокоенных, а в Божьих обителях не оставили камня на камне…»
Нетрудно представить себе шок, пережитый немцами. Война бушевала почти десятилетие. Маленький принц Фридрих Вильгельм слышал только о битвах и солдатах. Рассказам и легендам про то, как бранденбургские части сражались на всех фронтах — 12 тысяч человек против французов, 12 тысяч против турок, все вместе под девизом «За императора и империю!» — в покоях курфюрста не было конца. Небылицы и свидетельства переходили из уст в уста, восхваляя непревзойденную храбрость бранденбуржцев, а раскрасневшийся принц, сидящий на коленях у матери или фрейлины, все не мог наслушаться. Говоря о бранденбуржцах, английский король Вильгельм III, командовавший войсками в Нидерландах против французов, признавал: «Они прекрасные воины, исполненные отваги». В борьбе с турками бранденбуржцы особенно отличились при Сценте. Рассказывают, как принц Евгений Савойский, прославленный имперский полководец, обнял бранденбургского командира со словами: «Победа одержана благодаря Богу и бранденбуржцам!» После белградской осады 1692 г., при которой принц Евгений разгромил турок, бранденбургские ветераны принесли в Берлин строевую песню «Принц Евгений, честный рыцарь». Наряду с протестантскими хоралами этот марш Фридрих Вильгельм всю жизнь считал своим любимым песнопением.
Будем помнить об этих глубоких и ярких впечатлениях первых десяти лет жизни, желая представить себе образ Фридриха Вильгельма, будущего короля-солдата. Битвы и знамена, барабаны и фанфары, борьба немцев с чужаками, с ненавистными французами будоражили душу подрастающего мальчика и наложили отпечаток на всю оставшуюся жизнь.
О детстве Фридриха Вильгельма сохранилось мало сведений, если не принимать во внимание обычные дворцовые сплетни. Он был, несомненно, милым мальчиком с рыжеватыми волосами, здоровым цветом лица и невысокой кряжистой фигурой. Уже в возрасте трех лет, приехав к родителям матери в Ганновер, он вызвал всеобщий переполох, когда начал раздавать пощечины упрямым товарищам по играм. Поднялся ужасный крик, тогда как Фридрих Вильгельм с горящими глазами объяснял матери и няньке, фрейлине фон Хартунг, что мальчишки не пожелали его слушаться. Мать, принцесса Софья Шарлотта, всплеснула руками и притворно ахнула, внутренне восхищаясь этаким «сорвиголовой». На следующий день она видела, как ее сыночек схватил за волосы будущего герцога Курляндии и протащил его через всю комнату, называя «бабой», так как тот выл и не оказывал сопротивления. Софья Шарлотта крикнула: «Mon cher fils, que faites vous la?» («Сын мой любимый, что же ты делаешь?») То же самое произошло с принцем Георгом, позднее королем Англии. Он неоднократно бывал бит Фридрихом Вильгельмом. Итак, маленький принц оказывается негодником, забиякой. Созревал наследник трона, и родители не воспитывали его, а баловали, все дозволяя.
Повседневная жизнь мальчика проходила в берлинском дворце, прежде всего в Люстгартене. Люстгартен тогда по праву носил свое имя.[3] Согласно желанию бабушки Фридриха Вильгельма, Луизы Генриетты, родившейся в Нидерландах, придворный архитектор Мемхардт превратил на голландский манер землю возле берлинского дворца в огромный декоративный сад, окаймленный вишневыми и миндальными деревьями. В этом маленьком раю и перебесился принц. Сбегая каждое утро по каменной лестнице, украшенной скульптурами, он попадал в так называемый Верхний сад, представлявший собой множество тенистых арок с мраморными статуями и фруктовый сад, где на деревьях красовались прелестные домики для птиц. Это было идеальное место для игры в прятки. А в двух шагах отсюда, у воды, колоннада лип предваряла Нижний сад с его дендрарием и оранжереей, вмещавшей шестьсот апельсиновых деревьев. Няньке-фрейлине приходилось изрядно побегать, чтобы доставить принца во дворец, — громко протестуя, он убегал в огород, где росли самые разные травы и овощи. Эту часть Люстгартена принц и его товарищи по играм особенно любили. Меж овощных грядок располагались в форме звезды восемь искусственных каналов. Здесь можно было вволю бултыхаться в воде, всласть покидаться «омлетиками», как называли берлинские мальчишки эти омерзительные сгустки грязи.
Обернувшись к дворцу, Фридрих Вильгельм мог видеть рабочих на деревянных лесах. По указанию курфюрста архитектор Андреас Шлютер продолжал строительство. Как завороженный следил маленький принц за резкими, но отточенными движениями берлинских каменщиков и штукатуров. Все утро, бывало, он проводил рядом с ними, не отрывая глаз от их рук. А во второй половине дня, отправляясь с матерью на чаепитие в павильон, построенный Мемхардтом в 1650 г., он мог забраться на самый верх и оттуда увидеть лежащий у горизонта Шпандау — город и крепость.
Принц, отправляясь с гувернанткой на прогулку по бранденбургской столице, обходил ее за час. Берлин едва ли насчитывал 25 тысяч жителей. Ядро города в то время составляли три района: основанный в 1660 г. Фридрихсвердер, заложенный в 1674 г. Доротеенштадт (названный по имени второй жены Великого курфюрста; через него проходила широкая улица Унтер-ден-Линден) и только что созданный Фридрихштадт — он начал расти в 1688 г. и к 1695-му, когда Фридриху Вильгельму было семь лет, состоял из трех сотен домов. Возвращаясь во дворец «улицей под липами», слева можно было увидеть грандиозную стройку, где архитектор Жан де Бод возводил для армии курфюрста роскошное квадратное здание арсенала. Далее располагался дворцовый мост, построенный из пирнского песчаника в 1692 году инженером Кайаром. Берлин, в котором Фридрих Вильгельм провел первые годы жизни, перешагнул сельские рамки. Город превращался в подлинную столицу.
Новый курфюрст, Фридрих III, многое сделал для Берлина. Уже при Великом курфюрсте, в 1679 г., установили первые фонари, правда, только на углах больших площадей. Затем фонарями освещались и почти все городские улицы. Предместья Берлина тоже планомерно улучшались: во Фридрихсфельде (бывшем Розенфельде) и в Шёнхаузене возникли небольшие летние резиденции, в Потсдаме разбили великолепный парк. Даже борьба с тогдашней неимоверной грязью на улицах велась успешно. Прежде горожане спокойно выливали помои на немощеные улицы, а гулявшие там свиньи, визжа и отпихивая друг друга, рылись в объедках. Во времена Великого курфюрста попасть на дворцовый праздник сухим и чистым, в блестящих ботинках и белых чулках было практически невозможно. Берлинские мальчишки получали поистине королевское удовольствие: они потешались над высокопоставленными дворянами и горожанами, уберегавшими драгоценные наряды от смрадной грязи, шествуя по улицам на ходулях. Ведь в некоторых местах грязь доходила почти до колен (а могла бы доходить и выше, если бы крестьян, возвращавшихся с рынков, не заставляли вывозить берлинскую грязь на опустевших телегах). Теперь, при Фридрихе III, каждого домовладельца обязали вымостить улицу от его дома до середины проезжей части. Одновременно в городе запретили содержать и откармливать свиней. А уличные старосты получили из городского совета строгий наказ: «Каждому, кто выбросит сор из дворов и стойл на улицу, забросьте этот мусор в его дом!» И это помогло. Вскоре по улицам Берлина стало возможным ходить с сухими ногами и даже в туфлях и шелковых чулках.
Между тем принц Фридрих Вильгельм продолжал расти. Страшные детские болезни того времени, зачастую приводившие к смерти, миновали его. Все больше он привыкал к тому, что всегда и во всем бывает прав. 29 декабря 1692 г., когда мальчику было четыре года, гувернантка мадам де Монбель, изгнанная из Франции с другими гугенотами и нежно заботившаяся о своем воспитаннике, попыталась отобрать у него усеянную кнопками и шипами обувную пряжку старинного серебра. Принц затопал ногами и, прежде чем ему успели помешать, проглотил эту довольно крупную вещь. Гувернантка закричала; оповещенная о происшествии Софья Шарлотта упала в обморок. Вечером сообразительные доктора дали мальчику сильное слабительное. На следующий день сверкающая первозданной свежестью пряжка вышла естественным образом (а потом долгие годы хранилась в Берлинской кунсткамере как «отечественная достопримечательность»). Годом позже измученная гувернантка обещала кривлявшемуся принцу лишить его завтрака. Фридрих Вильгельм мгновенно распахнул окно, забрался на подоконник, сверкая глазами и угрожая спрыгнуть с четвертого этажа, если тотчас же не получит завтрак. И что же произошло? Разумеется, бледная как смерть прислуга тут же накрыла на стол. Никто во дворце и не помышлял о том, как бы наказать мальчишку, хорошенько надрать ему задницу. Драчливый мальчишка бесстыдно пользовался мягкосердечностью женской половины дворцовой челяди; ему явно не хватало строгого мужского воспитания.
У этого маленького принца обнаружились и другие черты характера, вызывавшие удивление и пересуды. Он не только восхищался работой каменщиков и плотников, а проявлял также горячий интерес к лошадям, коровам, свиньям: хотел знать, чем их кормят и поят, как их чистят и скоблят, — то есть имел совсем не королевские увлечения. А кроме того — и это, пожалуй, было в нем самым необычным, — мальчик с ранних лет начал выказывать неприязнь к пудре и парфюмерии, к косметике любого вида и буквально рвался купаться. Двор немел и лишь качал париками — как же еще он мог отреагировать на эти выходки? В XVII и XVIII веках о мыле и чистоплотности еще не было известно. Господствовала пуховка для пудры, а ежедневное омовение лица и рук считалось экзотикой.
В кого же уродился этот мальчишка? От кого маленький бранденбургский принц получил странные, поразительные свойства своего характера?
Конечно, от деда, Великого курфюрста, имя которого он носил. Это его «горячая кровь» передалась внуку, о чем позже писал Фридрих Великий. Фридрих Вильгельм унаследовал также властолюбие деда, его необузданное упрямство, чудовищную самоуверенность, способность мгновенно впадать в бешенство, возненавидеть и полюбить.
Однако не стоит забывать и о бабушке (хотя вспоминают ее нечасто) — Луизе Генриетте, урожденной принцессе Оранской, первой жене Великого курфюрста. Она вышла замуж и оказалась в Берлине в 1646 г., за два года до окончания Тридцатилетней войны. И как бы счастливо ни протекала супружеская жизнь Луизы Генриетты, она не могла забыть свою нидерландскую родину — в том, что касалось благ цивилизации, Нидерланды очень сильно отличались от бедного, разоренного Бранденбурга. Двадцать один год Луиза Генриетта была женой курфюрста и образцовой матерью для жителей Бранденбурга, Померании и Восточной Пруссии. Но все же она так и осталась голландкой.
В эпоху фаворитизма и беспринципной фривольности, победившей тогда все королевские дворы, Луиза Генриетта стала олицетворением супружества, основанного на верности и любви, — то же достоинство мы найдем и в ее внуке. Мы увидим, что Фридрих Вильгельм следовал (конечно, совершенно бессознательно) примеру своей бабушки — ее упорной приверженности всему традиционному, самобытному, ее решительному неприятию всего модного. Луиза Генриетта, например, последовательно пренебрегала французскими нарядами и ввела при берлинском дворе простой голландский стиль. Она обладала сильной волей и всегда очень хорошо знала, чего хочет. Великий курфюрст часто советовался с ней по вопросам политики. Иногда, раздраженный ее встречными доводами, он даже приходил в бешенство и спрашивал: кто, собственно, носит княжескую шапку («Правьте вы, мадам!» — крикнул он однажды, швырнув шапку на пол). Ту же неуемную, доходящую до упрямства энергию мы встретим и во Фридрихе Вильгельме. Его бабушка-кальвинистка была набожной и твердой в своей вере, любила в христианстве положительное, оптимистичное, сильное начало, была далека от религиозного ханжества. Написанный ею протестантский церковный хорал «Иисус, моя вера» поют и сегодня. И в короле-солдате мы видим человека, преданно любящего Всевышнего: детская вера в Господа на небесах всегда оставалась путеводной нитью всей его жизни.
Луиза Генриетта Оранская первая приобщила берлинцев и бранденбуржцев к голландской опрятности и культуре. Она чуть не потеряла дар речи, когда узнала, как живут ее подданные. Низкий уровень животноводства и земледелия новой родины поверг ее в ужас. Через четыре года после прибытия Луизы Генриетты в Берлин, 24 сентября 1650 г., курфюрст передал в ее полное распоряжение Бётцов — местность к северу от Берлина. Обязательная и дотошная, практичная и трудолюбивая, она смогла превратить луга и пастбища Хафеля в образцовые голландские угодья, ставшие впоследствии примером и даже учебным предприятием для бранденбургских животноводов и сыроделов. Небольшой охотничий замок Бётцов и его окрестности уже через десять лет выросли в крепость и город Ораниенбург, названный так в честь ее родины. Как по мановению волшебной палочки возникли огромные парки и сады, крестьянские дома голландского типа, где все сверкало чистотой, образцовые молочные хозяйства, снабжавшие весь Берлин.
В 1662 г. из Восточной Пруссии, куда Луиза Генриетта поехала с мужем, она писала своему помощнику в Берлин: «Что касается Ораниенбурга, прошу вас: распорядитесь все ускорить! К сожалению, вы еще ничего не сообщили мне про уборную, которую следует облицевать фарфором… Вышлите же мне описание Ораниенбурга, расскажите, как он выглядит, как переделаны дверь и нижний двор, насколько продвинулось строительство. Сделан ли на кухне колодец, чтобы больше не приходилось таскать воду? Напишите, вымощен ли двор и дорожка вокруг дома, где расположены пруды для карпов, и как вообще обстоят дела с садом». Годом позже, в 1663-м, в одном из ее писем говорилось: «Право же, столь плохое состояние моих коров меня разозлило. Я не могу этого понять — ведь в берлинском Тиргартене они получают тот же корм и чувствуют себя прекрасно. Что касается карповых прудов, они не дают мне покоя и я думаю, их следует окружить деревьями. Прошу вас весной распорядиться пустить в большой пруд еще больше карпов… Я благодарю Бога за то, что мои дети живут там так хорошо. Не могу описать, как мне хочется их увидеть, здесь я страшно скучаю».
Но не в высочайшем покровительстве Ораниенбургу (оно ни к чему не обязывало) заключается особая заслуга Луизы Генриетты. То же самое делали другие короли и королевы того времени: «меценатство» повсеместно принадлежало к числу обязанностей, выполнявшихся дворами. Нет, стремление обо всем позаботиться лично и жажда совершенства были теми качествами, которые она передала в наследство внуку. Луиза Генриетта сама экзаменовала голландских колонистов, приехавших в страну, заботилась о каждом, пока он не находил крышу над головой и новую родину в чужом краю, ежедневно инспектировала, высоко подоткнув платье, коровьи стойла и маслобойни, контролировала кухню и погреб, самолично отправляла масло и сыр на рынки Берлина. Короче, она являлась образцом аккуратной, добросовестной хозяйки, будучи при этом чрезвычайно бережливой, ведя точный бухгалтерский учет, записывая каждый выданный и полученный грош и талер. «Прошу вас, — писала она в Берлин во время посещения города Клеве, — прикажите управляющему Штурму, чтобы он, высылая деньги, впредь сообщал, откуда они поступили, дабы я могла внести их в книгу, где добросовестно записываю все, что получаю и трачу».
Все то, что позднее, по воцарении Фридриха Вильгельма в 1713 г., произвело такой фурор и повергло мир в изумление, мы сможем понять, лишь представив себе образ его деловитой бабушки, курфюрстины Луизы Генриетты. Она сказалась не в своем сыне Фридрихе, а во внуке. Да, даже по ругательствам, упрекам и окрикам мы узнаем во внуке бабушку, которая писала 27 апреля 1657 г. в Ораниенбург, что было «гнусно и совершенно безответственно» не собрать во всех садах столько хмеля, сколько необходимо пивоварне; причиной тому оказалось не что иное, как «позорная лень».
Зато курфюрст Фридрих III, родившийся 12 июля 1657 г. и правивший в Бранденбурге с 1688 г., совсем не походил на принца Фридриха Вильгельма. Человек среднего роста, но отнюдь не приземистый — наоборот, нежного и почти хрупкого сложения, с осанкой отнюдь не гордой, но робкой и согбенной. Спина сутулая, за что берлинцы непочтительно прозвали курфюрста «кособоким Фридрихом» (кормилица уронила его и промолчала, и лишь на седьмом году жизни родители обнаружили у Фридриха серьезное искривление позвоночника). Лицо бледное и болезненное, по утрам он накладывает румяна, чтобы это скрыть.
Историки жестоко обошлись с этим человеком. В их книгах он, рядом с фигурами Великого курфюрста, короля-солдата и Фридриха Великого, кажется досадным недоразумением, изъяном в династии Гогенцоллернов. Считается, что вина за это лежит на его внуке, прославленном Фридрихе из Сан-Суси, который будто бы изрек по поводу деда в своих мемуарах: «Великий в мелочах, мелкий в великом». В оригинале этих слов не было. Строго говоря, эти слова — плагиат. Но конечно же, ему был известен отзыв его остроумной бабушки Софьи Шарлотты о своем супруге Фридрихе III: «Лейбниц хотел мне объяснить, что подразумевается под „бесконечно малым“. Неужели он забыл, что я жена Фридриха? Или он полагает, что я не знаю своего мужа?»
Бесспорно, главными чертами характера Фридриха III были его тщеславие, расточительность и стремление к роскоши. Хотя Фридрих ненавидел Людовика XIV, французского «короля-солнца», бывшего врагом его государства и народа, двадцать пять лет своего правления он фактически потратил на буквальное воспроизведение стиля версальского двора. Уже в десять лет он, с позволения отца, учредил собственный орден «de la générosité»,[4] который раздавал настолько расточительно, что через два года отец был вынужден вмешаться и прекратить это бесчинство. Энергичности и способности принимать решения в критических ситуациях Фридрих III почти не проявил. Полностью доверял только льстецам.
И все же у него были положительные качества. Достойны всяческого уважения упорство и настойчивость, с которыми Фридрих III следовал однажды принятому решению, отстаивая его и в конце концов осуществляя. Уже в восемь лет он решил жениться на своей кузине, принцессе Генриетте Гессен-Кассельской. Все только смеялись над этим детским планом и, включая мать маленькой принцессы, были решительно против их брака. Но Фридрих упрямо, спокойно и непоколебимо, противясь даже воле строгого отца, Великого курфюрста, шел к этой цели, пока в 1679 г. не привел свою возлюбленную Генриетту к алтарю в Потсдаме. Немилость отца, прогнавшего его в замок Кепеник и четыре года, до ранней смерти Генриетты, не допускавшего его ни на заседания Тайного совета, ни на другие правительственные мероприятия, он сносил безмолвно и упрямо, постоянно прихварывая и страдая, становясь все бледнее, невзрачнее и тверже в любви к Генриетте и верности ей, своей первой жене.
С 1684 г. он был женат на подвижной, элегантной, милой Софье Шарлотте из Ганноверского дома, родившей ему крепенького Фридриха Вильгельма после того, как два маленьких принца умерли в колыбелях. Вскоре Фридрих III отдалился от духовно превосходившей его супруги, отдав все силы воплощению главной мечты своей жизни. Мечты, родившейся из услышанных еще в раннем детстве пророчеств о том, что он, Фридрих, сделает дом Гогенцоллернов самым блестящим в Европе. Этот человек, поступавший «косо» и смешно, слепо доверяясь своим подхалимам, человек, любящий рядить свое ущербное тело в роскошные одежды из бархата и шелка, из пурпурной ткани и парчи, имел грандиозную цель и шел к ней железной поступью. Он достиг ее, и никто не извлек из этого выгоды больше, чем его сын, принц Фридрих Вильгельм.
К отцу маленький принц относился с уважением, но без теплоты. Он не был к нему сильно привязан. Когда же Фридрих Вильгельм пытался проявить сыновнюю любовь, она заглушалась дворцовым церемониалом, уходила в облака фимиама, окружавшие трон его отца. Принц любил мать, курфюрстину Софью Шарлотту. Мать была с ним очень нежна, во всем ему потакала, но сын ни в чем не унаследовал ее характер. Софья Шарлотта, вышедшая замуж в шестнадцать лет, была четвертым ребенком жизнерадостного принца Эрнста Августа Ганноверского. Его главным занятием в жизни было тратить казенные деньги на итальянских танцовщиц и певиц. Женат он был на Софье, урожденной принцессе Пфальцской, по прямой линии происходившей от прекрасной и честолюбивой Марии Стюарт, даме умной и состоявшей в духовном родстве с величайшим философом эпохи Готфридом Вильгельмом Лейбницем. Дочь, Софья Шарлотта, унаследовала веселый нрав, но не бесконечное легкомыслие отца. Умом и образованностью Софья Шарлотта затмила матушку: уже в пять лет она прекрасно говорила на французском, английском и итальянском языках.
Насколько Фридрих III, всегда охотно подчинявшийся дворцовому этикету, был скованным и неестественным, настолько же непринужденно, празднично и естественно вела себя при берлинском дворе Софья Шарлотта. Она оказалась совершенно свободной от сословных предрассудков; ее можно назвать «духовной республиканкой». Она ввела в свой круг дам из гугенотской колонии, бесконечно превосходивших жительниц Берлина и Бранденбурга по грациозности, такту, обворожительности, культуре. А поскольку эти беженки, только что покинувшие свое французское отечество, не могли добыть изысканные платья и экипировку (этого от посетителей дворца требовал одержимый манией роскоши курфюрст), Софья Шарлотта не долго думая разрешила дамам своего общества приходить ко двору в черном.
Вокруг этой юной и прекрасной, всегда веселой курфюрстины вскоре собрался изысканный круг образованных и высоконравственных людей. Можно сказать, уже тогда на бранденбургской земле возникла «республика» свободного духа и остроумия — за сорок лет до того, как внук Софьи Шарлотты, Фридрих Великий, вызвал удивление эпохи свободомыслием своего двора в Рейнсберге.
Это был мир, навсегда оставшийся закрытым для крепко сбитого, практичного и прямодушного принца Фридриха Вильгельма. Он уклонялся от французских бесед матери, предпочитая слушать рассказы усатых солдат и офицеров о знаменитых сражениях, восторгался знаменами и барабанами, интересовался работой каменщиков и плотников, со знанием дела рассматривал коровьи и лошадиные морды, а свежий ветер любил больше, чем спертый воздух дворцовых покоев, сдобренный парфюмерными ароматами. Нельзя найти почти ничего, в чем мать и сын походили бы друг на друга; разве что неприязнь ко всему французскому была у них общей. Софья Шарлотта, больше года прожившая в Версале и оказавшаяся на волосок от брака с сыном Людовика XIV, говорившая почти исключительно по-французски, тонкая ценительница французской живописи, философии и литературы, от всей души презирала фривольные обычаи и вопиющую аморальность, свойственную верхам Парижа и Версаля.
Софья Шарлотта не любила своего мужа, ее брак был устроен честолюбивой матушкой. Супружеские ласки она переносила скрепя сердце как выполнение супружеской повинности. Когда по вечерам курфюрст Фридрих приближался к ее покоям, чтобы исполнить свой супружеский долг, она искала прибежище в ироничном смирении. Прежде чем муж входил в будуар, слышались торжественные шаги двух придворных, державших в руках огромные подушки разных форм. Их неподвижные, каменные лица будто отражали грядущее уединение супругов на ворсистом ковре.
Однажды, когда зловещие подушки вносили в очередной раз, Софья Шарлотта писала письмо придворной даме и подруге фон Пёльниц. «Я должна заканчивать, — торопливо сообщала она. — Ужасные подушки идут! Меня тащат к алтарю. Что Вы об этом думаете? Будет ли жертва заколота?» И все же она как могла терпела своего мужа, соблюдала приличия и никогда не давала ему поводов для недоверия и ревности. И это поведение тоже было перенято сыном.
Когда наступил 1695 г., беспечная детская жизнь семилетнего Фридриха Вильгельма закончилась. Курфюрст назначил генерал-лейтенанта и тайного советника, графа Александра Дону, бывалого офицера и человека чести, обер-гофмейстером принца. 1 февраля Дона получил подробную инструкцию. В ней излагались принципы воспитания и обучения мальчика, разработанные премьер-министром бароном Эберхардом фон Данкельманом. Инструкция устанавливала, что принц должен просыпаться в 6 часов утра летом и в 6.30 зимой, а ровно в 10 часов вечера ложиться спать. Сразу же после подъема и непосредственно перед отходом ко сну он должен был вместе со своим слугой упасть на колени, страстно помолиться Богу и прочитать псалом. А в конце недели дважды посещать церковную проповедь, чтобы детское сердце насладилось словом Божьим.
«Лучше всего принц должен понимать величие и всевластие Бога, дабы всегда испытывать священный страх перед Всевышним и Его заповедями», — начиналась инструкция. И здесь же приводился интересный довод: «Это единственный способ удержать Их Высочества, не подверженные людским законам и наказаниям, в рамках приличий, поскольку, хоть они и стоят над всеми людьми, перед Божьей властью они ничто, как прах и пепел» (золотые слова, которые не мешало бы запомнить нынешним властителям).
Принц должен стремиться к «славе и чести». И тут же требование ограничивается: «Под этим следует понимать не гордость и высокомерие, и так пробирающиеся во дворец и усиливающиеся благодаря лести придворных, но добродетельное намерение стяжать хвалу и любовь на земле и заслужить вечную посмертную славу». Примерным поведением Фридрих Вильгельм должен был заслужить право называться «homme honnête».[5]
Слишком утомлять мальчика грамматикой не следовало. Но учить латынь он был обязан, потому что тогда она использовалась в дипломатическом обиходе Европы. История, французский язык и математика также были обязательны; и все же наибольшее значение придавалось элоквенции, ораторскому искусству. Поскольку: «Ничто не приличествует государю больше, чем умение хорошо говорить. Поэтому обер-гофмейстер должен заботиться о том, чтобы принц с детских лет упражнялся в элоквенции. Сначала это может быть заучивание принцем наизусть кратких речей, позже он сам должен создавать такие речи на все возможные случаи — например, когда он отвечает на поздравления, или обращается к войску, или держит слово на Тайном или, соответственно, на Военном совете».
Наконец, рекомендовалось обучать принца танцам, верховой езде и фехтованию.
Однако предпринятые воспитательные меры страдали внутренним разладом, противореча друг другу. С одной стороны, мать Софья Шарлотта прилагала усилия к тому, чтобы маленького принца воспитывали как светского кавалера, человека «комильфо», сверкающего и шпагой, и пером, как на поле боя, так и на паркете, производящего фурор и поражающего остроумием и в высшем обществе, и в ученом споре. С другой стороны, Данкельман и Дона стремились воспитывать серьезного, ответственного наследника престола, для которого чувство долга, трудовая мораль и страх Божий должны стать краеугольными камнями будущего поведения.
Как на это отреагировал Фридрих Вильгельм? Вообще-то тяги к учебе мальчик не проявлял, хотя граф Дона все же установил, что принц обладает сообразительностью и необычайной памятью. Но чужие языки вызывали у него отвращение (и будут вызывать всю жизнь). Во время зубрежки, сидя за толстыми фолиантами, он бросал тоскливые взгляды за окно, а уши его ловили звуки: смена караула, мычание коров, фырканье лошадей, стук деревянных башмаков на кухне. С мыслями он собирался только во время молитвы, церковной службы и слушая библейские рассказы. Верховая езда, фехтование, физические упражнения любого рода были его любимыми занятиями. Но попытки матери обучить его танцам, галантному обхождению, элегантным светским беседам, искусству грациозного кокетства он отклонял весьма бесцеремонно, даже по-хамски. С гувернерами, фрейлинами, французскими учителями танцев вел себя дерзко и приходил в бешенство, когда его заставляли играть на спинете или на флейте. Принц презирал такую музыку, ничего не стоившую в его глазах. Единственным искусством, восхищавшим его, оказалась живопись — особенно батальные сюжеты и сцены, изображения солдат или униформ. Болтовня и ужимки женщин были ему неприятны. Роскошь он ненавидел. Получив в подарок от отца шлафрок, сшитый из золотой парчи, принц послушно дождался, когда курфюрст выйдет из комнаты, затем рывком содрал с себя драгоценный наряд и бросил в огонь. Софья Шарлотта, страстно желавшая сделать из Фридриха Вильгельма миловидного мальчика и постоянно просившая его беречь от воздуха и солнца свое нежное белое лицо, пришла в ужас, найдя его в Люстгартене голым по пояс: принц принимал солнечные ванны, предварительно смазав лицо и грудь шкуркой окорока.
В том, что касалось отношения к изысканному французскому образу жизни, этот принц действительно был неисправим. Он хотел быть не франтом, а мужчиной, не галломаном, а германцем. Как тут не вспомнить энергичную бабушку, курфюрстину Луизу Генриетту, и знать не желавшую о безумстве французских мод? Взгляды Фридриха Вильгельма утвердились благодаря его первому учителю, тайному посольскому секретарю Фридриху Крамеру. Тот отличился, служа гофмейстером в доме фон Данкельмана. И теперь, в начале 1695 г., он получил задание: преподавать бранденбургскому курпринцу историю, математику, французский язык и географию. Крамер, человек весьма ученый, знал о брошюре аббата Буйера под названием «Есть ли вообще у немца душа?», ходившей по рукам парижских интеллектуалов. Он сел за стол и написал ответный памфлет под заголовком «Немецко-французская модная душа», ставший излюбленным чтивом Фридриха Вильгельма на всю жизнь:
«С тех пор как у нас, немцев, завелись французские черти, мы, к сожалению, полностью изменились в своей жизни, своих обычаях и привычках. Мы даже имеем право называться новым, обратившимся во французов, народом. Прежде немцы не восхищались французами, нынче же мы жить без них не можем. Все у нас должно быть французским: язык, одежда, блюда, мебель, музыка, даже болезни. Следует полагать, что все это завершит, конечно же, французская смерть. Древние немецкие обычаи и храбрость потеряны! И все это из-за рабского подражания чужому народу! Надменная, фальшивая, развратная французская душа, усыпившая нас сладкими словами, речами и посулами, хочет избавить нас от собственной немецкой свободы. Так, на французский манер устроено большинство немецких дворов, и желающий там устроиться должен говорить по-французски и побывать в Париже, университете всех видов распутства. Иначе не видать ему желанного местечка. А потому:
- Кто не может по-французски,
- тот не ходит ко двору.
- Потерявши речь родную,
- ты пустил в себя чужую.
- Как француз не говоря,
- ко двору идешь ты зря.
Стоит детям достичь четырех-пяти лет, их тут же принесут в жертву французскому молоху и будут приучать к французской галантности. Едва отлучив ребенка от материнской груди, родители начинают думать об учителе французского и танцмейстере. Во Франции никто не говорит по-немецки; у нас же, немцев, французский язык укоренился до того, что во многих местах на нем уже должны говорить сапожники, портные, дети и даже слуги. Парень, желающий стать придворной бабой, должен уметь присоединяться к болтовне, должен быть одетым в шляпку, жилет, изящные чулочки и т. д. Не важно, что у него кривой нос, выпученные глаза, горб, клыки, кривые ноги и так далее, — лишь бы он был одет a la mode frans…»[6]
Здесь каждое слово восхищало Фридриха Вильгельма. На протяжении всей жизни он часто обращался к темпераментному сочинению своего старого учителя Крамера, чтобы найти, оставаясь в окружении галломанов, силы и духовную поддержку для борьбы с иноземным духом времени. Его страстный, спонтанный протест против подавления и искажения собственной немецкой идентичности, да еще с детских лет, просто поражает. Этот протест тем более удивителен, что Фридрих Вильгельм плыл против общего потока в полном одиночестве.
Конечно, здесь было достаточно однобокости и упрямства. Нельзя всерьез оспаривать позитивное влияние французской культуры на немецкую раздробленность начиная с пятидесятых годов, по завершении Тридцатилетней войны. Одно лишь благотворное присутствие гугенотов в Берлине и Бранденбурге — достаточное тому свидетельство. С другой стороны, надо видеть, что здесь подрастал король, очень хорошо помнивший о древней славе и блеске своей, немецкой нации, в течение семи веков, с 919 до 1618 г., не только защищавшей и прикрывавшей Запад, но одновременно игравшей роль культурного, цивилизаторского авангарда Европы. Как показывает памфлет Крамера, про это в Германии совсем не забыли. Но прежде всего тогда, в конце XVII века, из-за чужеземного влияния подвергалась опасности дальнейшего раскола немецкая нация. Переполненная ненавистью межконфессиональная борьба в течение целого столетия, с середины XVI до середины XVII века распределяла немцев между двумя идейными фракциями: здесь — католики, там — протестанты. А конфессиональное противостояние закреплялось и территориально. Юг и запад придерживались католических догм, север и восток Германии оказались протестантскими; жители немецких княжеств приспосабливались к вероисповеданиям своих тогдашних властителей. К этому идейно-территориальному расколу добавлялся общественный: господствующие слои Германии — верховная власть, двор, дворянство, зажиточная буржуазия — говорили, думали и писали по-французски. Тогда как «базис», «простой народ» — поденщики и ремесленники, землепашцы и мелкие хозяева — говорил на своих немецких крестьянских наречиях, все больше обособляясь от культурной «надстройки», и подвергался со стороны «интеллектуалов» все большей дискриминации. Словом, в результате событий последних пятидесяти лет немецкая «германская нация» современной юному Фридриху Вильгельму эпохи конца XVII века и так уже была полностью дезорганизована в политическом смысле. Она страдала от двойного раскола — религиозного и культурного.
Здесь и находится ключ к пониманию безоговорочно «германского» мировоззрения, которое обнаруживалось в дальнейшей жизни Фридриха Вильгельма все более явно: это был настолько же национальный, насколько и социальный выбор. Это было мировоззрение человека, отдавшего предпочтение (что подтверждено и документально) народу, «базису», мировоззрение, приведшее его к бунту против духа времени, а позднее — на вершине власти — сделавшее его величайшим революционером немецкой истории.
В конце августа 1695 г. курфюрст вместе с семьей отправился на продолжительную прогулку. Сначала поехали в Тиргартен, затем в Литцен — идиллическую деревушку к западу от Берлина. Очаровательный уголок восхитил Софью Шарлотту. А поскольку муж находился в наилучшем настроении, она решилась просить его сделать из усадьбы «Руенлебен» летнюю резиденцию, расположенную рядом с деревней Литцен. Усадьба принадлежала тогда обер-гофмаршалу фон Добржинскому и практически не использовалась. Сын, Фридрих Вильгельм, тоже пришел в восторг. Семилетний мальчик сразу представил, как он будет ходить по коровьим хлевам или скакать верхом по лугам и пастбищам. Курфюрст согласился, но по совсем другим причинам. Несколько лет назад он подарил жене земельный участок в предместье, в Шпандау, где построил небольшой летний дворец. Софья Шарлотта называла этот дворец «Монбижо» («мое сокровище» — фр.). Там проходили сезоны ее изысканных вечерних собраний. Но со временем тамошний парк стал тесен — курфюрстина по кусочкам раздарила прилегающие земли бедным горожанам, либо раздала в благотворительных целях. И теперь курфюрст Фридрих представил, как при деревушке Литцен возникает блестящий, элегантный летний дворец, этакий «маленький Версаль», клочок Франции Людовика XIV, который прославит скудный Бранденбург и его собственное величие.
Сразу же по возвращении с прогулки Фридрих побеседовал с господином фон Добржинским и выкупил у него поместье «Руенлебен» и передал жене в виде дарственной грамоты. Новый придворный архитектор Андреас Шлютер, год назад принятый на работу в Берлин, получил задание: возвести при деревне Литцен великолепный летний дворец в версальском стиле. Следующей весной в Литцен был доставлен взвод парижских садовников. По расчетам Шлютера, уже через четыре года курфюрстина смогла бы выезжать в Литценбург — так назывался будущий дворец.
В то время как Берлин предавался столь идиллическим заботам, на полях Европы продолжала бушевать бесконечная война, развязанная Людовиком XIV в 1688 г., когда он напал на Пфальц и Рейнланд. Ее называли «Пфальцской войной». Огромной коалиции, которую составляли Англия, Голландия, Испания, Савойя и германская империя, в течение уже почти целого десятилетия кровавой войны не удавалось прогнать французского агрессора в его границы. Антифранцузский союз был разобщен сам по себе, но решающим для триумфа Франции оказывалась невероятная внутренняя раздробленность некогда могучей германской империи. Французские дипломаты неутомимо работали при дворах немецких князей, ловко сталкивая их интересы, втягивая их во взаимные интриги. Только при берлинском дворе сделать это не удалось. Курфюрст Фридрих III из Бранденбурга — это надо отметить особо — всегда уверенно выступал на стороне империи и германского императора в Вене. Если тому и можно было вообще на кого-то положиться, то на бранденбуржцев. От 20 до 30 тысяч бранденбургских солдат постоянно сражались на дальних оборонительных рубежах, был ли то фронт войны с французами на западе или война с турками на юго-востоке. (В самом Бранденбурге и в Померании в эти годы оставалось едва ли 10 тысяч ополченцев.)
Но много ли во всем этом пользы, когда сам император проявляет так мало интереса к защите империи? С «безбожными язычниками», турками, Австрия борется самоотверженно и всеми силами. Глаза Габсбургов устремлены на Венгрию, Хорватию и Трансильванию, на манящие дунайские долины, которые можно вырвать у султана. На охрану империи с запада остается слишком мало сил.
Вот дипломатам и послам «короля-солнца» и удается постепенно, пядь за пядью, распустить сеть антифранцузской коалиции. Наконец после девятилетней резни, весной 1697 г., в Рисвике, загородном дворце принца Оранского, начинаются переговоры о мире, тогда как «турецкая война» продолжается еще два года. Людовик XIV должен похоронить свои мечты о французской гегемонии в Европе, а также вежливо обходиться с Испанией и Савойей, но прежде всего признать английское королевское достоинство Вильгельма Оранского — вот и заложены основы «европейского равновесия». Но на долю бедного, раздробленного немецкого рейха ничего, к сожалению, не осталось. Венский Габсбург жадно смотрит на юго-восток, и испанский посол попал в самую точку, заметив: «Император имеет советников, которые не задаются вопросом: не погибнет ли Германия, когда будут завоеваны жалкие хижины Венгрии?» Так во Франции остался весь Эльзас — и прежде всего древний имперский город Страсбург, внезапно в нарушение мира захваченный французами в 1681 г.
Но один человек всю свою жизнь помнил об этом национальном унижении — бранденбургский принц Фридрих Вильгельм.
Летом 1697 г. внимание берлинского общества привлекла та часть света, которая всегда считалась terra incognita: Россия. До этого каждый в Германии подразумевал под «Востоком» огромное польско-литовское государство, граничащее, в частности, с землями Фридриха III Бранденбургом, Померанией и Восточной Пруссией. Территория, лежавшая восточнее Польши, считалась дикой, полуварварской степью, где жили нецивилизованной кочевой жизнью неизвестные народности. И вот теперь в бранденбургской столице узнали, что 25-летний российский царь Петр I едет с великим посольством на Запад и что путь его пройдет также через Берлин. Какая сенсация! Двор, да и весь город гудит как растревоженный улей; никто не хочет пропустить экзотическое зрелище. 1 мая 1697 г. Софья Шарлотта признает, что она, «как и все другие женщины, очень любопытствует» по поводу русского царя. И добавляет: «Лучше потратить деньги на прием русского царя, чем на то, чтобы посмотреть диких зверей». Четырьмя неделями позже она пишет: «Хотя я и враг нечистоплотности, но любопытство сильнее».
И вот в начале июля в Берлин въехало московское посольство, ожидавшееся с таким напряженным интересом. Но курфюрстина с сыном находились у родителей в Ганновере, проводя там летний сезон. Просчитались и берлинцы — царь ехал как простой член русского посольства, под страхом смертной казни запретив своим людям открывать его инкогнито. Тайна царской личности была известна только бранденбургскому курфюрсту и его министрам. Царь Петр остановился лишь на несколько дней. Никем не узнаваемый, одетый в немецкое платье, он гулял по улицам Берлина, с профессиональным интересом осматривал строительство арсенала и запросто обедал в летней палатке, разбитой в Тиргартене. Затем так же внезапно уехал.
И все же Софья Шарлотта смогла утолить свое огромное любопытство к русскому «чудо-зверю». Царь решил ехать в Амстердам через Ганновер и согласился встретиться с бранденбургской курфюрстиной в Коппенбрюке, в четырех милях от Ганновера. Так Софья Шарлотта и ее сын Фридрих впервые увидели «чудо-зверя», русского царя.
Рандеву началось с осложнений: Софья Шарлотта привезла с собой мать, курфюрстину Софью Ганноверскую, и братьев, а Петр, смущенный высокими особами, целый час укрывался в деревне. Наконец камергеру царя Лефорту удалось уговорить его явиться в зал, где между тем накрыли праздничный стол. О том, что произошло дальше, Софья Шарлотта весьма интересно рассказывает в своем письме от 17 июля 1697 г.:
«Матушка и я прежде всего сделали царю комплименты, на которые он велел ответить господину Лефорту. Сам он очень стеснялся, держал руки перед лицом и произнес по-немецки: „Я не могу говорить!“ Но мы быстро приручили его, усадив за стол между моей матушкой и мной и усердно беседуя с ним. Иногда он отвечал сам, иногда с помощью двух переводчиков. Все, что он говорил, было очень верно, какого бы предмета это ни касалось. Моя матушка задала ему множество вопросов в своей оживленной манере, и он на все без исключения очень быстро ответил. Я была удивлена тем, что беседа его не утомляет, так как слышала: в России этого не любят. Что касается судорог лица, гримас, я представляла их себе гораздо более сильными. Вполне очевидно, он не имел воспитателя, учившего его опрятно есть. Но во всем своем существе он имеет нечто столь естественное и непринужденное, что мне очень нравится! Прошло совсем немного времени, и он уже чувствовал себя у нас совсем по-домашнему: велел принести огромные кубки и каждому налил по три-четыре раза, говоря, что делает это в честь общества. Я распорядилась спеть для него, желая посмотреть, какое у него при этом будет лицо. Царь сказал, что пение ему понравилось, особенно Фердинандо (итальянского певца курфюрстины. — Примеч. авт.); ему он как хозяин двора послал стакан вина. Мы четыре часа сидели за столом и пили, чтобы понравиться ему, по-московски, то есть одновременно поднимаясь, стоя и за его здоровье. Здоровье Фридриха тоже не было при этом забыто. Чтобы увидеть, как он танцует, я велела просить Лефорта привести после обеда музыкантов. Но царь не хотел танцевать, пока не увидел, как танцуем мы. Однако он не мог присоединиться к нам, пока — столь тонких манер никто от него не ожидал — ему не принесут перчатки. Царь велел обыскать весь багаж; к сожалению, их не нашли».
И все же потом Петр танцевал с одной юной дамой. Царь обхватил нежную талию фрейлины так неуклюже, что она скорчилась от смеха. Сам он был удивлен «ребрами немецких дам, чертовски твердыми и находящимися не в горизонтальном, а в вертикальном положении». Русский царь ничего не знал о китовом усе парижского корсета.
Один из присутствующих смотрел на все это сверкающими от восторга глазами и с открытым ртом. Это был Фридрих Вильгельм, бранденбургский принц. Царь из далекой России нравился ему сверх всякой меры. Вот это парень! Его грубое поведение, непонятная суть, дикий, властный взгляд, твердые кулаки, его манера выпивать стакан до дна, а потом разбивать его об стену за спиной — все это было во вкусе Фридриха Вильгельма, не выносившего женственных манер своего двора. Если в русских гостях ему что-то и не нравилось, так это их нечистоплотность — они боялись воды и мыла как черта и садились за стол с немытыми лапами. Но все это он забыл, когда царь Петр после танцев позвал своего шута, корчившего рожи и передразнивавшего гостей. А когда царь схватил огромную метлу и с ее помощью выгнал дурака из зала, Фридрих Вильгельм хохотал до слез, хлопая себя по бедрам. Вот так шутка! Такого дурака он тоже сможет завести, когда станет королем!
Осенью 1697 г. Софья Шарлотта вернулась с сыном в Берлин. Через несколько недель, в ноябре, разразился скандал, потрясший монархию до основания: Эберхард фон Данкельман, советник Фридриха III, уже два с половиной года занимавший пост бранденбургского премьер-министра, был смещен.
54-летний Данкельман, происходивший из Нассау, уже тридцать пять лет входил в узкий круг берлинского двора и еще при Великом курфюрсте был возведен в высокие придворные чины. При Фридрихе III он стал членом Тайного совета, в 1692 г. — обер-президентом города Клеве, а 2 июня 1695 г. был официально назначен обер-президентом Берлина, что фактически соответствовало уровню бранденбургского премьер-министра. Четырьмя неделями позже он вместе с графом Доной выработал инструкции по воспитанию семилетнего принца. Данкельман, дисциплинированный и ответственный чиновник, человек крайне суровых правил (его никогда не видели смеющимся), вершил государственные дела железной рукой. Фридрих III бесконечно доверял ему, сожалея, правда, что тот отнюдь не выказывал склонностей к подобострастию, а говорил с ним как учитель с учеником. Под руководством Данкельмана были учреждены Берлинская академия искусств и университет в Галле. Конечно, сравняться со своим владетельным господином в расточительности Данкельман не мог: на учреждение нового университета Фридрих III выделил жалкие 3500 талеров, а на его торжественное открытие в июле 1694 г. — 20 тысяч.
Самоуверенность Данкельмана не знала границ. Он постепенно сумел назначить своих шестерых братьев на главные государственные посты. В Берлине язвительно говорили о «плеяде Данкельманов», всех себе подчинившей. Количество завистников все увеличивалось. А Данкельман, презиравший дворцовую камарилью, не давал отпора интриганам, окружавшим курфюрста лестью. В конце концов клевета на премьер-министра сыграла свою роль. Фридрих III, с трудом выносивший уверенное поведение премьер-министра, в момент раздражения выкрикнул: «Данкельман хочет играть роль курфюрста! Я покажу ему, кто здесь хозяин!» Наконец, придворные интриганы подбросили курфюрсту медаль, изображавшую семерых братьев в виде созвездия над столицей. Фридрих был вне себя от ярости. Не помогла и надпись, отчеканенная на медали, — слова верности семи братьев, в которой они клялись ему, курфюрсту.
Немилость курфюрста не долго оставалась тайной, и Данкельман 27 ноября 1697 г. попросил об отставке, которую, хоть и в милостивой форме, немедленно получил. Через две недели, вечером 10 декабря, к Данкельману явился гвардейский полковник фон Йеттау, чтобы арестовать его по приказу курфюрста и доставить в крепость Шпандау. Новый премьер-министр 66-летний фельдмаршал Йоган Альбрехт фон Барфус и его правая рука 54-летний обер-шталмейстер Йоган Казимир фон Кольбе добились своего: их безупречный предшественник и шеф сидел в тюрьме — беззащитный и обесчещенный, обвиненный в личном обогащении, злоупотреблении доверием и растрате государственных денег. Здесь не было ни слова правды! И все же гоффискалу Мёллеру было приказано составить против Данкельмана обвинительное заключение и под угрозой штрафа в две тысячи дукатов представить его в течение четырех недель. Честный чиновник в отчаянии написал: «Святой Боже, правый судья! Я могу выполнить это требование, но где я возьму доказательства? У кого-то недостает мужества открыть Его Светлости правду о процессе, но те же люди требуют его продолжения». Обер-прокуратор Брехтель тоже протестовал против фарса, разыгранного на процессе Данкельмана. Но ничто не помогло. В курфюршестве Бранденбургском началось новое время — эра неприкрытой коррупции и господства временщиков.
В следующем, 1698 г. курфюрст подарил своему десятилетнему сыну охотничий замок Вустерхаузен и роту кадетов. Правда, «кадетами» назывались всего лишь мальчишки из окрестных деревень, выряженные в пеструю униформу и снабженные деревянными ружьями. И началась в Вустерхаузене кутерьма! С утра до полудня, по выходным и в праздники приземистый принц стоял, держа руки на поясе, перед своей ротой и муштровал ее, вгоняя крестьянских мальчишек в пот. Курфюрст, который вначале радовался военной «инклинации» (то есть склонности) своего отпрыска, скоро начал наблюдать за его пылкими упражнениями со страхом. Он добродушно советовал кадетам прятаться в сено и лошадиные стойла, когда становится известно о прибытии их десятилетнего командира. Но Фридрих Вильгельм собственноручно вытаскивал мальчишек из их убежищ. Скоро они опять стояли в строю, а маленький принц командовал ими так, что его «Нале-во! Напра-во! Кру-гом!» они продолжали слышать и во сне. Если Фридрих Вильгельм не занимался строевой подготовкой, то рыскал по лугам поместья или по окрестным деревням — дарственной грамотой ему поручался также надзор за управлением. Впервые в жизни Фридрих Вильгельм — землевладелец, хозяин! И скоро принц уже знает по именам каждого крестьянина, работника и пастуха. Ему известно, сколько лошадей, коров, овец и свиней находится на попечении у каждого, он велит докладывать себе об имеющихся у них работах, жадно и неутомимо расспрашивает крестьян о плюсах и минусах их занятий.
Вустерхаузен — это прежде всего любимое место Фридриха Вильгельма для игр. И в то же время это — антимир принца, противопоставленный (на бессознательном уровне, конечно) роскошному, напомаженному берлинскому двору со всеми его «обезьяньими» ужимками и суетой, столь ему отвратительными. Это бунт сына против просветительского рвения матери, совершенно ему непонятного.
В 1698 г. в Берлин по приглашению Софьи Шарлотты приехал юный Гендель. Здесь он играл для двора на спинете. По инициативе курфюрстины на месте манежа сооружаются театральные подмостки, где будут ставиться французские пьесы. Бургомистр Берлина, бывший камергер Фридриха III господин фон Гессиг строит оперную сцену в своем доме. Так что изысканная берлинская публика наслаждается мастерством итальянских певцов и там, и здесь. Но в глазах Фридриха Вильгельма все это — ненужные модные штучки, которым не сможет найти применение ни один благоразумный человек. По его, принца, мнению, следовало бы запретить людям заниматься этой иностранной ерундой. Тогда они гораздо больше интересовались бы жизнью солдат и крестьян, земледелием и животноводством. Подлинный внук своей бабушки Луизы Генриетты! Принц еще удивит весь Берлин!
А тем временем его любимого учителя Крамера заменил француз Жан Филипп Ребо. Будучи гугенотом, он эмигрировал в Швейцарию, приехав из Женевы в Берлин по приглашению графа Доны. Большей неудачи нельзя было и представить. Ребо был узколобым педантом и фанатичным кальвинистом. С утра до вечера он потчевал принца латинскими, французскими и немецкими отрывками из Ветхого Завета. Мальчику полагалось часами заучивать бесконечные стихи и псалмы, а потом читать наизусть их учителю. Единственным результатом подобной пытки стала ненависть к Ветхому Завету, сохранившаяся у Фридриха Вильгельма на всю жизнь. Ребо хотел приобщить его к кальвинистскому вероучению, считавшему все человеческие поступки предопределенными от века установленной волей Бога. Он сообщил принцу: божественное предопределение ведет к вечному блаженству лишь избранных (всех остальных — к проклятию), и поэтому он должен покорно выполнять все заповеди, дабы принадлежать к этому маленькому кругу. Мальчик встал перед учителем со сжатыми кулаками и выкрикнул: «Бог — это дьявол!» Дух противоречия уже настолько ярко горел в одиннадцатилетнем мальчике, что он не остановился даже перед богохульством. Никому не позволено подчинять себе его волю! У набожного протестантского христианина Фридриха Вильгельма учение о предопределении, порабощавшее, по его мнению, свободную волю людей, вызывало ярость.
С восьмилетнего возраста принц ведет расходную книгу, озаглавив ее «Счет моим дукатам». Никто его к этому не принуждал. Более того: все кругом смеялись над этой детской причудой. Наследник трона, считающий деньги, — как смешно! Но принц не снисходил до объяснений. От своего отца он получал на карманные расходы пятьдесят дукатов в месяц. Все расходы он пунктуально, с указанием даты, заносил в маленькую записную книжечку. Когда придворные дамы посмеивались над его бережливостью, он кричал на них, а то и грозил кулаками. Софья Шарлотта писала фрейлине фон Пёльниц: «Боже, жадность в таком нежном возрасте! Любой порок может обветшать со временем, но этот только растет… И потом, какая духовная черствость: плохо вести себя с женским полом! Женщина во всяком случае должна рассчитывать на вежливое обращение со стороны мужчин».
Но все же было бы ошибочно представлять себе 10—12-летнего принца всего лишь грубым, невежливым и черствым. Такие качества он проявлял, воюя с ненавистным ему окружением. Но в то же время Фридрих Вильгельм — милый, симпатичный, пышущий здоровьем мальчик, вокруг него вьются девочки. И когда ничто его не возмущает, он излучает радостную непринужденность, задорен, находчив, расположен к шутке. Герцогиня Орлеанская писала 12 июня 1699 г.: «Мне всегда бывает страшно, когда я вижу детей такими милыми, ибо это знак того, что они не будут жить долго. Поэтому мне страшно и за маленького забавного принца Бранденбургского».
14 июля 1699 г. освящали новый летний дворец Литценбург, обещанный курфюрстом жене четыре года назад. Строительство среднего корпуса и парка завершилось. Фридрих III прибыл с большой помпой, милостиво принял знаки благодарности со стороны Софьи Шарлотты и в ее честь назвал дворец Шарлоттенбургом. После ранней смерти Софьи Шарлотты это имя стала носить и вся прилегающая к дворцу часть города. То же название берлинский район носит и поныне.
Благодаря умной курфюрстине Шарлоттенбург стал вторым двором на бранденбургской земле. Пока в берлинском дворце царил роскошный, но чопорный стиль, а этикет определялся строгим испанским церемониалом, в Шарлоттенбурге сложился свободный и радостный стиль жизни. На общественное положение, чины и посты здесь обращали мало внимания, а мерилом оценки были остроумие, элегантность и свободомыслие.
Историографы часто сравнивают Шарлоттенбург Софьи Шарлотты 1699–1705 гг. с Рейнсбергом, резиденцией ее внука Фридриха Великого, 1736–1740 гг. Там и там царили свобода духа, насмешки, интеллектуальные игры, знаменуя начало эпохи просвещения и прогресса. Огромная же разница заключалась в том, что Рейнсберг был как будто отрезан от центров власти, Берлина и Потсдама, а кронпринц Фридрих в течение четырех лет не имел ни малейшего влияния на монарха, своего отца. Софья Шарлотта, напротив, при всей своей обособленности от берлинского двора, старалась сохранять хорошие отношения со своим супругом и влиять на политическую жизнь. Все, кто собирался вокруг нее в Шарлоттенбурге, сохраняли спокойную, ироничную оппозицию лизоблюдам Берлина. Курфюрстина была слишком умна, чтобы впутываться в интриги политических карьеристов. Ее честолюбие не распространялось ни на международные отношения (в них Бранденбург и без того не играл никакой роли), ни на экономику и финансы, почти целиком призванные удовлетворять потребности ее супруга в славе и почете. Она имела лишь две цели: укрепление дружественных отношений между первыми домами Бранденбурга и Ганновера и духовное просвещение, смягчение нравов Берлина, ее теперешней родины.
В мае 1700 г. в Шарлоттенбург приехал человек, с чьей помощью Софья Шарлотта намеревалась реализовать свои планы: Готфрид Вильгельм Лейбниц, величайший философ той эпохи. Гений во всем, этот человек родился в Лейпциге в 1646 г., а с 1676 г. служил библиотекарем и советником-докладчиком в Ганновере. Он знал Софью Шарлотту с восьми лет, когда она уже блистала своими незаурядными языковыми познаниями. Лейбниц был также личным советником ее матери, темпераментной курфюрстины Софьи. Он был человеком необъятных знаний и невероятной работоспособности, а ученость соединял с дипломатической сноровкой. Одновременно философ, историк, математик, физик и юрист, Лейбниц являлся предтечей и пионером Просвещения и, кроме того, глубоким теоретиком современного государства. В религиозных вопросах — глашатай терпимости: трудится над объединением всех христианских конфессий, постоянно вырабатывает все новые реформаторские идеи, впервые предлагает учреждение всемирного общества, планирующее прогресс человечества на основе научных знаний. Он давно понял: от наднационального средневекового германского рейха осталось одно лишь название, и оно не имеет ни власти, ни силы. Поэтому Лейбниц решительно выступает за идею объединенного немецкого отечества на основе нации.
С начала 1698 г. Софья Шарлотта, ее мать и Лейбниц переписываются по следующему вопросу: кто будет человеком, добившимся личной благосклонности Фридриха III и одновременно представляющим особые интересы обеих курфюрстин. Лейбниц неоднократно указывал: выбирать такое контактное лицо надо очень осторожно, дабы не потревожить подозрительности Фридриха. Наконец он предложил самого себя:
«В качестве подходящей для такого дела персоны я не могу предложить никого, кроме себя самого. Я отличился в области глубоких наук, член Лондонской академии и по праву должен считаться членом Парижской академии, а мои трактаты читаются под аплодисменты в Англии, Франции и Италии. Если мне будет поручен своего рода надзор за учреждением, которое предполагается основать в Берлине, чтобы искусства и науки расцвели во славу курфюрста, мне представилась бы и возможность давать при обоих дворах наилучшие советы в интересах обеих курфюрстин».
И действительно, Фридрих III оказал Лейбницу доверие. Через два месяца, 11 июля 1700 г., он подписал документ об учреждении в Берлине Академии наук, первым президентом которой был назначен Лейбниц. Софья Шарлотта и ее друг-философ ликовали. Замысел, обсуждавшийся ими в течение двух с половиной лет, был исполнен в кратчайшие сроки.
Лейбниц, во многом опередивший свое время, выработал прямо-таки революционный план деятельности Берлинской академии. Он видел ее отнюдь не научно-академической башней из слоновой кости; нет, новое учреждение должно было служить не столько интеллектуальным изысканиям, сколько стране и людям. «Науки не могут быть абстрактными, — писал он, — они должны приносить пользу телу и духу гражданского общества. Академия призвана объединить теорию и практику, повысить уровень не только искусств и наук, но также страны и человека, земледелия, мануфактур и торговли — словом, всеобщего благосостояния». Он настойчиво выступал за то, чтобы изучение немецкого языка, немецкой истории и немецкого духа стало одной из главных задач Берлинской академии: «Об этом надо позаботиться особо, поскольку она является кооперацией наук, мыслящей по-немецки». За полтора века до братьев Гримм Лейбниц планировал сбор и издание пословиц и выражений народной речи, а также немецкого словаря по образцу Dictionnaire de l’académie.[7] Он разделил новую Берлинскую академию на четыре отделения: 1) физики, химии и медицины; 2) математики и астрономии; 3) немецкого языка и истории; 4) литературы и восточных языков.
На следующий день после основания академии, 12 июля 1700 г., в Шарлоттенбурге состоялся костюмированный бал, задуманный Софьей Шарлоттой и ее сыном. Была устроена ярмарка, куда следовало приходить в маскарадных нарядах (различные роли заранее разыграли по жребию). Курфюрст явился в костюме голландского матроса, Софья Шарлотта оделась знахаркой, а Фридрих Вильгельм — фокусником. Лейбниц, ставший свидетелем веселья, на следующий день сообщал в Ганновер:
«Все приходилось готовить в чрезвычайной спешке, дабы успеть к назначенному дню. В небольшом городке разбили ярмарку — поставили будки с вывесками, где можно было бесплатно получить ветчину, жареные колбасы и говядину, вино, лимонад, чай, кофе, шоколад и тому подобное. Маркграф Христиан Людвиг, голландский посланник фон Обдам, генерал дю Гамель и другие работали в этих будках продавцами. Господин фон Остен представлял шарлатана, и с ним были шут и канатоходец. Но никто не стяжал такую любовь, как фокусник! Это был принц Фридрих Вильгельм, прекрасно исполняющий фокусы и трюки. При открытии бала сначала появился господин шарлатан, ехавший на чем-то вроде слона, затем показалась госпожа знахарка со своими снадобьями — лейб-турки несли ее в портшезе. Фокусник (то есть принц. — Примеч. авт.), арлекины, шуты, прыгуны и зубодеры шествовали следом, а когда пестрая свита знахарки прошла, придворные дамы исполнили цыганский танец».
Успех маскарада был колоссальным. Восхищены были все, даже чопорный курфюрст; но больше всех — Фридрих Вильгельм, решительно предпочитавший грубые развлечения в стиле народных увеселений дворцовым церемониям мадридского пошиба. Под занавес явился старый служака и истинное дитя Померании фельдмаршал Флемминг, который, разгладив усы, закричал командным голосом: «Виват, Фридрих и Шарлотта! Подлец, кто думает иначе!» Принц рассмеялся во все горло и начал бешено трясти его руку.
Да и вообще это лето 1700 г. оказалось самым счастливым временем в жизни юного принца, временем, когда он доставлял матери меньше всего волнений, а его вспыльчивый характер оказался чуть более спокойным. В конце августа он поехал в гости к ганноверской бабушке, курфюрстине Софье. Она была восхищена внуком и писала, что принц «выглядит как ангел, какими их изображают; ему только двенадцать, а он говорит как тридцатилетний… Он довольно коренаст, но, надеюсь, подрастет… Он выглядит здоровым… Его обходительные манеры не поддаются описанию».
Увы, радости, подобные шарлоттенбургскому балу и его двенадцатому дню рождения, больше никогда не повторялись в жизни молодого человека.
Наследный принц
От маскарада — к маскараду. Через шесть месяцев после костюмированного бала в Шарлоттенбурге состоялась куда более значительная и пышная «ярмарка тщеславия». В январе 1701 г. Фридрих III, курфюрст Бранденбурга, возложил на себя королевскую корону. Несомненно, это событие стало наиболее важным в драматичной пятивековой истории дома Гогенцоллернов.
Оно восходит к моменту рождения Фридриха III, появившегося на свет в 1657 г. в Кёнигсберге, столице герцогства Пруссия. Это произошло в девять утра, в новолуние и при благоприятном, по мнению тогдашних астрологов, гороскопе. Намекая на место рождения, Кёнигсберг, то есть «город короля», прорицатель возвестил над колыбелью маленького Фридриха:
Фридрих никогда не забывал об этом пророчестве. А ведь мы уже знаем, как крепко держался за свои мечты и надежды этот «кривобокий» человек, как настойчиво добивался их осуществления. После смерти отца он узнал, что Людовик XIV уже предлагал Великому курфюрсту присвоить себе королевский титул. И мысль о короне начала неудержимо расти во Фридрихе III. Правда, он с самого начала прекрасно понимал, что за предложением французского «короля-солнца» скрывалось желание сделать бранденбургского курфюрста противником императора в Вене — в пользу Франции. Но об этом не могло быть и речи. Не против императора, но вместе с ним и с его помощью хотел он возвыситься.
Мысль о королевской короне тогда буквально витала в воздухе. В 1688 г., когда Фридрих стал курфюрстом, британский парламент избрал Вильгельма Оранского, штатгальтера Нидерландов, королем Англии, Шотландии и Ирландии. Как-то при встрече политического характера новоиспеченный король Вильгельм не усадил его на стул с подлокотниками, потому что он, Фридрих III, был не коронованным королем, а курфюрстом, номинальным подданным венского императора. Это случилось более десяти лет назад, но рана уязвленной гордости в груди Фридриха была еще свежа. А разве не хитростью добыл себе корону польского короля — совсем недавно, в 1697 г., — Август Саксонский, именовавшийся теперь «Сильным»? Правда, для этого пришлось нарушить условности — ради власти над Польшей он отрекся от протестантской веры и перешел в католичество. Фридрих, строго придерживавшийся реформатского вероисповедания, о подобной сделке и помыслить не смог! И все же: чем саксонский курфюрст лучше бранденбургского? Умная Софья Шарлотта, посвященная в сокровенные планы мужа, могла сколько угодно высмеивать его тщеславие. Но он, Фридрих, никогда не откажется от своего проекта. А потому он отвечал ей спокойно и уверенно: «Раз у меня есть все, что подобает королевскому достоинству, и даже то, чего нет у большинства королей, почему же, дорогая, я не должен даже и думать о том, чтобы называться королем?»
Однако имелись ли законные основания для того, чтобы курфюрст, то есть первое лицо в одном из немецких княжеств, собственноручно произвел себя в коронованные монархи? Вильгельма Оранского и Августа Саксонского избрали королями иностранные парламенты — английский и польский. Такая удача Фридриху III явно и не снилась. Наконец, разве древняя, возникшая почти восемь столетий назад «Священная Римская империя германской нации» с императором во главе уже фактически не прекратила свое существование?
Когда-то эта «империя» что-то из себя и представляла, но уже с полвека она была лишь призраком минувшего. С середины XV столетия немецкая земля расчленялась на все большее число княжеств, а национальное самосознание народа сгорело ярким пламенем в Реформации и Крестьянской войне. Катастрофа Тридцатилетней войны разрушила последние надежды. Под пеплом сгоревшей империи не осталось и искорки национального, общего для всех немецких душ жара. Германия раздробилась на предельно малые части. Две сотни «суверенных» князей и князьков устраивали у себя дома собственные «версали» и считали себя «независимыми» с тех пор, как в 1648 г. император в Вене предоставил им право самостоятельно заключать союзы и вести войны (если только они не были направлены против самого императора). И повсюду в этой замечательной «империи» господствовало иноземное влияние.
Касалось это и парламентского образования, продолжавшего высокомерно именовать себя «рейхстагом». На деле же под этим названием скрывался клуб спорщиков, где сотни мелких «суверенитетов» месяцами торговались по вопросам этикета и престижа. Если же там затрагивались жизненно важные для всей нации вопросы (что происходило довольно редко), рейхстаг неизменно распадался на две фракции — евангелическую и католическую, враждовавшие подобно иностранным державам. Ловкие демарши из-за пределов Германии почти всегда достигали успеха. И если уж рейхстаг приходил к решениям, за границей они вызывали смех и издевательства.
Не лучше обстояли дела и с репутацией рейхскамергерихта — верховной судебной инстанции империи, медлительность и продажность которого вошла в поговорки. В 1700 г. рейхскамергерихт «рассматривал» 35 тысяч дел — они были начаты годы и десятилетия назад и всё никак не могли быть завершены.
То, что в Германии практически не было собственных вооруженных сил — главного средства защиты страны, — доказала разбойничья война Людовика XIV. И это подтвердил мгновенный переход в руки французов Страсбурга — самой сильной из всех пограничных немецких крепостей. Регулярная имперская армия в мирное время вообще не существовала. В случае войны император объявлял о призыве, и возникала пестрая коалиционная армия, где командиры гораздо больше препирались друг с другом по поводу рангов и достоинств, чем сражались с неприятелем. После окончания Тридцатилетней войны лишь три немецкие страны имели финансовые и организационные возможности поставить под ружье значимые силы: Австрия, Бранденбург и Саксония.
Но все эти обстоятельства перевешивал тот факт, что национального самосознания, чувства национальной общности у немцев больше не существовало. Мыслили и чувствовали они, с одной стороны, «территориально» (то есть провинциально), а с другой стороны, конфессионально: здесь — по-лютерански или по-реформатски, а там — по-католически. О совместной политической жизни немецкого народа не приходилось и говорить. Старое — империя — восстановлению уже не поддавалось. Если и можно было создать на раздробленной немецкой земле какую-то новую, перспективную форму политического существования, речь могла идти лишь о возникновении двух таких форм жизни, с двумя центрами тяжести — в протестантском, северо-немецком, и в католическом, южно-немецком, пространствах.
Конечно, на рубеже XVII и XVIII веков этого никто еще не видел. Люди слепы, как новорожденные котята, особенно в том, что касается завтрашнего дня. И все же подспудные силы истории двигали немецкую нацию в этом направлении, к образованию двух центров — Вены и Берлина. И хотя Фридрих III, всецело преданный императору человек, был очень далек от этой мысли, в нем все же жило предчувствие: его династии суждено стать величайшей в немецкой истории.
Первые попытки достичь заветного возвышения Фридрих сделал через два года по восшествии на престол. Уже в 1690 г. политические круги Варшавы и Кракова начали поговаривать о том, что «Бранденбуржец» собирается поступить так же, как Вильгельм Оранский. Досадно, но министры и советники Фридриха III не желали даже знать о его честолюбивых планах. Они дрожали и чуть ли не плакали от страха перед соседями, когда Бранденбург набирался храбрости идти собственным «особым путем». Когда в 1698 г. Тайный совет сфабриковал обвинительное заключение против премьер-министра Данкельмана, его главным пунктом, как писал министр фон Фукс 8 февраля, стали советы Данкельмана курфюрсту «добиться получения при дворе императора королевского титула, хотя для этого не было ни малейшей возможности».
Действительно, казалось совершенно невозможным получить или хитростью выманить у императора Леопольда I согласие на возвышение Гогенцоллернов. Фридрих III все же прилагал усилия (ничего уж тут не поделаешь) к тому, чтобы его предложения были услышаны в Вене и нашли понимание императора. Но дипломаты Бранденбурга в столице на Дунае не могли отправить своему сиятельному господину радостное послание. Даже взятки, превысившие сумму в 300 тысяч талеров, никаких перспектив не открыли. Сдвинуть дело с мертвой точки могло бы либо какое-нибудь дипломатическое несчастье, либо изменение в расстановке политических сил Европы.
Бранденбургский посол в Вене Данкельман, брат арестованного премьер-министра, уехал домой в весьма подавленном состоянии. Ему предстояло сделать доклад о безрезультатных попытках заставить венский имперский двор решить дело в пользу «королевского плана» Фридриха III. Его заместитель, оставшийся в Вене, советник посольства фон Бартольди, пожелал занять твердую позицию и в экстренном письме берлинскому двору рекомендовал прекратить дискуссии с венскими министрами и тайными советниками. Несомненно, писал он, наилучшим решением было бы письмо, собственноручно написанное курфюрстом непосредственно императору. В целях сохранения тайны письмо Бартольди было зашифровано цифровым кодом; курфюрст упоминался под числом 24, а император — под числом 110. Но в Берлине неразборчиво написанное (тогда еще не было пишущих машинок) число 110 приняли за 116. В строго секретной таблице под номером 116 значилось имя патера Вольфа — уроженца Вестфалии и прежде барона фон Людингсхаузена, позднее вступившего в орден иезуитов и теперь, в качестве «отца Вольфа», бывшего духовником и ближайшим советником венского императора Леопольда. Не императору, а этому человеку теперь писал Фридрих III весьма любезные письма по поводу бранденбургского «королевского проекта». В высшей степени польщенный, Вольф тотчас же стал радетелем бранденбургского курфюрста при императоре. И скоро он уже обращался в письмах к Фридриху III: «Ваше Сиятельство курфюрст, милостивый государь, почти король!»
Так обстояли дела осенью 1700 г., вскоре после маскарада в Литценбурге. И тут стало известно, что сорокалетний король Испании Карл II слег в Мадриде, сраженный смертельной болезнью. Всполошились все правительства Европы: каждому было ясно, что вот-вот грянет Война за испанское наследство и вся Европа полетит в пропасть — право на испанскую корону уже давно оспаривали Габсбурги и Бурбоны, то есть император Леопольд I и король Франции Людовик XIV. Так называемое европейское равновесие в опасности! И эта неожиданная ситуация может разрешить в пользу бранденбургского курфюрста его странный прожект. Потому что сейчас, ввиду войны с Францией, император Леопольд нуждается в бранденбургских солдатах. Для победы над Людовиком они будут нужнее хлеба насущного. Поэтому ход событий ускорился: 16 ноября 1700 г. умирает испанский король, а уже через две недели в Вене между Габсбургами и Гогенцоллернами заключается договор о короновании.
Окончательно дело решило то обстоятельство, что Фридриху III принадлежала земля, не являвшаяся частью империи. Установление королевского суверенитета было возможно лишь на такой, неподвластной императору, территории. И, Божьей милостью, такая территория имелась: Восточная Пруссия, входившая в состав владений курфюрста Бранденбургского, но не германской империи. В 1618 г. герцогство Пруссия стало владением дома Гогенцоллернов, а в 1657 г. Великий курфюрст силой, хитростью и упрямством освободил эту землю от ленного права Польши. И этот факт стал величайшей исторической удачей Фридриха III. Он получил от императора согласие признать его прусское королевское достоинство, а со своей стороны отправлял на помощь Австрии в ее борьбе за испанское наследство 8 тысяч человек отборного бранденбургского войска.
В договоре о короновании говорилось:
«Коль скоро курфюрст известил императора о намерении удостоить свой дом королевского титула и просил императора отнестись к этому благосклонно, поскольку ведомо ему, курфюрсту, что следует он примеру других суверенных особ, в прошлом сего титула достигших, и для того обратился к императору, главе всех христиан, не смея помимо воли его возложить на себя корону, то император, помня древнюю славу и силу дома курфюрстов бранденбургских, повелел присвоить курфюрсту заслуженное звание и всемилостиво объявил также, что когда курфюрст сие позволение исполнит и возложит на себя королевскую корону в своем герцогстве Пруссии, то он, император, и сын его король римский, получив о том известие, немедленно будут признавать и почитать его как короля Пруссии в империи и за ее пределами…»
Не может быть сомнений во всемирно-историческом значении этого документа, этого договора. Без него не было бы прусской истории, без него Пруссия не стала бы великой державой. Правда, тогда этого никто, конечно же, не предвидел. Только принц Евгений, великий полководец и покоритель турок, «благородный рыцарь», как его называли современники, при получении известия о договоре сказал, что министров, давших императору совет заключить его, следовало бы повесить. Уж он как никто другой знал о стойкости и отваге бранденбуржцев, так часто ходивших в бой под его началом. А Фридрих Великий, назвавший этот договор «делом тщеславия», в определенном смысле был, конечно, прав. Для его деда, больше всего любившего маскарад, игру с золотом и серебром, роскошь и помпу, этот новый, королевский пурпур стал самым ярким аксессуаром в его неизменном поиске украшений и нарядов, самым роскошным предметом, скрывавшим его слабость и «кривобокость». И все же, несмотря на глубокое отвращение к своему деду, Фридрих Великий считал договор о короновании от 1700 г. «политическим шедевром». И здесь он прав.
К сожалению, мы не знаем, как двенадцатилетний Фридрих Вильгельм отнесся к этому событию. О долгосрочных политических последствиях он, следует полагать, и не подозревал, будучи слишком юным. Во всяком случае, он ликовал: протестанты Германии обрели коронованного покровителя. Что же касается всего остального, его практичный ум занимали столичные события следующих дней и недель.
Потому что, едва Фридрих и его двор получили подписанный договор о короновании, на изумленных берлинцев хлынул поток заказов, а в сонных резиденциях на Шпрее и Хафеле закипела жизнь. Тысячи портных, сапожников, вышивальщиков, художников, скульпторов, золотых и серебряных дел мастеров под надзором придворных принялись за работу по подготовке коронации. Взмыленные лошади мчали эстафеты курфюрста в Париж, Лион и Амстердам с заказами на бриллианты и жемчуг, бархат и шелк, брюссельские кружева и французские «статс-парики». Сколько же все это стоило! Фридрих Вильгельм вкрадчиво осведомился на этот счет, и отец ответил ему со смешанным чувством гордости и стыда: как замечательно, если «заграница разделит нашу радость».
Курфюрст никак не ожидал, что его все же будут называть королем. Он неустанно подгонял события. Поскольку церемония коронации должна была пройти в Кёнигсберге, главном городе Восточной Пруссии, а Фридрих сгорал от нетерпения, пришлось забыть о празднике Рождества. 17 декабря 1700 г. из Берлина на восток выехала колонна. Она была больше бранденбургского корпуса, маршем двигавшегося к армии императора. Всем распоряжался сам Фридрих; его ненасытная церемониальная жажда наконец-то была близка к удовлетворению. Бесконечная, мерзнущая от холода колонна, строго разбитая по рангам на четыре части, пробивалась через снега.
В первой части двигались свыше 200 карет, парадных экипажей и походных кухонь. Здесь находились Фридрих, Софья Шарлотта и высшие придворные чины. Во второй ехал верхом Фридрих Вильгельм, окруженный свитой, — он редко забирался в карету. В третьей части колонны ехал штат придворных, а в четвертой — стража и телохранители. Позолоченная колонна двигалась сквозь снежные пустыни земли обетованной, дабы обрести в конце пути королевскую корону. Чтобы протащить этого гигантского червя по трескучему морозу через Бранденбург, Померанию, Западную и Восточную Пруссию, понадобилось 30 тысяч лошадей. Новое ярмо легло на плечи крестьян. Им пришлось безвозмездно предоставить в распоряжение колонны 30 тысяч лошадей и упряжь. Исполняя «лошадиную повинность», крестьяне должны были также в течение целого дня сопровождать процессию, двигавшуюся по заснеженной стране на северо-восток двенадцать дней; в день преодолевали по пятьдесят километров. На каждой остановке Фридрих как бы оказывался в своем берлинском дворце — с такой роскошью готовился ночлег. Наконец 29 декабря первая часть колонны въехала в Кёнигсберг. В ее составе находился и Фридрих Вильгельм — как обычно, он оторвался от своей свиты и пробился вперед. Коронацию и торжества по ее поводу курфюрст назначил на 18 января 1701 г.
За оставшиеся дни надо было закончить множество дел. Фридрих хотел, чтобы корона на его голову была возложена в полном соответствии с церемониалом коронации императора во Франкфурте. Следовало повторить каждую деталь этого ритуала. К сожалению, в наличии не оказалось немецких курфюрстов для свиты нового властителя. Пришлось срочно повышать в чинах подходящих для этого придворных и именовать их этими титулами. 18 января им предстояло нести королевские регалии, подавать блюда и умывальную чашу, то есть представлять собой паладинов, окружающих трон прусского короля. Для богослужения, сопровождавшего коронацию, были назначены два протестантских епископа (таких церковных чинов прежде не имелось). 15 января герольды разъехались по улицам Кёнигсберга. Под звуки труб они сообщали толпам зевак, что Господь присудил суверенному герцогу Пруссии быть королем. Двумя днями позже Фридрих учредил орден Черного орла — в дополнение к польскому ордену Белого орла. Для надписи на ордене он выбрал слова, настолько же гордые, насколько и смиренные: «Suum cuique» («Каждому свое»).
Утром 18 января 1701 г., когда в спальне Кёнигсбергского дворца обер-камергер Фридриха Кольбе фон Вартенберг надевал на господина драгоценную мантию, город содрогался от орудийных залпов и звона колоколов. Затем Фридрих отправился в огромный зал аудиенций, без особых церемоний надел корону, взял скипетр, украшенный двумя огромными рубинами (подарок царя Петра), и махнул им во все четыре стороны света — это означало, что новый король не зависит от какого-либо чужого государства. Затем государственные регалии принесли в салон Софьи Шарлотты. Фридрих надел ей на голову маленькую королевскую корону и поцеловал руку. Теперь назад, в зал аудиенций. Там, под роскошным балдахином, король и королева уселись на серебряные стулья (с подлокотниками!). И в то время, как оконные стекла дрожали от непрерывных залпов салюта, представители сословий присягали короне на верность и впервые радостно называли Фридриха и Софью «Ваше Королевское Величество».
В полдень под звон всех городских колоколов праздничная процессия покинула дворец, дабы по дорожке из алого сукна пересечь дворцовую площадь и пройти в церковь. На площади толпилась необозримая людская масса, во все глаза рассматривавшая королевскую процессию. Впереди шли литаврщики и трубачи; за ними — представители сословий и Кёнигсбергского университета. Затем пронесли государственные регалии: канцлер нес флаг, ланд-гофмейстер — яблоко «державы», обер-бургграф — государственный меч. Далее шел двенадцатилетний кронпринц Фридрих Вильгельм — его голубые глаза и свежий цвет лица умилили женскую часть публики. Следом шагали король Фридрих I и его супруга, королева Софья Шарлотта; над их головами десять дворян держали малиновый балдахин. Фридрих был одет в ярко-красный камзол со множеством бриллиантовых пуговиц ценой в 100 тысяч талеров каждая; камзол покрывали пурпурная мантия и горностаевая накидка, одна застежка которой стоила 100 тысяч талеров; на вершине огромного парика красовалась золотая корона, украшенная сверкающими алмазами. Так же роскошно оделась и королева, сопровождаемая двумя маркграфами.
У входа в церковь королевскую пару встретили два свежеиспеченных епископа: Бернгард фон Занден, прежде главный священник придворных лютеран, и Бенджамин Урсинус фон Бэр — до того главный реформатский священник двора. В церкви они помазали елеем руки и головы короля и королевы. Затем епископ Урсинус прочитал стих 30 из 2-й главы Первой книги Самуила: «Я прославлю прославляющих Меня, а бесславящие Меня будут посрамлены». Фридрих сам отыскал это место в Библии; он наслаждался каждым словом. Это его день, которого он так долго ждал, не теряя надежды! Все получалось, как он хотел, чинно и величественно. И все же король едва не вышел из себя, заметив, что его смертельно скучавшая жена, отнюдь не обрадованная «маскарадом», во время богослужения приняла добрую понюшку табака. (Эту привычку она передала по наследству и своему внуку.) Возмущенный король послал к ней камергера, и Софья Шарлотта смирилась. Ее сын, внимательно за всем наблюдавший, гневно сдвинул брови. Насколько глубоко он любил свою мать, настолько же резко не принимал ее равнодушия к религии.
По выходе из церкви тайный советник фон Штош разбросал среди публики золотые и серебряные монеты с изображениями новой королевской четы на сумму 6 тысяч талеров. Праздник был продолжен в дворцовом зале Московитов. Два обер-гофмейстера подавали их величествам кушанья на золотых блюдах; во время трапезы прислуживали двадцать семь камер-юнкеров. По правилам испанского церемониала, каждая золотая тарелка проходила через десяток рук, прежде чем оказывалась перед королем или королевой.
В это время простой народ развлекался на дворцовой площади, где били два фонтана с бесплатным красным и белым вином дешевых сортов. В центре площади на вертеле крутился огромный бык, начиненный зайцами, поросятами, фазанами и куропатками. Каждый мог отрезать от него кусок. Бедняки устраивали драки на подступах к этому великолепию, забыв о том, что вся эта роскошь оплачена их налогами и барщиной. В конце этого замечательного дня ликование народа вызвал шумный фейерверк, озаривший бенгальскими огнями башни и стены Кёнигсберга.
Бранденбургского курфюрста Фридриха III больше не существовало. Отныне этот человек стал прусским королем Фридрихом I. Новыми были также титулы королевы Софьи Шарлотты и кронпринца Фридриха Вильгельма. Новоиспеченный кронпринц, смешавшись с пирующей и танцующей толпой, «развлекался», мрачно глядя на фейерверк и пытаясь подсчитать расходы.
Торжества в Кёнигсберге длились семь недель. 6 мая двор выехал обратно в Берлин. Столицу нового короля Пруссии украсили семь триумфальных арок. Берлинцы восторженно приветствовали королевскую пару и бросали в воздух шляпы. Из всех провинций прибыли делегаты с приветственными адресами. Представители сословий преподнесли — скрипя зубами, вероятно, — так называемый «королевский налог» в размере 160 тысяч талеров. Теперь торжества и праздники начались на Шпрее и Хафеле. Они продолжались до середины июня и, конечно, понравились охочим до удовольствий берлинцам. Но Софья Шарлотта вернулась к своему письменному столу и писала Лейбницу: «Не подумайте, пожалуйста, что этот блеск и эти короны, из-за которых здесь устроили столько шума, я предпочту нашим философским беседам в Литценбурге».
Как же реагировали за границей? Как Европа отнеслась к этому спектаклю? Почти все европейские государства заявили через своих дипломатов о признании королевского достоинства. Один за другим заявления сделали: король Польши и Саксонии Август II германский император, короли Англии и Дании, русский царь, голландские Генеральные штаты, Швейцарская Конфедерация, Савойское герцогство, курфюрсты Майнца и Трира (1703), Португалия (1704), Венецианская республика (1710). Швеция, Испания и Франция решили подождать с формальным признанием. Пламенный протест тут же выразил папа римский Климент IX: в оскорбительном письме он называл Фридриха I «маркграфом Бранденбургским». В ответ профессор университета г. Галле, доктор юриспруденции Людвиг написал издевательскую статью под заголовком «Бесчинства папы по поводу права возводить в королевское достоинство». Этот пасквиль сразу же стал бестселлером протестантского населения Германии. А солдаты бывших бранденбургских, а ныне прусских, войск, отправляясь в Италию воевать с французами, брали его с собой в виде листовок. Лишь через десять лет, в 1711 г., закончилась эта распря. Когда на выборах императора Карла VI папский нунций кардинал Альбини решился протестовать против прусского королевского достоинства, представитель Пруссии в рейхстаге, Кристоф фон Дона, вызвал его на дуэль. Альбини побледнел и умолк. С этого момента протестов больше не было. В Европе неоспоримо существовало новое королевство, и все постепенно привыкали говорить не о бранденбуржцах, а о пруссаках.
А сейчас, летом 1701 г., Фридрих I занялся переделкой напыщенного дворцового этикета на «королевский лад». Его жена Софья Шарлотта и прусский кронпринц снова проводили свои дни в зеленых окрестностях Литценбурга. Лейбниц, президент Академии наук, постоянно приезжал к королеве. Благодаря ему визит в Литценбург смог нанести знаменитый вольнодумец своего времени, 32-летний ирландец Джон Толанд. Он прибыл из Лондона в начале октября засвидетельствовать новой прусской королеве свое почтение. Толанд тут же написал об этом событии письмо, опубликованное через пять лет: «В Шарлоттенбург добираются из Берлина по реке Шпрее через парк или Тиргартен, на бечевых судах или на небольших лодках. Со временем Тиргартен станет одним из самых лучших парков в Германии». Толанд ступил на берег, ответил на приветствие Лейбница, увидел, что дворец Литценбург еще не достроен. Затем он предстал перед прусской королевой. К изумлению Толанда, она очень хорошо знала его книгу «Christianity not mysterious» («Христианство без тайн»), вышедшую шесть лет назад. Толанд возглавлял деизм — философское учение, согласно которому Бог после сотворения мира больше не вмешивался в его судьбы и не говорил с людьми даже в форме откровений. Для Софьи Шарлотты, давно и основательно занимавшейся вопросами теизма, атеизма, а также деизма, беседа с таким человеком стала духовным деликатесом. В свою очередь, Толанд с явным восхищением писал о матери Фридриха Вильгельма:
«Софья Шарлотта — самая замечательная курфюрстина своего времени. Никто не смог бы превзойти ее в здравомыслии, свободе речи, изысканности беседы и обхождения. Она весьма начитанна и способна говорить с самыми разными людьми о самых разных вещах. Ее проницательность и сообразительность удивительны, так же как и ее основательное знание философии. Да, должен признать, за всю свою жизнь не встречал никого, кто был бы более, чем она, способен делать меткие реплики, а также судить о силе и слабости аргументов. Излюбленный предмет ее разговоров — музыка. Она превосходно играет на клавире, а также ноет. Прославленный Буопонцини, один из величайших итальянских мастеров нашего времени, считает ее музыкальные композиции совершенными. Она очень любит принимать иностранцев и беседовать с ними обо всем на свете. Она настолько хорошо знает различные формы правления и конституции и имеет о них настолько свободное от предрассудков мнение, что во всей Германии лишь ее следует считать „королевой-республиканкой“ или курфюрстиной, не поддерживающей идею абсолютной и неограниченной монархии. Все, носящее в себе живой дух и тонкое воспитание, имеет доступ к ее двору, где две вещи — наука и развлечения — сосуществуют в самой изысканной гармонии. Королева невысока и вряд ли стройна, она скорее низкого роста и полновата, но в самых приятных пропорциях. У нее очень белая кожа и свежий цвет лица, лучезарные голубые глаза и угольно-черные волосы, свободно падающие на чело и не имеющие следов пудры».
Написанное Толандом — не преувеличение и не лесть. Даже Лейбниц, этот король философов, однажды воскликнул во время жаркой дискуссии с Софьей Шарлоттой: «Мадам, удовлетворить вас совершенно невозможно! Вы хотите знать причину причин!» Королева играет на клавире и сочиняет концерты, она даже держит великолепную домашнюю капеллу под руководством маэстро Атиллы Ариости. Среди музыкантов выделяется скрипичный виртуоз Корелли, а среди певцов — тот самый Фердинандо, заслуживший комплимент от царя Петра. И наконец, Софья Шарлотта исполняет свое давнее страстное желание: 11 июля 1702 г., в день сорокапятилетия мужа, в Литценбурге празднуется открытие нового театра. Исполняется опера «I Trionfi del Parnasso» («Триумф муз»), В опере поют виртуозы Антонио Този, Паолина Файделин и Регина Шёнес, а королева в составе оркестра блестяще исполняет прелюдии на фортепьяно. Ее сын, Фридрих Вильгельм, сидит в партере и смертельно скучает.
Большую разницу между матерью и сыном трудно представить. Софья Шарлотта прилагала огромные усилия к приобщению уже четырнадцатилетнего наследника к правилам хорошего тона, к радостям научных занятий. Большую часть недели он проводил в Литценбурге. В эти дни мать беседовала с ним, подбирала для него хорошие книги и читала их сыну вслух. Но все это не оказывало решительно никакого действия. Фридрих Вильгельм оставался своенравным и упрямым; везде, где только мог, он демонстрировал грубость, неотесанность. Его комичная жадность, его неудержимые вспышки гнева, его хамские манеры, его презрение к искусству и наукам — все это ввергало мать в глубокую печаль. Когда она рассказывала сыну про беседы с Лейбницем о пустоте и бесконечности, кронпринц лишь ухмыльнулся и назвал философа дураком. Даже для снисходительной Софьи Шарлотты это было уж слишком. Она сурово отчитала сына и написала об этом подруге, фрейлине фон Пёльниц:
«Молодой человек, казавшийся мне лишь непоседливым и вспыльчивым, сегодня проявил признаки жестокости, причиной которой может быть только очень злое сердце. Нет, говорит г-жа Бюлов (статс-дама. — Примеч. авт.), причиной тому — жадность. Господи, тем хуже! Могут ли сочувствие и сострадание найти место в сердце, занятом эгоизмом и духом экономии? Я прочитала Фридриху Вильгельму стих из Библии и, поскольку случай к тому представляется нечасто, не стала сдерживаться и указала ему — упоминая разные случаи — на его непохвальные поступки. Среди прочих были и жалобы дам на его оскорбления. Мой гнев дошел до крайнего предела! Боже мой, это ли отзвуки благородного сердца? Неужели эти оскорбления показывают благородную душу?»
В этих строках мать отводит душу. И это жалоба женщины, боготворившей своего сына! Но каждое слово Софьи Шарлотты бьет без промаха. Говоря о Фридрихе Вильгельме, она упоминает «дух экономии», но и сама не может представить, насколько верно очерчивает личность подрастающего сына, ставшего впоследствии величайшим в истории хозяйственником государственного масштаба. А может быть, Софья Шарлотта смутно чувствовала, что сын похож не на нее, а на свекровь, Луизу Генриетту Оранскую?
Во время полового созревания, четырнадцати лет от роду, кронпринц обращается с женщинами по-хамски, но объяснить это одной лишь защитной реакцией подростка нельзя. Конечно, Фридрих Вильгельм чувствовал за кокетливым или любезным поведением фрейлин, приседавших перед ним в книксенах, скрытые издевки, понимал, что неотесанность делает его посмешищем в их глазах. Его грубости маскировали неуверенность и страх перед женщинами. На откровенные декольте смущенный кронпринц реагировал агрессивно: «глупая корова», «глупая гусыня». Мать это видела и очень хотела избавить сына от стеснительности. Она писала фрейлине Пёльниц: «Передайте графу Доне, пусть не препятствует воспитанию в кронпринце галантности! Любовь оттачивает дух и смягчает нравы. Граф обязан придавать его вкусам верное направление, не давая опошляться».
Итак, Софья Шарлотта сознательно предлагала кронпринцу мир «галантных приключений»: чувственная любовь помогла бы ему преодолеть собственную неуклюжесть. Совершенно очевидно, под «любовью» она подразумевала не глубокую симпатию и сердечную привязанность, а эстетскую эротико-сексуальную игру, те чувственные, мало стесненные условностями отношения между полами, способность к которым она считала составной частью хорошего вкуса и утонченных манер. Речь идет о том самом типе рыцарского поведения XVII века, знакомом нам по «Трем мушкетерам» и позже усвоенном внуком Софьи Шарлотты — будучи кронпринцем, он пожимал плечами и оправдывался перед графом Шуленбургом, разбиравшим его многочисленные «галантные» приключения: «que le Roi même a aimé le sexe pendant sa jeunesse» («король в молодости тоже любил секс»). Но удача ей не сопутствовала — в этом пункте Фридрих Вильгельм не разделял взгляды матери. Когда очаровательная Пёльниц — вероятно, с ведома Софьи Шарлотты — зашла так далеко, что сделала четырнадцатилетнему кронпринцу однозначное предложение, она получила решительный отпор. Нет, этот мальчик, во всем противоречивший своему окружению и даже не пытавшийся приспособиться к нему, поступавший очень «по-мужски», интересуясь не искусством, наукой и прочими «бабскими штучками», а сельским хозяйством и солдатами, то есть «штучками» мужскими, был последователен и в своем отношении к женщинам, обращаясь с ними отнюдь не изысканно и совсем не аристократично. Как это было свойственно нижним общественным классам его времени, он отдал свое сердце одной-единственной девушке — принцессе Каролине Ансбахской, с которой познакомился в Ганновере. Она должна была стать его женой и матерью его детей. Но по иронии судьбы эта принцесса была на пять лет старше Фридриха Вильгельма и не обращала на него никакого внимания. А когда она к тому же и вышла замуж за Георга, того самого слюнтяя, получавшего от Фридриха Вильгельма оплеухи, а позже ставшего королем Англии Георгом II, женщины перестали для него существовать. Он не обращал на них внимания или захлопывал перед ними двери.
В конце 1702 г. кронпринц получил нового обер-гофмейстера и воспитателя. Им стал полковник граф Альберт Конрад фон Финкенштейн. В течение еще двух лет он предпринимал отчаянные попытки сделать из Фридриха Вильгельма придворного рыцаря. О драматических сценах и инцидентах не известно ничего. Похоже, на время сын внял просьбам и увещеваниям матери. Возможно также, подействовала та самая головомойка. И все же натура молодого человека не изменилась совершенно.
В августе 1704 г., к 16-летию кронпринца, Софья Шарлотта сумела вырвать у короля обещание отпустить наследника трона в первое большое путешествие. Он должен был поехать в Нидерланды и в Англию. Мать, с трудом сумевшая проститься с обожаемым сыном, надеялась, что визит к чужому двору окажет благотворное действие на манеры кронпринца. В сентябре 1704 г. она долго обнимала сына, прежде чем он отправился к ближайшему пункту своего путешествия — в Гаагу. Когда он вышел из комнаты, заплаканная Софья Шарлотта села к письменному столу, нарисовала на листе бумаги сердце и подписала: «Il est parti».[9] Его путь она сопровождала нежными мыслями и множеством писем. Фридрих Вильгельм оказался весьма любвеобильным сыном. Он посылал матери подарки, тщательно выбранные у голландских ремесленников. Софья Шарлотта уговаривала мужа съездить в начале следующего года через Ганновер в Гаагу — ей очень хотелось еще раз обнять сына, прежде чем он отправится в Англию. 10 января 1705 г. она радостно сообщала ему из Берлина: «Дорогой сынок, напишу тебе лишь пару слов, потому что очень занята сборами. В понедельник я отправляюсь из Литценбурга в Ганновер. Там будет ясно, поедет ли король дальше, в Голландию. Если да, то я поеду с ним, чтобы получить возможность обнять тебя». Полная мрачных предчувствий, она добавляла: «Правда, я все еще сомневаюсь в том, что столько событий может произойти сразу». Письмо она заканчивала словами: «Милый сынок, ты не должен делать мне подарки. Мне хватает твоей дружбы».
Неделей позже Софья Шарлотта отправилась в Ганновер, несмотря на плохое самочувствие и боль в горле. Через десять дней, 28 января, у королевы обнаружили сильное нагноение миндалин. Софья Шарлотта поняла: ее жизнь подходит к концу. Она стойко отвергала все обезболивающие средства и только время от времени велела подавать себе стакан с ледяным шампанским. Она утешала своего заплаканного юного брата: «Нет ничего естественнее смерти. Она неизбежна, и я не нахожу печали в том, что должна умереть». Фрейлине Пёльниц, не разделявшей ее мнения, она сказала: «Как много ненужных церемоний будет при доставке этого тела в Берлин». Когда ее подруга не могла сдержать слез, Софья Шарлотта улыбнулась: «Почему вы плачете? Вы думали, я бессмертна?» В ночь с 31 января на 1 февраля священник реформатской общины де ла Бержери вошел в комнату королевы, опустился перед ложем больной на колени и стал осаждать ее наставлениями: «Просите убежища в крови Христовой и молите Бога об отпущении грехов». Софья Шарлотта дала ему выговориться, а затем ответила: «Уже двадцать лет я изучаю вопросы религии. Я прочла все книги, где говорится о ней. Я не испытываю никаких сомнений. Вы не можете сказать мне ничего такого, что не было бы мне известно. Могу уверить вас, я умру спокойно». Священник стал настаивать на своем и уговаривать ее отрешиться от мирской гордыни. Но статс-дама фон Бюлов прервала его: «От этого греха королева вполне свободна».
Утром 1 февраля врачи принялись упрашивать пациентку поберечь свои силы. Она возразила: «Я умру счастливой и легкой смертью». Придворные дамы, слуги, мать, братья и сестры больной собрались у ее постели. Софья Шарлотта попрощалась с ними и попросила передать ее благословение сыну. Услышав тихий плач, она улыбнулась: «Не надо плакать. Сейчас я смогу утолить свое любопытство. Я узнаю первопричину вещей, которую мне не смог объяснить Лейбниц: пространство, бесконечность, бытие и небытие…» Силы покинули Софью Шарлотту. Прозвучали ее последние слова: «Прощайте… Я задыхаюсь…»
1 февраля 1705 г. Софья Шарлотта, мать Фридриха Вильгельма и первая королева Пруссии, умерла в возрасте тридцати шести лет, на двадцатом году замужества.
Сын, уже ступивший на корабль, зафрахтованный герцогом Мальборо для его доставки в Англию, помчался домой, как только получил известие о смерти. В шестнадцать лет он потерял мать, все ему прощавшую и любившую его бесконечно. Слава Богу, тогда он даже не заподозрил, что в течение всей жизни больше никогда не встретит любовь. До самой смерти он говорил о матери с величайшим уважением, добавляя, правда: «Она была умной женщиной, но плохой христианкой». Он сознавал: мать была слишком добра и снисходительна к нему. И когда у него самого появятся дети, он не станет следовать этому примеру.
Через три месяца после смерти Софьи Шарлотты в берлинском дворце произошло знаменательное событие. Когда Фридрих Вильгельм явился туда для разговора с отцом, он увидел при входе группу тайных советников и камергеров. Сиятельные особы собрались у камина. Они протягивали озябшие руки к огню и делились придворными сплетнями. При виде кронпринца они подобострастно расступились и совершенно «случайно» завели разговор о том, что государство нуждается в строжайшей экономии, что в Берлине роскоши становится все больше: каждый месяц в Париж из-за бесполезных модных причуд уплывают несметные суммы добрых прусских денег. (Разумеется, эти господа знали о причудах бережливого наследника и о его презрении ко всему французскому.) Некоторое время Фридрих Вильгельм слушал, с интересом разглядывая роскошные французские парики высоких особ. Кронпринц встал и сказал: «Очень рад, что господа согласны со мной. И конечно, вы охотно докажете мне это на деле». Затем он сорвал со своей головы скромный куцый парик, бросил его в огонь и крикнул: «Ловлю господ на слове! Буду считать подлецом всякого, кто не последует моему примеру!» Тайные советники озадаченно переглянулись. Наконец, преодолевая невыносимые мучения, один за другим они начали стягивать с голов умопомрачительно дорогие парики и бросать их в огонь.
Курьезная, казалось бы, история. Но за ней скрывались очень серьезные вещи. За последние пять лет уровень расточительности и коррупции в Пруссии достиг баснословных высот — синонимом этого бедствия стало имя Вартенберг.
Вспомним историю падения высокомерного, но всеми уважаемого и весьма способного премьер-министра Данкельмана в 1697 г. Некоторое время после его смещения обер-президентом, то есть премьер-министром, был генерал фон Барфус. Но вскоре фон Барфуса оттеснил некий господин фон Кольбе — один из главных зачинщиков дела Данкельмана. Этот Кольбе был обедневшим пфальцским дворянином. Приятной наружности мужчина, с элегантными манерами, он в течение многих лет был любовником престарелой пфальцской графини фон Зиммерн и состоял на ее содержании. Благодаря исключительным способностям карьериста и угодника он сумел завоевать доверие Фридриха, а временами даже Софьи Шарлотты. Вскоре фон Кольбе стал получать новые должности одну за другой: обер-камергер, обер-шталмейстер, генерал-почтмейстер, обер-директор родовых поместий, главный смотритель университетов и академий, маршал Пруссии. Наконец, в 1699 г. он стал всесильным премьер-министром. Не довольствуясь всем этим, присвоил себе титул имперского графа и имя Вартенберг, одолженное у фамильного поместья. За обладание своими должностями он получал 120 тысяч талеров ежегодно.
Страна безропотно подчинилась выскочке-фавориту Вартенбергу. А чтобы никто не мог поднять голос против его господства и привлечь к ответственности, Вартенберг выпросил у своего покровителя привилегию, аналог которой найти в истории довольно трудно. Примерно за год до коронации, в октябре 1699 г., Фридрих подписал документ, созданный под диктовку Вартенберга:
«Поскольку курфюрст уверен, что Вартенберг заботится о Его выгодах со всяческой верностью и усердием, но не может, неотлучно при Нашей высочайшей персоне находясь и Ее в непрерывных поездках сопровождая, все проверить сам, ибо многие дела он должен успеть закончить, то, если случится что-либо в ущерб Нашей выгоде, не он в том повинен будет, а потому даем Мы высочайшее слово и обещание Вартенбергу и его наследникам, что когда при управлении Нашими поместьями и средствами в чем-либо будет Нам ущерб нанесен, то не он, подписав нужный документ, за то отвечать должен, а чиновники, чьи имена всегда на документе указывать должно».
Подобной санкции на обман, взяточничество и растраты мир еще не видывал. Небывалый документ циркулировал по всем финансовым инстанциям, где руководители с ним знакомились и послушно подписывали. Благодаря ему Вартенберг стал практически неограниченным властителем над жизнями и имуществом подданных. И он немедленно начал грабить везде, где только возможно.
Прусская история с 1700 до 1705 г., то есть до того момента, когда 16-летний кронпринц, выведенный из себя мотовством берлинского двора, бросил свой парик в огонь, — это история грабительских набегов Вартенберга, добывающего колоссальные деньги для Фридриха I и для себя самого. Этот разбой осуществлялся за счет повышения основных налогов, а также введения налогов дополнительных: налоги на землю, называвшиеся «контрибуцией», и акцизные тарифы (то есть пошлина, взимавшаяся у городских ворот на все потребительские товары) увеличивались ежегодно. Так, ежегодные акцизные поступления Берлина с 1690 по 1710 г. увеличились с 60 до 180 тысяч талеров. Сюда входили постоянные особые налоги, например на постройку дворца, создание парка или на празднования по случаю коронации. Когда не хватало и этого, правительство объявляло о «поголовном налоге», то есть о налогообложении голов своих подданных. Уровень их состоятельности роли не играл, важна была сословная принадлежность: граф платил шестьдесят, барон сорок талеров, а пастух полталера; женщины и дети младше двенадцати лет от этого налога освобождались. Не оплативший «поголовный налог» в течение двух месяцев платил вдвойне; уклонившийся от учета и преданный своими ближними оплачивал налог в четырехкратном размере.
Но чтобы покрыть колоссальные расходы на двор и на фаворитов, не хватало и «поголовного налога». И тогда дело дошло до париков. Фридрих I был без ума от париков. Скрывая изъяны кособокой фигуры, он носил удлиненный парик. Его закрученные в штопор локоны опускались ниже спины. Королю подражала вся страна. Ни один человек не смел показаться на улице без парика; даже уличные мальчишки уродовали себя короткими париками. Вартенберг объявил о налоге на парики: парик отечественного производства облагался налогом в размере шести процентов от продажной стоимости, за приобретение иностранного парика взимали уже двадцать пять процентов. Француз, сборщик налогов, и его многочисленные сотрудники получили монополию на «париковый налог» в Берлине и в Потсдаме. На улицах с людей срывали парики, чтобы проверить, стоит ли на них клеймо об оплате налога. Бывало, и просто врывались в дома и начинали искать парики там.
Вслед за париками налогами стали облагать сапоги, башмаки, чулки, равно как и дамские шляпы, а также чепчики. Для покупки кофе, чая и шоколада нужно было получить заверенное разрешение — причем у тех самых французов-налоговиков, поставленных контролировать парики. Даже кареты и повозки были обложены налогами на том основании, что их колеса наносят ущерб мостовым. Для бедных сословий самым тяжелым оказался налог на соль: целый гульден за шеффель[10] соли. Большинству он оказался просто не по карману. Во многих домах мясо стали засаливать в рассоле из-под селедки, и многие тысячи людей серьезно заболели. Все это — результат грабительских налогов Вартенберга. Народ нещадно эксплуатировали, а все же покрыть расходы на содержание берлинского двора не удавалось никогда — к 1706 г. они превышали 30 тысяч талеров в месяц.
Это и стало истинной причиной забавного на первый взгляд инцидента с сожженными в огне камина париками. Здесь начинается новый этап в жизни прусского кронпринца! Фридрих Вильгельм, достигший семнадцати лет, осенью 1705 г. по распоряжению короля назначается членом Государственного совета. И скоро глаза у него не только открылись, но и полезли на лоб: то, что он смутно чувствовал в детстве, что вызывало у него беспричинное отвращение, что он едва ли мог бы внятно описать, сейчас было очень четко осознано. Это была хорошо продуманная система «неряшливости», мотовства, махинаций маленькой придворной клики, социальной банды, жившей за счет народа. «Невинность» его безмятежного детства, сохранявшаяся благодаря всепрощающей материнской любви, упала с его плеч, подобно теплому плащу. Фридрих Вильгельм «прозрел». Отныне и до того самого дня, как он станет королем, государственное и социальное устройство Пруссии будет приковывать колючий, придирчивый взгляд наследника трона.
У августейшего отца и его советников ноги подкосились, когда они получили в конце 1705 г. первое письменное заключение Фридриха Вильгельма, уже ставшего командиром пехотного полка: прусскому государству необходима куда большая регулярная армия, чем нынешняя. Но придворная камарилья быстро успокоилась, решив, что молодой человек дурачится. Всем было известно, как упрям он во время своих игр в солдатики. Ничего, эту причуду кронпринца можно пережить. Вывод оказался ошибочным. Потому что Фридрих Вильгельм, затронув вопрос о содержании регулярной армии, схватил финансовую суть государства, то есть «nervus rerum»[11] политических и социальных структур Пруссии. И камарилья, слава Богу, этого не поняла.
Нельзя с уверенностью сказать, что с 1705 по 1710 г. Фридрих Вильгельм специально прикидывался этаким туповатым солдафоном, дабы не спугнуть Вартенберга и его клику и, соответственно, отвести от себя подозрения. Возможно, его знания в области государственной экономики были недостаточными и нуждались в солидном пополнении. Как бы то ни было, держался он крайне скрытно, и никто в Берлине не мог даже представить, какая ярость кипела в душе Фридриха Вильгельма по поводу дворцовых событий: он никогда не выходил за рамки своего лояльного, уважительного отношения к отцу и королю. Авторитет главы семьи и государства был для него священным и неприкосновенным. Многолетняя последовательность Фридриха Вильгельма в этом вопросе просто поразительна и еще не оценена по достоинству. Обуздывать свой бурный темперамент, стиснув зубы, дожидаться лучших времен, а до тех пор разыгрывать роль послушного сына и престолонаследника — для этого понадобились чрезвычайно крепкие нервы. (Мы не должны забывать об этой драме — она объясняет, почему двадцать лет спустя этот человек не нашел в себе и крупицы сочувствия к кронпринцу Фридриху, когда тот взбунтовался и попробовал разыграть из себя «восходящее солнце».)
Через год после смерти Софьи Шарлотты, летом 1706 г., Фридрих I сосватал своему сыну принцессу Софью Доротею, дочь курфюрста Георга Ганноверского. Брак являлся целиком политической акцией, поскольку уже выяснилось, что скоро Георг может стать королем Англии, Шотландии и Ирландии (это действительно произошло в 1714 г.). В самом деле, семейные связи Берлина с Ганновером и Лондоном сулили молодому прусскому королевству исключительные выгоды. Ни о какой «любви» при этом не могло быть и речи. В сущности, Фридрих Вильгельм ничего не знал о своей будущей жене. Она была на год старше его, довольно высокая и статная шатенка с голубыми глазами. Софью Доротею отличала придворная светскость, она значительно превосходила будущего супруга изысканностью манер, ходила с высоко задранным носом и вряд ли согласилась бы на брак с неотесанным берлинским принцем, если бы это событие не сулило ей королевскую корону.
В июне в Ганновере состоялось обручение. Молодые относились друг к другу довольно прохладно. Затем Фридрих Вильгельм уехал в Нидерланды, где союзники сражались с французами — война за испанское наследство продолжалась. Прусский кронпринц стал свидетелем завоевания крепости Менин войсками под командованием английского герцога Мальборо, не доложив ему, что примечательно, о своем присутствии на поле боя.
Между тем в Ганновере была завершена прокурация брака (вместо Фридриха Вильгельма выступал его полномочный представитель). 27 ноября, когда новоиспеченную кронпринцессу Софью Доротею торжественно доставили в Берлин, Фридрих Вильгельм в офицерской форме был на месте. На следующий день официальное бракосочетание 19-летней невесты и 18-летнего жениха состоялось в церкви при берлинском дворце.
Вечером Фридрих Вильгельм без долгих церемоний и особых нежностей взял свою юную жену штурмом — так, будто он все еще был при Менине и перед ним стояла задача водрузить знамя победы. И все с этим браком, с ближайшими 34 годами жизни, стало ясно. Nolens volens Софье Доротее пришлось привыкать к тому, что Фридрих Вильгельм видел в ней прежде всего мать своих будущих детей, что над выполнением этого задания он в течение десятилетий будет планомерно трудиться сам и заставит работать ее. Тогда же в ее душе утвердился и внутренний протест, чувство глубокого превосходства над грубым, воинственным, совершенно бесчувственным супругом, врывающимся в ее спальню, бесцеремонно называющим ее «Фикхен» и любившим ее долго и весело, так, как это принято у простолюдинов. Ее раздражал даже запах мыла, исходивший от чистоплотного мужа.
Когда Фридрих Вильгельм не присутствовал на еженедельных заседаниях Государственного совета или не спешил к своей молодой жене, через двенадцать месяцев после свадьбы подарившей ему маленького принца (умершего уже через год), он находился в своем охотничьем замке Вустерхаузене. Это поместье все больше становилось своеобразным эмбрионом прусского «контргосударства».
Именно там, неизменно подчеркивают историки, в Вустерхаузене, кронпринц предавался сомнительным играм не то в солдатики, не то в солдаты. К 1711 г. бывшая «кадетская рота», рьяно вымуштрованная маленьким Фридрихом Вильгельмом, достигла численности и мощи батальона. Произошло так потому, что к военным играм были приговорены все молодые слуги Вустерхаузена и батраки в его окрестностях. Но это только одна сторона медали. Наряду с играми молодой человек из Вустерхаузена создал здесь подлинно образцовое крестьянское хозяйство и в полном объеме изучил тогдашнюю «экономию», мельчайшие детали усадебного и домашнего хозяйства, тем самым постигая основы национальной экономики.
Образцовый Вустерхаузен был диаметральной противоположностью Берлину. Только что, в конце 1706 г., иерархическое древо королевского двора стало еще более развесистым: Вартенберг учредил обер-геральдическую службу. В ее штат вошли обер-геральдмейстер, пять его советников, историограф, архивариус, нотариус и художник гербов. Все они, в свою очередь, нуждались во множестве помощников, хотя «обер-геральдическая служба» практически не имела заданий и только продолжала возводить стену между королем и народом. В этом году расходы на штат придворных составили около 376 тысяч талеров. О социально-экономических последствиях таких трат можно получить представление, узнав о том, что в том же году на содержание государственного аппарата, органов юстиции, церквей, школ и университетов всего прусского королевства было потрачено 420 тысяч талеров.
Ничего удивительного — 80 тысяч талеров в год требовалось только на выдачу жалованья штатным служащим берлинского двора. В их числе были: тридцать камерюнкеров, пять гофюнкеров, шестьдесят музыкантов с твердыми окладами, десятки пажей, лакеев и т. д. Камердинер, ежедневно бривший Фридриха I, имел при себе двух гофбрадобреев и жалованье в размере 840 талеров плюс бесплатный корм для четырех лошадей. В штате королевской кухни числились 66 служащих. Челядь, сопровождавшая короля или Вартенберга в дороге, включала в себя также специальную дорожную капеллу с литаврщиками и трубачами. Для обслуживания королевской гондолы из Венеции были выписаны гребцы-итальянцы, трешкоутом[12] монарха управляла команда голландских матросов. Не следует забывать и о безумных расходах, требовавшихся для особых миссий короля при иноземных дворах (в 1712 г. — более двухсот тысяч талеров), роскошное обмундирование пешей и конной гвардии короля, кавалеры различных орденов, герольды, прочие слуги. И все ступают павлинами, и все в одеждах златотканых. А ревнивые, охочие до удовольствий берлинцы перенимают этот стиль, и мода на роскошные наряды проникает в обывательские слои. Происходит так отнюдь не по воле двора. Напротив, издаются даже строгие правила ношения каждым сословием своей одежды. В них среди прочих угроз обычным бюргерам, одевающимся в бархат и шелк, сообщается также, что следует опасаться не только «Божьего гнева и кары», но и «разорения и даже разрушения многих семей». Естественно, нельзя было допустить трат обывателей на себя, ведь иначе Вартенберг не смог бы проводить свои грабительские налоговые акции.
Само собой разумеется, Берлин не был одинок в своем стремлении к роскоши. Все дворы и дворики той эпохи вели себя так же либо подражали этому стилю. Все следовали примеру «короля-солнца» и — по вполне французскому образцу — везде в народе видели лишь терпеливую массу, из которой следовало выжимать все без остатка. Это верно и для двора императора в Вене, где, к примеру, на одну только петрушку ежегодно тратилось четыре тысячи дукатов, где императрица расходовала две бочки драгоценного токайского вина на пропитку хлеба для своих попугаев, а челядь достигала численности армейского корпуса. Впрочем, все это никак не утешало Фридриха Вильгельма. Для прусского кронпринца блеск Версаля не значил абсолютно ничего, любое проявление роскоши вызывало в нем отвращение, а ум его был занят исключительно интересами государства.
В 1708 и 1709 гг. Восточная Пруссия пережила страшный голод. Несметные массы людей умирали от тифа. Эпидемия унесла более двухсот тысяч человек — около половины населения; иные города и деревни Восточной Пруссии казались вымершими. Тем более невероятными и возмутительными были выходки берлинского двора, не сократившего расходы даже в это время. Летом 1709 г. состоялись крестины первой дочери кронпринца Вильгельмины, впоследствии маркграфини Байройтской и любимой сестры Фридриха Великого. Фридрих I и Вартенберг обставили это событие роскошью, затмившей все прежние торжества. Короли Польши и Дании прибыли в Берлин в качестве крестных, прусская столица сияла в блеске трех королей, тогда как в Восточной Пруссии отмечались случаи людоедства. Придворный поэт, сравнивший Вильгельмину с новорожденным Христом, а королей Пруссии, Полыни и Дании с тремя волхвами, за свой лакейский стишок получил от Фридриха I тысячу золотых дукатов, хотя в том же 1709 г. из-за голода в Кёнигсберге умерло на 8127 человек больше, чем родилось.
Фридрих Вильгельм не принимал участия в этом спектакле. В конце апреля он покинул Берлин и отправился в союзную армию, воюющую в Нидерландах. В ее составе находились также крупные прусские соединения под командованием генералов фон Нацмера и фон Лоттума. Король снабдил его письменной инструкцией, а также велел держаться поближе к прославленным полководцам принцу Евгению и герцогу Мальборо. Кроме того, кронпринц был обязан «вежливо и прилично вести себя» со всеми другими генералами и знатными людьми, «особенно английской нации». Вот на какую глубину было погребено немецкое самосознание!
11 сентября 1709 г. при Мальплаке произошла битва, в ходе которой союзники нанесли французам сокрушительное поражение. До самой смерти Фридрих Вильгельм ничем не гордился так, как своим присутствием на поле этой битвы. В европейских газетах сообщалось: прусский кронпринц «во время всего сражения находился рядом с принцем Евгением и герцогом Мальборо и разделил с ними все опасности, а также все почести». Мальборо сам закончил реляцию о победе утверждением, что особая заслуга в ней принадлежит прусским частям, отважно атаковавшим правый фланг французов.
В главной штаб-квартире союзников Фридрих Вильгельм занимался отнюдь не беспрекословным исполнением инструкции своего отца. Не нашлось у него времени и для «вежливого и приличного поведения» в отношении иностранцев какой бы то ни было нации. Шесть месяцев, проведенные в армии, он отдал прежде всего прусским частям. Труды кронпринца были тем более успешными, что его повсюду сопровождал 33-летний князь Леопольд Анхальт-Дессауский — один из многих независимых немецких князей, но также и прусский генерал-лейтенант, уже не раз отличившийся в сражениях. Его военная слава начала греметь по всей Европе с 1706 г., когда он — с бутылкой шнапса в левой руке и с обнаженной шпагой в правой — повел прусские отряды на штурм занятого французами Турина. Грубиян Леопольд с его зычным командирским голосом был уникален во многих отношениях. Против воли своих родителей и мнения всего придворного общества он взял замуж дочь простого аптекаря, красавицу Аннелизу Фёзе, и сделал ее княгиней; предполагаемого любовного конкурента он запросто проткнул шпагой. И что самое главное, стал первым кадровым военным в Европе. Ничто на свете его не интересовало, за исключением войны; правда, он был также замечательным, экономным управляющим своего маленького княжества Анхальт-Дессау.
Это был человек во вкусе Фридриха Вильгельма: практичный, здравомыслящий, грубый, богобоязненный и враждебный всякой роскоши, целиком отдавший себя «экономии» и военному делу. Этот ограниченный солдафон, рассказывающий о военных приключениях, чрезвычайно понравился любознательному прусскому кронпринцу. Так возник симбиоз двух военных реформаторов, чья деятельность имела самые значительные исторические последствия. Уже лет десять прусский генерал-лейтенант Леопольд проводил эксперименты над строевым порядком и оружейной техникой. Шаг в ногу и железный шомпол обязаны своим происхождением преимущественно князю Леопольду из Дессау. Авторитет и профессионализм Фридриха Вильгельма по-настоящему встряхнули прусскую армию. Былую пестроту отдельных частей сменила единая организация, тактика, обмундирование и дисциплина. Возник термин «берлинская лазурь», ставший широко известным синонимом прусской армии. На шелковых знаменах батальонов и полков появился взлетающий прусский орел и девиз «Non soli cedit» («Он не уступает солнцу»).
Во время совместного похода союзники и удивлялись, и завидовали, и смеялись, глядя, как Фридрих Вильгельм занимается строевой подготовкой прусского корпуса. Слова «прусская муштра» стали крылатыми в военной среде всего мира. Даже специалисты не понимали тогда революционного значения прусской строевой службы, видя в ней лишь парадные эффекты. На самом же деле речь шла о совершенно другом: мир стоял накануне линейной тактики! В будущем не станет хаотичных боев разрозненных толп. Нет, на поля сражений двинутся ряды, извергающие огонь, то есть огневая мощь и движение будут взаимодействовать. Образно говоря, огонь должен маршировать! И это произойдет тогда, когда на поле боя станут использовать точные, тысячекратно выверенные приемы линейной тактики. В 1709 г., возле Мальплаке, все это казалось лишь солдафонским капризом. А в 1741-м, при Мольвице, оказалось невозможным противостоять прусской атаке, чередовавшей неизменное наступление со сплошным огнем. Именно она и вызвала драматический сдвиг в европейском равновесии. Так кронпринц Фридрих Вильгельм и его друг, князь Леопольд из Дессау, стали родоначальниками и вдохновителями военного дела новой эпохи.
В 1710 г. легендарный полководец принц Евгений Савойский прибыл в Берлин с официальным визитом. Он остановился в доме князя Леопольда. Евгений Савойский имел множество бесед с Фридрихом I и его министрами, обедал у английского посла милорда Раби, у старого фельдмаршала фон Вартенслебена и у кронпринца, отбросившего свою легендарную скаредность и потчевавшего прославленного героя изысканными яствами и винами. Принц Евгений выразил прусскому двору полное доверие императора и покинул Берлин с королевскими подарками на сумму свыше тридцати тысяч талеров. Лучше бы было не «нашпиговывать» его золотом и бриллиантами, а добиться, ссылаясь на мощную прусскую армию, политических обещаний в пользу государственных интересов Пруссии. Ибо 1710 г. завершился появлением замечательных перспектив: благодаря настойчивым усилиям кронпринца наконец-то удалось добиться отставки премьер-министра Вартенберга. Фридрих I плакал горькими слезами, когда его любимец бежал во Франкфурт-на-Майне с двумя миллионами украденных талеров.
Летом 1711 г. кронпринцесса Софья Доротея снова оказалась в интересном положении. Она уже родила мужу двух мальчиков, вскоре после рождения умерших, и дочь Вильгельмину. Дочери исполнилось два года, и она отличалась крепким здоровьем. В это лето Фридрих Вильгельм был — насколько позволяла его непосредственная натура — полон внимания и предусмотрительного отношения к своей «Фикхен». Он страстно молился о рождении сына, наследника, и жил в постоянном страхе: смерть снова могла разрушить его сокровенные надежды.
Ранняя смерть первого, а затем и второго сына сыграла в жизни Фридриха Вильгельма роль, по-настоящему историками не оцененную. Прусский кронпринц воспринимал их как удары судьбы. Конечно, детская смертность в начале XVIII века была очень высока. Она считалась «нормой» семейной жизни как во дворцах, так и в хижинах. Фридрих Вильгельм, для которого смысл брака заключался не в сексе и даже не в любви, а только в детях, был глубоко потрясен первой такой смертью в 1708 г. Позднее он сам писал, что с этого времени (в 1708 г. ему исполнилось двадцать лет) стал поистине набожным христианином. Он испытал всемогущество Бога, с чьим «суверенитетом» шутить было нельзя, и до самой смерти, несмотря на свой бурный темперамент, жил в страхе перед карающей десницей Господа.
Большую часть лета Фридрих Вильгельм провел в своем любимом Вустерхаузене, где муштровал батальон в шестьсот человек, ходил по стойлам и амбарам, расспрашивал крестьян и арендаторов. Вечерами, основательно помывшись и надев нарукавники, он садился за стол, освещенный свечами, и предавался глубочайшей своей страсти: он считал. Его взгляд придирчиво осматривал колонки цифр, проходивших перед его глазами подобно полкам и батальонам. Точно так же он и маленьким мальчиком сидел над своей расходной книжкой, а сейчас с удовлетворением устанавливал, что в этом году общие доходы Вустерхаузена составили 12 тысяч талеров; из них он должен вложить в свою маленькую частную армию только тридцать процентов. По сравнению с обычным батальоном прусской армии содержание его игрушечного батальона обходилось ему дешевле на 3750 талеров в год. То есть он в плюсе! И эти занятия вовсе не были рецидивами патологической бережливости Фридриха Вильгельма. Нет, благодаря частному случаю Вустерхаузена — наполовину крестьянской усадьбы, наполовину воинской части — к кронпринцу приходило глубокое понимание причин неразрывной связи между армией и финансами, экономического взаимодействия между государством и армией.
Наконец 24 января 1712 г. свершилось счастливое событие: Софья Доротея родила третьего сына. Было воскресенье, и родители увидели в этом доброе, сулившее удачу предзнаменование. Они на коленях умоляли Бога не отбирать у них долгожданное потомство.
В спальне кронпринцессы кормилица протянула гордому отцу маленький сверток с новорожденным. Фридрих Вильгельм был вне себя от радости, он обнимал младенца и прижимал его к сердцу, а когда поднес его к камину, чтобы лучше рассмотреть лицо, служанки всполошились, отобрали у него ребенка и осторожно переложили в руки обессиленной матери.
Тут открылись боковые двери и вошел король в сопровождении огромной свиты. Дед гордо осмотрел показанного снохой внука, положил в благословляющем жесте руки на его маленькое морщинистое лицо и углубился в продолжительную молитву. Родители тем временем испытывали адские муки — они уже видели своего сына полузадушенным. Наконец дедушка удалился, сообщив, что торжественные крестины маленького принца состоятся через неделю.
31 января в четыре часа пополудни новорожденный принц был крещен при свечах в дворцовой церкви. Ребенка закутали в тканную серебром, украшенную бриллиантами батистовую одежду, шлейф за ним несли четыре графини. По распоряжению короля принца назвали Фридрихом. В доме Гогенцоллернов это имя всегда было счастливым. И пока дед высочайше удерживал крошечного принца над купелью, берлинский епископ Урсинус совершал торжественный обряд.
Через десять месяцев, в ноябре 1712 г., через Берлин проезжал русский царь Петр. В то время он воевал со шведами и датчанами и хотел бы заполучить в союзники Пруссию. Он прибыл без предварительного уведомления и ехал почти без свиты, на единственных санях, с четверкой казацких лошадей. Берлинские прохожие принимали его за русского торговца икрой. Петр неузнанным пробрался через весь город и приехал прямо во дворец, где от удивления все чуть не попадали в обморок. Фридрих I, болевший уже несколько дней, не дал русскому владыке уговорить себя; он сохранял нейтралитет Пруссии. Царь Петр был разочарован. Зато с кронпринцем он нашел общий язык. Тот с гордостью представил ему сына, называя его «Фрицхен», — у мальчика уже прорезались шесть зубов.
В январе 1713 г. состояние здоровья Фридриха I серьезно ухудшилось. Кособокий король едва мог встать с постели. И все же никто не мог и подумать о близкой смерти 55-летнего монарха. Но 20 февраля в Берлине заговорили о том, что силы покидают короля, и тысячи горожан собрались на площади перед дворцом. Спустя два дня Фридриха поднесли к окну — толпа возликовала. Но Фридрих не обманывался насчет своего состояния. Он обернулся к придворным и сказал: «В мире играют только одну комедию, и скоро она закончится. Плохо тому, у кого не было дел важнее». Таковы были самые умные слова, сказанные этим человеком за всю его жизнь. Хоть и с опозданием, они сделали ему честь.
24 февраля смертельно больной король велел позвать кронпринца и Софью Доротею с его маленьким внуком. Он благословил их. Через день, 25 февраля, первый король Пруссии Фридрих I умер после 25-летнего правления. Граф Дона, державший его руку, сообщил, что король умер «так же кротко, как угасает свет».
Ушел ли свет из Пруссии?
Видит Бог: жители провинций — Бранденбурга, Померании, Восточной Пруссии, Вестфалии и Рейнланда — не имели особых поводов для стенаний. Когда они думали о последних пятнадцати годах этого правления, то вспоминали прежде всего налоги графа Вартенберга, мучившего и грабившего их ради собственной наживы. Иначе обстояло со столичными жителями. Их переполняла подлинная печаль. Но и они тоже натерпелись вдоволь, когда на улицах с них срывали парики, чтобы проверить наличие налогового клейма. И все же они видели, как поднялся их город при этом курфюрсте из рода Гогенцоллернов. В 1701 г. Берлин стал столицей королевства, а 18 января 1709 г., согласно королевскому указу, Берлин, Кёльн,[13] Фридрихсвердер, Доротеенштадт и Фридрихштадт объединились в единый столичный город. Если по окончании Тридцатилетней войны Берлин насчитывал шесть тысяч жителей, то к 1712 г. здесь жили уже шестьдесят тысяч человек, в том числе пять тысяч гугенотов и тысяча евреев. Берлин еще не мог сравниться с Парижем, Лондоном или Дрезденом, но такой город, как Ганновер, столица соседнего курфюршества, он уже давно оставил позади. Непрерывные торжества и увеселения, устраиваемые почившим монархом, привели в Берлин множество художников и ремесленников. И в то время как провинция терпела нужду и голодала, берлинцы отмечали праздники. Через пятьдесят лет после смерти Фридриха I советник Кёниг вспоминал:
«Я знал стариков, живших в то время. Они вспоминали его с огромным воодушевлением и никогда не уставали возносить величайшие хвалы той эпохе. Наши новые праздники были для них пустяком по сравнению с тем, что они видели при дворе Фридриха I».
Этот король, несомненно, не был благодетелем Пруссии и Берлина. Заслуги Фридриха I в другом: появился Фридрихштадт, дворец Шарлоттенбург украсил город, на улице Унтер-ден-Линден был построен великолепный арсенал, украшенный со стороны внутреннего двора знаменитыми масками умирающих воинов в исполнении Андреаса Шлютера, были возведены Немецкий и Французский соборы, в Берлине появились академии наук и искусств, королевская библиотека. При нем Пруссия получила королевскую корону и представительную столицу, а бич войны щадил жителей во все годы правления этого короля.
Фридрих I оставил своему сыну государство площадью около 110 000 квадратных километров, то есть примерно такой же величины, как бывшая ГДР. Среди тогдашних государственных образований Пруссия по своим размерам уступала только Австрии. Правда, ее населяли только 1 750 000 жителей. То есть шестнадцать человек на квадратный километр. Несомненно, все страны Европы были заселены тогда слабо. Насколько просторнее было тогда в королевстве Пруссия, видно из ее сравнения с соседними государствами в 1713 году:
Курфюршество Ганноверское — 24 жителя на кв. км.
Курфюршество Богемия — 27 жителей на кв. км.
Курфюршество Саксония — 35 жителей на кв. км.
Голландские штаты — 37 жителей на кв. км.
Королевство Франция — 43 жителя на кв. км.
Среди европейских держав молодое королевство на востоке Германии значило немного. Конечно, в Бранденбурге-Пруссии имелась маленькая, испытанная в боях армия численностью в 27 500 человек. Но она уже двадцать пять лет не защищала отечество, а только «сдавалась в аренду» чужим государствам. (Кроме славы, она принесла Фридриху I в общей сложности десять миллионов талеров.) Европейские державы давно привыкли видеть в прусском короле своего рода выскочку, коронованного бедняка, чей «суверенитет» можно было купить за деньги.
Сияние прусской короны не было ослепительным. Хотя после окончания Тридцатилетней войны прошло уже шестьдесят лет, жители государства все еще не оправились от ее ужасов и последствий. Каждая из далеких прусских провинций — от Мааса до Мемеля — жила своей особой жизнью, их обитатели ни в коем случае не чувствовали себя «пруссаками».
На эту зыбкую почву ступил новый властитель.
Служение
С 25 февраля 1713 г. прусского короля звали Фридрих Вильгельм I. Наследник оставался у ложа отца до последней минуты. Когда смерть наступила, Фридрих Вильгельм покинул роскошную спальню мертвого властителя, ушел в собственную комнату, сел за стол и послал к обер-гофмаршалу фон Принцену камердинера с предписанием: немедленно явиться к новому королю со списком придворных. Когда фон Принцен вошел, Фридрих Вильгельм вырвал из его руки бесконечный список придворных должностей, взял перо и одним движением перечеркнул его сверху донизу.
Был вычеркнут не только штат придворных Фридриха I, но и, как вскоре оказалось, вся эпоха, последние четверть века прусской истории. Нетвердой походкой обер-гофмаршал вышел из кабинета молодого короля, молча, дрожа всем телом, посмотрел на бледнеющих придворных, столпившихся в приемной. Генерал фон Теттау, вынужденный пятнадцать лет назад арестовать старого премьер-министра фон Данкельмана, выхватил список из рук Принцена, взглянул на жирный росчерк короля, громко рассмеялся и крикнул: «Господа! Наш добрый господин мертв, а новый король посылает всех вас к черту!»
На следующий день Фридрих Вильгельм привел к присяге войска и распорядился о похоронах отца в начале мая. Он приказал совершить обряд погребения со всей роскошью, которую только мог пожелать себе покойный король. Затем он сел на лошадь и помчался в Вустерхаузен. Там сорвал с себя придворный наряд, надел поверх рубашки нарукавники, заострил перо и сел к письменному столу.
Следующие шесть дней, пока по Берлину разносились слухи, Фридрих Вильгельм работал в Вустерхаузене над своим штатным расписанием. Расходы на жалованье и пенсии придворным ежегодно составляли 276 000 талеров. Молодой король трижды прошелся по спискам, что-то вычеркивая, что-то добавляя и опять вычеркивая. Результатом кропотливой работы над списками (они сохранились) стало сокращение расходов двора до 55 000 талеров, то есть новый король отныне экономил 221 000 талеров ежегодно.
Эти вычеркивания были жесткими, но большей частью справедливыми. Ежегодное жалованье совершенно лишнего обер-гофмаршала фон Принцена было снижено с 1700 до 400 талеров. Главный виночерпий фон Шлиппенбах узнал, что будет получать не 2000, а 800 талеров в год; дополнительного камергерского жалованья в размере 1000 талеров он лишился полностью. Жалованья министров также были урезаны, но все же они получали приличные оклады: министр фон Камэке — 12 000, министры Блашпиль, Дона и Ильген — по 8000 талеров в год. «Вы должны работать; за это я и буду платить», — бормотал Фридрих Вильгельм. Перо бешено прыгало по бумаге. В конце концов, чтобы добиться уровня 55 000, король сократил пенсии вдовам, а старые, заслуженные офицеры французской колонии, получавшие от 150 до 180 талеров ежегодной пенсии, отныне получали по 48 талеров. Пощады не получил никто.
Всем придворным Фридрих Вильгельм приказал оставаться на службе до погребения покойного короля. На следующий день после похорон началась «генеральная уборка»: все бесполезные должности вроде обер-церемониймейстера или членов пресловутой «геральдической службы», созданной Вартенбергом, были упразднены. «Чертовы шуты», — рычал король. Из многочисленных камергеров на службе остался лишь один. Все камер-юнкеры и пажи были уволены без всяких разговоров. Придворную капеллу распустили. Гранд-мушкетеры и швейцарские гвардейцы отправлялись в простой линейный полк, где им пришлось сменить златотканые наряды на обычные синие мундиры пехотинцев. Литаврщиков и трубачей, игравших на обедах Фридриха I, выгнали. «Графский стол» упразднили. Драгоценные вина из дворцового подвала, больше ста лошадей, десятки карет и паланкины из каретного сарая короля были проданы с молотка. То же самое произошло с серебряными сервизами, мебелью и люстрами из королевских загородных замков. Пустующие здания, сады и парки были сданы в аренду. Всю выручку сложили в дворцовых погребах. Фридрих Вильгельм твердо решил создать государственную казну.
Когда о распоряжениях нового короля узнали в Берлине, там началась паника. Все происходившее в Вустерхаузене казалось катастрофой, разрушающей благосостояние и благополучную жизнь. Радикальные меры по экономии и бережливости, предпринятые новым монархом, касались и простых граждан. Все художники, архитекторы, обойщики, парикмахеры, торговцы галантереей, имевшие очень хорошие деньги благодаря неутолимой жажде покойного короля к роскоши, за одну ночь лишились доходных промыслов. Подобно грому небесному, грянуло известие об аресте «придворной еврейки» Липман, неплохо заработавшей на торговле драгоценностями и выдаче кредитов Фридриху I. Томимая недобрыми предчувствиями, она бежала прямо в день смерти короля, 25 февраля, но по дороге была задержана и доставлена в Шпандау. В ходе судебного разбирательства вина «придворной еврейки» установлена не была, и ее пришлось освободить. Но столичная буржуазия справедливо оценила прицельный удар Фридриха Вильгельма I по частному капиталу. Ей стало ясно: впредь капитал тоже будет находиться под государственным контролем. Общества эпохи раннего капитализма, или, иначе, доиндустриальные общества XVII века, в Англии, Франции, Германии предоставляли столичной буржуазии ничем не ограниченный простор для финансовых махинаций: стоило лишь дать двору взятку и кредит под разумные проценты — и весь остальной капитал можно было помещать куда угодно и использовать его как заблагорассудится. В Пруссии Фридриха Вильгельма — в этом и был смысл ареста Липман — каждый частный талер отныне ставился на службу государственным интересам.
5 марта 1713 г. молодой король назначил комиссию для проверки берлинского финансового управления. Внешним поводом для этого стало желание городских властей получить государственную субсидию для строительства новой ратуши. Однако ревизию Фридрих Вильгельм превратил в показательный уголовный процесс. Между делом он предложил городским властям основать общество страхования от пожаров, позднее образовавшее «Берлинское пожарное товарищество», а также коренным образом перестроил властные структуры таких больших городов, как Берлин и Кёнигсберг (а три года спустя и Штеттин). Города получали назначенных королем штадт-президентов, одновременно становившихся, в порядке личной унии, председателями военных и земельных палат в провинции. (Таким образом, штадт-президент Берлина был одновременно председателем палаты Курмарка,[14] а штадт-президент Кёнигсберга — председателем палаты Восточной Пруссии.) То есть сословные учреждения и городские управления, прежде не зависевшие от государства, сливались воедино, а также объединялись с системой централизованного государственного управления. По распоряжению Фридриха Вильгельма централизация завершалась назначением штадт-президента главным местным сборщиком налогов и одновременно ответственным за налоговые поступления с подведомственной ему территории.
Прошло лишь несколько дней деятельности нового монарха, как уже показались очертания нового, сверхцентрализованного государства, прежде не существовавшего в Европе. Все эти революционные изменения совершались не только молниеносно, удар за ударом, но и, что было вполне очевидно, согласно глубоко продуманной концепции. В 1730 г., вспоминая эти февральские и мартовские дни, Фридрих Вильгельм чистосердечно признавался: «Взойдя на трон, я приступил к выполнению плана: на бережливости и доброй экономии (хозяйственности. — Примеч. авт.) создать самое главное».
Слово «контроль» стало теперь в Пруссии паролем. Проверить следовало не только кассовые книги городов. В те же первые дни своего правления король назначил комиссию под началом тайного советника фон Краута для проведения основательной ревизии Главного полевого казначейства. Фридрих Вильгельм дал господам министрам три месяца на «скорейшую проверку счета самым строгим и точным образом». И сразу же обнаружилась масса документальных свидетельств растрат и обмана. Гофрентмейстера, тайного советника Маттиаса Берхема, обязали вернуть Главному полевому казначейству 78 000 талеров и, являя королевскую немилость, лишили службы.
Нетрудно вообразить, какого страха нагнали первые восемь дней нового правления на привилегированные сословия Пруссии, дворянство и буржуазию. «Мир рушится!» — раздавался хоровой вопль. Роскошь Берлина и Кёнигсберга, дворцов и особняков, беспечный образ жизни за счет бедных сословий — все это оказалось под угрозой. А страшные новости продолжали приходить из Вустерхаузена. «Никто здесь не предвидит следующего удара, и поэтому его невозможно отразить», — писал в одном из своих сообщений саксонский посол фон Мантейфель. Показательные расправы над «придворной еврейкой» Липман и гофрентмейстером Берхемом вызвали ужас. Уютный и веселый жизненный уклад, сложившийся при Фридрихе I, уходил в небытие. Отныне каждый должен был исполнять свои обязанности пунктуально и в срок. Не могло быть и речи о промедлении с принятием решений; все поступавшие бумаги следовало обрабатывать немедленно; требовать повторного представления документов было нельзя. Министров, тайных советников, секретарей и прочих канцелярских служащих охватывал ужас, когда они получили из Вустерхаузена бумаги с неизменной припиской, сделанной рукой короля: «cito! cito!» («быстро! быстро!») Ничто этот новый властелин не считал достаточно быстрым. Прославленный «берлинский темп», отличающий жителей прусской столицы в следующие двести лет, обязан своим возникновением не в последнюю очередь страшному «cito! cito!» Фридриха Вильгельма.
Стонам и вздохам в высших кругах Берлина не было конца. Здесь рассказывали о приступах королевского гнева, о вене, взбухающей от бешенства на его лбу. Этот человек явно было способен на все. «Добрые времена, когда пугали только тюрьмой Шпандау, прошли, — шептались в Берлине. — Сейчас говорят не „посадят“, а „запрягут“». Однажды в столице стало известно о невероятном случае. Фридрих Вильгельм уехал из Вустерхаузена в Потсдам. Как-то раз он по своей привычке прогуливался ни свет ни заря и стал свидетелем того, как курьер с ночной почтой из Гамбурга стучался в дверь потсдамского почтмейстера и ждал его появления на улице, а тот все не открывал. Король одним ударом вышиб дверь, набросился на спящего почтмейстера и избил его палкой прямо в постели, а затем извинился за его халатность перед пассажирами.[15] В Берлине хватались за головы: «Он страшнее Карла XII и царя Петра». Но простые люди злорадно распевали:
Через три недели после смерти отца Фридрих Вильгельм снова появился в Берлине. 20 марта утром министры, генералы, иностранные послы собрались во дворце, чтобы вместе с новым королем отправиться в церковь. Когда дверь в зал для аудиенций открылась, они увидели Фридриха Вильгельма в сопровождении бывшего премьер-министра фон Данкельмана, которому пошел уже восьмой десяток. Явление это было подобно грому среди ясного неба. Старого изгнанника, шесть лет прожившего в Котбусе, король доставил в Берлин под чужим именем. Сейчас он сердечно привечал его и спрашивал совета в государственных делах. Король вместе с Данкельманом прошел в дворцовую церковь, распорядился усадить его прежде всех, и в то время, как министры и тайные советники обменивались испуганными взглядами, юный король и старый вельможа погрузились в молитву. После богослужения король еще час разговаривал со старым господином с глазу на глаз, а затем по-дружески распрощался с ним. Сославшись на возраст, бывший премьер-министр отклонил предложение вернуться к службе.
С его стороны это был разумный поступок. Потому что темпы, день за днем повышавшиеся 24-летним королем, он не смог бы выдержать.
Ранним утром, сразу же после молитвы, Фридрих Вильгельм выходил в Люстгартен, устраивая смотр войскам. Король проверял мундиры и рубахи, осматривал руки и шеи солдат, дабы убедиться в их чистоплотности. Затем вставал в центр плаца и начинал командовать. Он муштровал батальоны так же, как некогда «кадетскую роту» в Вустерхаузене. И если ружейные приемы или строевой шаг не были достаточно дружными, по Люстгартену разносились страшные ругательства. После строевой подготовки к королю являлись советники с докладами.
Затем следовали аудиенции. После них король спешил в кабинет и там приступал к работе за письменным столом. На каждом втором листе его рука выводила «cito! cito!», и вот уже секретарь подбегал промокнуть чернила песком. И так проходил весь день, с утра до вечера, как по часам, с делами, расписанными по минутам. «Всегда так не будет, — успокаивали друг друга в королевском окружении. — Чем сильнее буря, тем быстрее она прекращается». Но конца буре все не было видно. Не считая 2 мая — дня, когда Фридрих Вильгельм надел роскошный костюм и огромный парик, воздавая отцу последние почести при его погребении, — жизнь шла в прежнем, бешеном темпе. И все, от министров до адъютантов, придворных лакеев, поваров, кучеров и поварят, двигались, едва переводя дыхание. Спешил каждый, слышал ли он издалека голос короля или получал его личный приказ.
Уже 4 марта Фридрих Вильгельм вызвал к себе в Вустерхаузен тайного советника Бартольди. Это было тот самый господин, тринадцать лет назад приславший из Вены в Берлин знаменитую шифровку, сдвинувшую с мертвой точки вопрос о коронации. Молодой король прочел ему гневную лекцию о положении дел в области юстиции и об адвокатах с прокурорами, специально запутывающих или затягивающих дела, дабы разорять людей и наживаться на их бедах. Каждое слово, произнесенное Фридрихом Вильгельмом, было абсолютно справедливым, и Бартольди тоже предпочел дать грозе отбушевать, не издав ни звука. Наконец король сказал: «Я требую, чтобы правосудие в моей стране вершилось чистыми руками, было быстрым и беспристрастным, равным для людей бедных и для богатых, для знатных и для простых!» На том Бартольди и расстался с королем. Вспоминая прекрасные времена Фридриха I, Бартольди решил, что «на огне суп варят, да во рту кипеть не дают», и с проектом судебной реформы торопиться не стал.
Только через три недели после получения задания он наконец посоветовался с президентом камергерихта Штурмом, а затем предложил королю самые общие соображения о возможностях ускорения судебного процесса в Пруссии. Похвалы он не дождался. Фридрих Вильгельм, вновь уехавший в Вустерхаузен, удивленно прочитал «ерундистику», а затем схватил перо и стал писать на полях:
«Я ничего не понимаю в процессуальных вопросах, но очень хорошо разбираюсь в законах страны. Один месяц уже прошел. Осталось только одиннадцать месяцев до того дня, когда должен быть готов Всеобщий свод законов для всей страны. Либо господа Бартольди, Штурм и я окажемся в очень трудном положении, и тогда не помогут никакие жалобы. Я вас предупреждаю. Еще есть время. Лучше сейчас отказаться от мелких судейских выгод, чем потом самим впрягаться в увязшую телегу. К сожалению, я вынужден быть строгим, потому что неправый суд вопиет к небу. И если я не улучшу юстицию, вся ответственность за это ляжет на меня. И тогда господин Бартольди и господин Штурм окажутся под судом первыми. Вустерхаузен, 30 марта 1713 г.».
Это помогло. 21 июня были опубликованы «Поправки и уточнения касательно юстиции», разосланные в органы правосудия по всей стране со строгим наказом чиновникам: представить «во избежание неблагоприятных последствий» свои критические замечания в течение трех месяцев. В первом наброске Всеобщего свода законов Пруссии всячески осуждалось «преступное усердие» судов выносить приговоры в ущерб беднякам ради защиты якобы королевских интересов. Там же предусматривались наказания судьям, позволяющим себе толковать справедливость в пользу властей.
Это являлось самой настоящей революцией. В тысячелетней истории западных стран короли еще никогда не провозглашали одно и то же право «для бедных и для богатых, для знатных и для простых».
Не поддающееся описанию изумление современников вызывала не только политика, но и личность Фридриха Вильгельма. Король, не достигший еще и 24 лет, был среднего роста (165 см), обладал крепкой, коренастой фигурой. Его румяное, жизнерадостное лицо говорило о бьющем через край здоровье. Рот казался маловат для его полного круглого лица, нос коротковат, но довольно мил. Самой выразительной частью лица были, конечно же, его довольно крупные, ярко-синие, чуть навыкате глаза, способные улыбаться и вселять страх. Если короля охватывало бешенство, что происходило мгновенно, на его переносице вздувалась вертикальная лобная артерия. Во всем этот человек действовал прямо и без обиняков, жестоко и неудержимо. В нем не было и намека на светскую вежливость.
Роскошный костюм, бывший на нем 2 мая, во время похорон отца, он не надел больше никогда. С тех пор он носил самую простую одежду из грубых тканей. Его видели либо в зеленом охотничьем костюме с черными шнурками, либо в простой униформе его лейб-гвардейского полка — синем мундире с красными обшлагами и блестящими медными пуговицами. На голову с короткими рыжеватыми волосами он по утрам нахлобучивал припудренный белым офицерский парик без кудрей на висках и с короткой черной косой. Это был новейший «китайский» фасон, им Фридрих Вильгельм заменил роскошь прежних париков и ввел его для солдат и всего населения. Вся одежда на этом короле была узкой и тесной. Никаких болтающихся тряпок на своем теле он не любил. Штаны заправлял в белые льняные гамаши с медными пуговицами, а на ноги надевал просторные удобные башмаки либо, если садился на коня, черные сапоги до колен. На голове его красовалась маленькая черная треуголка, сбоку висела обычная офицерская шпага, а в правой руке король держал неизменную буковую палку.
Спартанский облик Фридриха Вильгельма казался шокирующим в эпоху, любившую носить пышные, златотканые наряды версальского покроя. При дворах Европы еще никто не видывал государя в крестьянском или в солдатском наряде.
Но если одежда прусского короля и могла позабавить современников, то чистота, соблюдаемая им самим и требуемая от других, была подлинно революционной. Общество XVIII века было нечистоплотным настолько, насколько это можно себе представить. Вода и мыло как средства гигиены считались атрибутами дурного тона. Пот и грязь припудривали и заливали духами. Туалеты не имели водостоков, поэтому во дворцах и хижинах, на улицах и площадях царило одно и то же невероятное зловоние. Такие крупные города, как Париж и Лондон, источали запах клоак, проникавший всюду. Тонкие натуры спасались лишь тем, что регулярно опрыскивали себя духами и туалетной водой. Но идея умываться и чистить зубы никому не приходила в голову.
И вот вам Фридрих Вильгельм, молодой король Пруссии: даже пылинка, любое грязное пятнышко вызывали у него отвращение. Каждое утро он умывался ледяной родниковой водой по пояс. В течение дня то и дело мыл руки в деревянной бадейке. Из дворцовых комнат выбросил мягкие стулья и диваны, выпускавшие облака пыли, когда на них садились. Вместо них повсюду были расставлены основательно отдраенные стулья и скамейки. Фридрих Вильгельм назначил кастелянами в Берлине и в Потсдаме голландцев, научивших местных нерях поддерживать во дворцах чистоту. Сам же король, садясь за письменный стол, надевал льняные нарукавники и повязывал ослепительно чистый передник, чтобы уберечь от клякс свою униформу.
Сегодня просто невозможно представить себе изумление двора. Мания чистоты, овладевшая прусским королем, была не чем иным, как объявлением войны другому помешательству его современников — страсти к роскоши и расточительству. Обсуждая нового монарха, головами качали в Вене, Париже, Лондоне.
А что же его подданные? Сначала они, естественно, упрямились. Перенять новую «моду» сразу было трудно, не говоря уже об отвращении к ней. Но со временем, сами того не замечая, они стали благодаря примеру этого короля вести себя иначе. Через пару лет в Пруссии уже почти невозможно было найти чиновника, сидевшего на рабочем месте без нарукавников. И какими бы нелепыми они нам сегодня ни казались, тогда они были настоящим знаменем революции. Нарукавники одиночек и опрятность в государстве разделял только один шаг. Потому что страсть к чистоте соседствовала в этом монархе с любовью к строжайшему порядку. Все должно было находиться на предусмотренном месте. Время тоже получило рамки: пунктуальность во всем стала главным законом Пруссии. Фридрих Вильгельм становился иссиня-красным, а его глаза лезли из орбит, если он замечал что-либо не на своем месте либо узнавал об опозданиях. Он тут же поднимал свою палку и принимался охаживать ею спины своих бедных подданных. Через несколько месяцев его правления стало ясно: все прусское королевство должно функционировать по часам, которые король заводил по утрам и по которым сверял весь день, до наступления ночи.
Летом Фридрих Вильгельм вставал в четыре, а зимой в шесть часов утра. Умывание, утренняя молитва и кофе занимали один час. Затем в комнату входили два советника с секретарями, и король немедленно приступал к чтению писем и депеш. Все вопросы решались сразу, «на потом» не откладывалось ничего. Король либо собственноручно писал свои решения на полях бумаг, либо диктовал ответы секретарям. Если он должен был написать письмо, то использовал для этого грубую серую бумагу — хорошую и белую он считал роскошью. По его словам, она чаще была дороже вещей, на ней записанных. Затем один из советников делал доклад об армейских делах, юстиции и внешней политике, а другой докладывал о неотложных финансовых вопросах. Через два-три часа сосредоточенной работы король принимал министров и генералов, делавших доклады либо получавших приказы. Затем он шел на плац и проводил занятия по строевой подготовке. Напоследок отправлялся в королевскую конюшню и проверял зубы и ноздри лошадям.
Ровно в двенадцать — обед, где собирались королева Софья Доротея, принцесса Вильгельмина и маленький Фрицхен, а также множество послов, министров, тайных советников и генералов — в общей сложности около сорока персон. Перед обедом все складывали руки и произносили молитву. Затем на стол подавали кушанья. Часто это были любимые блюда короля — грудинка с горошком или говядина с белокочанной капустой. Фридрих Вильгельм уплетал их за обе щеки, в то время как члены его семьи сидели со скучными лицами и уныло ковырялись в тарелках с крестьянской едой. Однажды Софье Доротее пришлось пожаловаться английскому послу, что жадность ее мужа невыносима: еда на королевском столе просто варварская. Фридриха Вильгельма это абсолютно не волновало. На ведение домашнего хозяйства он выделял твердую сумму, и шеф-повару приходилось выкручиваться в ее пределах. Кроме того, король любил сытную и простую домашнюю еду. И когда на столе появлялись супы, копченое мясо с овощами, жаркое и пироги, он ел быстро и много, в отличном настроении, поглядывая на гостей, которым все это тоже должно было нравиться. Между Пасхой и Троицей ежедневно подавали огромное блюдо с запеченной рыбой, ее Фридрих Вильгельм особенно любил. В холодное время года из Гамбурга нередко прибывали особые эстафеты с устрицами, и тогда настроение королевы заметно улучшалось. Если за устрицы платил король, ему хватало дюжины, подававшейся без лимонного сока поваром в белом фартуке и колпаке. Если же король узнавал, что устрицы — подарок королевы и платить за них ему не придется, он мог проглотить их больше сотни.
Салаты король готовил сам на обеденном столе, не забывая вымыть руки до и после готовки. Во время обеда, продолжавшегося обычно два-три часа, подавалось старое рейнское вино, его Фридрих Вильгельм пил вволю, но не сверх меры. Если ему нравилась застольная беседа, приносили также венгерское вино, большей частью токайское, причем король сообщал всем присутствующим о цене этого вина. Однажды были поданы две бутылки старого венгерского, подаренного австрийским императором. Фридрих Вильгельм с наслаждением сделал глоток и пробормотал, что человек, бесплатно пьющий такое вино каждый день, должен быть безмерно счастлив.
Удивительная жадность монарха вызывала и забавные происшествия. Где бы ни находился Фридрих Вильгельм — в Берлине, Потсдаме или Вустерхаузене — бывали случаи, когда он не появлялся к обеду во дворце, а внезапно заходил в крестьянский или в бюргерский дом, откуда доносились соблазнительные запахи. Там король без стеснения заглядывал в кухонные горшки и вел с хозяйками беседы о последних ценах на рынке, например о стоимости своей любимой капусты. Затем, ухмыляясь, возвращался во дворец, намереваясь потребовать со своего повара строгого ежемесячного отчета. Что бы сказала его добрая мать Софья Шарлотта, которую он огорчал своей жадностью уже в детстве! Но Фридрих Вильгельм извлекал пользу из подобных визитов. Однажды он отведал у одного садовника бараньей требухи с белокочанной капустой, пришел в восторг и приказал своему повару приготовить на следующий день это блюдо. Софья Доротея отпихнула тарелку с требухой, но король съел все и велел принести еще. Затем он спросил главного повара о цене кушанья — ведь садовник назвал ему смешную сумму в полтора гроша. Повар невозмутимо сообщил, что блюдо стоит три талера. Фридрих Вильгельм вскочил из-за стола и буковой палкой отсчитал ему разницу между этими суммами.
Во время охотничьих разъездов по окрестностям Вустерхаузена Фридрих Вильгельм просто не мог справиться с собой, когда из крестьянского дома до него доносился запах яичницы с салом. Он напрашивался к хозяйскому столу и во время трапезы находился в прекрасном расположении духа. Король не стеснялся принимать от министров и генералов дары для придворной кухни. Граф Шверин ежегодно отправлял ему откормленного теленка, а граф Дёнхоф не Раз посылал копченые сельди. Бесплатная еда доставляла королю острейшее гастрономическое наслаждение. Когда купец Даум прислал ему бочонок устриц, поистине дорогой подарок, Фридрих Вильгельм был в восторге. Слуге, передавшему бочонок, он, не вставая из-за стола, подарил восемь (!) грошей.
За едой король всегда был весел: громко разговаривал и хохотал на весь дворец; радовался любой шутке, хлопая себя по бедрам и плача от смеха. Он только не терпел двусмысленностей и фривольных намеков в присутствии королевы и детей. За этим Фридрих Вильгельм строго следил. Когда дамы уходили, а беседа достигала кульминации, король поднимал стакан и произносил тост. Часто — за «императора и империю», нередко — против «чертовых французов», этих «подонков», всегда раздражавших его. Любимый тост был таким: «За Германию германской нации! Пусть сгинет тот, кто думает иначе!»
После обеда, завершавшегося благодарственной молитвой, Фридрих Вильгельм предпринимал (в первые годы своего правления) прогулки верхом, в них его сопровождал только адъютант. Иногда он появлялся на стройках, где со знанием дела беседовал с плотниками и каменщиками, либо инспектировал сады и поля. Он выслушивал всякого, кто подходил к нему, смотрел в глаза и говорил по-немецки. Сгибавшиеся в подобострастных поклонах и пытавшиеся говорить по-французски могли получить палкой по спине. Однажды, встретив короля, берлинский переплетчик Рейхардт стал жаловаться ему на порядки в городском магистрате. Фридрих Вильгельм распорядился немедленно сделать его членом магистрата с правом голоса. При этом переплетчик получил от короля приказ регулярно сообщать ему обо всех нарушениях и растратах. В течение нескольких месяцев от Рейхардта ничего не было слышно. Король, ничего не забывавший, велел вызвать Рейхардта и выразил свое удивление по поводу его длительного молчания. Рейхардт смущенно помялся и наконец сказал: «С тех пор как я сам стал членом магистрата, мои взгляды совершенно переменились». Взбешенный Фридрих Вильгельм подскочил к нему, схватил за шиворот и стал кричать: «Все вы мошенники! Когда вы не у власти, вы орете, что знаете, как надо управлять. А когда сами за это беретесь, оказываетесь не лучше других». Заметив, как Рейхардт при этих словах изменился в лице, он рассмеялся и хлопнул его по плечу. «Проваливай, обормот! Да не забудь штаны поменять…»
Больше всего на свете Фридрих Вильгельм ненавидел то, что он называл «болтать». Для него это означало «быть недовольным, критиковать, перечить». «Он не болтун» — это стало высшей похвалой в годы правления Фридриха Вильгельма. Если король в чем-то не был уверен, плохо разбирался в теме или был вынужден считаться с чужим мнением, он тут же приходил в замешательство, терял решительность и позволял собой манипулировать — часто вопреки своим собственным интересам. Так он обращался с женщинами в юности, не умея ухаживать за ними, и так же он поведет себя — это мы еще увидим — во внешней политике и в дипломатии, то есть на зыбкой почве, где нельзя маршировать. Но, управляя государством, воспитывая своих подданных, он чувствовал себя как дома, не допуская даже малейшего неповиновения. Никакой «болтовни»! Его дом, его двор, его страна — все это было для него одним и тем же. С самого начала он твердо решил радикально преобразовать прусский мир, сформировав его заново по двум законам, которые он, наряду со страхом Божьим, считал наивысшими, — законам бережливости и порядка. Он считал себя наместником Бога в Пруссии, и все здесь должны были слепо повиноваться ему. Под его началом все государство должно было двигаться вперед, как батальон: ровными шеренгами, плечом к плечу.
Между Маасом и Мемелем действовала только одна власть — его собственная. Кто был «болтуном», тот был бунтовщиком. Всегда добиваться своего король привык, еще будучи кронпринцем, и никто не мог преградить ему путь. Став королем, он тем более не собирался считаться с чьими бы то ни было правами или желаниями. Разбирался ли кто-то в государственных делах лучше, чем он? Имел ли кто-нибудь взгляды на экономику и финансы, хоть в чем-то сходные с его взглядами? Говорить об этом хотели все, и все всё портили своей болтовней. Это он уже знал. В стране самые разные люди болтали четверть века, толкая его слабого отца на совершенно безумные поступки, развалив государство до основания и нажившись на этом, а потом умыли руки. Ну уж нет! С этим покончено навсегда. Во Фридрихе Вильгельме глубоко укоренилось сознание неограниченной королевской власти и неограниченной королевской ответственности. И он будет использовать власть. Страна и люди — вот тот податливый материал, из которого он, король, создаст образцовое государство — себе на радость и всем, кто будет послушен и беззаветно трудолюбив, на благо.
Мы уже знаем, что Фридрих Вильгельм не всегда обедал во дворце, а иногда захаживал и в дома простых бюргеров, чтобы побеседовать с хозяйками кухонь. Но еще больше он любил ходить на обеды к своим вельможам или к иностранным послам. Он знал, угощение будет небедным. И, сидя в гостях, рассматривал подаваемые деликатесы, радостно подсчитывая, сколько он на этот раз сэкономил. Так же охотно король приходил незваным гостем на те свадьбы и крестины, где намечался роскошный стол. Такие праздники обходились, как правило, в полтысячи талеров — и Фридрих Вильгельм оценивал ущерб, который был бы ему нанесен, случись этот пир в его дворце. Если он обедал у своих офицеров в отсутствие дам, то для его развлечения приглашались актеры, арлекины, шуты. Бывало, сам король вскакивал с места и показывал фокусы. Но наибольшую радость он испытывал, когда «на десерт» хозяин приводил пару новобранцев. Фридрих Вильгельм срывал с себя салфетку, стучал ложкой по столу в такт солдатским шагам и громким голосом отдавал строевые команды.
При всей своей жадности король не терпел ее в своем окружении. Один из генералов, убежденный холостяк, постоянно сокрушался, что не имеет собственного хозяйства и поэтому не может пригласить короля в гости. Тогда Фридрих Вильгельм предложил ему отобедать у Николаи, владельца гостиницы «Португальский король», стоявшей как раз напротив дворца. У этого Николаи, мечтательно говорил король, подают лучшую в городе капусту, и он бы с радостью отведал ее еще разок. Генералу пришлось понять этот намек и пригласить короля на обед в гостиницу. Сияющий от радости король явился на обед с огромной свитой. Обед вылился в роскошное пиршество. Король отпускал комплименты жене хозяина, так замечательно все приготовившей, а хозяину подарил свой миниатюрный портрет, чтобы тот носил его подобно ордену. Наконец генерал спросил счет. «Без вина, что мы выставили в подарок, по гульдену с человека», — ответили ему. Генерал выложил два гульдена и сказал: «Вот гульден за меня, а вот гульден за его величество. Другие господа, которых я не приглашал, пусть платят за себя сами». Остолбеневший было король через мгновение расхохотался: «Ну, молодец! Я хотел его надуть, а он надул меня». Король заплатил за всех. Но эту шутку он больше не повторял.
Мы уже знаем о прогулках верхом, совершаемых Фридрихом Вильгельмом после обеда, дабы осмотреть поля или сады. Нередко он также ходил по улицам Берлина или Потсдама пешком, в сопровождении дежурного адъютанта. Улицы мгновенно пустели; каждый, издалека увидев короля, бежал домой или забивался в ближайший угол. Заметив беглеца, монарх приказывал адъютанту привести его. И несчастный представал перед королем, устраивавшим ему строгий допрос. Если ответы королю нравились, он тут же добрел и начинал говорить на берлинском уличном жаргоне. Если до него доносились крики мужа и жены, ругавшихся у себя дома, он немедленно вторгался в их квартиру и мирил их с помощью палки, не щадя спин ни мужа, ни жены. После этого он брал с них клятву в том, что впредь они будут жить в мире, любви и согласии. Заметив, как женщины на рынке часами праздно сидят в ожидании покупателей, он издал распоряжение, согласно которому торговки были обязаны вязать в течение часа, расходуя фунт шерсти. Работать должны были все, каждую руку полагалось занять делом. Бить баклуши, валять дурака в его стране запрещалось. Стремление запрячь всех превратилось, в конце концов, в маниакальную идею. И тогда светлые берлинские головы придумали, как обмануть короля. Однажды два акцизных чиновника отправились пить пиво и были остановлены на улице королем, гневно спросившим их, почему они смеют шляться по улицами в рабочее время. Те нахально ответили, что идут по следу мошенников, собирающихся ограбить казенную кассу, и попросили немедленно отпустить их, дабы они успели схватить негодяев. Фридрих Вильгельм, восхищенный рвением чиновников, тут же записал их фамилии и распорядился повысить им жалованье. Над чем они и посмеялись в ближайшей пивной.
Когда Фридрих Вильгельм стал старше и благодаря своей склонности к чревоугодию изрядно располнел, прогулки были заменены послеобеденным сном. Уже достигший 35-летнего возраста, король садился после обеда на деревянную скамеечку в спальне своей жены, приваливался к стене спиной и через несколько секунд крепко засыпал. Софья Доротея сидела у окна, умирала от скуки и возмущенно закатывала глаза, когда ее муж начинал слишком громко храпеть. К 1723 году у них было уже семь детей — Вильгельмина (род. в 1709), Фридрих (1712), Фридерика Луиза (1714), Филиппина Шарлотта (1716), Софья (1719), Ульрика (1720) и Август Вильгельм (1722). Сидя здесь же, дети едва дышали, потому что при малейшем звуке отец тут же хватался за лежавшую рядом буковую палку. Они забирались под огромную материнскую кровать и шушукались там. Через час король просыпался и шел в свой кабинет, где два-три часа работал вместе с тайными советниками. Эти часы посвящались прежде всего финансовым вопросам королевства, и монарх, снова надевший нарукавники, сидел за письменным столом и исследовал колонки цифр вдоль и поперек — суммировал, умножал и вычитал, бил от радости кулаком по столу, обнаружив прибыль, поступившую в государственную казну. «Денег не давать», — снова и снова писал он резолюции на предложениях, казавшихся ему нерентабельными или плохо продуманными с финансовой точки зрения. И уж совсем безжалостно писал он свое «Non habeo pecunia» («У меня нет денег») на бесчисленных прошениях, ежедневно слетавшихся на его стол и содержащих просьбы о деньгах, деньгах и еще раз деньгах.
Денег просила, конечно же, и его собственная семья. Заносчивая Софья Доротея, гордившаяся родительским домом, в 1714 г. удостоенным британской короны, неустанно критиковала «политэкономию» своего мужа. Между супругами постоянно происходили сцены, королева пускала в ход слезы. Но Фридриха Вильгельма они совершенно не трогали. Он овладевал своею «Фикхен» и снова делал ей ребенка. И когда Софья Доротея опять беременела — а беременна она была почти всегда, да еще надо учесть послеродовой период, — ее склочность объяснялась очень просто. Нет, бережливость короля начиналась в его собственном доме! Как нам известно, в 1706 г. штат придворных Фридриха I требовал 376 000 талеров. От этой суммы Фридрих Вильгельм оставил чуть больше двадцати процентов: расходы королевского хозяйства могли составлять лишь 78 000 талеров в год. И ни пфеннига больше! Еще 72 000 составляли карманные и дорожные деньги. Таким образом, общая сумма расходов на двор составляла 150 000 талеров, тогда как в 1712 г. — 600 000. Ни один княжеский дом Европы, даже дом самого захудалого князька в империи, не существовал на такие спартанские суммы.
Королева жаловалась, Европа смеялась над маниакальной жадностью Фридриха Вильгельма. Но все при этом упускали из виду, что еще с тех времен, когда кронпринц Фридрих Вильгельм проводил свои хозяйственные опыты в Вустерхаузене, он понял, насколько сильно зависит эффективность народного хозяйства от хозяйства домашнего, так как великое начинается с мелочей. Ни одна деталь не ускользала от его взгляда, и лишь из суммы подробностей у него складывалось представление о целом. Если он, король, хочет сделать из своих пруссаков хороших родителей и хозяев (а он хотел этого страстно и деятельно, используя всю мощь своего темперамента), он должен показывать пример подданным.
«Хотя предусмотрены ежедневные расходы в 93 талера, — писал Фридрих Вильгельм начальнику своей гофмаршальской службы, — все их тратить не следует. Когда я нахожусь в Потсдаме или в Вустерхаузене, а королева в Берлине, требуется не больше 70 или 72 талеров в день. Но когда королева находится при мне, расходы должны составлять только 55 талеров. Начиная с этой недели следует возобновить составление обычных еженедельных меню. Запрещаю также впредь выписывать что-то из Гамбурга или из других городов, не спросив прежде об этом меня и не получив моего согласия. Напротив, гофмаршальская служба должна сама принимать меры к тому, чтобы хорошая говядина, хорошие жирные куры и т. д. имелись на кухне всегда».
Каждый день он приказывал шеф-повару подать меню и, взяв перо, принимался изучать каждый пункт. Если в меню цена одного лимона составляла 9 пфеннигов, он вычеркивал один пфенниг, так как после разговоров с торговками знал настоящую цену. Если кочан белой капусты оценивался в 6 пфеннигов, он удовлетворенно подчеркивал эту цифру, потому что цена соответствовала нынешней рыночной. Раз шеф-повар оценил обед и ужин королевской семьи в 31 талер и 16 грошей. Фридрих Вильгельм подчеркнул все пункты, написал на полях «проклятое ворье!» и вычел из жалованья повара один талер. Таким образом он ежедневно сокращал бюджет двора, с учетом побочных расходов, примерно на 200 талеров.
Режим экономии оказывался в опасности из-за предстоящих визитов высоких особ. Фридрих Вильгельм правил страной уже четыре года, когда русский царь Петр сообщил о своем намерении приехать с визитом. Прусский король очень хорошо помнил 1712 г., посещение Петром Берлина и его попытки заключить союз с Фридрихом I. Русский царь и прусский кронпринц тогда моментально нашли общий язык — Фридрих Вильгельм чувствовал родственную душу в порывистом, диком русском, силой загонявшем свою неразвитую страну в новую эпоху. Однако теперь он оказался в величайшем смущении: как следует вести себя с гостями и следует ли платить за царя и его свиту на территории Пруссии? Фридрих Вильгельм долго кусал перо и напряженно размышлял над задачей: как сохранить дружбу прославленного гостя и в то же время уберечь государственный бюджет от чрезмерных расходов? Наконец ухмыльнулся и стал писать ответ:
«Выделяю шесть тысяч талеров. Этих денег финансовому управлению должно хватить на покрытие всех расходов царя от Мемеля до Клеве (расходы в Берлине пойдут особой статьей). Ни пфеннига больше я не дам! Но весь мир должен быть уверен, что я потратил на царя от тридцати до сорока тысяч талеров».
«Дикий» царь Петр ехал с огромной свитой, поэтому на каждой станции приходилось менять больше трехсот лошадей. Фридрих Вильгельм распорядился сложить весь багаж во дворце Монбижо, где некогда жила Софья Шарлотта. Он боялся, как бы московские гости не поломали и не загадили берлинский дворец. При всем уважении к Петру он не мог допустить, чтобы необходимость в чистоте, с таким трудом прививаемая в последние годы, снова оказалась под угрозой. Так дворец Монбижо на время стал маленькой Москвой — хотя столицей России уже несколько лет был современный город Санкт-Петербург, обычаи и привычки гостей все же оставались патриархальными. Камергер фон Пёльниц сделал колоритные записки о том, чему был свидетелем:
«Поскольку король велел оказать царю все мыслимые почести, все ландсколлегии in corpore нанесли ему визит. Председатели коллегий выступали по очереди. Когда президент камергерихта господин фон Коксэжи (позднее, при Фридрихе II, он провел крупную правовую реформу. — Примеч. авт.), вошел к царю вместе со своими советниками, царь встретил их, обнимая двух русских дам. Во время аудиенции он так тискал их обнаженные груди, что господин президент чуть не вышел из себя. Его племянница, герцогиня Мекленбургская, специально явилась с мужем поговорить с царем. Когда она вошла, царь шагнул ей навстречу, обнял и смачно поцеловал, а затем отвел в соседнюю комнату, сел на софу, посадил ее к себе на колени и стал весьма непринужденно с ней беседовать, не обращая внимания ни на открытые двери, ни на людей в приемной, ни на герцога, ее мужа. Столь скотское вожделение было отнюдь не единственным предосудительным поступком Петра. Во всякий день он оказывался совершенно пьяным. Мерзости его слуг, особенно попа, бывшего одновременно и придворным шутом, не знали границ. Царь почтительно целовал попу руку после обедни, а затем в кровь разбивал ему нос, колотил его и обращался с ним как с последним рабом. Несчастная княжна Голицына, подвергавшаяся за участие в тайном заговоре столь жестокому бичеванию, что стала полоумной, служила застольным увеселением. Остатки с тарелок царь выливал ей на голову. Часто царь подзывал ее, чтобы дать пощечину. Людей же низкого происхождения Петр ценил дешевле охотничьей собаки. Однажды он ехал по Берлину в обществе короля и, увидев возле Нового рынка виселицу, загорелся желанием увидеть казнь и стал просить немедленно доставить ему это удовольствие. Король ответил, что, к сожалению, в настоящее время кандидата для виселицы нет, но все же он велит навести справки в тюрьме. „К чему такие церемонии, — спросил царь, — здесь полно черни, можно повесить первого попавшегося“. Когда король объяснил, что в Пруссии вешают только осужденных преступников, царь решил использовать для этой цели русского конюха из своей свиты. Королю с трудом удалось отговорить его от этой затеи».
Фридрих Вильгельм от души радовался визиту русского царя, особенно узнав, что он обойдется ему не более чем в 3000 талеров (то есть из выделенной суммы будет сэкономлено 3000 талеров!), зато государство за эти деньги наладит бесценные политические и хозяйственные связи с гигантской страной на Востоке. Грубую страсть своего друга Петра к женщинам он игнорировал, ничего в ней не понимая. Сексуальное целомудрие было для Фридриха Вильгельма неразрывно связано с телесной чистоплотностью. На смертном одре он утверждал, что не является грешником и что его, несомненно, ждут небеса, поскольку он всегда был верен своей «Фикхен». Но с Петром можно было по-мужски откровенно говорить о солдатах и ружьях, о лошадях и скоте, о строительстве домов и кораблей — короче, беседовать о практических вещах, а не вести бесполезные разговоры на вычурном французском. И это нравилось Фридриху Вильгельму чрезвычайно. А жестокость Петра к шуту, побои, щедро раздаваемые своим приближенным, Фридрих Вильгельм находил вполне естественными для самодержавного монарха. Пожалуй, мало еще он их бил. Однажды, гуляя после обеда по Берлину, Фридрих Вильгельм заметил несчастного еврея, пытавшегося спрятаться в переулке. Он высочайше поймал его и спросил: какого черта тот убегает от короля? Дрожащий от страха еврей ответил: «Я боюсь, ваше величество». Фридрих Вильгельм принялся бить его палкой и кричать: «Боишься? Боишься? Вы любить должны своего короля!»
Если день проходил обычно, без иностранных гостей и религиозных праздников, король заканчивал работу в пять или в шесть часов. Он мыл руки и лицо, чистил одежду и отправлялся в так называемую Табачную коллегию. В какой бы из резиденций король ни находился — в Берлине, в Потсдаме или даже в Вустерхаузене, — посещение этого занятного учреждения не отменялось никогда. В каждом из трех дворцов для этого имелась особая курительная комната со скупо обставленными соседними помещениями. Общество, регулярно там собиравшееся, составляли обычно шесть — восемь персон. Постоянными членами были князь Леопольд Анхальт-Дессауский, австрийский посланник граф Зекендорф, а также ближайший советник Фридриха Вильгельма генерал-лейтенант фон Грумбков. В состав Табачной коллегии входили также камергер фон Пёльниц, а с 1717 г. профессор Гундлинг. Остальные были офицерами. Среди них находились как начальные чины, так и старшие офицеры и даже лейтенанты. Отбирались те, кому король доверял. Случалось, приходил и простой потсдамский бюргер.
При тех строго иерархических отношениях, господствовавших в XVIII веке, это было самое необычное общество Европы. На три-четыре часа, пока длилось собрание, все различия рангов упразднялись. Когда входил король, не вставал никто. Все вели себя непринужденно и говорили без всякого стеснения. И чем грубее это выходило, тем лучше чувствовал себя Фридрих Вильгельм. Шутки на его счет разрешались тоже; запрещены были лишь непристойности. Здесь, в Табачной коллегии, Фридрих Вильгельм чувствовал себя не монархом, а обычным человеком. Тот абсолютизм, практиковавшийся весь день, заставляя дрожать всю страну, по вечерам, в избранном кругу, отменялся. Табачная коллегия была крайне демократична.
Члены коллегии рассаживались на чистые скамьи возле простого деревянного стола. Перед каждым гостем лежала глиняная голландская трубка. Табак в плетеных коробочках тоже был голландским, хотя и недорогих сортов. Если один из гостей решался вынуть собственный табак, подороже, он рисковал получить от короля грубое замечание. Некурящие могли по крайней мере держать трубку в зубах и потому считаться заслуживающими доверия. Прикуривали от горящего в медной сковородке торфа. Перед каждым гостем стояла белая глиняная кружка с пенистым пивом, привезенным из Потсдама, Кепеника или Брауншвейга. В соседней комнате стоял стол с бутербродами, вестфальской ветчиной, телятиной или копченой колбасой из Люнебурга. Лакеев не было, каждому приходилось обслуживать себя самостоятельно. Зачастую хозяйством занимался сам король. Он забивал огромную щуку или карпа (отдельные экземпляры которых весили двадцать — тридцать фунтов), разделывал его, клал куски в котел, а одновременно готовил салат. Профессор Фасман, позднее занявший в Табачной коллегии место Гундлинга, писал об этом: «Он начинал с того, что мыл руки, перед тем как забить рыбу, потом снова — перед тем как положить куски в котел, затем в третий раз — чтобы посолить салат и добавить уксуса, затем он умывался, чтобы налить масло, а затем умывался еще дважды, перед тем как подать рыбу и сесть за стол».
На столах, стоявших у стен, раскладывались голландские и немецкие газеты, так что попутно можно было поговорить о событиях в мире. Берлинские и кёнигсбергские газеты за 1713 и 1714 гг. отсутствовали, поскольку их статьи, критиковавшие первые шаги правительства Фридриха Вильгельма, порядком разозлили его. Играть в карты в Табачной коллегии запрещалось, допускались лишь шашки и шахматы, страстно любимые Фридрихом Вильгельмом. Однажды он решил извлечь из этого выгоду, предложив генералу Флансу из Померании, игравшему с ним, ставить на кон один грош: скучно ведь все время играть без ставок. «Нет уж, пусть все остается по-прежнему! — взревел генерал Фланс. — Ваше величество чуть не лупит меня дубиной по башке, когда мы играем без ставок, а выигрываю я. Что же будет, если я обыграю вас на деньги!»
В Табачной коллегии Фридрих Вильгельм желал казаться не королем, а полковником своей армии, то есть офицером среди офицеров. Здесь почти не было штатских, этих «чертовых пачкунов» и «чернильных душ», а сословная честь офицеров была его собственной честью. Табачная коллегия являлась единственным местом в королевстве Пруссии, где позволялось свободно говорить и даже критиковать короля. Страшную буковую палку Фридрих Вильгельм в собрание не приносил, и никому здесь не приходилось бояться за свою спину. В течение вечера алкогольное возбуждение становилось все сильнее, голоса громче, лица краснее, а в адрес короля звучали иногда нелестные слова и даже оскорбления. Но он продолжал чувствовать себя не королем, а офицером среди офицеров. Нередко король сам бывал виновен в таких инцидентах. Так, он назвал однажды майора фон Юргаса «чернильной душонкой», когда тот стал хвастаться своей образованностью. Юргас вскочил, крикнул: «Это сказал подлец!» — и выбежал из «коллегии». Один из присутствующих писал:
«Король объявил собранию, что как честный офицер он не может допускать оскорблений в свой адрес и ответит на оскорбление шпагой, вызвав на дуэль Юргаса. Все присутствующие хором стали протестовать, утверждая, что он не простой офицер, но король, а потому может драться только за оскорбления, нанесенные государству. Майор фон Эйнзидель, представитель короля в гвардейском батальоне, взялся уладить дело. На следующий день он дрался с Юргасом на кривых саблях в лесу за парадным плацем и получил легкое ранение в плечо».
Через два дня Фридрих Вильгельм отблагодарил фон Эйнзиделя. Майору Юргасу его выходку он не припоминал: дело было покончено дуэлью.
В девять часов вечера Табачная коллегия заканчивалась. (Король рано ложился спать, потому что между четырьмя и шестью часами утра он уже вставал.) Снова брал он буковую палку и, раздутый от пива, тяжело шагал по гулким коридорам дворца. Горе было лакею, найденному спящим на своем посту. Палка принималась плясать на спинах разбегавшихся слуг, и все во дворце прятались под кровати, заслышав грозный голос монарха. Фридрих Вильгельм сам раздевался и тяжело падал на простую солдатскую койку.
Несомненно, события минувшего дня перед сном еще раз проносились в его одурманенной голове. Все ли было согласно с его желаниями и волей? И вообще, что ему удалось сделать в стране? Как он использовал власть? «С властью нельзя играть, — шептал он и прибавлял, вздыхая: — Все же тяжелую службу дал мне Всевышний». Был ли сегодня он «в плюсе»? Есть ли для него и для страны выгода от Табачной коллегии — единственного места, где он позволял себе расслабиться, забыть о короне и скипетре? Учредив эту «коллегию» сразу же по восшествии на престол, он надеялся создать своего рода «теневое правительство», узкий круг, по вечерам обсуждающий события дня и принимающий окончательные решения. Этому месту полагалось быть уютным, обставленным в бюргерско-голландских правилах: чисто, добротно, практично. (Вот и возродилась в нем бабушка Луиза Генриетта!) Английский историк Томас Карлейль называл Табачную коллегию «табачным парламентом» Фридриха Вильгельма. Это действительно так: несмотря на шутки и всевозможные увеселения, этот своеобразный парламент являлся для него и школой, и источником всякого рода инициатив, местом, свободным от соглядатаев, наушников, шпионов всех сортов, кишащих во всякой резиденции, свободным от женского влияния, так часто замешанного лишь на семейных интригах. Разве не глас народа обсуждал тут важнейшие вопросы политики и экономики, занимавшие все его помыслы и стремления?
Редкий исторический деятель совершал более крупную ошибку. Подлинной демократией в Табачной коллегии и не пахло. Была только игра в демократию. В табачном дыму могли звучать еще более громкие и развязные голоса, кулаки могли стучать по столу еще сильнее, но король оставался королем. Никто из присутствующих не забывал об этом никогда, и главными всегда оставались его слова, его жесты, его поступки. Да и что могли предложить ему офицеры? Генералы того времени, подобно Леопольду из Дессау, являлись грубыми, неискушенными людьми, не обремененными образованием. Их знания едва ли выходили за рамки прусской строевой подготовки; они не были знакомы с элементарными понятиями тактики, стратегии, военной науки. Чему король мог у них научиться? А поскольку штатских, этих бесполезных, как он их именовал, «чернильных душ», он к себе почти не допускал, поскольку он всей душой презирал интеллектуалов, этих «пачкунов», то польза от «табачного парламента» равнялась нулю.
Да, Фридрих Вильгельм, никому не доверявший и подозревавший всех, заблуждался самым роковым образом. Леопольд из Дессау, посещая Табачную коллегию, радел только о своем княжестве и о себе самом; этот хитрый, прожженный вояка умел, глядя на короля собачьи-преданными глазами, подчинять беседы своим интересам. Австрийский особый посланник граф Зекендорф был опытным коварным шпионом императора — каждое слово, произнесенное в Табачной коллегии, он излагал в своих донесениях. Самый умный и образованный член кружка, генерал-лейтенант фон Грумбков, был мошенником: самым низким образом обманывал и предавал короля, получая за это жалованье от Зекендорфа, то есть от Австрии. Какие уж тут доверительные отношения и лояльность! И следа их не было в Табачной коллегии.
Фридрих Вильгельм не знал, каких «друзей» он себе нашел, оставаясь в неведении на этот счет до самой смерти. Не научившись в юности разбираться в человеческой душе, не признавая за людьми хотя бы некоторые права, он понимал их катастрофически плохо. И все же король чувствовал, как он одинок: не имеет настоящих друзей, и никто его, в сущности, не любит. Правил он всего несколько лет, но уже всем вокруг внушал только страх. Король хотел искоренить разгильдяйство, ставшее повсеместным в годы правления его отца, — и просто удивительно, как быстро ему удалось это сделать. Под его властью жители Пруссии изменились совершенно. Но какой ценой! Он мог быть приветлив и демократичен с простыми людьми, мог говорить с бюргерами и крестьянами на их языке, он мог на равных, по-товарищески общаться со своими генералами и офицерами. Но при этом Фридрих Вильгельм чувствовал, что они его не любят. Более того: все они, от первого до последнего, дрожали в его присутствии и боялись его буковой палки. Он испытывал потребность хоть где-нибудь чувствовать себя равным среди равных, хоть где-то стащить с себя королевскую мантию и снова стать простым, веселым Фридрихом Вильгельмом своего детства и юности. Но он не мог быть таким даже в Табачной коллегии. За несколько лет правления Фридриха Вильгельма его личность у подданных прочно ассоциировалась с ужасом. Король сделался одиноким и нелюбимым должностным лицом.
Потому и посвятил он себя солдатам, своим «возлюбленным детям», не ропчущим и не умничавшим, никогда не разрушавшим его надежд и ожиданий и не говорившим ничего, кроме «осмелюсь доложить» и «слушаюсь». Лишь в армии чувствовал он себя как дома. А поскольку он сам ощущал родство с солдатом, то и весь мир нарек его именем «король-солдат».
Армия
Через несколько дней после того, как Фридрих Вильгельм стал королем, голландский посол в Берлине писал: «Король всецело находится в руках безумцев, советующих ему иметь как можно больше войска. От монарха, заявляющего, что больше всего на свете он любит солдат, следует ожидать самого худшего».
В письме голландского дипломата перемешались правда и вымысел. То, что Фридрих Вильгельм влюблен в солдат, ни для кого секретом не было, про это весь мир знал со времен его детства. Но действительно ли следовало ожидать от него «самого худшего» — агрессивной политики, нападения, войны? Это было чудовищное, ничем не подкрепленное и ошибочное суждение. Государство Бранденбург-Пруссия, исходя из собственных интересов, уже 35 лет жило в мире со своими соседями. И не было в Европе более миролюбивого монарха, чем прусский король-солдат. А другое утверждение? Действительно ли Фридрих Вильгельм, взойдя на престол, оказался в руках военщины?
Едва молодой король утвердил в Вустерхаузене штатное расписание и вернулся в Берлин, туда же примчался и его друг, тщеславный князь Леопольд Анхальт-Дессауский, твердо убежденный в своем назначении шефом прусской армии и мечтающий стать главным военным советником короля. Ведь за три месяца до смерти Фридриха I он по представлению кронпринца сделался прусским фельдмаршалом. В Берлине его ждал холодный душ: у нового монарха не оказалось времени принять его. Вместо этого он велел передать сухое сообщение: «Я всегда останусь его другом, если он будет выполнять мои приказы. Я, Фридрих Вильгельм, — главный финансист и фельдмаршал прусского королевства; и это решение прусского короля останется в силе».
Отныне и навсегда стало ясно: власть в Пруссии будет неделимой, о параллельной власти не может быть и речи, тем более в деле, считавшемся молодым королем кровным, — в армии и ее реформе. И этот порядок сохранялся в Пруссии двести лет, до Первой мировой войны 1914 г. Здесь никогда не стояла на повестке дня тема «милитаризма» в главном значении этого слова: политикой управляют военные.
Юное королевство Пруссия сможет занять достойное место среди европейских держав только в том случае, если оно будет располагать модернизированной боеспособной армией — таков был третий принцип, утвердившийся в голове Фридриха Вильгельма наряду с принципами бережливости и экономии к 1713 г. За два года перед тем он, стиснув зубы, наблюдал, как русские и польские войска передвигались по его стране, нисколько не смущаясь суверенитетом Пруссии и ее неучастием в Северной войне. Тогда, в 1711 г., он поклялся, что это не повторится никогда! Отец ослабил армию вечной сдачей «в аренду» — с военной слабостью Пруссии должно быть покончено! 11 августа 1712 г. он писал князю Леопольду: «Могу только посмеяться над здешними пачкунами. Они хотят пером добыть для короля страну и людей. А я говорю: шпагой! Иначе король не получит ничего». То, что речь здесь идет не о завоеваниях, а о независимости и суверенитете его страны, Фридрих Вильгельм подтвердил, когда делился своими размышлениями, уже сидя на троне: «Желая играть важную роль в мире, не размахивают пером, а опираются на сильную армию». Тот же принцип остался неизменным и сегодня. Чтобы разделить это убеждение Фридриха Вильгельма I, достаточно одного-единственного взгляда на современную политику.
Но к 1713 г. Пруссия нуждалась не только в независимости, но и в самоутверждении. До чего же раздробленным являлось государство! Оно имело больше границ, чем площади. Пруссия разделялась на три удаленные друг от друга части. В центре лежала древняя Марка Бранденбург, к ней постепенно присоединялись Котбус (1445), Тойпиц (1462), Шведт (1472), Неймарк (1479), Кроссен (1482), Цоссен (1493), Руппин (1524), Шторков-Бесков (1571) и, наконец, Восточная Померания, Хальберштадт и Магдебург с Заалькрайсом (1648). В сотнях километров восточнее, за обширной польской территорией, находилось герцогство Пруссия (оно принадлежало Бранденбургу с 1618 г.). Также на расстоянии в сотни километров, но к западу, располагалась третья часть Пруссии, ее рейнско-вестфальские земли: наследное владение Клеве, увеличившееся благодаря присоединению Миндена (1648), Лингена (1702) и Текленбурга (1707). То есть название «лоскутное королевство» применительно к Пруссии отнюдь не было преувеличением.
После смерти отца Фридрих Вильгельм получил регулярную армию официальной численностью в 30 000 человек; боеспособные же части насчитывали от 25 000 до 27 500 человек. Кроме того, существовало так называемое ополчение (ландмилиция) численностью от 5000 до 15 000 человек, чью военную мощь едва ли стоило принимать во внимание. Ежегодные доходы государства составляли около 3,6 миллиона талеров, из них примерно две трети уходило на содержание армии. Новый король немедленно распорядился увеличить численность пехоты с 38 до 50 батальонов, а кавалерии — с 53 до 60 эскадронов. Одновременно увеличивались и сами воинские подразделения: пехотный батальон — с 500 до 600, а кавалерийский эскадрон — со 150 до 200 человек. Уже через два года под ружьем стояли 45 000 военных, в том числе 12 000 кавалеристов и 3000 артиллеристов. Ландмилицию упразднили: благодаря жесткому сокращению штатов при дворе появились дополнительные средства для увеличения войск и нужда в ополчении исчезла.
Но столь заметное увеличение вооруженных сил создало большие трудности для государства с населением в 1 750 000 человек. Фридрих Вильгельм запретил силой вербовать рекрутов. Вместо этого он рекомендовал «всяческие хитрости», а особым декретом отменил какое бы то ни было участие гражданских учреждений в рекрутском наборе. Тем самым король передал дело пополнения войск исключительно в руки военных и сам открыл дорогу произволу. На практике это означало ответственность командира полка перед королем за укомплектованность штатного расписания его части. Полковники передавали задание пехотным капитанам и, соответственно, кавалерийским ротмистрам — они и должны были позаботиться о пополнении подразделения новобранцами. Результатом стал невообразимый хаос: никто, естественно, не ограничивался одним округом, а вместо этого каждый командир роты или эскадрона пытался отбить хорошего рекрута у своего «конкурента по оружию», в какой бы части Пруссии рекрут ни находился. Бывало, один и тот же молодой человек зачислялся в две, а то и в три различные части. Дело доходило и до вооруженных стычек между конкурирующими командами вербовщиков, гонявшихся за «человеческим материалом».
Органы гражданской власти были совершенно бессильны перед таким произволом. Их жалоб влюбленный в армию король не слышал. Из-за этих беспорядков государство на два года, с 1713 по 1715 г., оказалось на грани краха. Гражданские чиновники рвали на себе волосы, но вынуждены были во всем подчиняться безжалостным офицерам, всегда ссылавшимся на королевскую волю. В стране царила паника, и тысячи молодых людей, преимущественно ремесленников, бежали за границу, уклоняясь от воинской повинности. Эдиктом от 17 октября 1713 г. Фридрих Вильгельм приказал обращаться с такими беглецами как с дезертирами, то есть прогонять их сквозь строй — при этом наказании унтер-офицеры забивали беглецов шпицрутенами до полусмерти. Но эта мера не помогала, а только увеличивала всеобщий ужас. Население Пруссии продолжало разбегаться.
Это никак не соответствовало интересам нового короля, expressis verbis[16] провозгласившего человека высшей ценностью в стране. Что станет с государством, если ремесленники эмигрируют толпами, мастера мануфактур сбегают, а поместья и крестьянские хозяйства приходят в запустение из-за нехватки рабочей силы? Фридрих Вильгельм прислушался к словам министров, сообщавших о дрожащей от страха стране, и в конце 1714 г. запретил принудительную вербовку рекрутов. Впредь призыву на военную службу подлежали лишь юноши, не имевшие профессии, и те, кто хотел служить за деньги (так называемый «хандгельд»). Исключение составляли только «мятежные и развратные» личности, противившиеся воле работодателей, мастеров и сельских хозяев, — их можно было привлекать к военной службе в принудительном порядке. Но вскоре исключение оказалось правилом, и в конечном счете эта практика привела к превращению армии в карательно-исправительное учреждение, а в глазах населения скатилась до уровня шайки.
В малонаселенной Пруссии было совершенно невозможно, опираясь на собственные человеческие ресурсы, реализовать тщеславный проект Фридриха Вильгельма по увеличению армии и не нанести при этом тяжелый ущерб экономике. Более двадцати процентов его солдат, то есть десять тысяч человек, и так были иностранными наемниками, людьми, поступившими на службу в прусскую армию за «хандгельд». Но в 1715 г. король решил, с учетом внутренних трудностей, расширить вербовку солдат за границей и увеличить численность наемников-иностранцев.
Идея эта не была столь необычной, как это может показаться в наши дни. Под «иностранцами» тогда подразумевались прежде всего немцы не из Пруссии, то есть люди, говорившие на немецком языке. Но в «Священной Римской империи германской нации» действовал древний закон, по которому курфюрстам — и соответственно прусскому королю — разрешалось вербовать людей из многочисленных имперских (то есть суверенных) городов и городков, где всегда хватало безработных и искателей приключений, охотно соглашавшихся за деньги послужить в чужой армии. В следующие двенадцать лет Фридрих Вильгельм использовал это право самым активным образом. В 1728 г. «закон о вербовке иностранцев» начал применяться в других немецких землях (то есть вне свободных имперских городов) и даже за пределами империи. Более тысячи агентов — преимущественно офицеры с темным прошлым, но нередко и евреи, специализировавшиеся в этом новом роде деятельности, — постоянно разъезжали по Германии и другим странам Европы, вплоть до России, Польши, Далмации и Ирландии, дабы доставить прусскому королю новых рекрутов. В первое время удавалось завербовать примерно тысячу иностранных рекрутов в год, но с 1720 г. число новых наемников снизилось до пятисот человек. К 1720 г. Фридрих Вильгельм увеличил свою армию вдвое, доведя ее численность до 55 000 человек, тридцать процентов из них были родом не из Пруссии. Поразительное для своего времени достижение — с учетом того, что подобный результат был получен благодаря собственным финансовым ресурсам (не было взято ни гроша иностранных займов). Несомненно, причиной страсти Фридриха Вильгельма к армии был трезвый расчет, правильно понятые интересы страны: в глазах крупных держав — Франции, Австрии, Англии — теперь Пруссия была достаточно сильна, и никому бы и в голову не пришло нарушить ее государственные границы.
К сожалению, со временем его любовь к армии выродилась в забаву, можно даже сказать — в нездоровое обожание солдат, «возлюбленных детей», доходившее порой до своего рода навязчивого состояния. Страсть его была направлена прежде всего на тех, кого он называл «верзилами», — на высоких, статных молодых людей ростом по крайней мере 1,72 метра. Пристрастие короля к определенному росту довольно насмешливо было подмечено еще в его отроческие годы, когда он муштровал в Вустерхаузене свою «кадетскую роту».
Несомненно, в основе королевского сумасбродства лежали чисто практические соображения. Мушкет того времени был почти вдвое длиннее и тяжелее, чем, к примеру, карабин 98-го калибра, стоявший на вооружении вермахта времен Второй мировой войны. И свободно обращаться с таким мушкетом, заряжать его с помощью шомпола через дуло (казенной части у оружия тогда еще не было) «верзиле» было, конечно, проще, чем низкорослому солдату. Возникновение линейной тактики привело к выводу в наступление длинных рядов мушкетеров и гренадеров с версту ростом. Когда шеренга таких великанов (да еще в высоких блестящих шапках) ощетинивалась гигантскими штыками и тяжелой поступью начинала приближаться к противнику, их вид уже сам по себе мог ввергнуть противника в состояние шока и лишить боеспособности. Наконец, в те времена, когда люди были гораздо ниже, чем сегодня, высокий рост считался убедительным свидетельством крепкого здоровья и воли к жизни. В разъездах по стране Фридрих Вильгельм то и дело встречал маленьких, хилых, золотушных людей, заброшенных Тридцатилетней войной в деревни, подобно обломкам затонувших кораблей. Вот и казались королю его любимые «верзилы» прообразом новой, улучшенной человеческой породы.
Историки оценивают историю с «верзилами» как типичное самодурство прусского короля-солдата. Об этом не может быть и речи. Идеал красоты той эпохи, во всяком случае для военных, во всех странах Европы оставался одним и тем же. В 1727 г. про английский драгунский полк под командованием лорда Стэрса говорили, что в нем нет «ни одного драгуна ниже шести футов», то есть 1,8 метра. Пять лет спустя прославленный «желтый полк» графа Рутовского в Дрездене составляли гвардейские батальоны, где в первом не было ни одного человека ниже 1,77 метра, тогда как рост фланговых доходил до 1,94 метра. Желание Фридриха Вильгельма иметь в своей армии высоких солдат со временем переросло в одержимость, пошедшую на убыль лишь двадцать лет спустя, после того как в 1733 г. был издан прусский Кантональный регламент — мы еще сможем проверить истинность этого суждения.
Но пока вся Европа твердит: прусский король-солдат сходит с ума по высоким парням. И действительно, повсюду — на востоке и на западе, на севере и на юге — можно встретить прусских офицеров-вербовщиков. Они жадно высматривают каждого мало-мальски рослого или хотя бы не слишком маленького юношу, а вскоре уже сидят с ним в городской пивной или тащатся вслед за ним на деревенские танцульки, позванивая серебром и уговаривая поступить на службу в Пруссии. Охоте за рекрутами не мешали и в австрийских землях. Венский двор старался не портить настроение молодому берлинскому монарху; причуды Фридриха Вильгельма шли венской политике на пользу. 27 ноября 1726 г. австрийский особый посланник граф Зекендорф писал из Берлина принцу Евгению: «Всеподданнейше благодарю Его Императорское Величество за милостивое разрешение доставить в Берлин двадцать высоких юношей… Но должен честно сознаться: я обнадежил короля в получении, согласно контракту, 24 новобранцев в подарок от императорского двора». (Недостающая четверка тут же была доставлена.)
Скоро уже все европейские дворы знали: от прусского короля можно получить почти все, стоит только подарить ему красавцев «верзил». За благосклонность прусского монарха таким образом боролись Англия, Франция, Швеция, Дания. Хитрый царь Петр использовал слабость своего прусского друга с огромной выгодой для себя: он пригнал в Пруссию целую толпу гигантов, а за это, в качестве встречного подарка, принял у себя опытных мастеров и ремесленников, заложивших в России основы ее собственной индустрии, в том числе и знаменитый оружейный завод в Туле. Численность русских в потсдамском лейб-гвардейском полку достигла таких размеров, что здесь проводились православные богослужения.
Но оставались и страны, ни в коем случае не собиравшиеся участвовать в прусских вербовочных вакханалиях; прусская «охота на людей» за пределами немецких имперских городов попирала все нормы международного права. По этой причине дело чуть не дошло до войны с Ганновером. Курфюрст Август Саксонский (одновременно король Польши), сам имевший большие милитаристские амбиции, снова и снова отправлял в Берлин грозные ноты по поводу нарушения суверенитета прусскими вербовочными командами. Наконец он приказал арестовать прямо на улице прусского капитана Нацмера, развернувшего вербовочный пункт в Дрездене. Капитан предстал перед судом и был приговорен к смертной казни. Узнав об этом, Фридрих Вильгельм заявил, что прикажет повесить господина фон Зуума, саксонского посла в Берлине. Зуум, отлично знавший берлинского «берсеркера» и понимавший реальность угрозы, скрылся во мраке и тумане, но все же вернулся через пару дней, когда король успокоился. (В свою очередь, Саксония тайно вывезла капитана фон Нацмера в Пруссию.)
И такие инциденты не были редкостью. За «широкой спиной» своего монарха прусские вербовщики ничего не боялись — они считали, что им позволены любые выходки на чужой земле. И уж в совершенной безопасности они себя чувствовали, когда хитростью, а то и силой доставляли в Пруссию особо диковинного «верзилу». Король Англии Георг II, помня, как бивал его в детстве Фридрих Вильгельм, многие годы пытался создать союз Англии, Нидерландов и немецких княжеств для противодействия прусским бесчинствам. Ничего из этого не вышло, но традиционно дружественные со времен Великого курфюрста отношения между голландскими Генеральными штатами и прусским монархом приблизились к опасному кризису: Фридрих Вильгельм просто не был готов дать отбой своим ищейкам и «ловцам человеков». Лейтенант Волльшлегер, дошедший до того, что склонял к дезертирству в Пруссию самых высоких голландских солдат, способных украсить любой фланг, был наконец схвачен и казнен в Амстердаме. Получив известие об этом, Фридрих Вильгельм впал в бешенство. Он приказал арестовать троих голландских офицеров и двадцать солдат, находившихся в тот момент на прусской территории, и доставить их в крепость. Затем он объявил о намерении их повесить. Лишь после долгих колебаний король-солдат все же решился освободить арестованных и принести Голландской республике официальные извинения. Но историю своего унижения он не забыл. Когда голландский посол в Берлине чуть позже попросил отпустить в голландский университет Хайнессиуса — знаменитого ученого в области международного права, ординарного профессора университетов сначала в Галле, а затем во Франкфурте-на-Одере, — он получил ответ Фридриха Вильгельма: «Раз вы не даете мне принимать на службу фланговых, и у меня нет для вас профессоров».
Упрямство короля-солдата в вопросе вербовки солдат за границей, прежде всего в немецких городах и землях, доставило прусской дипломатии много хлопот, но армии оно, несомненно, пошло на пользу. С 1713 по 1738 г. были завербованы примерно восемнадцать тысяч иностранных солдат, то есть прусская армия всегда на одну треть состояла из наемников. Это, естественно, позволяло сберечь и собственные призывные ресурсы. Согласно сохранившимся документам, в эти годы под ружьем никогда не стояло больше двух процентов населения страны — без учета имеющейся великолепной системы службы резервистов.
Военную политику Фридриха Вильгельма можно было бы назвать весьма разумной, даже прогрессивной, если бы не эти игры с «верзилами». По сути, он просто не мог представить, как молодой человек ростом 1,80 метра и выше может быть счастлив где бы то ни было в мире, кроме Пруссии. «Я единственный, кто знает, что с ними делать», — отвечал он на все обвинения и продолжал считать каждого молодого верзилу, где бы тот ни жил, урожденным прусским подданным и одним из своих «возлюбленных детей».
Самым ярким воплощением королевской слабости стала потсдамская «Великанская гвардия», над которой потешалась вся Европа. В 1714 г. в Потсдаме, своей второй резиденции, Фридрих Вильгельм начал создавать лейб-гвардейский полк, куда направлялись лишь самые высокие рекруты. Вскоре этот полк насчитывал три батальона численностью в 2400 человек. Два из них находились в Потсдаме, а третий, рекрутский батальон, стоял в Бранденбурге-на-Хафеле, где «неучей» муштровали перед отправкой в потсдамские элитные батальоны.
Вот эти 2400 гвардейцев-великанов и были «возлюбленными детьми» короля. Каждый из них был знаком с королем лично, и о каждом король знал все: имя, место рождения, биографию, характерные особенности. Счастливейшие часы жизни короля приходились на раннее утро, когда, умывшись и надев мундир, он выходил на парадную площадь перед потсдамским дворцом, держа в руке палку, и, выпятив все больше круглевший животик, прохаживался перед идеальным строем своих «возлюбленных детей» и разговаривал с ними на простом человеческом языке о простых, будничных вещах (а не о глупостях, столь охотно обсуждаемых штатскими). Круглое лицо Фридриха Вильгельма светилось от радости — он находился в светлом мире, где все ясно и просто.
А гвардейцы, наизусть знавшие все слабости монарха, смотрели сверху вниз на низенького, плотного командира, непринужденно, как он того и хотел, разговаривали с ним, и с самым невинным видом добивались выполнения своих личных просьб. Материальное положение гвардейцев являлось завидным: почти каждый из них наряду с жалованьем получал от короля персональную надбавку, доходившую до тридцати талеров в месяц. Время их службы ограничивалось первой половиной дня. Она заканчивалась, когда колокол на гарнизонной церкви бил двенадцать раз. После этого гвардейцы могли заниматься собственными делами. В Потсдаме находилась масса трактирчиков и пивных, принадлежавших «верзилам» и являвшихся поистине золотым дном. Публика угощалась у этих парней особенно охотно, чтобы передать через них королю письмо с просьбой — таким образом гвардейцы получали солидные побочные доходы. Все вокруг хорошо знали: когда солдат гвардейского полка держит перед Фридрихом Вильгельмом молодецкую выправку и ест его глазами, король приходит в наилучшее настроение. И хитроумные гвардейцы, передавая чужие просьбы полковому командиру, в случае успеха могли заработать кругленькую сумму. Со временем эта практика привела к многочисленным злоупотреблениям, и Фридрих Вильгельм пригрозил карами адвокатам, пытающимся решать дела в обход судебных инстанций, обращаясь к королю через трактирщиков-гвардейцев.
Но расценивать это только как игру в живых «солдатиков» все же нельзя. Фридрих Вильгельм всерьез рассчитывал вывести новую, «идеальную» человеческую породу. Так, он приказывал своим огромным солдатам брать в жены рослых девушек, поскольку был убежден: такие родители будут иметь сильных, хорошо сложенных детей. Когда жена одного «верзилы» в гарнизоне г. Клеве родила необычно крупного ребенка, король пришел в чрезвычайное волнение и тут же повелел немедленно доставить мать и дитя в Потсдам. Ликуя, он начертал на полях приказа: «Да поскорее, пока хорошая погода!»
Историки и собиратели анекдотов испытывают понятное наслаждение, обращаясь к причудам прусского «короля дураков», зачастую забывая, что Фридрих Вильгельм I — не только создатель «Великанской гвардии» в Потсдаме, но и один из величайших военных реформаторов. По сути, он был создателем первой регулярной (то есть существующей и в мирное время) армии и, как мы еще увидим, воинской обязанности — двух социальных изобретений, поставленных на службу современному централизованному государству и не потерявших своего значения и поныне.
Фридрих Вильгельм с первых дней своего правления не обращался за советами к «заслуженным идиотам» военного дела, но, видя перед собой хозяйственную проблему, отвел армии центральное место в современной экономике — решающее для успеха прусской военной реформы обстоятельство. Что сказал он в 1713 г. князю Леопольду прежде всего? Что считает себя «главным финансистом и фельдмаршалом» прусского королевства — то есть прежде всего финансистом! Задолго до того, как в 1720 г. он вдвое увеличил численность армии, ему удалось перестроить прусскую экономику для армейских нужд и, соответственно, сделать армию маховиком новой национальной экономики.
Едва он вступил на трон, как под руководством тайного финансового советника Иоганна Андреаса фон Краута среди комплекса зданий на берлинской Клостерштрассе возник так называемый Лагерхаус.[17] Король приказал собрать на складе столько шерстяной ткани, сколько необходимо для пошива униформы всей прусской армии. Это был день рождения прусской шерстеобрабатывающей индустрии. В Лагерхаусе централизованно собирали привезенную из Испании шерсть, затем ее распределяли по деревням, там из нее делали пряжу, снова поступавшую в Лагерхаус, где работали ткачи на основе твердого контракта. Затем сырье поступало в государственную сукновальню, а ткань оттуда отвозилась во все тот же Лагерхаус. В особых складских помещениях ткань красили в разные цвета под началом мастера из Брабанта.[18] Уже через три года, в 1716 г., прусская армия оделась в форму из отечественной ткани.
Благодаря удовлетворению потребностей постоянно увеличивающегося войска экономика развивалась не в одном только государственном Лагерхаусе. Новые импульсы получила вся деловая жизнь Берлина. Текстильщики, портные, позументщики, изготовители пуговиц засучили рукава: но теперь они не обслуживали оргии придворной роскоши, как при Фридрихе I, а работали над обмундированием полков. Мануфактуры и красильни возникали по всей Пруссии. Король поощрял строительство новых текстильных фабрик и в то же время с помощью высоких пошлин на заграничные товары защищал своих производителей. Иностранным шерстянщикам, прибывающим в Пруссию, королевский эдикт 27 февраля 1717 г. гарантировал освобождение от налогов в течение шести лет, бесплатный лес для строительства своих домов и освобождение от военной службы.
Во всем теперь государство поощряло, предоставляло привилегии и кредиты, равно преследуя две цели: развитие народного хозяйства в целом и обслуживание специфических интересов армии. Основанная в 1712 г. берлинская фирма «Шплитгербер унд Даум» с 1722 г. производила на построенных при существенной государственной поддержке оружейных фабриках в Потсдаме и в Шпандау штыки и сабли, вскоре ставшие всемирно знаменитыми. Уже с 1725 г. армия Фридриха Вильгельма имела исключительно прусское оружие, и в этом смысле она никак не зависела от поставок из-за границы. Значительно расширили производство даже золотые и серебряные мануфактуры, расположенные на берлинской Штральауерштрассе. Обслуживать разорительные праздники при дворе больше не приходилось. Зато регулярная армия, где каждый человек до последнего был одет в форму, а полки и рода войск надо было отличать друг от друга, нуждалась в знаках различия, галунах, позументах, в золотых и серебряных нашивках.
Эту в высшей степени рациональную, продуманную до мелочей комбинацию хозяйственной и военной политики Фридрих Вильгельм I воплощал в жизнь жестко и на удивление последовательно. Без постоянных импульсов, сообщавшихся экономике государством, добиться перемен было бы невозможно. И король, прекрасно это понимавший, постоянно вмешивался в процесс, не давал раскрученному маховику остановиться. А поскольку в отсталой Пруссии не было готового на риск, инициативного сословия предпринимателей, его задачи выполняло государство, вкладывавшее капитал и форсировавшее индустриальное развитие.
Успех политики Фридриха Вильгельма был потрясающим, неслыханным. За несколько лет из неразвитой, «ввозящей» Пруссии он сделал страну, производящую товары на экспорт. В 1725 г. король заключил со своим другом, русским царем Петром, торговый договор о поставках для русской армии униформы, изготовленной в Пруссии. Сделка была грандиозной настолько, что уже через год десять ведущих предпринимателей Берлина, в том числе дом «Шплитгербер унд Даум», а также авторитетная фирма швейцарца Иоганна Георга Вегели создали «Русскую торговую компанию» (не в последнюю очередь благодаря буковой палке Фридриха Вильгельма и его неизменному «cito! cito!» в адрес некогда медлительных капиталистов). Но прусское сукно поступало не только в Россию. Скоро оно уже составляло конкуренцию прославленным тканям из Англии, Шотландии и Фландрии на ярмарках в Лейпциге и во Франкфурте. «Берлинскую лазурь» узнали во всем мире. Все государство извлекало пользу из экономического подъема, продолжавшего набирать силу. И причиной этого подъема было волевое действие: применение стимулирующего средства в виде военной реформы. Полугосударственная промышленность Пруссии окрепла настолько, что безболезненно пережила даже такие тяжелые кризисы, как европейское падение конъюнктуры в 1735–1742 гг., а также вызванные погодными условиями катастрофические неурожаи 1736 и 1740 гг.
Во всяком случае, экономическая основа для перестройки прусской армии была создана уже через несколько лет, причем королю для этого не понадобилось и пфеннига иностранных кредитов. Пришлось сотворить чудо, поскольку никто в мире не доверял бедной Пруссии. Причем в результате хитроумной финансовой политики короля, проводившего ее под лозунгом «Независимость и благосостояние», государство стало не беднее, а богаче. В 1713 г., когда Фридрих Вильгельм пришел к власти, на армию уходило примерно 2,4 миллиона талеров ежегодно, а на гражданские нужды оставалось около 1,2 миллиона талеров в год. То же соотношение 2:1 между армией и гражданским сектором не изменилось и при Фридрихе Вильгельме. Но поскольку эффективность экономики, уровень производства, оборот средств и потребности общества, а также государственные доходы и расходы король увеличил вдвое, то хотя расходы на армию в 1740-м, последнем году его правления, составили 4,8 миллиона талеров, государственные расходы на гражданские нужды также увеличились вдвое: до 2,4 миллиона талеров в год. Однако и эти данные нуждаются в комментарии: за 27 лет правления Фридриха Вильгельма армия увеличилась втрое, а расходы на нее — только вдвое. Население же страны за это время увеличилось на сорок процентов, в то время как невоенные расходы государства возросли на сто процентов. Такова реальная и в то же время невероятная картина благотворных последствий политики, в равной степени ориентированной и на повышение народного благосостояния, и на вооружение.
И в то же время проблема пополнения армии в малонаселенной Пруссии оставалась для короля главной. Практика активной вербовки наемников за границей кардинально решить эту проблему не могла. Прошло двадцать лет, прежде чем в 1733 г. Фридрих Вильгельм принял поистине революционное решение: ввести воинскую повинность для своих подданных. Он действительно совершил революцию в полном смысле этого слова, поскольку воинской обязанности граждан, существующей сегодня в большинстве стран мира как нечто само собой разумеющееся, тогда не существовало нигде! Уже тысячу лет, с окончанием великого переселения народов и начала Средних веков, в странах Запада «военное ремесло» было делом узких социальных групп — сначала рыцарей, потом наемников, ландскнехтов. Народ к ним отношения не имел. Народные армии не были известны. Горожане и крестьяне видели в солдатах нечто чужое, враждебное, считали их не защитниками, а угнетателями страны, не друзьями народа, а его врагами. Нигде в мире солдатская служба не считалась почетной. Солдаты служили не государству, народу или отечеству, а собственной выгоде (отсюда и происхождение слова «солдат»[19]).
Поэтому даже для короля-берсеркера, никогда ничего не боявшегося, введение указом от 1 мая 1733 г., воинской повинности для своих подданных стало неслыханно смелым, небывалым поступком. Этот законодательный акт вошел в историю как Кантональный регламент, поскольку пожарные округа (то есть скопления домов и поселений, где жили способные устроить пожар люди) всей страны были разделены на участки, так называемые «кантоны». Отныне за каждым кантоном был закреплен командир роты или батальона, набиравший в нем рекрутов.
Решение может показаться очень простым, никак не удивительным. Но последствия его были революционными. Прежде всего сразу был положен конец традиционным стычкам офицеров во время охоты за рекрутами. У каждого командира был только его ограниченный участок, кантон, каждый житель которого знал, к какой воинской части он относится. С произволом и бесчинствами «охотников за рекрутами» было покончено. Далее: поскольку молодые люди, не состоящие на действительной военной службе, все же считались «реестровыми» (так назывались мужчины, внесенные в списки личного состава армии) и потому были подсудны военным судам, вековая юрисдикция помещиков существенно ограничивалась. До того крепостной человек не имел с государством никаких отношений. Всевластным начальником для него являлся помещик или хозяин арендованного им участка; он всецело зависел от милости или немилости своего господина. Вместе с Кантональным регламентом государство впервые входило в его жизнь. Батальон или полк, куда приписали юношу, был заинтересован в его здоровье и способности к воинской службе. Поэтому патриархальные права помещика или землевладельца ограничивались правом «кантональной» воинской части также участвовать в принятии совместных решений. Это был первый шаг к гражданскому обществу будущего! Конечно, безграмотные молодцы из Бранденбурга, Померании, Заалькрайса или Восточной Пруссии не догадывались, в какой революции они участвуют. И все же смутное ощущение того, что они больше не являются безмолвным скотом, что «королевский мундир» символизирует для них небывалый прогресс, в них теплилось. Гордо носили они цветки в шляпах, поигрывали стеками, подкручивали усы да подмигивали деревенским девушкам. Впервые после столетий бесправия и невежества в деревнях затеплилось чувство гордости и самоуважения. Король призывал своих подданных на военную службу, и в каждого вселялась уверенность: служить государству намного лучше, чем вечно ломать шапку перед помещиком или попом да бояться дубины управляющего либо собственного отца.
Кантональный регламент 1733 г., изданный королем-солдатом, стал главной предпосылкой к позднейшей «всеобщей воинской обязанности», главному общественному завоеванию на пути к демократии. Впрочем, стать «всеобщей» обязанность тогда еще не могла. Доиндустриальная и раннеиндустриальная эпохи не имели для этого условий. Тем не менее Кантональный регламент объявил «всех жителей страны» в возрасте от восемнадцати до сорока лет «рожденными для оружия» — и тем самым буквально ввел равенство всех граждан. Конечно, в силу экономических условий допускались исключения из правила (так называемые «экземпции»). От обязательной военной службы освобождались все дворяне — но их сыновья и так служили офицерами. Освобождались от призыва городские и сельские собственники, владеющие домом и двором, и их старшие сыновья. Не подлежали призыву также крестьяне-землевладельцы, ремесленники и мастера. Исключения распространялись также на рабочих мануфактур, иностранных переселенцев, студентов теологии и т. д. Иными словами, воинская повинность не распространялась на собственников и специалистов, чья деятельность должна была продолжаться, чтобы не нанести ущерб экономике. В то же время она никак не ограничивалась в отношении неимущих — крепостных, прислуги, кучеров и т. д., то есть тех, чья временная служба не могла повредить ни индивидууму, ни какому-то коллективу.
Кантональный регламент устанавливал также частичную воинскую повинность, охватывающую большую часть населения и таким образом значительно увеличивавшую армейский потенциал. Благодаря этому Фридрих Вильгельм I, с трудом собравший к 1730 г. армию в 60 000 человек (из них примерно 20 000 иностранцев), за последние десять лет своего правления увеличил ее численность до 75 000 человек (из них около 25 000 были иностранцами). Таким образом, прусская армия по своим размерам заняла четвертое место на континенте после Франции (160 000 человек), России (130 000 человек) и Австрии (100 000 человек), тогда как по численности населения Пруссия оставалась лишь на тринадцатом месте в Европе.
Многие историки рассуждают о «насквозь милитаризованной» Пруссии тех времен, исходя из того, что под ружьем в ней стояло три процента населения. Не может быть ничего ошибочнее этого мнения, демонстрирующего глубокое заблуждение относительно экономической политики Фридриха Вильгельма I, считавшего, что армия должна не вредить народному хозяйству, а стимулировать его развитие. Армия ни в коем случае не может причинить вред промышленному производству, ремеслам, сельскому хозяйству. Нельзя по достоинству оценить Кантональный регламент 1733 г., не оценив учрежденную им систему резервной службы. Полностью укомплектованной прусская армия была лишь в течение трех месяцев, удобных для учений, — в апреле, мае и июне. После этого батальонные командиры могли отпустить своих резервистов, торопившихся домой на уборку урожая. Точно так же их отпускали и на время сева, не говоря уже о зимних месяцах — в те времена военная жизнь на зиму замирала. Батальон достигал своей штатной численности в 600 человек лишь в течение трех упомянутых весенних[20] месяцев. В остальное время 200 солдат из каждого батальона (в среднем) находились дома, а под ружьем стояли 400 человек, причем каждый второй являлся иностранцем. Значит, в течение девяти месяцев одного года на службе находилась лишь половина военнообязанных граждан, то есть армейскую службу нес только один процент населения. Статистически это выглядит так (цифры округлены):
За исключением апреля, мая и июня, когда армия собиралась в полном составе и проводила учения, батальоны и полки всех войск в стране были наполовину укомплектованы лицами, нанятыми на службу в самых разных странах. Среди них находилось множество темных личностей, довольных возможностью скрываться от отечественного правосудия, находясь в Пруссии вне его досягаемости. И хотя тогда еще никто не говорил о «духе» войск, можно все же усомниться в том, что этот конгломерат вообще представлял собой армию, «прусскую» в смысле национальной принадлежности.
Согласно известному высказыванию Наполеона, армия плоха или хороша настолько, насколько плох или хорош ее офицерский корпус. Именно над этой проблемой реформирования армии Фридрих Вильгельм и работал упорнее всего. Прежде во всех армиях мира офицер был обычным ремесленником, специалистом, далеким от особого корпоративного сознания — «esprit de corps». Офицеры легко меняли не только профессии — из командиров полка в послы, из знаменосцев в камер-юнкеры и т. д., — но и своих патронов — по своему вкусу либо за деньги. При короле-солдате в Пруссии все переменилось. Принимая на военную службу исключительно прусское дворянство, создавая в их среде представление о службе одному-единственному монарху как о сословной привилегии, он уже тем самым практически создал национальный офицерский корпус Пруссии. Было бы просто невероятным, если бы и унтер-офицеры, и простые солдаты, такие же уроженцы Пруссии, не прониклись духом безоговорочно верных долгу перед отечеством офицеров.
Сегодня это кажется таким естественным и простым! В действительности же речь здесь идет о социальном эксперименте, беспрецедентном в истории. Во всех европейских странах дворянин веками считал себя равным первому лицу государства, служить и временно подчиняться которому следовало лишь добровольно и только в обмен на определенные блага. Идеология аристократов, согласно которой граница отечества и государства для дворянина в конечном счете ничего не обозначала, не подлежала обсуждению никогда. Короли и курфюрсты могли сколько угодно кичиться своим «суверенитетом» и «верховенством» своего государства по отношению к соседям. Дворянин же повсюду в Европе был как дома, не отожествляя себя с отечеством. Духовное превосходство аристократии основывалось на игнорировании случайно возникших европейских государств и неизменной заботе о сохранении привилегий своего класса.
Эти традиции Фридрих Вильгельм принялся менять в своем государстве весьма решительно. Юнкеру (так в Бранденбурге-Пруссии традиционно называли дворян) полагалось считать себя пруссаком, он был обязан принадлежать королю целиком, без остатка. Каким же способом король добился столь радикальных перемен в сознании своей аристократии, внушив ей представления, целиком противоречащие интересам класса феодалов? Материальными средствами для этого Фридрих Вильгельм почти не располагал и не мог предложить юнкерству золото и драгоценности. Кроме того, он вообще не собирался «покупать» себе офицеров и наносить тем самым ущерб тщательно сбалансированному государственному бюджету. Дарить земельные угодья он также не собирался — дворяне и так имели собственные поместья. А насилием решить эту проблему было невозможно. В отличие от большевиков, попросту перебивших русское дворянство, а потом, как из-под земли, сдобренной реками крови, доставших новый, коммунистический офицерский корпус, король-солдат проводил «революцию сверху» мирными средствами.
Конечно, совершить задуманное было нелегко. Опыт мировой истории, в том числе и современной, учит: ни один общественный класс не согласится добровольно отказаться даже от частицы своих привилегий. Фридрих Вильгельм это знал; для решения политических вопросов его ум был развит достаточно хорошо. Через четыре года своего правления король все же обнаружил ахиллесову пяту дворянства. В 1717 г. он предпринял решительный шаг для низложения прусского юнкерства, причем сделал его сколь искусно, столь и осторожно. Он распорядился о так называемой «аллодификации» ленных владений. На человеческом языке это означало следующее: установленная еще в Средние века, в военном отношении совершенно бессмысленная, обязанность помещиков являться в армию в случае войны (за это им и жаловались ленные поместья) заменялась обязанностью ежегодно вносить налог в полевое казначейство. Все юнкерство взвыло как один человек! Они не были против законных налогов всякого рода — их, разумеется, надо платить. Но юнкеры сразу поняли, что это лишь первый шаг к разрушению исконных привилегий, к подчинению их абсолютистскому государству. Нет, провести себя они не дадут — а именно это являлось целью королевского трюка с посягательством на лены и аллоды. Ясно же как день: берлинский монарх хочет сделать их обычными налогоплательщиками и государственными служащими. Причем не только на время войны или другого бедствия — нет, навсегда! Да к чему же это все приведет? Они хором заговорили о соглашении ландтага от 1653 г. Тогда деду нынешнего короля, Великому курфюрсту, пришлось скрепя сердце признать привилегии дворянства, перечисленные вполне конкретно: добровольное (либо в случае войны) принципиальное освобождение юнкеров от налогов, привлечение к государственной службе либо, в случае войны, присвоение ими всего оброка, неограниченная власть в собственных поместьях и деревнях. «Это соглашение — наша Magna Charta![21]» — кричали юнкеры, потрясая пожелтевшими грамотами из родовых архивов. Раз новый король в Берлине нарушает старинные договоры, долго ли придется ждать, когда он посягнет на их сынов и внуков, на их крестьян и слуг — и все это под предлогом «государственных интересов»?
Юнкерский класс правильно расценил атаку на изжившие свой век социальные структуры. Но как бы дворяне ни упирались, революция сверху удалась, так как Фридрих Вильгельм мудро следовал древней максиме королей «divide et impera» («разделяй и властвуй»): разделил юнкерство как класс, стравливая оппозиционеров то в одной, то в другой провинции. Если бы он на том и успокоился, его революцию постигла бы судьба бабочки-однодневки: аристократическая фронда вновь объединилась бы для борьбы. Но король предпринял следующие, совсем уж небывалые шаги: вторгся в их сознание! Марксистов и историков леволиберального толка очень раздражает тот факт, что Фридрих Вильгельм I изменил психологию привилегированного класса, не истратив ни гроша и никого при этом не отправив на тот свет. Прежде всего он начал с самого себя: с 1725 г. носил только форму своего потсдамского лейб-гвардейского полка, тем самым подав пример, следовать которому стало престижно. Затем он объявил службу в своей армии «делом чести». Прошло всего несколько лет, и юный дворянин, не пожелавший добровольно служить офицером своему королю, считался дезертиром, почти предателем государства и отечества. Быть дворянином отныне значило быть офицером, офицерская честь стала сословной честью — под этими лозунгами Фридрих Вильгельм создал офицерский корпус, какого еще не знала история.
Вскоре так чувствовал каждый молодой дворянин в Пруссии, считавший за честь носить ту же одежду, что и король. Сыновья юнкеров уже детьми отправлялись в кадетские школы либо поступали прямо в полк, начиная службу с нижних чинов. В один прекрасный день юноша, согласно королевскому патенту, становился прапорщиком, а через несколько лет, также согласно отдельному указу короля, его производили в офицеры. (Право присваивать офицерские чины, ранее принадлежавшее командиру полка, Фридрих Вильгельм взял себе.) Такие знаки внимания чрезвычайно сильно влияли на юнкерское чувство собственной значимости. И прежде чем юнкеры сумели это понять, они, сами того не желая, оказались в полной зависимости от монарха, приученные слепо повиноваться королю. А Фридрих Вильгельм продолжал развивать наступление: армейский устав 1726 г. требовал полного и безоговорочного выполнения приказов не только от нижних чинов, но и от офицеров. Читая этот устав, офицер мог утешиться лишь оговоркой: «если только приказ не задевает его честь».
От своего нового офицерского корпуса Фридрих Вильгельм I требовал верности королю, охраны сословной чести и неустанного выполнения служебного долга. По сути, дворянам пришлось принести королю и государству огромную жертву. С юнкерскими «свободами» было покончено. Дворяне, сами того не заметив, превратились в винтики модернизированного абсолютистского государства. И чтобы поддержать жизненный тонус юнкеров, не втаптывать окончательно в землю их родовую спесь, Фридрих Вильгельм всячески развивал представление об офицерском корпусе — главном привилегированном сословии страны. Если между офицерами и штатскими происходили стычки, если в маленьких гарнизонах офицеры придирались к горожанам и пытались ими командовать, король всегда поддерживал офицеров. Так, в 1730 г. генерал Докум сообщал королю о драке между местным жителем и лейтенантом полка. На это Фридрих Вильгельм ответил: «Посадить штатского на гауптвахту. Держать его там 8 дней на хлебе и воде. Когда срок истечет, штатский должен признать свою ошибку и попросить у офицера прощения». В жалобе окружного головы Феррари из Котбуса сообщалось, как капитан фон Мальтиц пообещал его крепко избить, если он не доставит в полк двух высоких рекрутов. Король написал на полях жалобы: «Этот дурак Феррари ни на что не годится. Когда он будет в Вустерхаузене, я разберусь в проделках Мальтица. Думаю, Феррари просто врет!» В глазах короля штатские всегда были не правы, вступая в споры с его «возлюбленными детьми», надменно протестуя против обычных солдатских манер. Свое кредо по поводу отношений между военными и гражданским населением Фридрих Вильгельм выразил в знаменитом изречении: «Штатские всегда рады подложить свинью бравому солдату».
С другой стороны, офицеры, казавшиеся штатским чуть ли не богами, жили при одержимом работой и чувством долга короле не так уж весело. Жалованье их было скудным, и хотя они могли давать себе волю во многих отношениях, на службе король забирал у них все без остатка. Если в ходе какой-либо из бесчисленных инспекций короля ему не нравилась чья-то выправка, строевой шаг или положение ружья, если у кого-то из солдат оказывались плохо начищенные сапоги или грязь под ногтями либо обнаруживалось еще что-то, противоречащее представлениям короля о чистоте и порядке, он мог избить несчастного солдата кулаками или палкой. Но все же по-настоящему серьезная кара постигала командира его полка или батальона — о повышении в чине он мог забыть надолго. Фридрих Вильгельм желал видеть опрятных, прилежных, богобоязненных и бережливых офицеров; им полагалось быть лаконичными, расторопными, деловыми. Господам офицерам запрещалось играть в карты, пить, ходить к девкам, делать долги. Юный лейтенант этой армии не имел иных благ, кроме чести. Ему не полагалось вечером угостить своих товарищей вином — для этого во всей армии существовало простое пиво. И смеяться над этим не рекомендовалось никому, если насмешник не хотел, чтобы узнавший про такие шутки король взял его в серьезный оборот. Никто в прусской армии не мог сделать карьеру, полагаясь лишь на деньги и блестящую фамилию. Униформа была роскошной; все остальное — скудным и строгим.
Кроме униформы, сшитой за счет короля, простой солдат получал ежедневно два гроша или три талера жалованья в месяц. В Берлине и Потсдаме король для своих частей строил казармы; в других местах солдаты квартировали у местных жителей, обязанных всегда иметь для этих непрошеных гостей свободную комнатку. Состоятельные люди могли откупиться от этой повинности, ежегодно внося «квартирные деньги»: генерал или министр — от 90 до 120 талеров, купец или ремесленник — от 30 до 40 талеров. Выступая на учениях или на «ревю» (так именовались королевские инспекции), полки, шагавшие с развернутыми знаменами, под музыку и барабанный бой, являли собой красочное зрелище. Пехота носила синюю униформу с красными, белыми и желтыми обшлагами, тяжелая кавалерия сверкала безупречной белизной, три гусарских эскадрона красовались в ярко-красных мундирах. Буйство красок имело практический смысл: по цветам узнавали как части, так и рода войск. К тому же бездымный порох в те времена еще не изобрели, и когда на поле маневров или боя пороховой чад покрывал пехоту и артиллерию сплошной пеленой, ориентироваться можно было лишь по цветам униформ. Но при всей любви к пестрым мундирам Фридрих Вильгельм прежде всего думал о бережливости. Форма была настолько тесной, то есть экономно сшитой, что со стороны казалось: стоит солдату сделать резкое движение — и она разойдется по швам. Вильгельмина, старшая дочь короля-солдата, писала в своих мемуарах, что постоянно испытывала страх: как бы на кавалерийском офицере не лопнули тесные штаны. Если король, глядя в окно своего дворца, замечал офицера в слишком просторной форме, он его подзывал и, вооружившись ножницами, собственноручно отрезал от формы лишнюю ткань.
Каждый год Фридрих Вильгельм совершал регулярные проверки воинских частей в разных провинциях. Существовало правило: каждую часть король лично инспектирует по крайней мере один раз в три года. В мае и в июне смотр проходили гарнизоны Берлина и Потсдама. Полки выходили в мундирах с иголочки (каждую весну старые меняли на новые), а шляпы новобранцев украшали веточки с дубовыми листьями — старый, еще со времен Великого курфюрста, символ бранденбургских войск на поле боя. К трем часам утра полки подходили маршем на место сбора (чаще всего они собирались у дома командира), в шесть — являлись на поле для маневров, куда затем прибывал король. Полк обнажал головы. Полевой оркестр исполнял протестантский хорал «Иисус, моя вера». Шапки надевали снова. Затем выносились знамена и штандарты — батальоны уже находились на местах. Над полем гремели команды — и вдруг, под звуки труб и барабанов, боевые порядки приходили в движение. Войска двигались как часовой механизм. Чеканным шагом идет пехота: штыки на ружьях — по линейке. Под фанфары, с обнаженными палашами в руках у всадников, скачет кавалерия нога в ногу. На лицах — пыль и пот. «Лево-право! Жир-и-сало!» — ревут унтер-офицеры. Вот вся пехота собирается в строй из трех шеренг — так называемых «пелетонов».[22] Звучит команда: «Огонь!» И один «пелетон» стреляет за другим, по полю катится гром, выстрелы сливаются в один громовой залп, и все они так точны, что иностранные наблюдатели от изумления чуть не выпадают из седел. А под конец — строевая: «Так живем мы, так живем мы, так живем мы во все дни»…
Если Фридрих Вильгельм оставался доволен полком, он обнимал и целовал его командира перед строем, шел к солдатам, запросто, грубовато-добродушно беседовал с ними и выслушивал просьбы или жалобы, а затем обедал с офицерами под тентом, в то время как войска располагались вокруг и звали маркитанток. Если результаты смотра его не устраивали, он грубо отклонял приглашение командира, скакал в ближайшую деревню и обедал там с крестьянами где-нибудь в сарае или под деревом.
Кое-кто уже тогда внимательно присматривался к детищу Фридриха Вильгельма. 27 июня 1725 г. австрийский обер-шпион граф Зекендорф писал в Вену принцу Евгению о впечатляющих «красоте и порядке» прусских частей, о превосходном состоянии их полков и лошадей, ружей и амуниции. Несомненно, Фридрих Вильгельм создал военный шедевр, уникальный в мировой практике. Но одновременно Зекендорф сообщал: «При этом офицеров и нижние чины держат в рабском страхе и подвергают жесткой дисциплине. Офицер, забывший припудрить волосы, может быть разжалован». (Согласно тогдашним предписаниям, парик следовало посыпать белой пудрой.)
Такова была обратная сторона медали: Фридрих Вильгельм держал армию под ярмом прямо-таки варварской дисциплины. «Болтовня», то есть ропот и пререкания в строю, немедленно каралась палками. Отказавшийся выполнять приказ трижды прогонялся сквозь строй (это называлось «бегать под шпицрутенами»), из которого выходил полуживым. Побег, дезертирство карались смертью. Впрочем, такие наказания существовали везде. Было только одно исключение: маленькая армия Ганновера, отказавшаяся от услуг иностранных наемников и питавшая отвращение к телесным наказаниям солдат. Самой ужасной являлась участь простого человека на кораблях британского флота: за малейшую провинность его спину могли до костей обработать девятихвостой «кошкой» либо повесить на корабельной рее и медленно задушить. В прусской армии существовали порядки не намного более гуманные. Впрочем, граф Зекендорф отметил, чем прусская армия выгодно отличается от всех других: офицерам запрещено выряжаться, а также передавать «воспитание» нижних чинов в руки унтер-офицеров. Как и все в армии, офицер нес предельно полный груз ответственности и служебных обязанностей, а взгляд вездесущего монарха, обращенный на офицера, был особенно придирчив.
В результате вечных учений и организационного совершенствования прусские пехотные полки стали непревзойденными по своим боевым качествам войсками. Скорострельность «пелетонов» достигала девяти залпов в минуту, интенсивность такого огня почти равнялась стрельбе очередями, поскольку залпы раздавались примерно каждые восемь-девять секунд. Приемы обращения с оружием и строевая подготовка в войсках были доведены почти до уровня рефлексов, что немало развлекало иностранных наблюдателей, презрительно говоривших о «потсдамских парадах» Фридриха Вильгельма. На этот счет усомнился даже прославленный полководец принц Евгений, снисходительно писавший: «Маневры прусских частей производят впечатление чего-то ненатурального. Неудивительно, когда огромные, не знающие особых трудов, упитанные солдаты так легко переставляют ноги в дни парадов». К своему счастью, он не дожил до того дня, когда в 1741 г. при Мольвице австрийцам пришлось испытать, что в действительности означает «что-то ненатуральное» в «потсдамских парадах».
Слабостью прусской армии являлась, несомненно, конница. И сын короля-солдата, Фридрих Великий, убедился в этом на собственном горьком опыте во время первой Силезской войны. Хотя Фридрих Вильгельм, как и его друг князь Леопольд, всегда оставался страстным наездником, все же они совершили ошибку, подбирая кавалеристов по росту, по «статности». Поскольку всадники были высокими, крепкими людьми, лошади им тоже требовались крупные. Поэтому почти всех лошадей привозили из Гольштейна, хотя собственные (из Восточной Пруссии) кони подошли бы кавалерии гораздо лучше. Король курировал снабжение войск свежими лошадьми, лично оценивая силу и добротность животных. Вот и сидели белые кирасиры и драгуны на огромных, сытых конях, подобно кулям с мукой. А поскольку экономия и здесь оставалась главным правилом, полковые командиры берегли драгоценных лошадей пуще солдат. Предпринять атаку, сокрушающую все на своем пути, их полки могли едва ли. Они лишь усиливали фланги наступающей пехоты, двигаясь шагом или рысью.
Имелись проблемы и с артиллерией. Фридрих I располагал десятью артиллерийскими ротами. Но поскольку они находились в различных крепостях — Кюстрине, Шпандау, Кольберге, Пилау, Мемеле, Магдебурге, Миндене, Везеле, а пушки не имели конной тяги, почти невозможно было оперативно перебросить их к основным войскам для участия в учениях. При Фридрихе Вильгельме артиллерия и инженерные части постепенно утратили свою средневековую обособленность и стали родами войск, полностью приспособленными к действиям всей армии. С 1715 г. командиром всех артиллерийских частей Пруссии являлся генерал фон Лингер. «Орудийная реформа» удалась благодаря тому, что король-солдат в дополнение к артиллерии крепостей создал передвижные подразделения, а также инициировал выработку специальной инструкции для артиллеристов (ее написал в 1734 г. князь Леопольд). Инструкция подразделяла артиллерийские части на батареи и устанавливала правила боевых действий. В частности, передвижным батареям запрещалось менять расположение на поле боя, чтобы даже временно не прекращать огонь.
Организация армии продумывалась до мелочей. Неудивительна и забота Фридриха Вильгельма о подготовке смены для офицерского корпуса. Сыновья офицеров, определенные к военной службе, назывались на французский манер «кадетами». Король объединил два существовавших прежде в Кольберге и в Магдебурге кадетских корпуса в один, берлинский, и отвел ему обширный участок земли на берегу Шпрее. В 1734 г., будучи при смерти, но внезапно выздоровев, Фридрих Вильгельм то ли из благотворительных побуждений, то ли в знак благодарности Господу учредил в Потсдаме большой приют для солдатских сирот обоего пола, просуществовавший до 1945 года. Пережив чудесное исцеление, король сел за стол и стал писать указ об учреждении приюта. Слова, подобранные Фридрихом Вильгельмом для указа, весьма характерны для его сознания, для чувства ответственности, свойственного королю:
«Учреждение сие желаем Мы установить не только на время, отпущенное Всевышним для Нашей жизни; но серьезная, честная и добрая воля Наша состоит в том, чтобы и потомки Наши опекали его по доброй совести и никак тому не противились. Если же станет Богу угодно погасить род Наш и окажется королевство Наше в руках другого агната, просим Мы того, на кого Господь возложит в то время корону, не делать ничего, что могло бы повредить учреждению Нашему».
Король прочитал написанное. При мысли о том, как какой-нибудь недостойный наследник вздумает избавиться, по материальным соображениям, от «военного приюта», страшная вена вздулась на его лбу. И король, едва сдерживая приступ бешенства, приписал: «В противном случае постигнут его Наше проклятие и кара Всевышнего».
Решать финансовые проблемы, связанные с умножением войска, королю-солдату помогали как рациональное ведение хозяйства страны, так и приемы, не совсем традиционные. Главным источником доходов, позволявших тратиться на армию, являлись так называемые «контрибуции» — налоги на земельные владения, начисляемые и взимаемые в разных провинциях в разных размерах. В дополнение Фридрих Вильгельм собирал и особые налоги, давно утратившие свое оправдание. К примеру, «посольские деньги», взимавшиеся его отцом для покрытия расходов, связанных с участием Пруссии в международных конгрессах, как ни в чем не бывало продолжали собирать и передавать в Полевое казначейство, хотя повод для налога давно отсутствовал. Несмотря за завершение перестройки берлинского дворца, особый налог на нее по-прежнему взимался. Так король ежегодно тратил на армию две трети государственных доходов, размер которых возрастал ежегодно в среднем на 175 000 талеров, не залезая в обычную казну и не прикасаясь к тщательно оберегаемому государственному запасу, увеличивающемуся на 360 000 сэкономленных талеров в год. Вот что значит искусство хитрой и осмотрительной финансовой политики! Без посторонней помощи Фридрих Вильгельм создал лучшую армию Европы и при этом мог гордиться ежегодной полумиллионной прибылью.
Однако эта прибыль могла бы обратиться в прах, если бы его смешную страсть к «верзилам» приходилось финансировать из государственного бюджета. Но это ему и в голову не приходило. Двенадцать миллионов талеров, потраченные на многолетнюю причуду короля, взимались из так называемой «рекрутенкассы» — особого фонда, основанного во времена Великого курфюрста, именовавшегося тогда «морской кассой». Король-солдат, морских амбиций не имевший, воссоздал этот фонд под другим названием и со временем сделал из него своеобразный, целиком противозаконный, источник доходов. Рекрутенкасса не имела ничего общего с обычным налоговым учреждением, так как фактически учреждала и монополизировала взяточничество. Тому, кто добивался повышения в чине или по службе либо желал получить привилегию, король более или менее прозрачно намекал: существует рекрутенкасса, куда можно внести значительную сумму. Если человек хотел получить высокий титул (а кто этого не хотел?), он прибегал к услугам одиозного фонда. Когда еврей собирался жениться, он вносил в нелегальную кассу тысячу талеров. Преступник, желавший избежать наказания, внезапно узнавал: теперь для него есть одна дорога — в рекрутенкассу. Происходило самое настоящее вымогательство! Сын короля-солдата, кронпринц Фридрих, признавался графу Зекендорфу, что ему стыдно за своего отца и что он не сможет, когда наступит время, с чистой совестью принять такие деньги в наследство. Фридрих Вильгельм на это лишь громко расхохотался. Как поступал в таких случаях он, показывают следующие примеры.
Инспектор Вреде из Кюстрина просит, ссылаясь на свой преклонный возраст, помочь его сыну по службе. Резолюция на полях: «Да, если он договорится с рекрутенкассой».
Некий Шванхойзер из Реппена предлагает 15 талеров и просит назначить его членом городского совета Реппена. Резолюция: «40 талеров».
Таможенник, обвиненный в растрате и возместивший ущерб, просит закрыть его дело за 50 талеров. Резолюция: «200 талеров».
Таможня в Гроссене спрашивает, кого из многочисленных соискателей следует принять на службу. Резолюция: «Место должен получить тот, кто заплатит 600 талеров или больше».
Вдова барона фон Книпхаузена, родившая внебрачного ребенка, приговорена к уплате в рекрутенкассу 13 000 талеров. (Дворянка, богатая, так пусть раскошеливается!)
Как показывают расчеты, благодаря взносам в рекрутенкассу, Фридрих Вильгельм получал ежемесячно около 40 000 талеров. Вот и деньги на «верзил».
Конечно, Фридрих Вильгельм I создал в немецком государстве первую регулярную армию в истории. Те, кому позже приходилось писать и говорить о превращении Пруссии при короле-солдате в «милитаристское государство», непозволительно упрощали суть явления — ведь милитаристское государство возникло внутри Пруссии. Оно представляло собой замкнутый мир: каждый полк — маленький космос, закрытая община со своей юстицией, хозяйством, финансовым центром, собственными священниками и школами, поскольку каждого солдата учили читать, писать и считать. А над ним — офицерский корпус, «микрокосмос в себе», строго разграниченный по рангам от юного прапорщика до старого фельдмаршала. На вершине пирамиды — король. Он не царит над миром, сидя на позолоченном троне. Он тоже солдат. Ходит в униформе, при шпаге и офицерском шарфе — будто только что вышел из строя. Нигде в мире не существовало большей дистанции между военными, более строгой иерархии; но ни в одной армии мира не наблюдалось и большего равенства. Все ходили в мундирах «берлинской лазури», все служили «за честь», служили государству и своему полку. Один из современников короля-солдата писал в 1717 г.:
«Здесь мы видим двор, при котором нет ничего более блистательного, более роскошного, чем его солдаты. Оказывается, можно быть великим королем, создавая себе величие не с помощью роскоши и огромной свиты придворных, сверкающих золотом и серебром… Говоря о берлинском дворе, подразумевают почти исключительно военных… Советников, камергеров, гофюнкеров и других, не находящихся на военной службе, не слишком уважают, да и не так уж часто находятся они при дворе…»
К этому описанию автор добавляет:
«Пруссия — это высшая школа порядка и искусства быть хозяином, где все от мала до велика учатся творить себя по образу своего властителя. Воспитание формирует людей, и в Пруссии это получается великолепно…»
Вот суть деяний Фридриха Вильгельма: высшая школа порядка и искусства быть хозяином! Он ведь не хотел воевать, да и не воевал, как нам еще предстоит узнать. То есть предназначение армии было другим. Она являлась часовым механизмом, искусной моделью идеального государства — над этим и работал его практичный ум. Сам того не подозревая и, конечно, не желая того, Фридрих Вильгельм, этот берсеркер, этот реликт Средневековья, уже представлял собой дитя наступившего XVIII столетия, века Просвещения и рационализма. Новые веяния времени, сквозняками будоража эпоху умственного застоя, сделали возможным создание такого аппарата, как прусская армия, вопреки всем традициям и условностям в мире. Грубый и неискушенный, поражающий допотопностью манер, военный мир Фридриха Вильгельма, подчеркивая эту свою внешнюю сторону, подсознательно все же тянулся к рационализму, модернизации и даже к просвещению.
Конечно, король охотно третировал «чернильные души», ученых и интеллектуалов. Но все же он реализовал идеально продуманный план военной реформы, тем самым оказавшись во главе прогресса. Уже в 1714 г., через год после прихода к власти, он распоряжается напечатать устав под названием «Эволюции королевской прусской инфантерии». Великовозрастные полковники и генералы едва не сломали зубы, грызя сей гранит науки под девизом «читать и заучивать». В 1718 и 1726 гг. вышли очередные пехотные уставы, в 1720 и 1727 гг. — уставы для кавалерии (отдельно для кирасир и драгун). Печатное слово начинало править миром, логическое мышление проникало и в военное дело. Король-солдат говорил только о «вере и послушании» и презирал образование. Но развитие, спровоцированное им, требовало «работы и учебы». О том, насколько опережала прусская армия другие благодаря своей организованности и готовности к переменам, можно понять, зная, как прославленная французская армия, прежде сильнейшая армия мира, приняла уставы лишь в 1732 и 1733 гг., а еще более славная австрийская армия последовала этому примеру лишь в 1737 г.
Жизнь любого человека в Пруссии Фридриха Вильгельма оставалась крайне оригинальной: и первобытной, и необычной. Армия, по мнению короля, являлась не самоцелью, а прежде всего всеобщей школой для нации. Опасность односторонней милитаризации общества при этом была высока, но, несомненно, такое видение армии одновременно послужило общественному прогрессу. Раз уж выходцы из обеспеченных кругов, сыновья бюргеров Берлина, Штеттина и Кёнигсберга, не боялись надеть синий мундир и встать под начало унтер-офицера, то для крестьянства — а оно составляло тогда большую часть населения — призыв на королевскую службу означал самое настоящее освобождение от средневекового образа жизни. Что по сути происходило с деревенским парнем из Бранденбурга, Померании или Восточной Пруссии, вставшим под знамена короля? Дома, в поместье или в деревне, он работал от зари до зари, то и дело получая оплеухи от своего отца, а от управляющего — удары плеткой. Ни о какой школе не могло быть и речи. Унылое однообразие будней нарушала только воскресная служба в церкви. А вот надев форму, ту же одежду, которую носил и король, он становился человеком. Унтер-офицерские окрики и подзатыльники были для него как с гуся вода: дома с ним обращались гораздо хуже. А возвращаясь из армии домой, он уже умел читать и писать, был знаком с городскими обычаями и привычками, мыл уши, чистил зубы и держал в чистоте ногти. Он расхаживал по деревенским улицам с гордо посаженной головой и держа грудь колесом, а спина его была до того прямой, что девушки от изумления только руками разводили. И когда мимо проезжал помещик, он не кланялся ему, а вставал во фронт и отдавал честь. Парень становился человеком короля.
Таковы были социальные и, одновременно, идеологические компоненты государства Фридриха Вильгельма. Вместе с армией реформировались не только государственные структуры, но и сознание общества. Последовательная милитаризация повлекла за собой и политизацию людей, благодаря чему они могли создать — разумеется, в тогдашних условиях — общество нового времени, где централизация и модернизация приходили на смену натуральному, самодостаточному хозяйству, мещанской психологии и провинциальности. По поводу экономического, народнохозяйственного аспекта: индустрия и ремесленные производства работали на армию во всю мощь, при максимальной занятости; это, в свою очередь, требовало повышения образовательного уровня населения, способствуя развитию науки в стране. Происходил круговорот, приводимый в движение за счет собственных ресурсов, своего рода социальный перпетуум-мобиле.
Это чудо точности и эффективности, дисциплины и порядка, долга и исполнительности, усердия и прилежания скоро стало восприниматься во всем мире как типично «прусское» явление, созданное руками замечательного, в высшей степени оригинального короля. И человек, презиравший Фридриха Вильгельма больше, чем кто бы то ни было на свете, — его сын Фридрих Великий, уже осознав глубинные причины собственных побуждений и поступков, весьма убедительно описал работу своего отца:
«Если верно, что тень дуба, спасающего нас от солнца, обязана своим появлением желудю, из которого дуб вырос, то никто в мире не усомнится: благополучие королевского дома, радующее нас после смерти этого человека, возникло благодаря его мудрым поступкам, его многотрудной жизни».
А с высоты нынешнего дня позволительно сказать предельно точно: превращение Пруссии в великую европейскую державу не произошло бы без основ, заложенных Фридрихом Вильгельмом I, королем-солдатом.
Деспот
Каждый год в день 27 августа ранним утром к берлинскому замку подъезжали пустые кареты. Король Фридрих Вильгельм I вежливо подводил к открытой дверце экипажа свою супругу Софью Доротею. За ними шествовали маленькие принцы и принцессы, а также придворные дамы. Все были одеты в зеленые охотничьи костюмы. Кучера весело щелкали кнутами, и кареты трогались с места. Выезжая из Люстгартена, они брали курс на юго-восток, в сторону королевского охотничьего замка Вустерхаузен. До него от центра Берлина было примерно двадцать пять километров — почти как до Потсдама на юго-западе. Кареты ехали по пыльной, ухабистой проселочной дороге. С левой стороны этой дороги процессию приветствовали Кепеник и Фридрихсхаген; вдали сверкало озеро Гросе-Мюгельзее. Дальше, оставляя за спиной Ланген и Цойтен-Зее, ехали дремучим лесом до реки Даме, притока Шпрее, протекавшей возле Вустерхаузена через озеро Кримник-Зее. Нигде, если не считать окрестностей Потсдама и графства Руппин, бранденбургская земля не была так прекрасна и величественна.
В конце пути колонну экипажей поджидал король. Он стоял перед охотничьим замком Вустерхаузен — обычным подворьем, украшенным только древней башней с деревянной винтовой лестницей и состоявшим из главного здания и двух низких флигелей по бокам. Строение замыкала железная решетчатая изгородь. Вдоль зданий тянулись широкие террасы, а окружал замок глубокий ров, заполненный стоячей черной водой. Два мостика, перекинутые через ров, позволяли выйти в сад. В главном доме жила королевская семья с прислугой; во флигелях селились гости короля. Все было выдержано в самом простом, сельском стиле; даже принцессы жили в каморках под крышей.
Днем во дворе начиналась праздничная жизнь. Выходивший из замка мог видеть за решетками ограды дремучий, полный загадок смешанный лес. На решетках сидели привязанные орлы — два белых и два черных (прусские цвета — черный и белый!). У ворот скучали два бурых медведя — никто, кроме короля, не осмеливался к ним подойти. Посреди двора журчал фонтан. Возле него суетились повара и слуги с блюдами в руках. Кушать полагалось только на открытом воздухе. В непогоду стол ставился в растянутом между огромными древними липами шатре с поднятым пологом.
За стол обычно садились двадцать четыре персоны с королем во главе. Подавали грудинку с горошком, перловкой или чечевицей, баранину с белой капустой, свиные ножки с квашеной капустой, а по праздникам — мясо зажаренных косуль и кабанов. Фридрих Вильгельм уписывал еду за обе щеки, Софья Доротея издевательски поигрывала ложкой в кушанье, представлявшем собой первое и второе блюда одновременно. Надменная Вильгельмина, старшая принцесса, регулярно постилась — отцовская кухня была ей решительно не по вкусу. Обед под хлопанье орлиных крыльев и медвежий рев продолжался до часа дня. Затем король, наевшийся до отвала, выходил из-за стола и отправлялся на террасу. Сидя в кресле на палящем солнце, он спал полтора часа, в то время как дети ходили на цыпочках, не смея издать ни звука — палка отца всегда была у него под рукой. Королева, никогда не желавшая выходить в дикий, неухоженный сад, удалялась вместе с придворными дамами в комнаты, где они часами раскладывали пасьянс либо играли в «куплю-продам». А вечерами, когда дамы уже ложились спать, Фридрих Вильгельм сидел при зажженных фонарях во дворе, разгонял комаров табачным дымом, пил пенное бернское пиво, ругал «чернильные души» и французов, провозглашал здравицы в честь «Германии германской нации», слушая лесные шорохи да охотничьи байки своей компании.
Король страстно любил охоту. На следующий день по его прибытии в Вустерхаузен, 28 августа, открывали сезон охоты на куропаток, отправляясь в лежащее неподалеку угодье Махнов. Выстрелы раздавались весь день. Фридрих Вильгельм был отличным стрелком, к тому же за его спиной постоянно находились двое слуг, подававших ему заряженные ружья (двустволок тогда еще не изобрели). Он охотился без отдыха, набивая до двухсот куропаток за день, а за весь сезон — до двух с половиной тысяч. Настоящее массовое убийство. Добытых куропаток Фридрих Вильгельм дарил королеве, она могла продать их в Берлине или в Потсдаме. В этом вопросе отношения с женой у него были деловые: в обмен на куропаток Софья Доротея должна была возместить стоимость пороха и свинца.
Бескровным развлечением, в котором охотно участвовали и дамы, была так называемая «охота на цаплю». Для этого в замок приезжали сокольники из Голландии (преимущественно из округа Хертогенбос) с натасканными ловчими соколами. Все садились на лошадей или в кареты и отправлялись на Шмёквитцер-Вердер — болотистый речной полуостров, где водились и высиживали птенцов цапли. Стоило цаплям взлететь, как сокольники спускали с кулаков соколов, летевших быстрее стрел, заходя со стороны солнца, либо реявших в вышине, падая оттуда на цапель и вынуждая их, наконец, прижиматься к земле. Так, с земли, сокольники их и подбирали. Пойманных цапель приносили королю или королеве, а те надевали им на шеи медные кольца, прежде чем отпустить на волю. За утро обычно ловили до пяти цапель.
А днем на полуострове начинался праздник. Здесь с аппетитом обедали и смотрели на принцесс, радостно игравших в мяч, подоткнув юбки. В такой охоте принимал участие даже кронпринц Фридрих, обычно наотрез отказывавшийся стрелять в дичь. К этим массовым убийствам юноша испытывал непреодолимое отвращение, подвергаясь издевкам со стороны отца. Принц предпочитал сидеть в саду с французским романом либо брал флейту и отправлялся в лес, где на какой-нибудь полянке давал сольные концерты для птиц. А чащи в это время оглашались собачьим лаем и криками охотников.
Фридрих Вильгельм, сделанный из другого теста, нежели его мечтательный сын, возглавлял конную охоту. Огромные охотничьи угодья Вустерхаузена, изрезанные прямыми, как нитка, просеками, являлись идеальным местом для многочасового преследования оленя: бедное животное гнали через пни и ухабы, даже через озера, пока оно, окруженное хрипло лающими собаками, не падало на землю, а король или старший егерь его не приканчивали. Не было для Фридриха Вильгельма большей отрады, чем часами гоняться на коне за добычей. Лицо его горело, пот заливал глаза, а глотку саднило от азартного крика: он обожал первобытные развлечения — бывало даже, загонял лошадь. О том, насколько жестоко это удовольствие, король не желал и задумываться.
Вечером, сидя за столом, он слушал гневную проповедь дворцового патера Фрайлингсхаузена. «Конная охота — огромный грех, — говорил патер, ударяя по столу ладонью. — Жестоко и бесчеловечно гнать животное к смерти. Тварь, объятая ужасом, взывает о помощи к Господу, не оставляющему это варварство безнаказанным». Фридрих Вильгельм спокойно слушал, покуривая свою трубку, и не возражал. Но на следующее утро он садился на коня и охота начиналась снова.
Так протекали сентябрь и октябрь. С 3 ноября в Вустерхаузене всегда проходил праздник св. Губерта, покровителя охотников, и тогда же отмечалась годовщина битвы при Мальплаке, где участвовал, будучи кронпринцем, и Фридрих Вильгельм. Уже ранним утром приезжали приглашенные генералы и полковники. Они слезали с коней и, гремя шпорами, держа шляпы в левой руке, вытягивались перед королевскими особами. Дочерна загоревшие, усатые лица сияли под белыми напудренными париками, когда Фридрих Вильгельм крепко пожимал гостям руки. Постепенно они заполняли весь двор; их речь и восклицания тревожили привязанных орлов и медведей. Они пили вино и пиво из огромных кубков, а когда король заканчивал произносить тост — за свою жену, за императора или за Германию, — раздавались залпы мортир. Придворным шутам приходилось пить, пока они не падали наземь; их тела оттаскивали к ближайшей навозной куче. Сидя за ужином при зажженных фонарях, король неизменно пребывал в отличном настроении. Когда дамы расходились по своим комнатам, становилось еще веселее. Король хватал генералов под руки и пускался в пляс, распевая с ними во всю мочь:
Все выше задирал ноги его веселое величество, пока они наконец не заплетались окончательно. Тогда товарищи относили своего главнокомандующего на террасу и укрывали одеялом, дабы он мог проспаться на свежем воздухе.
Январь и февраль были зимним «сезоном убийств» — теперь уже диких кабанов. Охота не ограничивалась одним Вустерхаузеном, а проходила по всей стране. Развлечение было отнюдь не безопасным: в те времена диких кабанов не отстреливали, а убивали пиками. Это был жестокий поединок человека и зверя, требовавший от охотника изрядного хладнокровия и заканчивавшийся не всегда в его пользу. 15 января 1729 г. в окрестностях Кепеника Фридрих Вильгельм чуть не погиб на охоте — кабан повалил его наземь. Короля едва успел спасти подоспевший егерь. Впрочем, монарха это приключение даже позабавило. (В 1733 г. только в лесах близ Шверина были убиты 1084 диких кабана: они представляли огромную проблему для сельского хозяйства страны.)
Добытых кабанов частично дарили, частично отправляли ратуше ближайшего города со строгим наказом короля: продать мясо населению. Хотели люди или нет, им приходилось покупать кабанов по цене от трех до шести талеров за тушу — это соответствовало ценам местного рынка на говядину. Величайшее удовольствие Фридрих Вильгельм испытывал, когда покупать кабанов заставляли евреев. Те громко протестовали и ссылались на религию, запрещавшую им есть нечистое мясо. Но ничто не помогало, и им приходилось платить. А король хохотал и потирал руки, узнавая, как евреи дюжинами дарят кабаньи туши госпиталям и полковым кухням.
Странным, поразительным был этот человек! Человек, полный противоречий. Аккуратный и чистоплотный, заносчивый до крайности — и в то же время жизнерадостный чревоугодник, чуть ли не пьяница. Когда Фридриху Вильгельму было двенадцать лет, он казался «ангелочком» бабушке, курфюрстине Софье: миловидный, прекрасно сложенный блондин с нежным румянцем на щеках (чрезвычайно злившим его самого). Взойдя на трон в двадцать четыре года, он уже вряд ли мог считаться стройным, хотя выглядел по-прежнему хорошо, был статным молодым человеком, составляя замечательную пару помпезной Софье Доротее. Но с годами он становился все толще и толще. Еда и напитки нравились ему сверх всякой меры; и насколько хорошо он умел держать себя в руках, когда ему предстояло расстаться с обожаемыми деньгами, настолько же он терял голову, заправив за воротник салфетку. Схватив нож и вилку, король набрасывался на еду так, будто не ел, а участвовал в сражении. А брюшко короля все прибывало: его талия имела в охвате 1,26 м. Мнение всех, видевших Фридриха Вильгельма в первый раз, было одним и тем же: низкий и толстый. В пятьдесят лет он весил уже почти триста фунтов при росте 1,65 м.
Только будучи кронпринцем, он производил впечатление пышущего здоровьем парня. Действительно, если кто и олицетворял в королевском дворце цветущую жизнь, так это был Фридрих Вильгельм. В противоположность отцу его фигура казалась вылитой из бронзы. Но неукротимая потребность поглощать пищу при явном предпочтении тяжелых блюд; безумная «конная охота»; внезапные переходы от сна на солнцепеке к ледяным напиткам без меры; стиль работы, не щадивший ни его собственного здоровья, ни чужого; постоянные физические перегрузки во время многодневных и многонедельных инспекционных поездок в тряских каретах, — все это имело самые тяжелые последствия. У короля появилась одышка, а приступы подагры, развивавшейся из года в год, уже причиняли ему почти невыносимую боль. Когда ему ничего не оставалось, как только сидеть в кресле и на листах картона размером в человеческий рост изображать цветными красками фигуры своих любимых «верзил», стоявших тут же перед ним навытяжку, он писал в уголке картины: «in tormentis pinxit» («написано при сильной боли». — Примеч. авт.). Уже в сорок лет, не старше, Фридрих Вильгельм был смертельно больным человеком. Лишь пылкость его натуры, фанатичная воля к жизни подарили ему еще двенадцать лет.
И вот еще загадка: с одной стороны, нежность и целомудрие, с другой — грубые, отвратительные манеры! Как мы уже знаем, Фридрих Вильгельм не позволял произносить в присутствии дам и девушек сальности и двусмысленные фразы, не терпел невежливого, нерыцарского обращения с женщинами. Что касалось его отношений с женой, он действительно мог быть примером для всех дворов и обществ Европы. Супружеская жизнь короля была безупречной в эпоху, когда фаворитизм, проституция и половая распущенность считались признаками хорошего тона. Париж и Версаль являлись инкубаторами аморальности, Дрезден Августа Сильного — сплошным притоном разврата, пристанищем для кровосмесительных связей; при дворах Лондона и Ганновера супружескую верность нарушали ради развлечения; русский царь Петр укладывал в постель каждую встречную женщину. Но Фридриха Вильгельма, этот сгусток потенции, нельзя было упрекнуть ни в чем. Он знал про себя, что вовсе не является оплотом добродетели; как и любой другой мужчина, он пережил внутреннюю борьбу. Однажды его королевская рука даже оказалась в манящем декольте на груди придворной дамы (за что он получил смачную пощечину). Но так или иначе он остался оплотом нравственности в эпоху моральной нечистоплотности. А с другой стороны — наглые, грубые выходки в обществе мужчин или на «конной охоте», рано оттолкнувшие от него впечатлительного «Фрицхена». А чего стоит элементарная черствость, позволявшая ему загонять насмерть не только косуль и оленей, но и собственных коней!
Очень скоро после воцарения Фридриха Вильгельма все эти непостижимые противоречия привели к созданию его знаменитого негативного образа. Как это обычно и бывает, положительные качества натуры не замечались, зато деспотические склонности и странности поведения обсуждались весьма охотно. Черты, прямо противоположные свойствам всех европейских монархов, — чистоплотность, трудолюбие, бережливость, верность своей «Фикхен», — ни в коем случае не толковались в пользу прусского короля. Его личная жизнь считалась мещанской, «буржуазной»; в лучшем случае его характеру приписывали смешные свойства. Образ Фридриха Вильгельма за границей складывался из черт комичных либо страшных. Солдатские дурачества Фридриха Вильгельма создали ему репутацию «фельдфебеля на троне» или «короля-сержанта». (Этими эпитетами прусскому монарху пытался отомстить король Англии Георг II, чья задница все еще горела от детских пинков Фридриха Вильгельма.) Но чем король-солдат действительно лишил себя расположения своих немногочисленных друзей, так это безудержной драчливостью, своим «палочным фетишизмом», благодаря которому он и произвел подлинный фурор в прусской истории.
Нам известно, как уже в раннем детстве Фридрих Вильгельм привык всегда настаивать на своем и не считаться с волей других. Пылкость и гневливость были присущи натуре маленького принца, но никто не смог противостоять его буйному темпераменту, никто не нашел слов, чтобы убедить его в необходимости быть сдержанным, не научил его самодисциплине. Сделать это пыталась одна только Софья Шарлотта; но ее материнское сердце разбилось об упрямство возлюбленного сына. Вот и не научился он держать себя в узде, привыкнув всегда добиваться своего, даже если при этом страдал другой человек. Сжав кулаки (порой в буквальном смысле слова), он сокрушал все, не приходившееся ему по вкусу или бывшее ему непонятным.
Уже мальчиком он избивал тех, кто не разделял его желаний. И чем старше он становился, тем чаще давал волю порывам ярости. Он бил кулаком, бил и палкой. Не то чтобы на него находило дурное настроение и он бил кого-то в сердцах. Нет, бил он от души, страстно, до онемения рук и остановки дыхания. Лицо при этом становилось багровым, а глаза вылезали из орбит. Казалось, король попросту рехнулся.
Невероятный человек этот Фридрих Вильгельм! Берсеркер, вулкан, извергающий лаву бешенства! И что самое плохое, чуждый всякой самокритики, не имевший и грана самодисциплины. Его буковая палка не смела опускаться лишь на жену и на армейских офицеров. (Однажды, стоя на плацу перед полком, он поднял палку на майора. Тот выхватил пистолет и направил было его на короля, но затем выстрелил себе в голову.) Всех остальных он угощал палкой без разбора. Силу его гнева именно таким образом ощущали на себе чиновники самых высоких рангов. Например, достопочтенные члены достославной Уголовной коллегии в Берлине. Они приговорили к смертной казни «верзилу» из полка графа фон Дёнхофа, укравшего 6000 талеров. Дёнхоф, потративший на этого парня уйму денег, не пожелал с ним расставаться. Он начал протестовать, ссылаясь на то, что совсем недавно тот же самый суд приговорил высокопоставленного чиновника, растратившего 30 000 талеров, не к смерти, а всего лишь к тюремному заключению. Однако приговор Уголовной коллегии являлся вполне правомерным. Законы всех стран Европы карали за воровство смертью (лишь Фридрих Великий упразднил этот средневековый обычай), тогда как растрата наказывалась тюрьмой. Но Фридриха Вильгельма эти тонкости не интересовали. Юристы, «чернильные души», явно хотели опять подложить свинью солдату. Он вызвал членов коллегии во дворец, стал на них кричать, багровея все больше, в кровь разбил одному из них голову. Под конец король совершенно обезумел. Размахивая палкой, он стал гнать высокий суд через коридоры дворца и парадную лестницу вплоть до Люстгартена. (Тем дело и закончилось. Судьи остались при своих должностях и чинах; несмотря на приступы бешенства, король не был ни мстителен, ни злопамятен.)
Избивать палкой слуг, поваров, кучеров и лакеев было для Фридриха Вильгельма насущной потребностью. Он заметил ту же страсть и у своего друга, русского царя. Когда приступы подагры лишали короля возможности использовать палку, он приказывал класть рядом с креслом пистолет, заряженный солью, и стрелял в нерадивых лакеев так же, как в куропаток, оленей, зайцев. Мы еще увидим, что так же он обращался и со своими детьми. Доходило дело и до пренеприятных дипломатических скандалов: однажды король поднял палку на английского посла. Словом, со своим окружением этот человек общался с помощью кулака, палки, пинков.
При дворах Европы причуды прусского короля, прежде всего его драчливость, являлись предметом дежурных разговоров. Над ним смеялись и издевались. Кого-то поведение берлинского изверга, «фельдфебеля на троне» просто выводило из себя. Но все же ничего удивительного страшные известия из Берлина и Потсдама не содержали. Людей били по всей Европе, так что разговоры эти были, в сущности, лицемерны. Для XVIII столетия побои и оскорбления человеческого достоинства стали делом привычным. Начальники били и унижали подчиненных, не испытывая угрызений совести. При всех дворах били слуг, в каждом городском и сельском доме избивали собственных детей. Человеческая жизнь не стоила ровным счетом ничего. Русский царь Петр, этот «гений силы», восхищавший весь мир, бил людей ежедневно; он собственноручно обезглавил восемьдесят взбунтовавшихся стрельцов. Никого в Англии не трогало то, что матросы и горнорабочие умирали под плетьми; из таких «карательных акций» даже устраивали представления. Избиение мужчины, женщины, ребенка считалось вполне естественным, когда речь шла о простых людях. Еще в 1780 г. гений Вольфганг Амадей Моцарт, будучи концертмейстером в Зальцбурге, получал пощечины и пинки. Человеческое достоинство ценилось очень мало и не стоило совсем ничего, когда человека унижал аристократ или член королевской фамилии.
Нет, драчливость Фридриха Вильгельма не была сенсационной. Новостью для европейских кумушек стало другое: этот человек в далекой, почти неизвестной Пруссии не делал различий между дворянами и «подлым людом». Вот что действительно стало международным скандалом. Прусский монарх бил всякого, будь он «благородный» или «простой»; казалось даже, его мускулистая рука предпочитала спины «тонких натур». Его буковая палка не знала классовых различий, а гнев не признавал дворянских или других привилегий, все спины для короля-«демократа» были равны. Такого расчлененная на касты Европа еще не видела.
Конечно, избитых это утешало мало. Весь Берлин вздыхал, поминая беспечные веселые времена прежнего короля. Боже правый, наступит ли этому конец? Когда на улицах раздавался стук королевской палки либо сварливый голос короля сотрясал окна и двери, дрожь охватывала весь город, Берлин или Потсдам, и каждый прятался, куда только мог.
Рабский страх перед беспощадным королем, охвативший весь город, не разбивался о стены дворца, но овладевал и королевской семьей. От каждого, будь то принц или крестьянин, министр или советник, сын или дочь, требовалось одно и то же: трудолюбие, чистоплотность, простота, пунктуальность, бережливость. А кроме всего этого — послушание и еще раз послушание, послушание, доходящее до абсурда, до самоуничижения.
Приказ и его выполнение, порядок и подчинение ему, закон и покорность — таковы были главные критерии в государстве Фридриха Вильгельма, позволявшие судить, не опускаясь до «болтовни», о каждом человеке. И подобно тому, как король правил страной, он распоряжался также досугом и развлечениями своих граждан. Быть мрачными им не полагалось. Более того, честно сделав дневную работу, они должны были хохотать до упаду.
Пышные праздники прежнего короля навсегда ушли в прошлое. Фридрих Вильгельм долго размышлял над тем, какими развлечениями скрасить долгие зимние вечера в обеих резиденциях так, чтобы все вышло и просто, и весело, и не очень дорого для него самого. Наконец он пришел к мысли устраивать так называемые ассамблеи, собрания, по очереди проходившие в домах дворян и зажиточных горожан. Разумеется, каждый хозяин ассамблеи старался заманить к себе короля с его семьей. И Фридрих Вильгельм приходил всегда. Он сидел в курительном салоне, выпускал дым из своей глиняной трубочки, втайне радовался бесплатным удовольствиям, одобрительно смотрел на молодежь, игравшую и танцевавшую в соседних залах, и, подобно мифическому стражу, следил за тем, чтобы все было пристойно и мужчины не допускали фривольностей в отношении юных дам.
В 1718 г. Фридриха Вильгельма познакомили с так называемым «силачом» Карлом фон Эггенбергом, антрепренером и человеком, владевшим всеми цирковыми искусствами. Его ловкость и физическая сила потрясали воображение зрителей. Он мог одной рукой поднять пушку с сидящим барабанщиком с барабаном и держать ее до тех пор, пока тот не выпивал кружку пива. Его не могла сдвинуть с места пара лошадей. Толстые корабельные канаты Карл рвал, как нитки. Как раз таких людей и обожал Фридрих Вильгельм. Разинув рот, король дивился невероятной силе, а потом ощупывал мускулы силача. Он сделал его придворным комедиантом и даровал следующие привилегии:
«Во всех городах и провинциях он может устраивать представления, дабы развлекать тех, кто свободен от работы и не имеет слишком много дел. Он может давать представления без всяких ограничений, если только в них не будет безбожных, злых, грешных, нечестивых или противных Христу сцен, но будут показываться пристойные вещи, способные доставить людям честное развлечение. В противном случае будет немедленно лишен всех привилегий».
Вскоре король обязал Эггенберга проводить в Берлине зимние ассамблеи во время праздничного сезона (в декабре и январе), для чего отводился ему зал в берлинском Фюрстенхаусе, получившем позднее название Вердерской гимназии. Тем самым развлечения в Пруссии были централизованы. 7 января 1733 г. Фридрих Вильгельм издал довольно смешной указ:
«Поскольку Его Величество желает и впредь проводить ассамблеи, а во время прежних ассамблей стало ясно, что многие люди не имеют в своих домах достаточных помещений и что ассамблеи причиняют им множество неудобств и приводят к порче мебели, Его Величество решил назначить так называемого силача, Карла фон Эггенберга, антрепренером ассамблей. Дважды в неделю, во вторник и в пятницу, он должен предоставлять для ассамблей дрова, свечи, игральные столы и два ансамбля музыкантов. Внесенные в следующий список прежних устроителей ассамблей (далее следует список из двадцати четырех имен министров, послов и генералов. — Примеч. авт.) должны выдать ему по тридцать талеров каждый, а за эти деньги они смогут свободно ходить на ассамблеи, а также бесплатно получать кофе, чай, шоколад и лимонад. Те же, кого нет в списке, должны платить антрепренеру по восемь грошей и отдельно платить за кофе, чай, шоколад и лимонад. Если же они захотят играть в карты, они должны будут заплатить по шестнадцать грошей карточных денег. Капитаны и армейские офицеры-субалтерны от таковых выплат должны быть освобождены. Ф.В.».
Но предприятие «силача» Эггенберга развития не получило. Вел он его плохо либо в свою собственную пользу, и сборища в Фюрстенхаусе со временем прекратились. В конце 1733 г. генерал-майор фон Дёнхоф, ставший, согласно приказу короля, кем-то вроде берлинского интенданта по развлечениям, пожаловался на то, что «силач» вместе со своей женой и другими комедиантами затеяли в пьяном виде драку и смотреть на нее сбежалась масса народу. Ему, Дёнхофу, пришлось даже доставить распоясавшихся супругов в участок возле Нового рынка. Протрезвев, Эггенберг просил у короля прощения, и, поскольку он предложил ему тринадцать лошадей по смешной цене, Фридрих Вильгельм его простил. Он даже согласился предоставить Эггенбергу место для открытия театра, где ставились бы итальянские комедии на немецком языке. Но доходы от театра были столь малы, что Фридрих Вильгельм решил взять его труппу из семи человек на свое содержание. Он выплачивал каждому актеру от двадцати до двадцати двух талеров в месяц. За это по вторникам и четвергам они должны были играть при королевском дворе, в берлинской или в потсдамской резиденциях. И чем грубее были актерские выходки, чем чаще они раздавали друг другу оплеухи и кувыркались на сцене, тем громче смеялся король. (Софья Доротея считала ниже своего достоинства смотреть на этот балаган.) В другие дни недели Фридрих Вильгельм приказывал берлинским коллегиям раскупать большую часть билетов и ежедневно отправлять на представления Эггенберга нескольких своих служащих. Таким способом он возвращал часть своих расходов на «искусство».
В 1734 г. в Берлин приехал кукольный театр, имевший у здешней публики большой успех. Когда духовенство стало говорить о непристойных выходках артистов, Фридрих Вильгельм лично отправился на представление. А поскольку собственные суждения о «штучках комедиантов» он ценил мало, его сопровождал кандидат теологии Кюнце (в дальнейшем знаменитый пастор, служивший в Николайкирхе). Сначала король от души смеялся над похождениями кукол и хлопал в ладоши. Но потом он заметил, как Кюнце записывает цитаты из некоторых сцен. В тот же вечер труппа марионеток получила приказ покинуть Берлин и никогда здесь больше не показываться. В вопросах религии король-солдат шуток не терпел.
Сразу по восшествии на престол Фридрих Вильгельм разогнал великолепную капеллу своего отца, оставив лишь капельмейстера Пепуша, собравшего из полковых музыкантов новый оркестр. Эти музыканты входили в солдатскую капеллу, игравшую по вечерам на ассамблеях. Во время визитов иностранных гостей лица оркестрантов мазали жженой пробкой и одевали их в костюмы мавров. Неправда, что Фридрих Вильгельм, как повторяют многие историки, был абсолютно немузыкален. Музыка доставляла ему огромное наслаждение, если она была «веселой и полнозвучной». Больше всего он любил оркестровые композиции Генделя. Их для него переработали таким образом, чтобы не было нужды в скрипках. Король воспринимал только духовые инструменты (трубы, тромбоны, гобой), а также барабаны, литавры и треугольник. По вечерам он охотно сидел один в зале с «веселой» акустикой и слушал мелодии Георга Фридриха Генделя, бранденбуржца, родившегося в Галле и с 1714 г. служившего придворным музыкантом в Лондоне. Порой, несмотря на чрезвычайно громкие звуки, король ронял голову. Партии, которые он проспал, музыканты позже повторяли.
Однажды, октябрьским вечером 1717 г., после того, как для Фридриха Вильгельма сыграли часть оперы Генделя «Юлий Цезарь» и он отправился в Табачную коллегию, генерал-лейтенант фон Грумбков подвел к нему 44-летнего мужчину, расшаркивающегося и кланяющегося довольно странным образом. Грумбков познакомился с этим человеком в заведении берлинского трактирщика Блойсета и теперь представил королю. Это был Якоб Пауль Гундлинг, родившийся 19 августа 1673 г. во франконском городе Герсбруке. Фридрих Вильгельм вспомнил его: ну конечно, Гундлинг служил при его отце профессором дворянского лицея, королевским историографом и советником обер-геральдической службы. «А, чернильная душа! Пустая голова да шутовские словечки…» Но Грумбков отвел короля в сторонку и принялся ему нашептывать: с тех пор как старый король умер, Гундлинг, оставшись без места, развлекает посетителей трактира учеными докладами, получая от хозяина бесплатный стол. Ведь он сможет делать доклады по материалам газет и развлекать Табачную коллегию! Фридрих Вильгельм немедленно вдохновился нашептываниями интригана Грумбкова.
Так Гундлинг стал придворным шутом короля-солдата, пожаловавшего ему, под хохот членов Табачной коллегии, титул королевского обер-церемониймейстера. Через три года Гундлинг уже был тайным советником Апелляционного совета, членом Военного совета и Дворцовой палаты, президентом Берлинской академии наук, королевским историографом и полномочным министром «шелкопрядства всей страны». А еще через три года — членом Верховного суда по уголовным делам, Верховного апелляционного суда, Генерального управлениям финансами, то есть исполнителем высших государственных должностей, причем «cum voto cessionem» (с правом голоса), как выражался король на своей кухонной латыни.
Все эти звания были издевательскими. Наконец-то Фридрих Вильгельм получил предмет своих вожделений — такого же слугу, как тот шут в образе попа, увиденный им в свите своего друга русского царя. Наконец-то он нашел человека, развлекавшего его каждый вечер и поднимавшего ему настроение.
Без Гундлинга король просто не смог бы обойтись. Вечер за вечером этот несчастный человек играл в Табачной коллегии шутовскую роль надворного советника и газетного референта. Нередко ему приходилось являться уже к обеду и начинать доклады по материалам прусских и иностранных газет. Если Фридрих Вильгельм наносил визиты своим генералам или министрам, Гундлинг всегда был при нем, являясь мишенью для издевательств.
Сначала образованный Якоб Пауль Гундлинг, считавший себя одним из величайших ученых Европы, искренне верил, что стал любимчиком короля. Конечно, он был достаточно умен и понимал, над чем смеются солдафоны Табачной коллегии, в то время как он делает свои пафосные доклады на основании статей в иностранных газетах. Но безграничное тщеславие заставляло его чувствовать себя намного выше этих гогочущих усатых рубак. Бывший профессор действительно верил в благосклонность монарха и не замечал, как смешит весь мир смесью высокомерия, педантичности и болтовни. В голове Гундлинга скопилась масса мертвых знаний, извлеченных из несметных томов и фолиантов. Но поскольку он имел слабость к вину и мог без ограничений посещать винные погреба королевского дворца, то вскоре стал обычным пьяницей и самым настоящим королевским шутом.
Гундлинг — самая мрачная и недостойная глава в истории короля-солдата. Фридрих Вильгельм третировал слабого человека самым жестоким и бессовестным образом. Издевательствам и злым розыгрышам Гундлинг подвергался почти ежедневно, особенно по вечерам, когда, уже вдребезги пьян и что-то бормоча, шатался в стенах Табачной коллегии.
И тогда стол трещал от ударов солдатских кулаков, а слезы смеха катились по щекам Фридриха Вильгельма. Однажды неотесанная королевская компания положила в постель к несчастному шуту медведя и закрыла обоих в комнате, откуда всю ночь доносились рычание и душераздирающие крики Гундлинга. Как-то зимой, в Вустерхаузене, Фридрих Вильгельм велел вытащить шута на один из трех мостиков над рвом и спускать его через перила на канате, пока тот не пробил телом лед и не ушел по шею в воду. Король чуть не падал со смеху, велел изобразить эту сцену на картинах и затем развесить их во дворцах Берлина и Потсдама.
Несмотря на сломленный дух и утрату чувства собственного достоинства, Гундлинг выполнял все же не каждый приказ короля. «Не пристало быть потехе без выгоды», — подумал король и решил сделать Гундлинга своего рода шпионом в высшем обществе. Король надеялся узнавать от него, хорошо ли работают министры и советники, радеют ли они о государственных прибылях. Гундлинг, по натуре человек добродушный и безобидный, и не подумал пускаться в интриги и доносить королю на других людей. Считаться королевским шпионом он не хотел. В конце концов такая жизнь ему совсем опротивела и он сбежал в Галле к брату, университетскому профессору. Фридрих Вильгельм велел силой вернуть его обратно и доставить в берлинский дворец. Наследующий день в Табачной коллегии у него «просили прощения», и Гундлинг оказался достаточно бесхарактерным, снова приступив к своим обязанностям и живя прежней омерзительной жизнью: король посулил ему тысячу талеров содержания и титул «барона».
В 1726 г. Берлин посетил профессор по имени Давид Фасман, сделавший себе имя, сочинив книгу сатирических «бесед с мертвецами». Он стал конкурентом Гундлинга в Табачной коллегии. И когда оба полупьяных «ученых» яростно спорили и отпускали в адрес друг друга саркастические остроты на латинском, немецком и французском языках, иногда затевая драку, хохоту в Табачной коллегии не было конца. Однажды спорщики схватились за стоявшие вокруг стола сковородки с горящим торфом. Более сильный Фасман повалил Гундлинга на землю, обнажил седалище соперника и так обработал его раскаленной сковородкой, что «барон» получил тяжелые ожоги.
В 1731 г. Гундлинг умер в возрасте пятидесяти восьми лет. Он упился до смерти. Король велел похоронить его в винной бочке. Могилу украсила издевательская эпитафия:
Погребение Гундлинга состоялось возле церкви в деревне Борнштедт близ Потсдама. Без шуток и унижений не обошлись даже похороны. Духовные лица отказались помянуть искалеченную жизнь бедного шута христианским словом. В присутствии короля, министров и генералов сатирическую надгробную речь над могилой Гундлинга произнес «профессор» Фасман. Вряд ли человеческая грубость и дурной тон могли зайти дальше.
Через год Фасман сбежал за границу. Своему прежнему хозяину он отомстил, написав книгу объемом более чем в тысячу страниц. Книга, изданная в 1735 г., предавала прусского короля-солдата всеобщему осмеянию. Фридрих Вильгельм запретил эту книгу в своей стране. Но с утратой Гундлинга и Фасмана он смириться не хотел. Все снова и снова он повторял: «Где мой дурак? Найдите мне дурака!» Наконец ему доложили, что проездом в Москву Берлин посетил некий Якоб Соломон Моргенштерн, «магистр изящных искусств». Раньше этот Моргенштерн читал лекции в Галле и Лейпциге, а кроме того, написал специальную книгу о российском государственном праве, посвященную правительнице России Анне Леопольдовне (Петр I умер в 1725 г.): он рассчитывал получить службу в российском государстве. Король-солдат, больной от тоски по своим ученым шутам, не долго думая распорядился: «Оставить его здесь! Сегодня вечером мы с ним покурим трубки!» Так Моргенштерн вошел в состав Табачной коллегии и стал преемником Гундлинга и Фасмана.
Пятьсот талеров жалованья и свободный доступ в винные погреба выговорил себе Моргенштерн, став надворным советником, президентом Академии наук и вице-канцлером университета во Франкфурте-на-Одере. Снова Фридрих Вильгельм пустился в недостойные игры, делая шутами презираемых им интеллектуалов и тем самым их высмеивая. Кульминацией этой игры должен был стать «ученый» диспут во Франкфуртском университете, в ходе которого даже академики, как надеялся король, окажутся дураками.
10 ноября 1737 г. Фридрих Вильгельм, сопровождаемый Моргенштерном, въехал в город на Одере. Почтенный городской магистрат и студенческая делегация приветствовали любимого монарха. На следующий день состоялось посещение городской ярмарки, а вечером студенты устроили королю бурную овацию. Фридрих Вильгельм постоял в их окружении, а когда будущие академики коваными сапогами принялись высекать искры из мостовой, он призвал их к обструкции против шпионов, доносчиков и университетских надзирателей, всего этого «непотребного сброда». И улицы вздрогнули от громогласного «Pereat!» («Да сгинут!»).
В восемь утра 12 ноября король вступил в актовый зал университета. За ним шел нарядившийся в дурацкие одежды вице-канцлер Моргенштерн. По поручению короля он подготовил доклад на тему «Благоразумие глупости». Тут же армейские унтер-офицеры ввели профессоров, отказавшихся в присутствии студентов дискутировать с королевским шутом. Король хлопнул в ладоши, и спектакль начался. Моргенштерн должен был привести витиеватые доказательства того, что все ученые всегда были всего лишь «пустомелями и дураками»; профессора Флейшер и Ролофф имели задание опровергнуть с кафедры эти «тезисы». В течение часа король рыдал от смеха. Наконец он вскочил с места, свистнул, заложив пальцы в рот, и принялся ритмично хлопать — словом, вел себя так же, как нынешние «хальбштарке»[23] и рок-фанаты. Началась всеобщая вакханалия, от которой с профессорских голов чуть ли не падали парики.
Но тут король движением руки установил тишину. Он осмотрел аудиторию и вполне серьезно произнес: «Крупица природного ума весит больше центнера университетской премудрости!» В зале можно было услышать полет мухи. Король подошел к 36-летнему правоведу, профессору Иоганну Якобу Мозеру, только что издавшему первую книгу своего пятитомного труда «Германское государственное право», и спросил его, что тот думает о Кристиане Вольфе — в 1723 г. король выгнал этого философа по наущению святош из Галле, но, убедившись в собственном заблуждении, с 1735 г. неустанно звал его обратно. Мозер, чрезвычайно уязвленный славой его 58-летнего коллеги, гремевшей по всем кафедрам Германии, надменно заявил, что не знаком с трудами Вольфа. Король был ошеломлен этим ответом. Между ним и Мозером состоялся следующий диалог:
Король. Что? Вы не читали труды Вольфа?
Мозер. Когда я учился, Вольф еще не был светилом. А позже у меня было слишком много других дел.
Король. Ну, если вам не хватает времени, не тратьте его на преподавание.
Фридрих Вильгельм закусил губы. Он еле сдерживал гнев, вызванный тщеславием этого подозрительного интеллектуала.
Король. Какой предмет вы здесь ведете?
Мозер. В основном jus publicum.[24]
Король. Да? Jus publicum и философия — вещи полезные. Но пандекты были написаны людьми, только и хотевшими вытянуть из других деньги.
Король внимательно осмотрел надменного Мозера, затем сказал: «Каждый имеет свои заскоки. У меня это солдаты, а кто-то (король кивнул на Мозера) помешан на самомнении». Мозер побледнел, но король рассмеялся и хлопнул его по плечу: «Да ладно, я шучу». Глубоко уязвленный Мозер заговорил о том, что такие шутки не достойны христианина, а в Библии сказано: за каждое неверное слово однажды придется держать ответ. Фридрих Вильгельм выслушал его мрачно и спокойно, потом ответил: «Будешь в Берлине — сходи к благочинному Ролоффу. Он истолкует тебе эти слова иначе». Затем король отвернулся к профессорам и студентам, образовавшим вокруг него плотное кольцо. Когда профессор Флейшер пожаловался на плохое посещение лекций по философии, король пообещал издать указ: студенты с неудовлетворительными отметками по философии не получат места на государственной службе. Присутствующие студенты оторопели, а король рассмеялся. Фридрих Вильгельм считал ханжество чуждым университету Франкфурта-на-Одере. Поглядывая на Мозера, он произнес: «С богомолками я вообще не имею дел. Все они чистой воды лицемеры». Студенты провожали своего короля громовыми аплодисментами и безудержным «Виват!».
Неужели Фридрих Вильгельм, король-солдат, не был набожным человеком? Мы знаем, в юности он весьма серьезно относился к вопросам религии и даже упрекал собственную мать в том, что она «плохая христианка». Но как тогда объяснить еретические взгляды, выдаваемые за правильные студентам во Франкфурте-на-Одере?
Отношение Фридриха Вильгельма к Богу лучше всего объясняется его насквозь солдатским мировоззрением. Как прусские подданные были обязаны слушаться короля без всяких оговорок, так и он чувствовал себя ближайшим подданным Всевышнего, веря в него с детским благоговением и никогда не осмеливаясь нарушать его заповеди. Но подобно гренадеру, всячески уважающему своего батальонного командира и все же старающемуся сохранить определенную свободу в повседневной солдатской жизни, Фридрих Вильгельм и за собой оставлял право иметь собственное мнение в вопросах религии. С рождения и крещения он принадлежал к реформатской, кальвинистской, общине и остался верен ей до конца жизни. Но он не собирался разделять догмы, установленные, как было вполне очевидно, не Богом, а возникшие из выкладок ограниченных и ревнивых иерархов церкви. Поэтому на бесконечные, длящиеся уже два века споры между реформатской и лютеранской церквами он просто не обращал внимания. Для него обе протестантские конфессии являлись одним и тем же вероучением, а разницу в богослужениях он сердито называл происками «склочных попов». Обеим конфессиям следовало идти рядом и в ногу, подобно бравым мушкетерам и гренадерам. А всю это болтовню — к чертовой матери! Он терпеть не мог многословия на церковных кафедрах, из-за чего проповеди то растягивались, то сокращались, нарушая другие планы прихожан. И он издал декрет, согласно которому проповедь, будь она лютеранская или кальвинистская — все равно, должна была продолжаться шестьдесят минут. Проповедник, «болтавший» дольше, подвергался штрафу: обязывался внести в рекрутенкассу два талера. Церковь, безоговорочно и безгранично им почитаемая, являлась в его глазах составной частью государства, единственного вместилища Божьего порядка на земле. И ее тоже следовало приспосабливать к устройству большого механизма, чтобы он работал четко, без сбоев, без остановок по пустякам и ради дурацких штучек.
Иными словами, христианство, которому король был предан сердцем и разумом, следовало, как и все в стране, использовать с выгодой. Когда в Берлине была заново отстроена разрушенная пожаром церковь Св. Петра, он воспользовался долгожданным случаем и распорядился о проведении значительно упрощенной литургии как для кальвинистов, так и для лютеран. Духовные лица обеих конфессий закричали истошными голосами, но король пригрозил лишить их права собирать с прихожан пожертвования, если они его ослушаются. Пастор Браун из деревни Призен, не подчинившийся королевскому эдикту, был тут же лишен сана.
Фридрих Вильгельм, безоговорочно веривший в своего личного Бога, держал перед ним ответ, как ротный командир перед командиром полка, а все вопросы вероисповеданий разрешал с легкостью и терпимостью, удивительной для эпохи, все еще управляемой догматизмом и даже фанатизмом. Если король не был болен, он посещал богослужения ежедневно, как в резиденциях, так и в своих бесчисленных инспекционных поездках. Он сидел в церкви со сложенными ладонями и взглядом, устремленным на изображение Спасителя, а его голос, то громкий, то скрипучий, завершал мессу в общем хоре. Ему было совершенно все равно, какие молебны посещать — реформатские или лютеранские. Лишь бы они были достаточно простыми, понятными каждому, идущими от сердца и полезными для души. «Прочный град — наш Бог» — это радостно-упрямое изречение Мартина Лютера исходило будто из его собственной души, являясь личным убеждением, а не внушением, сделанным церковью. И когда пастор Ролофф, безмерно ценимый королем, отказался благословить поочередное проведение в церкви Фридрихсфельде реформатских и лютеранских богослужений, ссылаясь при этом на «непреодолимые душевные трудности», Фридрих Вильгельм ничего не мог понять. Разве Богу предъявляют одежды? Разве не предстают перед ним, храня лишь любовь и верность внутри себя? В это время король был в Вустерхаузене. Он велел перенести стол на террасу и написал Ролоффу письмо, по-детски наивное и насыщенное непревзойденно-бесхитростной мудростью:
«Ваши возражения я считаю злой шуткой. Разница между двумя нашими евангелическими религиями в действительности не что иное, как поповские дрязги. Разница тут только внешняя. Когда это начинают проверять, именно так и оказывается: одна и та же вера во всех мелочах. А вот стоя на кафедре, пасторы начинают разводить соус, один другого гуще… В Судный день им придется дать Господу отчет в том, что они спорили с кафедр, возбуждая бесплодное умствование, а истинное слово Божье в их устах не было единым. Действительно хороши священники, сказавшие: мы терпели друг друга и только умножали славу Христову. Священников, пришедших за вечным блаженством, не спросят: ты лютеранин или кальвинист? Господь спросит: исполнял ли ты Мои заповеди или ты проводил диспуты? Он скажет: прочь от Меня, спорщик, в огонь и к дьяволу! Но те, соблюдавшие Мои заповеди, придите ко Мне и в царство Мое…»
Фридрих Вильгельм хотел войти в царство небесное. Он считал себя набожным королем и никогда не чувствовал себя деспотом. Он жил просто и безыскусно, смотрясь в зеркало самокритики и не сомневаясь в самом себе. Король не заглядывал внутрь себя, так же как не исследовал глубин души другого человека. Он видел лишь часть мира, доверенному ему Богом, дабы он владел ею и переделывал ее. Ему никогда не приходило в голову, что подданные его боятся, что «чернильные души», несчастные придворные шуты и слуги способны его ненавидеть. Все они его слушались, и точка. Но ведь и он должен был слушаться — слушаться Бога, каким он его воображал. Созданное им представление было произвольным и вполне оправдывало его безгранично деспотичную натуру. Но этого Фридрих Вильгельм не понимал никогда.
Общество
День 20 декабря 1722 г. выдался на редкость морозным. Король-солдат стоял у окна в своем охотничьем замке Шёнебек в Шорфхайде и смотрел на заснеженный ландшафт. Он приехал сюда два дня назад, посетив по дороге дворец своей бабушки Луизы Генриетты в Ораниенбурге. Здесь, в пятидесяти километрах от столицы, вдалеке от всех государственных и частных дел, король искал одиночества.
Фридрих Вильгельм достал голландскую трубочку и сел к камину. Глядя на беспокойное пламя, король размышлял о неполном десятилетии, прошедшем с того времени, как он стал наследником королевской власти. Выпуская клубы табачного дыма, король пытался подвести итог. Может ли он быть доволен результатами своих трудов? Пруссия была его домом, его хозяйством; а он, король, был уполномоченным Бога в доме, получив в нем власть и ответственность. Возможно, скоро наступит день — ведь он прожил уже тридцать четыре года, немногим меньше, чем его мать, — когда он предстанет перед Всевышним, предварительно дав своему наследнику отчет в том, как он распорядился государством. Король подбросил полено в огонь, сел за стол у окна, взял перо и принялся писать:
«Когда скончался мой отец, Пруссия (Фридрих Вильгельм имел в виду провинцию Восточная Пруссия. — Примеч. авт.) почти вымерла от чумы, поразившей людей и скот. Почти все домены (королевские поместья. — Примеч. авт.) в стране были заложены или сданы в наследственную аренду; приближалось финансовое банкротство; армия находилась в плохом состоянии, будучи ничтожна числом. Все эти беды я не могу и перечислить. За девять лет все дела приведены в порядок, а все домены совершенно освободились от долгов. Это результат трудной, но удачной работы. Армия и артиллерия сегодня в таком состоянии, как нигде больше в Европе. Подчиненные помогали мне мало, а вот мешали, прямо или косвенно, много. Итак, большего за прошедшие девять лет я не мог бы совершить».
Король откинулся на спинку стула и подумал о десятилетнем сыне Фридрихе. Однажды мальчик окажется на его месте. Наследство своего отца он, Фридрих Вильгельм, обязан передать сыну в отличном состоянии. «Фрицхен» не должен получить хаос и государство на грани банкротства.
Король-солдат прикрыл глаза. Все стадии последнего десятилетия еще раз прошли перед его мысленным взором. Принципиально верным было решение, закрепленное указом от 13 августа 1713 г.: ни одна из провинций королевства не может отделяться, а все королевские владения (домены, личные поместья, угодья и т. п.) отныне не подлежат продаже и отчуждению. Веками монарх мог произвольно распределять свои земли среди наследников, продавать свои личные владения либо сдавать их в аренду, как делал отец Фридриха Вильгельма, постоянно нуждавшийся в деньгах. С этим было покончено раз и навсегда. Указом от 13 августа 1713 г. он, Фридрих Вильгельм, гарантировал государственное единство всех прусских земель и практически объявил королевские владения собственностью государства, что являлось беспрецедентным для Европы решением. Тем самым король надолго укрепил государственную власть Пруссии и дом Гогенцоллернов.
Король встал из-за стола, беспокойно походил по комнате, побарабанил пальцами по украшенному морозными узорами оконному стеклу. Конечно, с первых же дней своего правления он понял: хочешь иметь порядок в государстве и контроль над ним — создавай единое финансовое управление. Никому до него и в голову не приходило, что все доходы должны поступать в одну-единственную кассу, что централизованное хозяйство страны вести можно только так. До самой смерти его отца в Пруссии существовало два раздельных финансовых ведомства и никто в Берлине не имел полных сведений о доходах и расходах государства. Частично деньги поступали в Главный военный комиссариат, частично — в Управление королевскими доменами. А наряду с этим существовал и Тайный фонд для содержания королевского двора. Полный финансовый кавардак. И что хуже всего, так называемое Управление королевскими доменами в Берлине существовало практически только на бумаге. «Контрибуция» поступала в провинциальные, не связанные одна с другой кассы, где она, как правило, бесследно исчезала. О централизованном учете, использовании и распределении государственных средств не могло быть и речи. Но ведь бесценные деньги — это «нерв вещей» государственной политики! Полнотой власти обладает лишь тот, кто контролирует все средства. В этом вопросе не может быть раздробленности. Никаких местных либо сословных «прав» на принятие решений! Провинции, как и сословия (дворянство, горожане, крестьянство), являлись лишь составными частями государственного организма. «А государство… — бормотал король про себя, — государство — это я. Кто же еще?» Он поступил совершенно правильно, через месяц после смерти отца объединив Тайный фонд и Управление королевскими доменами в новое учреждение под названием «Главное финансовое управление». Старые министры прежнего короля лишь париками покачивали, рассуждая о «неслыханных новшествах». Но Фридрих Вильгельм не обращал на это внимания. Он сделал шефом нового учреждения бывшего полкового аудитора Кройца, человека замечательного и в то же время самых простых правил. И посмотрите: доходы за это время почти удвоились.
Такой шаг был не только правильным — он был совершенно необходим: в этом король убедился. Три высшие инстанции превратились в две: Главный военный комиссариат и Главное финансовое управление. А разве не сделал он следующий шаг? 3 октября 1714 г. он распорядился о создании Главной счетной палаты, высшего контрольного учреждения Пруссии, куда вошли обе инстанции со своими структурами. Руководителем Главной счетной палаты король назначил самого себя. Главой ведомства он стал не только ради проверки каждой квитанции (доверие хорошо, а контроль лучше), но прежде всего, для того чтобы принудить оба подразделения, Военный комиссариат и Финансовое управление к кооперации, к согласованной работе на благо целого — государства.
Внезапно король что-то злобно пробормотал и уселся в кресло у камина. Нет, по здравом размышлении выходит, что указы 1713 и 1714 гг. все же были полумерами. Конечно, объединение трех инстанций в две было принципиально верным шагом в верном направлении — к централизации государства. И финансовой неразберихе в провинциальных кассах он положил конец, отобрав у них прежние полномочия в пользу вышестоящей инстанции. Но что произошло здесь, в столице? Вместо сотрудничества две могущественные инстанции, Военный комиссариат и Финансовое управление, объявили друг другу войну за налоги и прочие доходы. Они вели тяжбы буквально по каждому поводу! Чертово жулье! Вместо службы на благо государства эти «чернильные души» тратили время, средства и силы на межведомственные усобицы. Они вообще не желали понимать, что государственные доходы должны служить всему государству, а не отдельным ведомствам. И он, король, почти десять лет потратил на посредничество в этих бабьих спорах, на восстановление единства государственного управления.
Вон как вышло в 1716 г.: он тогда случайно узнал о беспорядке, царившем в провинциальных ведомствах. И чем же они оправдывались? Инструкции из Берлина, от Финансового управления, не получили. И так всегда: один сваливает на другого!
Тогда, 6 января 1717 г., он написал господам из Финансового управления: «Я случайно узнал о том, как меня обманывают. Со временем мне станет известно все. И если вы, господа, будете замалчивать такие вещи в дальнейшем, не удивляйтесь и грозе, разразившейся раньше, чем ее ждали». Но через несколько недель страх чиновников прошел и волокита началась снова. Снова ему приходилось слышать, как Военный комиссариат обвиняет Финансовое управление либо наоборот. Снова эта непрерывная война использовалась для маскировки собственных грешков. Проклятая банда!
Нет, дальше так дело не пойдет. Не нужны одной стране два правительства, да еще работающие друг против друга. Пора бы принять давно выстраданное решение. Что мешает продолжить упрощение и централизацию государственного аппарата? Если из трех учреждений было сделано два, почему из двух не сделать одно?
Фридрих Вильгельм сделал глоток из кружки с горячим пивом и снова сел за стол. Он просмотрел написанное и отбросил бумагу. Нет, заметкам о бесхозяйственности его отца не место в официальном документе. К тому же сейчас речь идет о будущем! Он создает основу для окончательной административной реформы своего государства.
Король-солдат взял лебединое перо и за несколько часов написал «Государственную инструкцию» — документ, на полтора столетия определивший очертания внутренней политики Пруссии. Одним, можно сказать, росчерком пера Фридрих Вильгельм ликвидировал двойственность и противоречивость государственного управления в Пруссии. Он добился этого, объединив Главный военный комиссариат и Главное финансовое управление в одном учреждении, получившем название «Генеральное управление финансами, военными делами и королевскими имуществами».[25] Вскоре оно стало называться сокращенно «Генеральное управление».[26]
Таким образом был создан, как его назвали бы сегодня, совет, или кабинет, министров, то есть высший исполнительный орган государственной власти. А поскольку Фридрих Вильгельм назначил президентом нового Генерального управления самого себя, отныне объединялись должности монарха (то есть главы государства) и премьер-министра. Благодаря этому беспрецедентному акту устранялась средневековая неразбериха в государственном управлении и закладывались основы современного централизованного государства.
Поразительный документ!
Читая «Инструкцию», трудно удержаться от аплодисментов. До чего же прочна ее идейная основа: «Единство — это сила, порядок — это эффективность!» Автор обнаруживает знакомство с мельчайшими деталями повседневной жизни государства и его подданных, глубокое понимание взаимной связи вещей. Проницательная усмешка, палка разгневанного властителя, занесенная над взяточниками и лентяями, — чего только нет в «Инструкции», отразившей личность этого удивительного человека!
«Инструкция» начинается с ругательств: старые инстанции, то есть Военный комиссариат и Финансовое управление «…до сих пор только тем и занимались, что строили козни друг другу. Как будто Военный комиссариат и Управление королевскими имуществами не служат одному и тому же королю! Военный комиссариат на мои деньги содержит правоведов и адвокатов для ссор с Управлением королевскими имуществами, то есть со мной. И наоборот, Управление королевскими имуществами платит из моего кармана адвокатам для войны с Военным комиссариатом, то есть со мной. Наверное, эти господа считают меня безответным дураком. Такое положение вещей я больше терпеть не намерен и не желаю мириться с ущербом, наносимым мне и моим подданным. Я долго колебался и спрашивал совета у Господа и наконец пришел к решению: ликвидировать обе инстанции».
Далее следует подробное описание Генерального управления, с января 1723 г. становящегося высшим правительственным органом Королевства Пруссия. Отныне оно ведало всеми финансовыми и внутренними делами государства, включая хозяйственное обеспечение армии. Генеральное управление состояло из четырех провинциальных департаментов с министрами во главе; при каждом министре учреждались три-четыре должности советников. В ведении первого департамента под началом генерал-лейтенанта Грумбкова находились провинции Восточная Пруссия, Померания и Неймарк. Второй департамент (начальник — действительный тайный советник Краут) отвечал за положение дел в Марке Бранденбург, Магдебурге и Хальберштадте. Третьим руководил министр Гёрне (рейнские области), а в ведении четвертого департамента под началом тайного советника по вопросам финансов Кройца находились вестфальские земли. Территориальное деление было дополнено ведомственным разграничением: первый департамент отвечал за охрану границ и размежевание земель, второй ведал делами армии, третий занимался почтой и монетным делом, а четвертому департаменту, возглавлявшемуся безупречным Кройцем, поручались вопросы финансов. Согласно распоряжению короля, исправление дел в Генеральном управлении происходило коллегиально. Ни в коем случае департаменты не должны были жить собственной, замкнутой жизнью — ведь это чревато возобновлением межведомственных интриг и новым расцветом «профессионального идиотизма» прежних времен. Все доклады делались департаментами совместно — так в Генеральном управлении поддерживалось объективное представление о состоянии дел. Министры и советники, согласно решению короля, должны работать в тандеме и принимать совместные решения. Когда добиться единства мнений не удавалось, решение принимал президент Генерального управления, то есть сам король.
Вот таким новое государственное устройство выглядело на бумаге. Важнейшие решения по персоналу король сделал: министров, Грумбкова, Краута, Гёрне и Кройца, он знал давно. Господин фон Кач назначался вице-президентом Генерального управления; кроме того, ему было поручено управление вопросами юстиции. Стоп! Очень важно, чтобы на службу в провинциальные палаты нанимались чиновники не из местных жителей: семейственность и кумовство надо пресекать с самого начала. И вообще — не забыть бы написать в «Инструкции» — в Генеральном управлении и его провинциальных палатах должны служить исключительно специалисты высочайшей квалификации. На новые должности следует назначать только самых знающих людей, «которых надо искать везде и всюду, будь они прихожане реформатских или лютеранских церквей. Они должны быть верными и честными, иметь светлые головы, знать толк в хозяйстве и иметь собственное дело, разбираться в коммерции, мануфактурах и тому подобных вещах; одним словом, это должны быть люди, способные разобраться в любом порученном им деле».
Так, с главным покончено. Теперь — к деталям, ведь они всегда важнее главного. Заседания Генерального управления будут проходить четыре раза в неделю: по понедельникам, средами, четвергам и пятницам. Начало заседаний летом в семь утра, зимой — в восемь. Место заседаний — зал в берлинском дворце. Каждый из четырех министров в один из этих четырех дней недели будет делать доклад о состоянии дел, находящихся в ведении его департамента. Таким образом, положение в каждой провинции и в каждой отрасли хозяйственной и государственной жизни будет обсуждаться по крайней мере один раз в неделю. До двух часов дня все текущие дела должны быть окончены; если нет, работу продолжить до шести вечера. В два часа пополудни дворцовая кухня предложит господам министрам и советникам «обед из четырех блюд, включая вино и пиво». (Сын, Фридрих Великий, взойдя на трон, отменил этот распорядок: «Если министры прилежны, до двух они должны управиться! Если же они будут болтать и читать газеты, то не закончат свои дела никогда».) Король-солдат добавил: если господа министры полагают, что не успеют сделать свою работу в отведенное время, «пусть думают тогда сами, как они будут с ней справляться. Мы же со всей ответственностью повелеваем им работать без заумных разговоров».
Фридрих Вильгельм нахмурился. К чему создавать новое учреждение, если чиновники будут по-старому халатно относиться к своим обязанностям? И он добавил: министр либо советник, опоздавший на час, должен заплатить сто дукатов штрафа. Пропустивший заседание без разрешения короля не получит жалованье в течение шести месяцев, будь он министр или советник. «Мы платим вам за работу!» — злорадно приписал король. Далее: вторники и субботы существуют не для того, чтобы бить баклуши, а чтобы составлять дома декреты на основе решений, принятых в Генеральном управлении. Для переписывания этих бумаг набело и их доставки в распоряжение министров поступают четыре писаря и восемь канцеляристов; одного канцеляриста господин фон Кач получит дополнительно.
Так, с организацией и с должностями все ясно. Теперь — к основной идее. Порядок, бережливость и добросовестность должны стать краеугольными камнями нового правительственного органа. Фридрих Вильгельм продолжил писать: «Всем, что делается напоказ, следует пренебречь отныне и навсегда!» Это означало: все силы чиновники должны отдавать насущным вопросам, то есть работать на благо государства, но не ради личного или ведомственного тщеславия. Коль скоро почтенные господа станут вести себя именно так, «дел у них будет предостаточно. И желания поразвлечься тяжбами друг против друга у них не возникнет». Немного подумав, король ухмыльнулся и добавил: «Ах да, бедненькие юристы! При новых порядках они будут нужны так же, как пятое колесо в телеге».
Отлично! Вот это они поймут. Еще глоток пива — и едем дальше. Для каждого ведомства, писал король, устанавливается годовой бюджет. Важная роль будет отводиться его соблюдению. Четыре раза в год, через тридцать дней по окончании каждого квартала, все статьи будут проверяться министрами департаментов, вице-президентом фон Качем и Главной счетной палатой, а затем подаваться на высочайшее утверждение. Скрыть убытки не удастся: все данные должны быть представлены верно и надлежащим образом. «Мы не желаем иметь при себе подхалимов, уверяющих Нас, что дела в стране идут отлично! Не следует от Нас ничего утаивать или являться к Нам с неправдой. Мы — господин страны и король и вольны делать все, что пожелаем».
Достаточно. Господа советники и министры должны усвоить твердо: в его стране параллельное правительство невозможно. Теперь самое главное: задачей Генерального управления должна, безусловно, стать политика меркантилизма, то есть необходимо задействовать все экономические силы страны для усиления государственной власти. На практике это означало: 1) поддержку со стороны государства внешней торговли для сохранения активного торгового баланса; 2) поощрение государством процесса индустриализации (то есть мануфактурного производства); 3) инициативы государства по расширению торговли и развитию транспорта в Пруссии.
Фридрих Вильгельм бегло просмотрел написанное. Все же недостаточно ясно: отсутствуют детали! И король пишет дальше: деньги, этот «нерв вещей» национальной экономики, непременно должны оставаться в стране. Поэтому следует привлекать как можно больше иностранных денег. Вывозить за границу сырье, а потом ввозить оттуда за безумные деньги сделанные из того же сырья товары — вот глупость! Просто преступление! Тот, кто будет вывозить, например, необработанную прусскую шерсть, должен подвергаться огромному штрафу. Никакой шерсти — только готовое сукно! А постоянные указания на то, что всю шерсть обработать в собственной стране невозможно, — пустая болтовня. Господам министрам следует позаботиться о том, чтобы в Пруссию приехало как можно больше иностранных суконщиков. Он, Фридрих Вильгельм, оплатит их переселение и на свои деньги купит им ткацкие станки. Речь идет об экономической независимости государства. Только так Пруссия и сможет двигаться вперед. И вообще, при оценке каждого нового проекта впредь следует задаваться вопросами: а) «сколько это стоит?» и б) «что это даст?» Только на то, что сулит верную прибыль, и следует обращать внимание. Все остальное избыточно и вредно; все остальное — блажь.
Ну, теперь-то сказано все, до точки. И все же король добавляет, еще раз напоминая о буковой палке: «Всем верным и послушным слугам своим Мы обещаем Нашу милость. Те же, кто не будет в точности исполнять „Инструкцию“, но попробует работать по-старому, могут быть уверены, что они не смогут рассчитывать на Нашу благосклонность. За свое упрямство они будут наказаны по-русски». Король ухмыльнулся. Как царь Петр обращается со своими приближенными, знают все. Вот пускай эти господа и задумаются.
Король встал, выпрямился, потянулся. Пространная «Инструкция» наконец написана и лежит перед ним на столе. Он позвал адъютанта и распорядился приготовиться к отъезду назавтра. Через два дня, в сочельник, он должен быть с семьей в Потсдаме. А после праздников надо будет вместе с секретарем Тулемайером уехать из Берлина. Король собирался продиктовать ему «Инструкцию», так же, как и написал ее, — в один присест.
До 21 января 1723 г. содержание «Инструкции» держалось в секрете. Утром следующего дня министры и советники собрались в берлинском дворце. В присутствии короля «Инструкцию» вслух прочитал министр Ильген (он отвечал за иностранные дела, и его ведомство не входило в Генеральное управление). Затем король, а вслед за ним и вновь назначенные министры перешли в зал для аудиенций. Там все должны были поклясться королю в том, что они будут «служить на пользу Его Величества, заботиться о Его доходах и о благе Его подданных настолько, насколько позволяют человеческие возможности, и будут предотвращать все, способное этому повредить».
Затем Генеральное управление сразу же приступило к работе в отведенном для этого зале. (В нем оно работало в течение тридцати шести лет, до самой смерти Фридриха Великого.) Король-солдат присутствовал на собрании собственной персоной. Чтобы его дух и воля присутствовали здесь всегда, он распорядился повесить в зале свой портрет в полный рост. На портрете король указывал маршальским жезлом на статую Справедливости с весами в руках. Одну из чаш весов украшала надпись «Военная касса». Другую — «Королевская касса».
Новая правительственная структура Пруссии была создана. Генеральное управление взяло власть в свои руки. Политика централизма одерживала все новые победы. Маленькая, отсталая Пруссия, население которой в 1723 г. едва ли составляло два миллиона человек, в течение двух веков стала одним из сильнейших государств мира. И одной из важнейших причин тому явилась, несомненно, та самая «Инструкция», написанная королем-солдатом 20 декабря 1722 г. В мгновение ока она превратила страну в современное европейское государство. И более того: триумф капитала, особенно в Англии, Голландии, Северной Америке, вел лишь к обогащению господствующих слоев населения, способствуя в конечном счете развитию империализма и колониализма. В то время как «государственный социализм» Фридриха Вильгельма I создавал все условия для превращения Пруссии (а затем и Германии) через двести лет в безупречно организованное, главное «социальное государство» в мире.
Конечно, в 1723 г. речь об этом еще не шла. Освобождение аграрной Пруссии от пут Средневековья начиналось с великих трудностей. Королевская воля, изложенная в форме «Инструкции», погоды еще не делала. Со скрипом работал даже центральный аппарат. Провинциальные палаты, управляющие доменами и заботящиеся о сельскохозяйственных интересах, продолжали отстаивать практику свободной торговли. Помещики хотели по-прежнему продавать за границу хлеб, скот, лес. Напротив, государственные ведомства, отвечавшие за развитие городов и гарнизонов, поощряли рост промыслов и мануфактур, с помощью таможенных и торговых пошлин проводили политику меркантилизма, действуя против вывоза зерна или шерсти. Интересы государства требовали экспорта готовой продукции, от сукна до штыков и украшений, производство которых умножало рабочие места и увеличивало оборот средств и товаров. Но это вело к конкуренции, а не к тяжбам. И прусская экономика выполняла требования Генерального управления, как прусская армия — приказы своего короля.
Итак, реформа управленческого аппарата завершилась. Современная государственная машина была в Пруссии создана. А что же «базис»? Как на это отреагировал народ? С начала XI столетия во всех христианских странах Запада господствовала так называемая «доктрина трех сословий». Независимо от того, как называлась страна и какая в ней была форма правления, общество везде разделялось на три «сословия» (социологический термин «класс» тогда еще не был известен). Существовали сословие священников, дворянство и «третье сословие», трудящихся, то есть ремесленники, крестьяне, поденщики, крепостные и т. д.: «tu ora, tu protege, tuque labora» — «ты молишься, ты защищаешь, а ты работаешь». Это разделение, основанное на догмах христианской церкви и освященное ею, веками держало людей в том же кастовом обществе, что и сегодня сохраняется в Индии. Религиозные расколы и войны XVI и XVII веков в конечном счете закрепили сословие клерикалов на второй ступени, тогда как дворянство, воодушевленное секуляризацией общества, поднялось на вершину общественной пирамиды. Попытки горожан выйти из «третьего сословия», освободиться от иерархической общности с крестьянами были успешны лишь там, где удавалось собрать и капитал, и колонии: в Англии, Голландии, в Париже. В других же местах и горожане, и крестьяне оставались «нижним сословием». К началу XVIII века доктрина «трех сословий» еще считалась отражением естественного порядка вещей.
В Бранденбурге-Пруссии после победы Реформации сословие клерикалов не могло выполнять свои функции по-прежнему. По сути, священники и реформатского, и лютеранского вероисповеданий превратились в церковных служащих короны, короля, государства. Они властвовали совестью и душами подданных в церкви и, до некоторой степени, в школах. Но самостоятельную общественную силу они собой уже не представляли.
Прусское дворянство и юридически, и фактически представляло собой господствующий класс, дравшийся за свои исконные привилегии, что называется, и зубами, и когтями. Эдиктом от 5 января 1717 г. об «аллодификации» юнкерских ленных поместий король-солдат, как мы уже знаем, подорвал систему дворянских привилегий (посягнув прежде всего на свободу дворян от уплаты налогов).
Мы уже знаем, как использовал король метод «разделяй и властвуй», для того чтобы пресечь юнкерское сопротивление, как предусмотрителен он был, апеллируя к сословным представительствам в провинциях. Он был вынужден не действовать напролом, а ходить обходными путями. И все же юнкеры возмутились, завалили короля жалобами. На Фридриха Вильгельма они не подействовали. 17 апреля 1717 г. он обложил ежегодным налогом в сорок талеров каждую верховую лошадь — в масштабах королевства он оказался значительным «плюсом» для государственной казны.
В большинстве провинций юнкеры смирились с судьбой, но в Восточной Пруссии и в Магдебурге были случаи открытого недовольства. Магдебургское дворянство упрямо противилось введению нового налога и даже обратилось за помощью в Вену. Откуда пришло решение: освободить дворянство от налогов. Когда Фридрих Вильгельм проигнорировал мнение Вены, некоторые имперские княжества привели войска в состояние боевой готовности: непокорного «курфюрста Бранденбургского» пора было вразумлять. Король-солдат, вне себя от ярости, писал графу Зекендорфу:
«Швабские, франконские и нижнерейнские земли, то есть почти вся империя, призывают к войне со мной. И это из-за несчастных сорока талеров за лошадь! Меня лишают уважения подданных, выставляя прямо-таки проституткой! Прошу господина графа решить самому: можно поступить со мной более жестоко, если бы я организовал заговор и решил предать империю?»
Давлению юнкеров король все же не поддался, и магдебургским дворянам пришлось смириться. Но упрямые помещики Восточной Пруссии оставлять позиции так быстро не собирались. Пятнадцать лет, до 1732 г., продолжалось их сопротивление. И всегда там, где король встречал открытое противодействие, он ужесточал меры. Так, в 1730 г. он обложил дворянские поместья в Восточной Пруссии твердым налогом. Настала очередь ответа со стороны «голубой крови». И ландмаршал граф цу Дона ответил письмом, где говорилось о «губительной, в высшей степени вредной и расточительной политике, ведущей страну к разрухе». Это была самая настоящая провокация! Дона использовал французскую фразу «tout le pays sera ruiné».[27] И высокомерный дворянин получил от короля письмо-пощечину. Гневно и одновременно иронично писал ему Фридрих Вильгельм: «Tout le pays sera ruiné? Nichil kredo,[28] но я kredo:[29] к разрухе приведет авторитет[30] юнкеров! А мой суверенитет будет утвержден, как бронзовая скала».[31]
Ничто из сказанного или написанного королем-солдатом не получило такую известность, как эта фраза, являвшаяся самым дерзким вызовом, когда-либо полученным дворянством. И юнкеры его никогда не забывали, тем более что им пришлось подчиниться. Даже сто двадцать лет спустя юнкер Отто фон Бисмарк злился на короля-солдата, «донимавшего» дворянство.
Тем не менее все, чему Фридрих Вильгельм подверг первое сословие своего государства, — лишь посягательства на свободу дворян от уплаты налогов и принуждение их к офицерской службе. Этим королю пришлось удовлетвориться, дабы не перегнуть палку и не сорвать реформы из-за смертельной вражды с аристократией. Мы помним, как он лил бальзам на раны дворян, выдавая офицерскую службу в армии за привилегии. Жестокую эксплуатацию дворянством крестьян король-солдат осуждал весьма строго, но тут он был бессилен. Здесь у него свободы действий практически не оставалось.
Крестьяне являлись самым бедным и угнетенным сословием в тогдашних странах Европы. Их, собственно, и не считали людьми, обращаясь как с бесправными чернокожими рабами. В Германии к ним относились не лучше, чем во Франции, Англии, Испании или в Польше; разве только в Швеции, Дании и в Голландской республике условия их существования хоть как-то походили на человеческие. В «Священной Римской империи германской нации» после Крестьянской войны 1525–1526 гг. положение крестьян несколько различалось в зависимости от княжеств, в которых они жили. На юге Германии, от Швабии до Тироля, вследствие революционных восстаний, несмотря на их кровавое подавление, крестьяне добились некоторых прав и независимости. Напротив, в Восточной Германии (особенно в Мекленбурге, Померании и Восточной Пруссии) за последующие двести лет положение крестьян значительно ухудшилось. Юнкеры были спокойны насчет презираемых ими крестьян: никогда больше те уже не взбесятся. Сегодня просто невозможно представить, что тогда приходилось выносить крестьянам. На полях помещика они трудились от зари до зари шесть дней в неделю, за исключением воскресений. Надсмотрщики оскорбляли крестьян и били их, будь то мужчина, женщина или ребенок. Непомерная барщина и налоги держали крестьян почти в нищете. Им приходилось платить за все: за хлеб, свиней, кур, яйца, мед, лен и домотканые холсты. (Лошадьми и коровами тогда владели в основном помещики.) Всю неделю возделывали они господские поля, ловили для помещика рыбу, шли для него на охоту, валили лес, ухаживали за лошадьми, кормили и доили коров, чистили хозяевам сапоги, исполняли их поручения и т. д. Кто роптал, тот попадал в тюрьму или в пыточный застенок; опоздавших на барщину били палками и кнутами.
У несчастных почти не оставалось времени, чтобы обработать собственный клочок земли и покормить домашнюю птицу. Они надрывались во все дни. Крепостные, ютившиеся в хижинах, могли утолить голод лишь водой, сухарями и кашей да изредка селедкой. Недоедание сельских жителей было тогда типичным явлением. Узкогрудые, кривобокие, золотушные фигуры шатались по деревенским улицам; маленькие, сутулые, истощенные люди жили в деревнях. Потому-то «верзилы» и стали навязчивой идеей короля-солдата: он насмотрелся на своих крестьян и решил «разводить» новую породу хорошо откормленных, крупных людей, ни в чем не похожих на нынешних сельских жителей.
Другие сословия презирали крестьян и смеялись над ними. Выражение «глупый крестьянин» являлось устойчивым словосочетанием для обозначения последней степени ничтожества. При всех августейших дворах, от Ганновера до Дрездена, считалось принятым «приглашать» на праздники крестьянскую супружескую пару. Господа сидели за столом и смотрели на крестьян, которые должны были драться, обливать друг друга водой и гоняться друг за другом, в то время как «утонченное» придворное общество помирало со смеху. И каждый человек считал такую дискриминацию нормальной, исконной. Ни одно правительство во всей Европе не брало на себя обязанности перед вымирающим крестьянством. Даже горожане кривились, встречая грязного, неграмотного крестьянина, мявшего в руке шляпу, глупо улыбавшегося и что-то невнятно бормотавшего. Монархи, дворяне, священники, как и горожане, видели в крестьянах дегенератов.
Самое ужасное, что и сами крестьяне видели себя такими. Многовековое угнетение, свою темноту они считали неизменными и данными от Бога. И священники благочестивыми проповедями укрепляли в крестьянах это мнение, направляя их надежды и чаяния к загробному миру. И бедный, забитый человек бывал счастлив, когда милостивые господа обращались к нему с приветливым словом; он разевал рот, когда горожанин, сам ничтожество в глазах дворян, снисходительно протягивал ему руку. Крестьяне считали себя глупыми, так как не умели читать и писать; они чурались любого соприкосновения с иными сословиями; радовались жалким праздникам, когда можно было до бесчувствия напиться или предаться свальному греху. О другой жизни они просто не имели представления. Их единственным оружием в борьбе за выживание было коварство. Неспроста легенды, сказки, пословицы тех времен неизменно говорят о вероломстве, жестокости и хитрости крестьян.
Фридрих Вильгельм I родился в сословном обществе, и идея изменить это освященное веками социальное устройство не приходила ему в голову. Попытка поступить таким образом могла бы стоить королю и государства, и самой жизни. До освобождения крестьянства в стране должно было пройти еще столетие. Для кардинальных изменений тогда просто не было людей. Меньше, чем кто бы то ни было, крестьяне представляли собой индивидуумов, желающих перемен и готовых к реформам. Величайший философ и просветитель XVIII века Вольтер называл крестьянское сословие «слабоумной массой».
Короля-солдата можно назвать единственным «дружественным народу» монархом того времени, так как он ни в коем случае не намеревался терпеть бесчеловечное обращение дворянства с крестьянами. Такая позиция имела мало общего с гуманизмом и весьма много — с вопросами экономики. Та самая «крупица природного ума», здравый смысл говорил ему, что производительность честного, а тем более доставляющего радость труда гораздо выше, чем результаты подневольной работы. Что же он мог сделать, не объявляя войну дворянству и не желая расшатывать здание общественного устройства? Добиться своего он мог только окольными путями. Их было три. Военную реформу он провел с оглушительным успехом, новые правила вербовки и Кантональный регламент стали главными условиями для дальнейшего освобождения крестьянства. Школьная обязанность для сельского населения — о ней мы еще поговорим особо. И наконец реформа доменов. Доменами назывались королевские владения, состоявшие из поместий в виде хуторских хозяйств или так называемых «казенных» сел. Ни один юнкер здесь права голоса не имел, все порядки тут устанавливал хозяин — король. Речь идет о землях короны. Наряду с владениями юнкеров и свободных крестьян (прежде всего на западе Пруссии) в королевстве имелась и третья форма земельной собственности.
Решение Фридриха Вильгельма I официально объявить о неотчуждаемости доменов имело далеко идущие последствия. В соседних государствах, прежде всего в Польше и в Прибалтике, дворянам удалось присвоить почти все земли короны (государственные), и это привело к катастрофическим последствиям для крестьянства. Фридрих Вильгельм пресек подобную тенденцию в Пруссии и одновременно пошел в контрнаступление. Нет, он не наложил запрет на продажу каждого клочка земли, входящей в домены. Он сам начал скупать юнкерские земли. Уже в 1717 и 1718 гг. он приобрел дворянских поместий, обремененных долгами, на 600 тысяч талеров. С юнкерами король вел себя сурово и не признавал в этом отношении никаких компромиссов. Считал он хорошо, а в денежных делах принципиально никого не слушал. В 1740 г., к концу правления Фридриха Вильгельма, почти 35 процентов сельскохозяйственных земель Пруссии входили в домены.
Это была его победа, победа для крестьян и батраков. Потому что в доменах не царил юнкерский произвол. Землевладелец, то есть король, сам заботился здесь о каждой мелочи, вмешивался во все хозяйственные вопросы и с подозрением относился к управляющим. В 1716 г. он повсюду отменил арендную плату, введя вместо нее на шесть лет повременную. Так он получил возможность избавиться от нерадивых, ленивых, вороватых или жестоких управляющих и подобрать на их места лучших кандидатов. 4 апреля 1718 г. этот «король-садист» издал так называемый «Палочный мандат», строго-настрого запрещавший всем помещикам и управляющим Пруссии бить крестьян (распоряжение Фридриха Вильгельма не распространялось только на «ленивых селян» Восточной Пруссии). Юнкеров этот указ озаботил мало, но вот управляющим доменов кнуты и палки пришлось выкинуть.
Естественно, Фридрих Вильгельм хотел получать прибыль и от доменов. Он делал все для улучшения эффективности сельского хозяйства. Министр фон Гёрне, полный предпринимательского духа и практической сообразительности, с 1720 г. стал его лучшим сотрудником. Земельные участки доменов тщательно обмеряли и рассортировали по качеству. В доменах отремонтировали жилища для людей и стойла для скота; там было улучшено животноводство и удобрены поля. Для нововведений, обещавших прибыль, существовал практически неограниченный кредит из личных средств короля. Методы хозяйствования, практиковавшиеся Фридрихом Вильгельмом в своих владениях с 1715 до 1740 г., оказались исключительно успешными. Достаточно обратить внимание на то, что за это время доходы доменов увеличились с неполных двух до 4,5 миллиона талеров, составив львиную долю государственного бюджета.
Но было бы ошибкой видеть лишь экономические выгоды, получаемые королем от доменов. Здесь проводилась конкретная социальная политика. Не имея возможности привести юнкеров к благоразумию, он добился в хозяйствах доменов того, что половина всех несамостоятельных крестьян Пруссии к концу его правления была освобождена от телесных наказаний. Величайшая ирония судьбы: «драчливый король» освободил крестьян от побоев! Окружной глава или управляющий, стяжавший среди крестьян славу «живодера», не мог надеяться на продление королем его аренды. Везде, где только было можно, король перевел унизительную форму крепостной зависимости, обычную для Восточной Пруссии и Померании, в полусвободное «потомственное подданство», получившее распространение в Марке Бранденбург. Это произошло согласно патенту от 10 июля 1719 г. Подобное освобождение коснулось не только крестьян в доменах по всему государству, но и крепостных Восточной Пруссии. С этого дня Королевство Пруссия, за исключением отсталой Восточной Померании, стало свободно от крепостного права. В доменах барщина постепенно сократилась с шести до трех дней в неделю. Да, король ввел освобождение от барщины в обмен на низкий денежный оброк. Словом, король-солдат разумной социальной политикой под девизом «сохранение крестьянства» разрушил средневековые общественные структуры и воздвиг первую дамбу, защитившую крестьянство от классового эгоизма дворян.
Бюргеры, жители городов, так же как и крестьяне, считались «третьим сословием», то есть низшим общественным классом. Дело в действительности обстояло не так. С незапамятных времен бюргерство само разделилось на два класса: имущие и неимущие. Как и повсюду в империи, да и в Англии и Голландии, прусские города управлялись олигархами. В каждом городе существовало сообщество зажиточных людей, «патрициев», «городской знати». Веками, из рода в род, через близкородственные браки они делили между собой власть и богатство. Плебейским массам оставалось только молчать и терпеть. Патриции видели в городской власти не обязательное исполнение обязанностей, а источник личных доходов. Они распределяли их между собой, занимали лучшие дома, присваивали лучшие земельные участки или городские рощи, устраивали праздники за счет городской казны и притесняли простых горожан, прежде всего пролетариат. Городская знать паразитировала и господствовала подобно дворянству.
Но в отличие от юнкерства ведущие клики патрициев король-солдат мог не принимать во внимание. Имущие бюргеры освобождались от военной службы и армейскими офицерами стать не могли. На этот счет можно было не беспокоиться. Вопиющая бесхозяйственность старой «городской знати» проявилась в том, что почти все прусские города к моменту восшествия Фридриха Вильгельма I на престол безнадежно погрязли в долгах. Король немедленно назначил следственные комиссии для отдельных провинций, рассмотревшие и урегулировавшие задолженность городов. В большинстве случаев это были смешанные комиссии из штатских чиновников и офицеров, долго не церемонившихся. И вскоре в Пруссии уже не было задолжавших городских коммун. Но вместе с тем коммуны утратили самостоятельность и стали составными частями централизованного государственного аппарата. Место старинных огромных советов городской знати заняли маленькие магистраты, куда входили назначавшиеся королем чиновники с твердыми окладами.
Так, шаг за шагом города подчинились государству. Теперь им приходилось выполнять указания Генерального управления. Каждый сельский округ представлял ландрат — хотя его все еще выбирали от сословий, постепенно он превращался в исполнительный орган государственного аппарата. Но города находились под надзором налогового советника, являющегося всегда чиновником короля. Налоговый советник контролировал от шести до двенадцати (маленьких) городов. Часто это был бывший полковой квартирмейстер или аудитор, то есть откомандированный офицер. Для делопроизводства и ведения счетов ему в помощь придавался квалифицированный окружной калькулятор; кроме того, налогового советника сопровождал верховой полицай-инспектор. Так они и ездили по округе втроем, согласно приказу короля: каждый город следовало инспектировать по крайней мере дважды в год. Когда это трио оказывалось у городских ворот, в магистрате начинался большой переполох, а бедные горожане обступали карету налогового советника со своими жалобами и прошениями. О коммунальном самоуправлении скоро уже не было и речи (и так прошло столетие, пока городская реформа барона фон Штейна не изменила это положение коренным образом). От заносчивого бюргерского сознания не осталось и следа. Всем управляло всемогущее централизованное государство. Кругозор бюргеров не простирался за пределы городских окрестностей, они замыкались в своих мелочных заботах. И так было всегда. Разве не деградировали духовно и материально сообщества патрициев, из поколений в поколения все теснее замыкавшиеся в себе? А сейчас начался экономический подъем, города расширялись, их население увеличивалось, а промышленность делала все новые успехи, налоговые поступления удваивались. Но прежде всего в городах смягчалась вопиющая социальная несправедливость, уровень жизни горожан выравнивался принудительно, сверху. Впервые за многие века появилась инстанция — а именно, государство, — взявшая на себя заботу о нуждах маленьких людей. Мы располагаем списками налогового советника Рейнхардта, по поручению короля заполнявшего анкеты и составлявшего социальную статистику в современном значении этого термина. Среди прочих задавались следующие вопросы: число членов семьи, их возраст, состояние здоровья и конфессиональная принадлежность; число детей и их возможности получить образование; состояние домашней утвари, одежды и мебели; уровень доходов, обязанности и долги; размеры жилой площади и возможность установить ткацкий станок за счет государства; пьет ли муж, бьет ли он жену и дерется ли с соседями; изменяет ли мужу жена; представляет ли собой эта семья пьяный сброд или это порядочные люди; оценка уровня умственного развития детей; возможности социального развития семьи по получении ею государственного беспроцентного займа, и так далее…
Король хотел знать все, причем в деталях. Только так он и мог оказать конкретную помощь подданным. История социальной политики не знает аналогов такой объединенной экономико-педагогической стратегии.
Фридрих Вильгельм I являлся сыном своего времени. Он и помыслить не мог о разрушении сложившейся за тысячелетие пирамиды социального устройства. Оно явно соответствовало Божьей воле: дворяне служат чиновниками и офицерами, горожане занимаются торговлей и ремеслами, крестьяне обрабатывают землю и ухаживают за скотиной. Таких общественно-политических принципов король придерживался твердо.
Это с одной стороны. С другой же — что было новшеством революционного масштаба, — к сословному делению общества Фридрих Вильгельм относился как государственник и централист, то есть с иронией и презрением. «Я считаю подлецом того, кто называет себя бароном», — рычал он на дворян. По его мнению, юнкеры лишь тогда имели право на привилегии, когда хотели трансформировать сословное сознание в сознание государственное и стать кадровой элитой государства. Местнические страсти, возня вокруг привилегий и титулов всю жизнь действовали ему на нервы. Король использовал сословное чванство социальной верхушки для пополнения рекрутенкассы, от всей души презирал дворян и доказал это, когда торжественно присвоил титул барона придворному шуту, часто получавшему от него пинки. Когда барон из округа Клеве пожаловался ему на регирунгсрата Пабста, ставшего дворянином совсем недавно и хотевшего сесть в церкви впереди него, Фридрих Вильгельм ответил: «Это идиотизм! В Берлине нет рангов, и в Клеве их не должно быть тоже. Когда господин фон Пабст садится в церкви впереди меня, я остаюсь на месте». Невозможно ответить лучше на подобную глупость. Эти мерзавцы должны были работать, исполнять свой долг там, куда их поставили. В Пруссии не было «рангов», за исключением короля — да и тот всего лишь наместник Бога на земле.
Юнкеры, чью власть он грозился разрушить за непослушание, были вынуждены присмиреть. Для них зарезервировали весь офицерский корпус, и Фридрих Вильгельм не выдал офицерского патента ни одному бюргеру. Напротив, его министры и главные чиновники в большинстве своем были бюргерского происхождения. Наибольшую известность среди них получили Ильген, Кройц и Краут — Фридрих Вильгельм всегда мог положиться на их добросовестность и профессионализм. Он и сам любил поговорить с бюргерами, крестьянами и солдатами, с «простыми людьми». Бывали времена, когда он каждый вечер приглашал к себе во дворец потсдамского или берлинского бюргера выпить с ним добрый кубок пива да выкурить трубку. Все дома у короля было «по-голландски»: чисто, просторно, добротно. Король не вел заумных разговоров, не обсуждал парижские новшества, а беседовал с гостем о сельском или городском хозяйстве, о доходах, о супружеских и семейных делах. Ему такие беседы нравились, и он делал что хотел. Каждому сословию — свое место, а все вместе тянут один воз: Пруссию, государство.
Разделение общества XVIII века на касты такими поступками отменить было нельзя. И все же король-солдат — умышленно он это делал или невольно — вел общество к равенству, когда требовал, угрожая палкой, неустанной и добросовестной работы. Его подданные носили разные одежды: одни ходили в шелках и бархате, другие — в лохмотьях; ни о какой общенациональной солидарности разных классов не могло быть и речи. Но, работая на короля Пруссии и государство, все они были равны.
Говоря об эпохе абсолютизма, историки используют термин «самодержавие». Фридрих Вильгельм I действительно довел самодержавную форму правления до высшей степени развития. Пруссия выглядела тогда так: правительство, Генеральное управление, находилось в Берлине и работало так, что только щепки летели. Обо всем, о самой последней мелочи, докладывали королю, обычно находившемуся в Потсдаме или в Вустерхаузене. Там он все решал самостоятельно и отдавал секретарю распоряжения готовить указы, разлетавшиеся затем по всей стране, как гром и молнии. Для всех король стал образцом усердия и эталоном рабочего ритма. А «внизу» все было в постоянном движении: министры говорили, офицеры муштровали, солдаты брали «на караул», бюргеры производили товары, а крестьяне работали на полях и в стойлах. Все государство двигалось, как батальон на парадном плацу.
В Пруссии Фридриха Вильгельма царил чистейшей воды государственный патриархат. Вперед страну двигали приказ и послушание, надзор и порядок, прилежание и работа. Но только вперед. Прусское социальное государство, дружественная народу рабочая монархия Фридриха Вильгельма I маршировала по пути исторического прогресса: по плану, точно, упрямо и непреклонно, из дотлевавшего Средневековья в буржуазно-индустриальное будущее. Просветительские реформы Фридриха Великого, социальные реформы Штейна-Гарденберга, экономическое чудо кайзеровской Германии не состоялись бы без этой операции в начале XVIII века.
И все это явилось делом рук одного человека, короля-солдата, названного умным, прогрессивным президентом-реформатором Шёном сто лет спустя «величайшим королем Пруссии».
Маскарад
«По сравнению со старыми монархами я всего лишь неопытный новичок, — сказал Фридрих Вильгельм, только что ставший королем, советнику по внешнеполитическим вопросам Ильгену, — в дипломатии я не смыслю ничего». Ильгену следовало бы тут же выразить свое несогласие. В конце концов он был тайным советником еще у Великого курфюрста и лучше, чем кто бы то ни было, знал, что нерешительность и осторожность во внешней политике до добра не доводят. И все же старый чиновник осторожно промолчал. Возможно, впрочем, он был и рад невмешательству молодого короля в свои дела. Фридрих Вильгельм принял его молчание за согласие.
Вскоре после этого через Берлин проезжал царь Петр. Он предложил заключить с Пруссией союз. Ему была нужна помощь в непрерывной войне со шведами за господство на Балтике. Фридрих Вильгельм от предложения уклонился: чтобы привести в порядок финансы государства, ему требовался по меньшей мере год, лишь после этого он мог браться за другие дела. Положение сложилось весьма затруднительное: прусский король не знал, как поступить. Он симпатизировал и Петру I, своему другу и властителю всемогущей России, и Карлу XII, юному королю Швеции, чей военный гений поражал Европу. Исход колебаний определила неуверенность Фридриха Вильгельма в своих силах на поле дипломатии и внешней политики. В финансах и солдатах, в сельском хозяйстве и в мануфактурах он кое-что понимал. Но политические интриги, деликатно называемые «концертом власти», оставались для него тайной за семью печатями и предметом отвращения. Разве не носили маски все дипломаты и послы, вечно улыбающиеся лицемеры и обманщики, умеющие виртуозно лгать? О нет, это был не его мир. И Фридрих Вильгельм решил занять в международной политике позицию выжидающего наблюдателя.
Правда, ничего другого ему, пожалуй, и не оставалось. Великие европейские державы — Англия, Франция и дом Габсбургов — уже двадцать пять лет, со дня смерти Великого курфюрста, не принимали Берлин во внимание. В конечном счете в Пруссии видели лишь второстепенное государство, которое в случае конфликта могло прислать вспомогательные силы той или другой стороне, но собственные интересы отстаивать не привыкло. Пруссия не занимала в политике больше места, чем какое-нибудь государство-сателлит. Так и оказалось на практике, когда в апреле 1713 г., через два месяца по восшествии Фридриха Вильгельма на трон, был заключен Утрехтский мир.
Начиная с 1701 г. Война за испанское наследство, в которой Англия, Голландия и «Священная Римская империя германской нации» противостояли гегемонизму Людовика XIV, держала Европу в напряжении. Теперь силы Франции иссякли. За 50 лет правления прославленного «короля-солнца» ее население уменьшилось с 21 до 18 миллионов человек, а государственный долг составлял восемнадцать ее годовых бюджетов. Изнуренная войной Франция заключила мир с Англией, Голландией и Пруссией, тогда как войну с Габсбургами она кое-как вела еще один год, до заключения Раштаттского мира в марте 1714 г. Из войны, продолжавшейся тринадцать лет, германский рейх вышел с пустыми руками: Эльзас и имперский город Страсбург, аннексированный Францией 30 лет назад, остались под властью французов. А что же Пруссия? Фридрих Вильгельм мог радоваться уже тому, что по крайней мере при заключении мира статус Пруссии как королевства был наконец признан Францией. Сами переговоры о мире ясно показали, как мало великие державы, преследующие империалистические интересы, обращают внимания на такие «средние» государства, как Пруссия, Дания или Португалия. (Статью договора о мире между Францией и Пруссией написал британский посол лорд Стаффорд.)
Если на западе Европы доминировали Англия, Франция и Австрия, то на северо-востоке континента политику определяли такие великие державы, как Россия, Швеция и Польша-Саксония. В этом регионе с начала столетия тоже полыхал военный конфликт, называвшийся в придворных канцеляриях Северной войной. Швеция воевала с Россией, Дания и Польша-Саксония конфликтовали из-за господства на Балтийском море. Соединение двух крупных войн на западе и на востоке Европы в одном пожаре удалось предотвратить благодаря именно политике прусского нейтралитета, проводившейся Фридрихом I. Нейтралитет хорош тогда, когда это вооруженный нейтралитет, когда он является результатом силы и благоразумия. При Фридрихе I дело обстояло иначе: это был нейтралитет страха и слабости, платить за него приходилось очень дорого. Мы помним, как кронпринц Фридрих Вильгельм, стиснув зубы, наблюдал в 1711 году марш русских, поляков и саксонцев, беззаботно проходивших через прусскую землю (Восточную Померанию) навстречу шведам. «Пруссия выдана на милость чужих народов», — вздыхал Фридрих I в последние дни своей жизни.
В июле 1713 г., через пять месяцев правления Фридриха Вильгельма, русские пришли снова: 24 тысячи человек и еще шестьдесят тяжелых орудий с польско-саксонской обслугой. Войска шли на главный город и гавань Померании Штеттин, который с окончания Тридцатилетней войны уже 65 лет был в руках шведов. Северная война подошла почти к воротам Берлина (Штеттин и Берлин разделяют сто километров), и Фридриху Вильгельму, хотел он того или нет, теперь приходилось действовать. 6 октября 1713 г. в Шведте-на-Одере он заключил с антишведской коалицией договор. Согласно договору, прусские войска должны были немедленно разместиться в Штеттине и на землях между реками Одер и Пене с городами Деммин, Вольгаст и Анклам и в качестве нейтральной силы взять эту территорию в «секвестр» (залоговое присутствие) на то время, пока обе стороны не выведут оттуда свои вооруженные силы. На следующий день, 7 октября, прусский контингент занял Штеттин. Итак, пожар войны впервые подошел к границам Бранденбурга и Восточной Померании. Главными пунктами Шведтского соглашения, как и в каждом международном договоре, являлись секретные статьи. Согласно им, Фридрих Вильгельм должен был выплатить царю Петру и Августу Саксонскому 200 тысяч талеров «осадных денег». За это обе стороны обязались на грядущих мирных переговорах оставить Пруссии взятые в «секвестр» померанские земли. В течение года Фридрих Вильгельм переписывался с шведским королем в надежде добиться мировой сделки. Но вопреки всему он твердо решил сохранить Штеттин — по сути, берлинский порт — и не отдавать устье реки Одер, жизненно важное для Пруссии. Он довел оккупационный корпус Штеттина до 15 тысяч человек и распорядился о строительстве укреплений на островах Узедом и Волин, закрывавших вход в устье Одера. К началу 1715 г. стало ясно, что вооруженного столкновения со шведами из-за Штеттина избежать не удастся.
Так через два года по восшествии на трон Фридрих Вильгельм I начал первую и единственную в своей жизни войну за интересы Пруссии. 26 апреля 1715 г. король передал одному из тайных советников следующую инструкцию:
«Во время Моего отсутствия следует осведомлять обо всем Мою жену и во всем спрашивать ее совета. Коль скоро Я тоже человек и могу быть убит, приказываю вам позаботиться о Фрице (трехлетием кронпринце. — Примеч. авт.). Бог отблагодарит вас за это. Я прокляну свою жену, если после Моей возможной смерти она не похоронит Меня под сводами дворцовой церкви (где лежали его родители и предки. — Примеч. авт.). При этом не должно устраивать торжеств и церемоний. Следует лишь построить полк и выстрелить из ружей над могилой. Я уверен, вы проследите за всем с величайшей ответственностью, за что Я навсегда, покуда жив, останусь вашим другом».
Через два дня Фридрих Вильгельм покинул Берлин во главе 32-тысячного войска, снабженного 150 орудиями.
В Шведте состоялся первый смотр прусской армии. Фридрих Вильгельм и князь Леопольд промчались перед фронтом ликующих войск, горевших желанием померяться силами со шведами. Все помнили, как сорок лет назад бранденбуржцы Великого курфюрста побили шведов при Фербелине. Вместе с прусским войском в параде приняли участие 20 тысяч датчан и 8 тысяч саксонцев. Английские и голландские наблюдатели были поражены блеском и «воинственной выправкой» прусских полков.
Небывалые бури и проливные дожди не дали армиям обеих сторон провести сражение летом. Лишь в ночь с 18 на 19 октября прусские войска начали осаду занятого шведами портового города Штральзунд. 90 лет назад, во время Тридцатилетней войны, великий полководец Валленштейн поклялся взять Штральзунд, даже если тот будет прикован цепями к небу. Тогда Штральзунд устоял. Казалось, история должна повториться, пока в прусской главной ставке не вспомнили, что Великий курфюрст покорил Штральзунд, заняв лежащий перед его портом остров Рюген. Маневр совершили снова. 15 ноября, пока половина армии отвлекала внимание противника, отрывая окопы в предместье Штральзунда, 20 тысяч пруссаков и датчан под командованием старого князя Леопольда и под защитой плотного тумана высадились у Штрезова на остров и немедленно начали окапываться. На следующее утро сбрасывать союзников в море явился Карл XII, самый воинственный полководец эпохи. Его сопровождали 6500 солдат с восемью пушками. Этот отряд как будто знал, что он ведет последнее сражение великой шведской державы, — шведские солдаты сражались с беспримерной храбростью. Пятнадцать часов длилось сражение. Шведский король потерял убитыми и ранеными 90 процентов своего отряда. Один датский лейтенант даже схватил за волосы Карла XII, держа его за руку. Но король выхватил пистолет, застрелил лейтенанта и в сопровождении нескольких солдат ушел к Штральзунду. Союзники взяли в плен около пятисот шведов. Остров Рюген остался в их руках.
1 декабря началась бомбардировка Штральзунда. Неделей позже прусские войска стали штурмовать передовые укрепления. В ночь с 20 на 21 декабря Карл XII со свитой из десяти человек отплыл к Швеции на своем единственном фрегате, еще остававшемся в гавани Штральзунда. Три года он продолжал войну с Данией, но на немецкую землю шведский король больше не ступал. В декабре 1718 г., при осаде норвежской крепости Фредериксхалл, 36-летняя, богатая приключениями жизнь шведского короля оборвалась, после чего Швеция навсегда выбыла из ряда великих европейских держав. Это событие имело важнейшее значение для Пруссии: ее дальнейшему развитию не мешало военно-политическое давление с севера.
22 декабря 1715 г. Штральзунд капитулировал. На второй день Рождества Фридрих Вильгельм I во главе своего войска вошел в древний ганзейский город. Но миновало четыре года, прежде чем был заключен мирный договор между Пруссией и Швецией (в январе 1720 г.). Еще через год Швеция заключила мир с Россией.
Северная война длилась двадцать лет. Но прусские войска Фридриха Вильгельма участвовали в ней всего два месяца, с октября по декабрь 1715 г., понеся при этом незначительные потери. Молодой король Пруссии, вняв советам Ильгена, под видом страха перед войной спас от нее свою страну: на прусской земле не прошло ни одного сражения. Больше всех в войне потеряла Швеция. За миллион талеров Ганновер получил от шведов Бремен и Верден. Дания осталась почти ни с чем: она получила от Стокгольма 600 тысяч талеров и могла снова взимать пошлины. Наибольший выигрыш пришелся на долю русского царя Петра I: заплатив шведам два миллиона талеров, он получил Эстонию и Ингерманландию, то есть Прибалтику. Место великой шведской державы заняла Россия.
Фридрих Вильгельм перевел в Стокгольм два миллиона талеров. В результате уже семилетнего режима экономии он с легкостью заплатил эти деньги. За них он получил Штеттин и часть Передней Померании между реками Одер и Пене, а также острова Узедом и Волин, закрывавшие вход в устье Одера. Территория, казалось бы, совсем небольшая — около 4 тысяч квадратных километров (примерно вдвое больше Саарской области), — но прусский король светился от счастья. Пятилетнее ведение войны обошлось ему в шесть с половиной миллионов талеров (в том числе четыре миллиона чисто военных расходов), но не человеческих жизней. Он осуществил несбывшуюся мечту своего предка Великого курфюрста: получить устье Одера. Штеттин действительно мог теперь быть берлинской гаванью, поскольку Шпрее и Одер связывал канал. Экономический, а не геостратегический эффект интересовал Фридриха Вильгельма. С получением Штеттина, радостно писал он во время заключения мира, «мы оказываемся у моря и получаем возможность торговли со всем миром».
24 января 1721 г. праздновался девятый день рождения прусского кронпринца. Отец обнял и поцеловал «Фрицхена», подарил ему голубую униформу и чин младшего лейтенанта прусской пехоты. На следующий день Фридрих Вильгельм в сопровождении князя Леопольда и многочисленных генералов отправился в Штеттин, главный город своей провинции Померании. В охотничьем замке Шёнебек сделали остановку; король и его свита набили в Шорфхайде пятьсот диких кабанов. После въезда в Штеттин состоялся парад городского ополчения, маршировавшего под музыку и с развернутыми знаменами перед новым властителем. Короля-солдата так воодушевил вид грубых и мужественных померанцев, что он бросился угощать их вином и пирожными. На горожан пролился дождь из золотых и серебряных памятных монет на сумму 80 000 талеров. Кульминацией торжеств стали чествования короля со стороны представителей померанских сословий. Через вновь назначенного президента фон Масова король пообещал собранию представителей уважать и защищать все их свободы, привилегии и права. Великий праздник — король каждому пожал руку. Правда, лица померанцев несколько вытянулись в конце праздника, во время торжественной проповеди. Фридрих Вильгельм лично подобрал для нее стих из Библии. И он гласил: «Бойтесь Бога, чтите царя».
Фридрих Вильгельм был безумно рад добыть померанские земли для Пруссии столь малой кровью. Король-солдат ненавидел войну. Высшим достижением короля он считал хорошо заселенную страну, где подданные «смело делают детей». В людях он видел подлинное богатство, на них основывалось настоящее благополучие государства. Но благополучие возможно лишь во времена долгого мира, а гарантировать их должна была «грозная» армия. Эти государственно-политические убеждения короля с 1708 г. подкреплялись его страхом перед Богом. Невероятная, надо сказать, позиция для монарха той эпохи, считавшей войну делом чести короля, — военной славе отдал философскую дань даже духовный лидер Просвещения Вольтер. Но Фридрих Вильгельм был твердо убежден в том, что Бог запрещает неправедные войны, что он потребует от своего наместника на земле отчет за каждого убитого в войнах. В большом завещании, составленном в январе 1722 г., король снова и снова умоляет наследника «не начинать несправедливую войну», напоминает ему об ответственности перед Богом за сохранение мира. Но такая, достойная всяческого уважения позиция Фридриха Вильгельма I во внешней политике вредила ему необычайно. Поскольку он выражал свое мнение на сей счет постоянно и везде, вскоре при европейских дворах заговорили, что бояться короля, щадящего свою страну и армию, не приходится, так как по отношению к прусскому «пацифисту» можно позволить себе почти все.
Но Фридрих Вильгельм и не претендовал на репутацию великого завоевателя. Мнение европейского окружения ничего для него не значило — в первую очередь его заботило собственное государственное хозяйство. Завоеваний надо добиваться в мирной жизни! И тем не менее король вынашивал один проект, чувствуя себя в полном праве выполнить его. Дом Гогенцоллернов имел исторически обоснованные притязания на два рейнских владения: графство Юлих в районе Аахена и герцогство Берг со столицей в Дюссельдорфе. Десятилетние попытки реализовать подобный проект растравляли — и чем дальше, тем больше — душу этого человека. Страстное желание короля присоединить рейнские владения переросло в самый настоящий психоз, и властителям европейских держав, прежде всего императору в Вене, это сильно действовало на нервы.
Германского императора Карла VI, бывшего на три года старше Фридриха Вильгельма и на два года раньше его взошедшего на трон, также терзала навязчивая идея, два десятилетия продержавшая Европу в страхе. Поскольку Карл VI не имел потомства мужского пола — в 1717 г. родилась дочь Карла VI Мария Терезия, позже знаменитая императрица, — его мучил страх, что Габсбурги, давшие миру уже шестнадцать германских императоров, после его смерти потеряют императорскую корону. Трон правителя «Священной Римской империи германской нации» не переходил по наследству. Нового императора курфюрсты германских княжеств избирали, и, согласно Золотой булле, править империей мог только мужчина. Лет десять Карл VI ломал голову над вопросом: как обеспечить императорскую корону будущему мужу своей дочери Марии Терезии, которая однажды должна была стать австрийской эрцгерцогиней и королевой Богемии, а также Венгрии? Наконец он пришел к идее «Прагматической санкции» — священного и нерушимого договора, который должны были подписать крупнейшие государства Европы. Прославленный воин императора, «победитель турок» принц Евгений пожал плечами и сказал, что лучшей гарантией исполнения «санкции» — по сути, всего лишь куска бумаги — будут полная казна и боеспособная армия. Но Карл VI упрямо стоял на своем: гарантий европейских держав габсбургской короне и дальнейшему существованию империи на все времена надо добиваться путем переговоров. Он изводил соседей требованиями признать «Прагматическую санкцию», а правительства иностранных держав только того и ждали: в один прекрасный день хлопоты императора по поводу короны доведут до большой драки и даже до распада империи.
Так начался великий дипломатический маскарад: игры вокруг «Прагматической санкции» с постоянными сменами костюмов, оговорками, заведомо невыполнимыми обещаниями и задними мыслями. Если бы подобная игра не довела до большого несчастья, задним числом она могла бы сойти за отличную комедию.
Шла эпоха договоров и постоянных вступлений в союзы. Нет, вооруженные конфликты вовсе не заменялись каторжной работой дипломатов: никогда войн не было так много, как в XVIII веке и во второй половине XX века, после 1945 г. Но изощренные дипломатические методики изобретались именно тогда. Государственные канцелярии без устали заключали договоры и расторгали их, давали согласие и нарушали слово, вступали, после долгих мелочных торгов, в союзы, но в результате интриг меняли их на другие. Высшей степенью дипломатического искусства считалось умение добиться с помощью альянсов своего и провести партнеров. Дипломатический маскарад продолжался целый век, до Французской революции 1789 г. и начала эпохи фанатичных и жестких идеологий. Монарх, не менявший союзы как перчатки, считался простофилей, набитым дураком. Коалиции непрерывно ковали, сталкивали и разводили: за карточным столом под названием «европейское равновесие» велась затейливая игра.
Все это представлялось Фридриху Вильгельму I чуждым миром, внушавшим ему досаду и страх. Король-солдат умел приказывать, считать, организовывать, а если приходилось — стучать кулаком по столу. К лицемерию, к искусному плетению интриг он совершенно не был способен. Часто находясь среди мнимых друзей, король вел себя беззлобно и открыто либо проявлял глубочайшее недоверие, если не мог понять сложные вещи или какого-нибудь пройдоху. То он поверял иностранцам факты, которые те больше ниоткуда не могли узнать, то во время переговоров, когда требовались открытость и хотя бы видимое доверие, погружался в злобное молчание. Представление о том, что политики без задних мыслей не бывает, до него никогда не доходило. Он совершал поступки спонтанно и эмоционально, в зависимости от симпатий и антипатий, по воле чувств, не понимая дипломатической стратегии. Когда ему наносил визит французский дипломат в парче, шелке и в парике с длинными локонами, элегантно расшаркиваясь перед ним и распространяя парфюмерный запах, король перемигивался со свитой, кашлял и плевался. Но если к нему неожиданно являлся представитель императора — не важно, по домашним ли делам Габсбургов он пришел или заводил речь о делах германской империи, — король крепко пожимал ему руку и дружески похлопывал его по плечу: он, Фридрих Вильгельм, был немецким монархом, человеком подлинно немецкого духа.
В высшей степени странное поведение, сильно навредившее Фридриху Вильгельму в Париже и не принесшее пользы в Вене, объяснялось его полным незнанием людей. Так он вел себя, как мы помним, еще в те времена, когда был кронпринцем. А став королем, разбираться в людях лучше не научился. Потому до самой смерти и не узнал, как плотно его окружали шпионы: все вокруг, от начальника первого департамента Генерального управления всемогущего генерала фон Грумбкова до камердинеров, придворных шутов и привратников, были подкуплены иностранцами. И даже послы при дворах иных держав находились на чужом содержании. Собственная жена короля, двое его старших детей, Вильгельмина и Фридрих, сотрудничали за его спиной с иностранными государствами. Одним словом, все происходящее при прусском дворе становилось известным загранице. Сведения о мыслях и делах Фридриха Вильгельма немедленно передавались и нагло использовались против него в международном маскараде.
Во всяком случае, король-солдат оказался в затруднительном положении, когда Карл VI со своей безумной «Прагматической санкцией» начал осаждать и его. В 1720 г. «Прагматическую санкцию» признали представители австрийских и богемских сословий, а в 1723 г. — венгерская знать. 6 декабря 1724 г. 37-летний император торжественно провозгласил «Прагматическую санкцию» вступившей в силу, а его дипломаты разлетелись по дворам разных держав с заданием склонить их к признанию этого документа. Пруссия, конечно, тоже оказалась в их числе.
И началась долгая и изнурительная борьба за перетягивание короля-солдата на свою сторону. В течение десяти лет после окончания Войны за испанское наследство расстановка сил в Европе кардинально менялась. Франция сейчас была заодно с Англией и против Австрии и Испании. Обе стороны усердно домогались союза с Пруссией. Венский император при этом требовал от Пруссии признать «Прагматическую санкцию». Франция и Англия желали, заключив союз с Пруссией, обратить его против Австрии.
Фридрих Вильгельм качался то в одну, то в другую сторону, но сделать выбор не мог. Французов, этих «щеголей» и «франтов», он не переносил. Но Англией правил его тесть Георг I; и Пруссия, и Англия были протестантскими державами. В пользу Карла VI говорило то, что он был монархом раздробленной империи немцев, а сердце короля-солдата болело за общегерманское дело. Возможно, выбор Фридриха Вильгельма смогла бы облегчить одна из сторон, поручившись за его наследственные права на Юлих и Берг. Но в Вене никто и не думал помогать «курфюрсту Бранденбургскому», и без того собравшему огромную страну, приобретать новые имперские области. А французы сами положили глаз на рейнские земли.
В конце 1724 г. разрешить эту критическую ситуацию взялась королева Софья Доротея. Тщеславная дама уже десять лет являлась также дочерью короля Англии, Шотландии и Ирландии. С тех пор ее врожденная спесь только усугубилась. Что мешает Ганноверской династии и Гогенцоллернам стать еще ближе? Тройная корона Великобритании, неисчислимые богатства, которые принес Англии флот после окончания Тридцатилетней войны, вполне отвечали притязаниям Софьи Доротеи. И чем больше она думала о блестящем союзе, тем яснее становился для нее путь к заветной Цели. Все получалось очень просто: стоило только поженить детей ее брата и ее собственных старших детей Вильгельмину и Фридриха. Кто мог всерьез этому воспротивиться? Кто при обоих дворах сможет устоять перед искушением, представляющим собой блеск четырех корон? Так в ее голове возник проект «двойной женитьбы», много лет продержавший Европу в напряжении и приведший к тяжелейшей катастрофе в жизни короля-солдата.
Большой план Софьи Доротеи состоял из следующих пунктов: а) выдать замуж дочь Вильгельмину за ее кузена, герцога Фридриха Людвига Глостерского, старшего сына английского наследника; б) женить сына Фридриха на принцессе Амалии, сестре герцога Глостерского. При удачном стечении обстоятельств Софья Доротея становилась матерью двух королевств, Англии и Пруссии.
Честолюбивая женщина пустила в ход все дипломатические средства. Она интриговала заодно с родственниками в Берлине, Ганновере и Лондоне, но за спиной мужа, весьма прохладно воспринявшего ее идею. Еще бы: то, что было для Софьи Доротеи предметом грез, в международной политике считалось вопросом чрезвычайной важности. Такого уровня династические связи между Берлином, Ганновером и Лондоном неминуемо присоединили бы Пруссию к «морским державам», то есть к союзу с Францией, и сделали бы ее противницей Австрии и Испании.
Сердце короля-солдата разрывалось. Мыслимо ли для него, немца, оказаться противником монарха «Священной Римской империи германской нации»? С другой стороны, он не мог не видеть, до какого уровня поднялся бы престиж его государства благодаря двойной связи с богатой и сильной Англией. Софья Доротея, естественно, заботилась лишь о британском величии. Однако она знала, что ее отец, король Георг I, соглашался на реализацию «свадебного проекта» только в том случае, если Англия и Пруссия предварительно заключат союз. Ее супруг, напротив, настаивал на принципе «шаг за шагом», то есть на равноправии и синхронности. Развязывать этот запутанный узел следовало очень осторожно. С помощью искушенного Ильгена Софье Доротее удалось перехитрить мужа. Во время посещения в Ганновере своего ганноверско-английского «папы» прусский король совершенно неожиданно оказался замешан в тайные переговоры между Англией и Францией, из которых не мог выйти, не рискуя огромным скандалом. И прежде чем Фридрих Вильгельм успел опомниться, он оказался третьим участником союза: 3 сентября 1725 г. в замке Херренхаузен близ Ганновера Англия, Франция и Пруссия заключили союзнический договор.
Софья Доротея ликовала. Договор заключался на пятнадцать лет, до 1740 г., и обязывал трех королей оказывать друг другу помощь при любых конфликтах с третьими сторонами. Для реализации «свадебного проекта» Софьи Доротеи сложились наилучшие условия! Тем не менее подобный союз являлся дурной политической шуткой. Ненормальность политического положения немцев он демонстрировал самым издевательским образом. И король Англии, и король Пруссии считались прежде всего курфюрстами Ганновера и Бранденбурга, то есть подданными германского императора. По сути, оба «суверена» затеяли государственную измену, заключив союз с Францией против императора и Испании. И никто не понимал этого лучше Фридриха Вильгельма, обведенного в Херренхаузене вокруг пальца. Ведь в договоре записали совершенно безумное условие: в случае, если германский император объявит войну Франции, оба короля обязуются предоставить свои части имперской армии, дабы Франция не могла говорить о нарушении договора. Читая этот пункт, в Версале смеялись до упаду. Французским дипломатам было вполне достаточно благодаря заключенному пакту свести на нет возможность союза Берлина и Вены.
А Софья Доротея посвящала Вильгельмину и Фридриха в подробности проекта «двойной свадьбы» и неустанно рисовала им блестящие перспективы. Фридрих Вильгельм, напротив, дошел до состояния полного отчаяния. Он находился вне себя от злости на жену и на ее отца, так его одурачивших. Узнав в конце 1725 г., что императрица Екатерина I, вдова его умершего друга Петра, заключила тайный договор с Австрией и Испанией, Фридрих Вильгельм запаниковал. Только сейчас до короля дошел смысл игры, которую решили сыграть с ним Лондон и Версаль: идет подготовка к войне между двумя мощными военными коалициями Европы, где Пруссии отведена — по крайней мере англичанами и французами — роль тарана или поля брани для борьбы с обеими великими империями на Востоке, Австрией и Россией.
Хуже того: война, собиравшаяся разразиться на европейской сцене, уже началась в его домашнем окружении. Прусский двор был расколот на две партии: английскую и австрийскую. Английскую партию возглавляла королева. Вильгельмина и Фриц тянулись к матери, обещавшей им жизнь в блеске, славе и богатстве, тогда как отец все больше рычал свое «cito! cito!» или, еще чаще, «денег нет». С какой радостью Фридрих Вильгельм взял бы буковую палку и научил уму-разуму домашних, наведя порядок в своем доме! Но как раз тогда Софья Доротея ожидала большое наследство, отходившее ей по завещанию матери, принцессы Альденской. По вечерам король-солдат сидел за письменным столом, считал и, сгорая от стыда, прикидывал, что он сможет сделать на деньги жены для государства и армии. Поэтому со своей «Фикхен» он был внимателен и дружелюбен, жарко обнимал ее за талию и не решался устраивать супружеские ссоры. Расчетливое притворство, необходимость укрощать свой бешеный темперамент и держать себя в руках, чему он никогда не учился, — все это сделало короля больным, подорвав его нервную систему. Оставаясь один, он давал себе волю, ломал стулья, пинал стол, гневно сжимал кулаки. Короче, Фридрих Вильгельм был в наихудшем настроении, во дворце царила гнетущая атмосфера.
Уже с утра, просыпаясь на жесткой солдатской койке, он не ждал ничего доброго от наступающего дня. Едва он показывался, обе враждебные партии начинали дергать его, каждая со своей стороны. Рюдигер фон Ильген, поддерживающий советами проект королевы, был виноват и в заключении Херренхаузенского союза. Почему его король дал заманить себя в такую примитивную ловушку?! Он прожужжал королю все уши: нельзя, мол, сторониться англичан и французов. Хотя прежде всего он должен был ценить дружбу с Веной. Едва приходил Ильген, тут же появлялась королева, чтобы петь хвалы Англии. Словоизвержения Софьи Доротеи просто нельзя было остановить, и мужу приходилось, стиснув зубы, выслушивать их. Стоило королю выйти из зала и встретить Вильгельмину или Фрица, они корчили высокомерные гримасы и вели себя так, будто уже шагали окруженные облаками фимиама по Букингемскому дворцу. Просто невыносимо! Ко всем несчастьям в придачу при дворе появился Август Герман Франке, пылкий святоша из Галле, сделавший королю строгий выговор за неправедную жизнь. Фридрих Вильгельм, высоко ценивший Франке, впал в глубокую меланхолию. Целые дни он проводил в молитвах и пении псалмов, потерял аппетит и сон. По ночам его видели бродящим по залам и коридорам дворца: король искал выход из сложившейся по его вине ситуации. Едва брезжил рассвет, король падал на колени и шептал страстные короткие молитвы. Он испытывал глубочайший душевный кризис. Его окружению это стало ясно: король не ходил на охоту и не слушал любимые композиции Генделя. Он корил себя, не делая выводов из укоров и проклиная во многочасовых раздумьях чертов маскарад, «чернильные Души» и интриганов. Он переживал за Пруссию, окруженную, по его мнению, врагами.
В Вене о Херренхаузенском союзе узнали очень скоро. И тогда совершилось еще одно предательство. Опасный союз следовало аннулировать, а прусского короля перетянуть на сторону Австрии. Но как этого добиться? Идею послать в Берлин генерал-лейтенанта графа фон Зекендорфа, уже тогда, в 1725 г., давно сидевшего в Берлине и отсылавшего в Вену подробные сообщения, подал принц Евгений.
Фридрих Вильгельм знал графа со времен Мальплаке и похода в Померанию. Он ценил его как «всегда веселого» и «честного служаку». Это уже являлось достаточно надежной приманкой. Король ценил графа и за то, что тот был одним из немногих протестантов на австрийской службе, был начитан и знающ (его внук, носивший ту же фамилию, написал знаменитую историю церкви) — редкость среди военных в те времена. Получив инструкции венского двора, Зекендорф выехал из своего поместья Мойзельвиц под Альтенбургом и отправился в Берлин — будто бы проездом. На следующий день он, якобы случайно, проходил под окнами королевского дворца. Король увидел графа и распорядился пригласить его к себе. Зекендорф стал упрямиться, несколько дней отговариваясь срочным отъездом в Вену, и лишь после двух повторных приглашений явился наконец к королю-солдату. Фридрих Вильгельм, обезумевший от радости — наконец-то пришел человек, который не будет тянуть его в ту или другую сторону, — бросился ему навстречу со словами: «Я знаю, вы считаете меня человеком Ганновера… Дорогой граф, вот вам слово офицера: я предан императору, а не Ганноверу!» Зекендорф низко поклонился, скрывая триумф во взгляде.
Затем граф приступил к задуманному. Он обустроился в Берлине, стал регулярно выезжать в свет и скоро уже знал, как лучше подойти к королю. Граф намеревался сделать окружение короля «австрийским», дабы нейтрализовать английское влияние королевы. Но его махинации оказались бессильны в офицерском корпусе. Тринадцать лет правления короля-солдата воспитали в юнкерах, носивших «мундир короля», беззаветную преданность прусскому государству. Интриговать в офицерском корпусе не имело смысла. Но тем легче графу удалось найти агентуру при дворе. Здесь был продажен почти каждый. Зекендорф заручился обещанием принца Евгения ежегодно выдавать ему от восьми до десяти тысяч австрийских гульденов на гонорары шпионам при прусском дворе. Поэтому приверженцев он нашел в мгновение ока, сумев подкупить четверых субъектов, с чьей помощью и опутал ничего не подозревавшего короля. Речь идет о шефе первого департамента Генерального управления Грумбкове, придворном шуте Гундлинге, каждый вечер ходившем в Табачную коллегию, личном камердинере короля Эверсмане, бывшем в курсе всех дневных и ночных дел во дворце, и Рейхенбахе, прусском после в Лондоне, через руки которого проходили все письменные сообщения между двумя протестантскими дворами. Этого было достаточно. Отныне ничего тайного для Вены в Потсдаме или в Берлине не происходило.
Разумеется, агенты Зекендорфа имели двойное задание: во-первых, докладывать ему обо всех политически важных делах, а во-вторых, всеми способами помогать нерешительному королю утвердиться на проавстрийской позиции. Но одних подкупленных придворных пройдохе графу не хватало. Все это было, конечно, прекрасно. Но главной его целью оставался подкуп самого прусского короля! Наблюдательный Зекендорф, наделенный даром глубоко проникать в людские души, в два счета разглядел слабости королевского характера: пристрастие к «верзилам» и чревоугодие. И он начал расчетливо играть на них, часто, как только возможно, приглашая короля в гости и угощая его изысканными блюдами, икрой, тонкими винами. За бесплатным угощением Фридрих Вильгельм забывал все свои горести. К королю приходили великолепный аппетит и отличное настроение, за столом он изливал душу. Зекендорф притворялся своим парнем, подливая королю вина и мотая на ус каждое услышанное слово. Так в апреле 1726 г. он узнал о серьезном разногласии между королем и его английским тестем: Георг I не сдержал своего херренхаузенского обещания — прислать королю Пруссии две дюжины «верзил». Зекендорф тут же выслал принцу Евгению совет: набрать в Венгрии взвод «высоких и дрянных» гайдуков и отправить их маршем в Берлин в качестве личного подарка императора.
Такая изощренная стратегия скоро увенчалась успехом. Каждую неделю Вена получала из Берлина или Потсдама сообщения о конфиденциальных совещаниях в Генеральном управлении Пруссии. В июле 1726 г. Зекендорф и Грумбков нанесли главный удар. Они пригласили короля в поместье Грумбкова недалеко от Потсдама, куда прибыли также министры Ильген и фон Кач. Короля стали угощать лакомствами, доставленными из Гамбурга, Кракова, Люнебурга и Вены. Драгоценное вино искрилось в бокалах, один тост следовал за другим — и прежде всего, конечно, «За Германию германской нации!». Наконец Фридрих Вильгельм велел прислуге удалиться и взял с каждого из присутствующих слово чести: то, о чем он сейчас расскажет, останется тайной. (Совсем как странник на постоялом дворе, под строгим секретом сообщающий шайке разбойников об имеющихся при нем 100 тысячах талеров.) Затем король откинулся на спинку кресла и заговорил: «В прошлом году Англия и Франция перетащили меня на свою сторону. Они хотели втянуть меня в союз против германского императора, чтобы я таскал для них каштаны из огня… Но я не хочу иметь общих дел с Англией и Францией. Я хочу оставаться на стороне императора». Зекендорф чуть не поперхнулся при этих словах. Фридрих Вильгельм повысил голос: «Но я должен иметь право на Юлих и Берг!» Перебивая друг друга, все стали громко поддакивать. Король-солдат, разгоряченный вином, вскочил: «Вся моя пехота — к услугам императора! Я от всего сердца приветствую дружбу между императором и Россией и предлагаю себя третьим членом союза. На самых скромных условиях! Посмотрим тогда, кто будет против нас троих…»
Все стало ясно. Зекендорфу нечего больше было узнавать. Прусский король выдал себя с потрохами. И уже 24 июля граф-шпион выслал в Вену проект договора о тайном союзе между венским и берлинским дворами, практически аннулировавший союзнические договоренности Херренхаузена и сделавший короля-солдата заложником австрийской политики. Зекендорф не забыл добавить: взятки Грумбкову, Качу, Ильгену и Гундлингу оказались очень полезными и даже необходимыми, в то время как Фридриху Вильгельму I нельзя было «сделать лучшего подарка, чем прислать ему крупных солдат».
В Вене остались очень довольны. Но как до, так и после этого события никто там не оказался готов действительно пойти навстречу Гогенцоллерну в вопросе о Юлихе-Берге. Зекендорф, знавший о состоянии Фридриха Вильгельма и не ждавший от промедления ничего хорошего — английская партия Софьи Доротеи и не думала униматься, — в письме от 20 августа призвал принца Евгения заключать договор как можно скорее: «С королем Пруссии совершать дела нужно срочно. Если какая-то идея придет ему в голову, она должна быть осуществлена в течение 24 часов! Разумные и глубокие аргументы не важны: план, однажды им принятый, не может быть изменен».
И все же в Вене медлили. Поскольку из тайного сообщения Зекендорфа стало известно о действительных намерениях Фридриха Вильгельма, венский двор считал дело решенным и не видел смысла идти ему навстречу в вопросе Юлиха-Берга. Зекендорфа тактика проволочек испугала. Он писал в Вену:
«Если король не будет удовлетворен в этом пункте, то, но моему мнению, было бы гораздо лучше вообще не вести с ним переговоры. Если дело немедленно не продвинется, ненависть, гнев и месть короля неизбежны! Он возьмет себе в голову, что выгодное предложение не было сделано ему всерьез, что над ним смеются, а на самом деле хотят поссорить с англичанами и французами ради того, чтобы ему только и оставалось, как предать себя милости императора».
В венской канцелярии оценили надвигающуюся опасность и начали действовать. Было решено для вида признать прусские притязания на Юлих и Берг, но на самом деле затягивать решение вопроса, дабы выиграть время. Позицию императора Зекендорф описал королю-солдату в самых розовых тонах, и 12 октября 1726 г. действительно заключили Вустерхаузенское соглашение. Тем самым Фридрих Вильгельм признавал «Прагматическую санкцию» (благодаря чему он мог бы получить от императора почти все, умей он играть с закрытыми картами), и оба монарха обещали прислать друг другу на помощь от 10 до 12 тысяч человек в случае нападения со стороны третьей державы.
Граф Зекендорф добился желаемого: союз Пруссии с обеими морскими державами утратил силу, а королю-солдату оставалось только примкнуть к Австрии, если он не желал окончательно оказаться в международной изоляции. Вена была довольна в высшей степени. От венского двора генерал Грумбков получил пожизненный пенсион в размере тысячи дукатов ежегодно, «барона» Гундлинга император удостоил своим портретом, украшенным бриллиантами, а обманутый король Фридрих Вильгельм приобрел взвод из двадцати четырех «верзил».
Все участники заговора радостно потирали руки. И самым счастливым был король-солдат. Наконец-то миновало время лицемерия и внутреннего раскола, наконец не нужно притворяться и делать для английской партии своего двора расчетливо-дружелюбное лицо. Наконец-то он мог быть тем, кем хотел: открытым, простым, искренним. Едва король получил свой экземпляр ратифицированного договора, он, светясь от радости, помчался коридорами потсдамского дворца в Табачную коллегию. Попросив у коллегии внимания, он схватил кубок, выпил за германскую нацию и произнес экспромтом речь, усладившую сердца прожженных мошенников Зекендорфа и Грумбкова: «Все немецкие князья — шельмы! Им и дела нет до императора и империи. И я был бы одним из них, не поступи я иначе. — Он осмотрелся и продолжил: — У нас должен быть император. Мы остаемся с Австрией, и плох немец, думающий по-другому. — Король сделал паузу. — Ни один англичанин или француз не должен нам приказывать! Я желал бы положить в колыбели своих детей пистолеты и шпаги, чтоб они могли прогнать чужаков из Германии. Иностранцы хотят нами командовать, будто они в Германии хозяева. Если французы нападут хотя бы на одну немецкую деревню, любой честный немецкий князь отдаст последнюю каплю крови, защищая ее! — Фридрих Вильгельм перевел дыхание. В немецком патриотизме король всегда признавался страстно. Он закончил свою речь: — Нельзя придумать ничего лучшего, чем созвать большой княжеский съезд, где все мы сами сможем поговорить с императором. Я первым явлюсь на него. Все должны знать, какой я патриот…»
Но радость его оказалась не слишком долгой, потому что и Вустерхаузенское соглашение, разумеется, нарушили тоже. Франция и Англия разразились потоками негодования; Софья Доротея была вне себя от ярости. Ее изобретательный план двойной свадьбы оказался в серьезной опасности. Но она и думать не желала об отступлении. Вооруженная родовой гордостью Вельфенхаузенов, она усилила напор, продолжая настраивать старших детей на «английские судьбы», плела в своих покоях новые интриги. Однако 22 июня 1727 г. умер ее отец, король Англии и Ганновера Георг I. Это серьезно подорвало надежды Софьи Доротеи. Хотя Рюдигер фон Ильген, многолетний шеф прусской внешней политики, в последние дни жизни короля Георга I успел сделать для англо-прусских отношений очень много, сближению Берлина и Лондона препятствовала серьезная антипатия между Фридрихом Вильгельмом и новым британским королем Георгом II, его шурином. Георг II вырос из того самого мальчика, терпевшего побои Фридриха Вильгельма во время совместных игр в Ганновере, у бабушки. Везде, где только можно, он теперь высокомерно отзывался о прусском короле. Он называл его либо «братцем фельдфебелем», либо «королем песочницы».[32] В ответ Фридрих Вильгельм величал Георга II «братцем кочаном» или «комедиантом».
Конечно, все это лило воду на мельницу Зекендорфа. Чем хуже были отношения Пруссии с западными державами, тем легче удавалось ему поддерживать дружбу короля-солдата с Веной. Безгранично наивный Фридрих Вильгельм в его присутствии продиктовал письмо императору 24 февраля 1728 г., где говорилось: «Даю Вашему Величеству слово короля: ничто и никогда не сможет заставить меня хоть в малейшем отступить от того, что я, в силу очень многих причин, обязан сделать для Вашего Императорского Величества. Добросовестно выполнять свои обязательства я буду до самой могилы».
Теперь берлинский дворец превратился в настоящий ад. Софья Доротея, видя, как рушатся все ее надежды, источала яд и желчь. Зекендорф сообщал в Вену: «Королева до такой степени меня ненавидит, что даже за столом получить от нее ответ мне стоит больших трудов». Но самым ужасным событием стал раздор между отцом и сыном, между Фридрихом Вильгельмом и шестнадцатилетним кронпринцем Фридрихом, начавшийся весной 1728 г. Об этой главной трагедии в жизни короля-солдата мы расскажем в следующей главе. Эта семейная драма длилась пять лет, до 1733 г.; она затрагивала вопросы жизни и смерти, доводила участников до пределов их физических и психических возможностей.
В 1729 г. Софья Доротея вновь взялась за проект двойной свадьбы. Смертельно враждуя с отцом, кронпринц Фридрих заявлял каждому, хотел тот слушать или нет, что не возьмет в жены никакую другую женщину, кроме своей английской кузины Амалии. Принцесса Вильгельмина включилась в интригу и начала искусно и осторожно форсировать сближение с Лондоном. Для Зекендорфа наступило тревожное время: английская партия начала генеральное наступление.
Британский парламент, где виги выступали за более тесное сближение с Пруссией, решил взять инициативу в свои руки. 2 апреля 1730 г. в Берлин прибыл чрезвычайный посол английского короля сэр Чарльз Хотхэм. Он передал великолепное предложение: король Георг II отказывается от всякого приданого за принцессой Вильгельминой, если она выйдет замуж за английского наследника, в то время как Амалия, выйдя замуж за кронпринца Фридриха, получит в качестве приданого 100 тысяч фунтов стерлингов и регентство в Ганновере. Лондонский парламент предложил кронпринцу беззаботно жить с юной женой в ганноверской резиденции, пока он не станет королем Пруссии.
Вильгельмина и Фридрих схватились за руки и, ликуя, понеслись в танце через дворцовый зал. Софья Доротея торжествовала. Удача опять была на ее стороне. Но Фридриха Вильгельма английское предложение воодушевляло мало. Возможность выдать Вильгельмину за английского наследника, а при этом не дать ни пфеннига приданого короля чрезвычайно привлекала. Что же касалось его сына Фридриха, почти ежедневно закатывавшего ему дикие сцены и бывшего, как он считал, никчемным надменным хлыщом, то мысль о его переселении в Ганновер отцу совсем не нравилась. Что получится из высокомерного мальчишки, если он будет вести роскошную жизнь в Ганновере, выбрасывая занятые у англичан деньги на ветер, на свои глупости? Тщеславный юнец, во всем перечащий отцу, не желающий исполнять свои обязанности, любитель податливых женщин и игры на флейте — это он-то в один прекрасный день станет королем Пруссии? А когда Фриц, так откровенно ненавидящий своего отца, станет по милости англичан наместником Ганновера, разве не может случиться, что в случае войны он обратит оружие против своего прусского отечества? От парня, корчившего рожи, глядя тебе в глаза, всего можно ожидать! «Нет, — сказал Фридрих Вильгельм Хотхэму, — для женитьбы Фриц еще слишком молод. Ему следует доказать свою готовность к семейной жизни. Он должен научиться вести хозяйство и достичь хотя бы двадцати восьми лет» (кронпринцу тогда было восемнадцать).
Посол Хотхэм отметил: пакет британских предложений не может быть разделен, но, впрочем, не стал уговаривать нерешительного прусского монарха, а установил постоянные контакты с Софьей Доротеей и ее детьми. Но и Зекендорф с Грумбковом, встревоженные миссией Хотхэма, не оставили короля-солдата в покое. Вечером, разговаривая в Табачной коллегии с князем Леопольдом, Фридрих Вильгельм философствовал: «Альянс! Что он означает? Становятся ли из-за него лучшими в мире друзьями? Видит Бог, я от всего сердца желаю своим родственничкам (Вельфенхаузенам. — Примеч. авт.) всяческого счастья и благополучия, только не за мой счет и не во вред моему состоянию (то есть прусскому военно-социальному государству. — Примеч. авт.), ведь оно колет глаза англо-ганноверским господам. Мое состояние — c’est la pierre de touche („это пробный камень“. — Примеч. авт.)».
Возможно, Хотхэму все же удалось бы, несмотря на происки Зекендорфа, добиться полного успеха, если бы он не совершил роковую тактическую ошибку. Он сообщил королю-солдату, что его посол в Лондоне Рейхенбах куплен австрийцами, и предложил отозвать его, а кроме того, сместить Грумбкова, бывшего с Рейхенбахом в заговоре. И хотя все это было бесспорно верно, особый посол Британии коснулся суверенитета прусского короля явно грубо. Фридрих Вильгельм никак не ожидал такой атаки, но все же потребовал письменные доказательства предательства Рейхенбаха и Грумбкова, прежде чем решать этот вопрос.
Пока курьер сэра Чарльза Хотхэма ездил в Лондон за уликами из британских архивов, Зекендорф, узнавший обо всем благодаря болтливости Софьи Доротеи и Вильгельмины, перешел в контрнаступление. Уж не должен ли он, король, слушаться британского монарха, велевшего снять министра с должности? — спрашивал Фридрих Вильгельм вечером в Табачной коллегии. И это только начало: скоро Лондон будет править Берлином — мрачно размышлял Фридрих Вильгельм, уязвленный в своем королевском достоинстве. Затем в Берлин поступили инспирированные Зекендорфом тайные сообщения Рейхенбаха. Их смысл сводился к следующему: «свадебный проект» от начала до конца придуман в Лондоне, дабы навсегда отторгнуть прусского короля от императора; Англия хочет вернуть Пруссию в англо-французский союз, а цель предложенного для кронпринца регентства в Ганновере — низведение, после того как Фридрих станет королем, государства Гогенцоллернов до уровня зависимой, нуждающейся в опеке провинции.
Конечно, все это было не чем иным, как исполнением австрийского заказа. Тем не менее выводы фальшивок против истины не грешили. Британцы действительно не собирались делать бескорыстные подарки. Естественно, они собирались поставить в зависимость от себя будущего прусского короля, вошедшего позже в историю под именем Фридрих Великий, опутать его, пока он еще был кронпринцем, и сделать сателлитом Великобритании. И каким бы импульсивным ни казалось со стороны поведение короля-солдата, своим крестьянским умом он оценивал ситуацию весьма трезво.
С другой стороны, он не мог понять: великие державы не делают политику без задних мыслей, в международной дипломатии нет места обывательской морали (позже это понимание пришло к его сыну Фридриху, сумевшему достичь высших степеней дипломатического искусства). Король-солдат просто не был рожден для хитроумных дипломатических маскарадов. Его беспомощность, его неспособность держать себя в руках, быть хладнокровным приводили к безудержным приступам ярости. 10 июля 1730 г. посол Хотхэм явился на аудиенцию к королю. Когда он хотел передать ему только что привезенные из Лондона документы, неопровержимо доказывающие предательство Грумбкова, королевский гнев проявился самым страшным образом. Король схватил бумаги и бросил их на пол, замахнулся на сэра Чарльза палкой, назвал его «засранцем» и чуть не ударил его ногой, а напоследок вышел из зала, хлопнув дверью.
Конечно, ярость короля мигом исчезла, и через министра фон Борка он попросил у Хотхэма прощения. Надменный англичанин потребовал от короля подобрать в его присутствии документы там, где он их бросил. Король категорически отказался и, больше не принимая взбешенного Хотхэма, приказал выслать того в Лондон. Пятилетняя драма «двойной свадьбы» завершилась. Софья Доротея смирилась, но в последние десять лет их супружества грубовато-ласковое словечко «Фикхен» больше не звучало. По всем счетам за интригу пришлось платить, и очень скоро, сыну, кронпринцу Фридриху.
В 1730–1732 гг. внешняя политика Фридриха Вильгельма ограничивалась деятельными усилиями по поддержанию «сердечного согласия» с императорским двором. В Лондоне и Париже престиж Пруссии опустился до нижней отметки, отношения с Россией после смерти Петра I испортились. Король-солдат оказался во враждебном окружении по собственной вине. Тем сильнее становилась его приверженность императору Карлу VI, которому он писал 12 октября 1731 г.:
«Я вполне уверен в дружбе с Вашим Императорским Величеством. И моя уверенность не иссякнет, пока я жив! И даже если Вас покинут остальные, я останусь верен своему подлинному другу, навсегда разделив его счастье и несчастье».
«Настоящий друг» Карл ни в коем случае не собирался воздавать прусскому королю по его трогательной вере. Он получил от Фридриха Вильгельма то, что хотел, а именно — признание «Прагматической санкции». Не имел он и намерений конкретизировать свои неопределенные вустерхаузенские обещания в вопросе о Юлихе-Берге. Но прежде всего он не желал личной встречи с прусским монархом, на чем Фридрих Вильгельм все время настаивал. Министры Вены неизменно указывали императору на встречу с простым курфюрстом как на невыгодную сделку. Кто он такой? Всего лишь выскочка из Берлина! Однако Зекендорф предостерег венский двор: отказывать королю-солдату в исполнении его заветного желания — личной встрече с императором — было бы роковой ошибкой. И наконец, после длительных переговоров, летом 1732 г. состоялось событие, в современной терминологии называемое «встречей на высшем уровне».
27 июля 1732 г. Фридрих Вильгельм покинул Берлин. В его свите ехали Грумбков, Зекендорф, голландский посол Гинкель и множество прусских генералов. Их путь в Богемию проходил через Франкфурт-на-Одере, Лигниц и Глац. Лето стояло жаркое, и толстый король обливался потом. Но таким веселым и довольным, как во время этой поездки, его видели редко. Перед привалом в богемском городке Яромерже генерала Грумбкова выслали вперед. Он должен был отдать почести императорской чете, пребывавшей в охотничьем замке Хлумец. Местом встречи с Фридрихом Вильгельмом Карл VI избрал Кладруб, где находился конный завод императора. Тем самым по отношению к прусскому королю допускалась вопиющая бесцеремонность. Но Вена и не собиралась выдавать вынужденную встречу за значительное событие. Фридрих Вильгельм в своей наивности проигнорировал все вопросы престижа.
Ночью король-солдат несколько раз просыпался от радостных предчувствий. Едва забрезжило утро, он вскочил на коня и первым прибыл в Кладруб. Там его принял принц Евгений. При виде императорского экипажа Фридрих Вильгельм потерял голову: подбежал к карете, распахнул дверцу и, плача от радости, заключил изумленного императора в объятия. Император остался крайне недоволен таким обращением. Он молча вышел на помост, сооруженный для посещения конного завода августейшими особами, и двинулся вперед, в то время как Фридрих Вильгельм пошел следом, ведя под руку прекрасную императрицу Елизавету.
За обедом монархи провели два часа. Фридриху Вильгельму так хотелось провозглашать тосты за императора, за Германию, за дружбу! Но Карл VI, одержимый имперским величием, только скучал да ковырял за едой в зубах. К счастью, милая и умная императрица Елизавета, урожденная принцесса Брауншвейгская, сидела напротив Фридриха Вильгельма. Она знала своего бездушного мужа и ничуть не смущалась его оскорбительным поведением. Бодро болтала она с Фридрихом Вильгельмом и единственная из всего высокого общества сумела оценить неподдельную открытость и здравый, практичный ум прусского короля.
Затем Фридрих Вильгельм отправился в Прагу. Император снизошел до посещения города в то же время — впрочем, инкогнито и без помпы, чтобы не создавать впечатления «встречи в верхах». Вряд ли можно было нанести прусскому монарху большее оскорбление. Но Фридрих Вильгельм смирился и с этим: лишь бы побыть рядом со своим «другом» императором и поговорить с ним начистоту о Юлихе-Берге. Он и не подозревал о совершавшемся в эти пражские дни за его спиной драматическом повороте союзнической политики. Пока он бегал за брюзгливым императором, в Праге объявился Робинсон, британский посланник с особой миссией, начавший плести антипрусские интриги.
Между морскими державами Англией и Голландией и императорским домом в Вене началась подготовка к заключению союза, направленного против Франции. Король Англии Георг II, находившийся тогда в Ганновере (о чем Фридриху Вильгельму даже не сообщили), пожелал отвести его прусскому шурину подсобную роль в новой коалиции. Кроме того, ему следовало отказать в претензиях на Юлих и Берг. Робинсон тут же отправился к принцу Евгению и выдал ему за желание английского правительства следующее: прусскому королю следует жестко дать понять, что наследственные права Гогенцоллернов на рейнские города Юлих и Берг не будут признаны ни императорским двором, ни какой-либо другой державой Европы.
Принц Евгений, воодушевленный общностью интересов Австрии и Британии, в тот же вечер попросил короля-солдата об аудиенции, куда прихватил с собой Зекендорфа. Уже на следующий день он мог торжественно сообщить Робинсону: давление на потрясенного короля Пруссии принесло плоды, Фридрих Вильгельм смягчил свою позицию по вопросу о Юлихе-Берге. Принц Евгений докладывал британскому посланнику:
«Благодаря мне он убедился в опасности своего положения. Я дал ему понять, что у него нет других друзей, кроме императора и России, что ему не следует требовать от императора вступать ради него в конфликт со всем миром. Он должен трезво оценить положение собственного государства, простирающегося от России до Голландии и со всех сторон окруженного державами, имеющими возможность — при весьма различных интересах — легко объединиться против него».
Да, это надо представить: глубоко уважаемый королем принц Евгений, первый советник его «друга» императора, практически угрожает Пруссии окружением в случае, если она не захочет выполнить приказ! Унизить «суверенное» государство сильнее просто невозможно. Фридрих Великий и Бисмарк (которые, разумеется, просто не отправились бы в Кладруб и в Прагу) такого тона просто не потерпели бы, а сразу же отправили бы в Париж особое посольство для переговоров с французами. И тогда императорский двор, в виду 70-тысячной прусской армии, опомнился бы мигом.
Совсем иначе повел себя Фридрих Вильгельм. На мгновение он пришел в ярость. Мысль о том, что все его клятвы и признания в любви к кайзеру возымели ничтожный политический эффект, потрясла короля. И пока он выходил из состояния шока, его ближайший советчик, граф Зекендорф, взялся за Робинсона: новую ситуацию в отношениях Лондона и Вены надо было использовать. «Неужели я никогда не заслужу милость вашего короля? — с наигранным отчаянием спросил он Робинсона и продолжил: — Я благодарю Бога за то, что имею при себе бумаги, подтверждающие мою полную непричастность к помолвке кронпринца и принцессы Бевернской» (она состоялась в марте 1732 г. — Примеч. авт.). Робинсон, хорошо знавший о шпионских похождениях Зекендорфа в Берлине, предпринятых по поручению императорского двора, продолжал слушать. И граф открыл карты: «Наверное, вы расстроены имеющимися у нас особыми предложениями от прусского короля. Могу вас уверить: у нас их нет, не было и не будет! Мы получили от него больше, чем рассчитывали получить, не разрывая с ним окончательно…» Так Зекендорф, наперсник короля Фридриха Вильгельма, говорил о своем благодетеле с представителем третьей державы.
Естественно, политические результаты «пражской встречи» оказались для Пруссии ничтожными. Подтверждение наследственных прав на Юлих-Берг, предмет вожделений Фридриха Вильгельма, отодвинулось в недосягаемые дали. Свое согласие с «Прагматической санкцией» он отдал даром. Несмотря на клятвы в верности Австрии, никакими средствами давления он не располагал. Каждому в Европе было известно: этот «германский монарх» обречен на роль пешки в борьбе с Францией. Порадоваться Фридрих Вильгельм мог лишь своим наследственным правам на Восточную Фрисландию, гарантированным императором. И то лишь потому, что австрийцы не сомневались: этого короля всегда можно провести за нос, и не заботились о собственных гарантиях. (Никто и подумать не мог, что сын этого Фридриха Вильгельма сделан из совсем другого теста. Через двенадцать лет, после смерти последнего правителя Восточной Фрисландии, не имевшего наследников-мужчин, он, опираясь на те самые гарантии императора, присоединит ее к Пруссии.)
За четыре месяца до встреч в Праге и Кладрубе, в марте 1732 г., Фридрих Вильгельм добился помолвки своего двадцатилетнего сына Фридриха и принцессы Елизаветы Кристины Брауншвейг-Бевернской, племянницы императрицы. Сына, доведенного этим союзом до полного отчаяния, отец принудил к сделке угрозами. Он не сомневался в плодотворности семейных связей с императорской семьей и для Пруссии, и для его наследника. Его не волновали ни презрительные гримасы жены Софьи Доротеи, ни издевательства кронпринца Фридриха по поводу своей принудительной помолвки. Благо Пруссии король ставил превыше всего. Только теперь, через несколько месяцев после Праги, осенью 1732 г., Фридрих Вильгельм спустился на землю. Только теперь он смог увидеть, как изменился политический ландшафт Европы. Все он мог допустить, но только не сближение Лондона и Вены! Он ведь искренне верил: шашни австрийского орла и британского кита невозможны в принципе!
Для венских интриганов дипломатический мир, еще незыблемый для Фридриха Вильгельм в Праге, выглядел совсем иначе. Тесные семейные связи Берлина с императорским двором едва ли представляли для них интерес. Теперь гораздо важнее оказалось помирить Берлин с Лондоном для укрепления антифранцузской коалиции вступлением в нее Пруссии. В соответствии с этим планом Зекендорф получил из Вены инструкцию: возродить давно похороненный проект «двойной свадьбы», проваленный многолетними усилиями той же Вены. Графу-шпиону следовало убедить Фридриха Вильгельма нарушить помолвку кронпринца Фридриха и Елизаветы Кристины Брауншвейг-Бевернской.
Это переходило все границы. Бессовестные маскарадные интриги окончательно вывели короля-солдата из себя. Зекендорф, передавший королю предложение Вены, в первый раз получил «непристойный ответ» и даже был вынужден на время покинуть двор. Декабрьским вечером 1732 г. отчаяние короля прорвалось на «заседании» Табачной коллегии: «Нет, этого я больше не потерплю! — Он ударил кулаком по столу. — Это грызет мое сердце! Меня толкают на низость! Меня! Меня! — Король схватил пивную кружку. — Нет, никогда! Проклятые интриганы! Черт бы их всех побрал!» Грумбков, чуть не потерявший сознание при извержении королевского гнева (в отсутствие Зекендорфа он всегда чувствовал себя неуверенно), попробовал успокоить Фридриха Вильгельма. «Что?! — вскочил король. — Позволить сделать себя обманщиком? Да я на весь мир крикну, как эти жулики хотят меня надуть! Людям, желающим, чтобы я совершил faux pas,[33] следовало бы знать меня лучше (король намекал на Зекендорфа. — Примеч. авт.)… Они снова кромсают мою честь! Если мой род должен прекратиться, обойдусь без этого позора! Их планы меняются каждый день…»
Уже на следующий день Грумбков тайно встретился с Зекендорфом на прусско-саксонской границе и подробно описал ему драматическую сцену в Табачной коллегии. Вскоре Зекендорф снова появился при дворе — прусский король не мог жить без бесед с этим человеком. Граф обо всем сообщил в Вену и предостерег хозяев от чрезмерной эксплуатации добродушия и наивности короля. В Вене только плечами пожали: да пусть этот безмозглый король правит у себя как хочет. А поскольку бракосочетание кронпринца Фридриха и Елизаветы Кристины еще не состоялось, Зекендорфа настоятельно попросили успокоить берлинского монарха. Так оно и случилось. Еще два-три месяца Зекендорф вел всеподданнейшую пропаганду в пользу императора, и мир Фридриха Вильгельма снова был в порядке. 23 марта 1733 г. он писал в Вену: «Мои враги могут делать все, но я императора не оставлю! Либо императору придется выгнать меня в шею, либо я душой и телом буду верен ему до самой могилы».
Нетрудно представить себе ухмылки венских политиков, читавших эти строки. И произошло то, что должно было произойти. Когда в Вене стало известно о скорой свадьбе прусского кронпринца и брауншвейгской принцессы, Зекендорф получил прямые указания: самым решительным образом настроить Фридриха Вильгельма, хотя бы и в последний момент, против брака. Но изворотливому Зекендорфу удача на этот раз не сопутствовала: прусский двор уже выехал в Зальцдалюм при Вольфенбюттеле, где через несколько дней должна была состояться свадьба. Даже друг графа Грумбков бросил его в этот раз на произвол судьбы и сказал, что дело зашло слишком далеко, ничего тут уже не исправишь и графу лучше не вмешиваться. Зачем же стараться? Но приказ оставался приказом. Зекендорф помчался в Зальцдалюм.
Утром 11 июня 1733 г., за день до свадьбы, граф Зекендорф вошел в приемную короля. Он осторожно расспросил подкупленного им камердинера Эверсмана и узнал: король, к счастью, в хорошем настроении. Между тем пробило девять. Зекендорф колебался. Никто лучше его не знал вспыльчивую натуру Фридриха Вильгельма. Поэтому сначала он послал в королевскую спальню Эверсмана: он, граф Зекендорф, получил из Вены срочную депешу и должен сообщить королю нечто весьма важное, но отнюдь не досадное. Фридрих Вильгельм, предвкушая радость, приказал ввести графа без всяких церемоний.
О произошедшем дальше мы знаем из письма Зекендорфа принцу Евгению, написанное графом двумя днями позднее. Граф сообщал: «Войдя в спальню, я с улыбкой сообщил лежащему в постели королю о привезенном мне курьером приказе принца Евгения: мне хотелось бы сделать исключительно важное заявление, но я должен заручиться обещанием короля выслушать меня до конца и не горячиться». Радостно улыбаясь, Фридрих Вильгельм дал обещание. И Зекендорф детально изложил требование венского двора: в интересах высокой политики и «дружбы» с императором свадьба, назначенная на следующий день, должна быть отменена. Фридрих Вильгельм сидел перед графом как каменный, сохраняя совершенно не свойственное ему спокойствие. Затем он заговорил. Вот его слова, переданные Зекендорфом в Вену:
«Если бы я не знал вас очень хорошо и не был уверен в вашей честности, я решил бы, что еще не проснулся. Если бы вы сказали это три месяца назад, из любви к Его Императорскому Величеству я сделал бы все… Но королева и я уже находимся здесь, и вся Европа знает о завтрашней свадьбе. Все это происки англичан, желающих выставить меня перед всем миром как человека нечестного и не привыкшего держать слово».
Зекендорф сразу сообразил: король-солдат не догадался об истоках этой интриги и принимает ее за британские махинации. Он стал уверять его в сердечной любви императора, желающего своему прусскому другу всего наилучшего. При этих словах король повеселел, спокойно взял из рук Зекендорфа депешу принца Евгения, прочел ее и вернул графу: «Передайте это письмо Грумбкову и Борку. Пусть знают: ни за какие сокровища в мире я не соглашусь запятнать свою честь и отменить свадьбу либо отложить ее». Затем Фридрих Вильгельм встал, сказал, что вопрос своего примирения с Англией он целиком вверяет императору и протянул Зекендорфу руку: «Вы честный человек и всего лишь выполняете свой долг».
В 1734 г. разгорелась Война за польское наследство. Англия и Голландия держались нейтрально, но у императора Карла VI возникли разногласия с Францией по поводу прав на польский трон — Август Саксонский умер годом раньше. Пруссию предмет их спора совершенно не волновал, для нее он и гроша ломаного не стоил. Но император настоял в рейхстаге на объявлении Франции «войны от имени империи». Немецкие курфюрсты Кёльна, Баварии и Пфальца и не подумали следовать призыву императора и идти войной на французов: свои собственные интересы они предпочли императорским. Но Фридрих Вильгельм загорелся тут же: «Германии германской нации» надо помогать! Разве не он провозглашал в берлинском дворце: «Подлец тот, кто считает меня французом!» — и произносил за это тост? Тотчас же он предложил императору прусское войско в 50 тысяч человек — гигантскую по тем временам армию — и был поражен, когда Вена от нее отказалась и попросила всего лишь 10 тысяч, согласно договору. Неужели он не заметил, что при императорском дворе Пруссия считается вспомогательной державой, а в нем, Фридрихе Вильгельме, несмотря на теплые слова, видят всего лишь «курфюрста Бранденбургского»?
В начале мая 1734 г. 10-тысячный прусский отряд двинулся к Рейну, к императорской армии, находящейся под командованием 71-летнего принца Евгения. В июле король Пруссии и кронпринц Фридрих прибыли на войну. Фридрих Вильгельм разделял со своими солдатами все ее тяготы, заботился об организации войска, об уходе за больными. В конце концов, все они были его «любимыми синими детьми». К принцу Евгению он относился с огромным уважением, как к старому верному другу. Но кронпринц Фридрих не забывался ни на минуту и видел: австрийская армия по сравнению с прусскими частями ни на что не годится. Он трезво оценивал военные приемы дряхлого принца Евгения, утратившего способность к оперативным действиям и даже позволившего французам вырвать крепость Филиппсбург из-под самого носа. Молодой человек видел все, и ничто не могло обмануть его взгляд. Он был предупредительно-вежлив с австрийцами, дружески улыбался в ответ, подолгу расспрашивал офицеров и запоминал все, все без исключения. Кронпринц являл собой поразительную противоположность отцу. А тот только и делал, что жаловался: ну почему против проклятых французов выступило так мало его соотечественников, его любимых «германцев»?
В середине августа король оставил театр военных действий. В подавленном состоянии он проехал вдоль Рейна, посетил Везель, а затем устроил себе небольшой отпуск, избрав для отдыха расположенное на германско-голландской границе поместье посла Нидерландов в Берлине генерала Гинкеля. Здесь король нашел утешение, здесь этот чрезмерно растолстевший человек отметил сорок шестой день рождения в кругу собутыльников. На следующий день он оказался смертельно больным. Водянка сделала короля совершенно неподвижным; он только стонал и жадно ловил воздух. Лишь через месяц удалось доставить его в Потсдам.
В течение трех месяцев, до середины декабря, король чувствовал себя очень плохо. Дни и ночи проводил он в постели или в кресле-коляске. Он едва справлялся с бумажной работой, стиснув зубы, проводил аудиенции и совещания, а затем снова задыхался от страха, в то время как его беспрестанно возили по дворцовым коридорам. Если не считать ссору с сыном, это было самое тяжелое время в жизни короля-солдата. Как и все вокруг, он был уверен в своей близкой смерти. Но эти страшные месяцы тоже принесли плоды. Фридрих Вильгельм наконец вышел из-под рокового влияния Зекендорфа, оставшегося на войне. А Софья Доротея, преодолевшая неприязнь к мужу и оказавшая ему огромную помощь, удалила на приличное расстояние другого мерзавца — Грумбкова.
И только теперь Фридрих Вильгельм впервые усомнился в «своем» императоре. Разве все эти годы тот не обманывал его самым бессовестным образом? Разве подтверждения императором прав короля на Юлих и Берг не были всего лишь ловким ходом? Разве его, Фридриха Вильгельма, не одурачили ради признания им «Прагматической санкции»? С горечью говорил он австрийскому послу: «Мне хотят выдать белое за черное, а черное — за белое… Но теперь я вижу ясно: в Вене не выполняют тайный договор со мной, и я оказываюсь с пустыми руками. Это выглядит так, как будто в Вене перестали уважать добросовестность… Но возможно, придет время и император раскается в том, что так больно ранил своего лучшего друга…»
Новым австрийским послом, сменившим Зекендорфа, стал некий князь Лихтенштейн. Благодаря ему и обнаружилось самое худшее. Лихтенштейн уснащал свою речь теми самыми «грубыми» выражениями, про которые Зекендорф писал в Вену. И Фридрих Вильгельм понял: все его спонтанные высказывания, все доверительные частные письма, написанные им Зекендорфу, немедленно передавались графом в Вену — «грубые» слова были его собственными. Король-солдат стонал, но ничего изменить уже не мог. На своей груди он пригрел змею.
5 октября 1733 г. в Вене подписали предварительный мир между империей и французами. Германия при этом навсегда теряла все права на Лотарингию. Фридриха Вильгельма об этом событии даже не известили. Не сочли в Вене нужным сообщить Фридриху Вильгельму и о браке между Марией Терезией и герцогом Францем Лотарингским — его прусский король должен был в конце концов признать будущим германским императором (как того требовала «Прагматическая санкция»). Фридрих Вильгельм, к тому времени кое-как поставленный на ноги врачебным искусством профессора Гофмана из Галле, сначала просто не желал всему этому верить. И тогда, в момент сильнейшего разочарования, прорвалось все, что годами копилось у него на душе: «Император относится ко мне и ко всем курфюрстам так, словно мы для него какой-то сброд! — Потоки слез катились по щекам короля. — Ведь я ни в чем не виноват перед ним! — И после длинной паузы король добавил: — Я попробовал вспомнить еще раз, не имел ли я хотя бы единственной мысли, которая могла бы задеть императора и его интересы. Только как бы я ни проверял себя, ничего найти не могу…»
В первые месяцы 1736 г. король работал как одержимый. Ему хотелось наверстать упущенное за время болезни и утопить в заботах свое горе. Но разочарование продолжало томить его душу. 2 мая 1736 г., во время торжественного приема, где присутствовали кронпринц и все генералы, Фридрих Вильгельм вдруг кивнул в сторону сына и сказал: «Вот кто отомстит за меня».
Довольно. Сердце кровью обливается у того, кто должен рассказывать об истории дипломатии и внешней политики Фридриха Вильгельма. У последнего циника не хватит духа продолжать описание фарса с простодушным политиком в главной роли. В последние четыре года правления Фридриха Вильгельма I не произошло ничего примечательного. Никто его не боялся, все над ним смеялись, великие державы использовали смешные слабости короля, делавшие его предсказуемым для всех и «подкупным» для каждого. Вена, Лондон, Париж, Гаага и Дрезден видели в нем мячик для игр европейской политики. О его потрясающей старомодности и полном несоответствии циничным маскарадам сочиняли анекдоты.
Фридрих Вильгельм I может претендовать на звание самого мирного монарха своей эпохи. Подданные и солдаты короля, охавшие под его палкой, не должны были проливать кровь из-за его тщеславия. Но «спасибо» ему за это никто не сказал. Людовик XIV, Карл XII, Петр I и Август Сильный, купавшиеся в крови своих народов, вошли в мировую историю триумфальным маршем. Фридрих Вильгельм, прозванный «королем-солдатом», стал ее посмешищем. Предполагал ли он в самом деле, что самый большой и самый любимый его враг, сын Фридрих, однажды предъявит миру счет за своего одураченного отца?
Отец
«Приказываю вам позаботиться о Фрице. Бог отблагодарит вас за это», — писал Фридрих Вильгельм 26 апреля 1715 г., отправляясь в померанский поход. С мыслью о сыне он вступил в бой за Штеттин.
Король-солдат долго не мог оправиться от смерти обоих сыновей, родившихся у Софьи Доротеи в 1707 и 1710 гг. Потеря первого сына, Фридриха Людвига, умершего в 1708 г., потрясла Фридриха Вильгельма до глубины души, ее он объяснял волей Всевышнего. Покорно он воспринял и смерть второго сына, Фридриха Вильгельма, — коварная болезнь унесла его в 1711 г. Стойкость ко всем детским болезням принцессы Вильгельмины, родившейся в 1709 г., его утешала мало. Согласно традициям Гогенцоллернов, унаследовать королевскую корону мог только сын.
Рождение маленького «Фрицхена» в январе 1712 г. сделало Фридриха Вильгельма самым счастливым отцом. Но страх потерять и этого мальчика владел им несколько лет. «Фрицхеном» король-солдат дорожил больше всего на свете: это был не только сын, но и наследник. От его существования зависело и дело всей жизни отца.
В течение десяти лет Софья Доротея рожала исключительно принцесс. Это были Фридерика Луиза (1714), Филиппика Шарлотта (1716), Софья (1719) и Ульрика (1720). Лишь в 1722 г. родился второй мальчик, получивший имя Августа Вильгельма. Король-солдат ликовал: теперь королевский дом был застрахован. Но все же он объявил «Фикхен», что хотел бы запрячь будущее «четверкой» сыновей. Его жене оставалось только сдаться. И неукротимая воля Фридриха Вильгельма позволила ему добиться своего: после того, как в 1723 г. родилась шестая принцесса по имени Амалия, в 1726 г. королева разрешилась принцем Генрихом, а в 1730-м, когда ей было уже 43 года, она родила принца Фердинанда. «Четверка» была готова.
И все же старший сын, кронпринц Фридрих, всегда оставался в глазах отца «первым номером». Не то чтобы Фридрих Вильгельм любил других детей меньше. Но Фриц оставался наследником королевского трона; со временем должность «наместника Божьего» в Пруссии должна была перейти ему.
Фридрих Вильгельм I разделял заблуждение всех отцов, видя в старшем сыне собственную реинкарнацию. Но вряд ли кто-либо из отцов имел столь же горячее желание создать из сына свое подобие, как король-солдат. Он не считал, что люди имеют право быть самими собой, не утруждал себя попытками уважать права другого человека и потому выдумал идеальный образ сына и наследника, являющийся не чем иным, как оттиском его собственной личности. Глядя на свое сокровище, он в принципе не хотел знать, что представляет собой его сын. Он думал лишь о том, каким тот должен быть. А на этот счет сомнений у короля не было: Фриц должен стать бравым солдатом, хорошим христианином, заботливым «наместником» Пруссии; он должен презирать модную ерунду, быть до мозга костей «германцем», радеть о «плюсах» государственного бюджета и плевать на бредни философствующих засранцев. Словом, он должен идти по стопам отца, увековечив дело и образ короля-солдата.
Но первые же меры, принятые Фридрихом Вильгельмом для воспитания своего сына, вошли в противоречие с его планами. До семилетнего возраста кронпринца воспитывала гугенотка, мадам Марта дю Валь де Рокуэлл, бежавшая из Франции в Берлин в 1685 г. Ее нежность и заботы Фридрих помнил всегда. (В 1737 г. он писал ей: «Я называю Вас матерью и надеюсь, что Вы позволите мне так Вас называть. Это имя принадлежит Вам в знак благодарности за заботы и труды, потраченные Вами за все годы. Уверяю Вас, я никогда этого не забуду! После моих родителей Вы — тот человек, которому я обязан больше всего».) Конечно, она разговаривала со своим питомцем исключительно по-французски. Французскими были первые звуки, дошедшие до его ушей, первые слоги, произнесенные его губами. Это был язык культуры, вызывавшей у его отца сильнейшее отвращение. А поскольку мать никогда не говорила с сыном ни на каких других языках, кроме французского и английского, а его любимая старшая сестра Вильгельмина едва ли знала хотя бы одно немецкое слово, в совершенстве владея французским, маленький Фриц с первых же дней жизни рос в мире, совершенно чуждом его отцу.
В мире женщин Фридрих Вильгельм оставлял своего сына пять лет. Летом же 1717 г. он продиктовал «правила обучения моего сына Фридриха в Вустерхаузене», построенные в принципе на замечательных педагогических основах, предложенных в свое время премьер-министром фон Данкельманом для воспитания самого Фридриха Вильгельма, выросшего богобоязненным человеком. Правда, король сделал и дополнения, слишком явно выдающие его собственную натуру. Прежде всего Фрицу надо прививать «любовь к солдатам». Мальчику следовало усвоить с детства: ничто в мире не приносит монарху столько славы и чести, «как шпага». Поэтому «Фрицхен» должен с самого начала почувствовать себя солдатом на действительной службе. Во всем ему следовало быть лаконичным и «опрятным». После пробуждения ему нельзя давать нежиться в постели, зевать, потягиваться и протирать глаза. Нет, кронпринц должен вскакивать, бежать к умывальнику, брать мыло и обливаться холодной водой, одеваться быстро и без помощи камердинера! Примечание Фридриха Вильгельма: «Фрица следует научить одеваться и раздеваться быстро настолько, насколько позволяют человеческие возможности».
Нетрудно представить, какую тоску вселяло в маленького кронпринца ожидание поездок в Вустерхаузен, какой ужас наводил на него мужественный мир отца. Во дворцы Берлина и Потсдама он мчался, едва переводя дыхание: скорее туда, в уютные и теплые покои женщин, где не звучит грубая немецкая речь отца, где бархат и шелк ласкают взор, где все говорят по-французски, все его холят и лелеют, где он перелетает из одного объятия в другое. Там все пахнет духами и звучит музыка, а Вильгельмина разучивает первые па менуэта; там мать нежно зовет его «mon bijou»,[34] а мадам де Рокуэлл обнимает своего маленького любимчика, порывисто целует большие и серьезные детские глаза и шепчет ему на ушко: «Mon cheri». На Рождество 1717 г. отец подарил ему роту свинцовых солдатиков, с ружьями и[35] барабанами, со знаменами и штандартами, да еще и маленькие пушечки в придачу, из которых можно было стрелять. Но «Фрицхен» на подарок даже не взглянул. Гораздо больше ему понравилось роскошное издание псалмов Маро с нотами мелодий. И скоро принц уже брал на лютне первые ноты и приводил своим талантом в восторг женскую публику.
Прекрасная жизнь, лишь изредка омрачавшаяся ненавистными выездами в Вустерхаузен, драматически изменилась в 1719 г., когда Фридриху исполнилось семь лет. Отец назначил воспитателями сына двоих офицеров, графа Финкенштейна и подполковника фон Калькштейна. Отныне к ежедневным занятиям добавилось также обучение строю, верховой езде и фехтованию. Возможно, эти честные, мудрые и доброжелательные мужчины смогли бы создать противовес одностороннему галломанскому влиянию женщин, смягчить оппозицию наследника, уже перераставшую в опасную неприязнь к отцу. Но Фридрих Вильгельм, лишенный всякой способности вникать в людские души, совершил вторую роковую ошибку: преподавателем наук он назначил бывшего гофмейстера графа Доны, французского эмигранта Дюана де Жандо. Дюан, весьма ученый человек и тактичный педагог, в два счета завоевал самую настоящую любовь маленького принца. Естественно, он его и «офранцузил», так что в голове мальчика все немецкое, представленное его отцом, низводилось до уровня неполноценного, полуварварского.
Не менее роковым явилось и другое «кадровое решение» короля, поручившего религиозное воспитание своего сына придворному священнику Андреа. Андреа педантично и бездушно вдалбливал в голову строптивого мальчика догмы христианства, бесконечно заставлял его учить наизусть псалмы и библейские стихи.
Его преемник Нольтениус тоже не понял, что смекалистому, критично настроенному и любознательному мальчику привить интерес к религии можно, лишь начав с изучения религиозной истории, причинно-следственных связей. Поэтому нет ничего удивительного в том, что, как показала проверка, кронпринц «не получил большую пользу от изучения христианства». Введение дополнительных занятий во второй половине понедельников не помогло, а привело лишь к утверждению принца в его антиклерикальных настроениях. Больше того: вместе с Вильгельминой, все сильнее влиявшей на брата, они начали представлять собой нечто вроде насмешливо-атеистической оппозиции берлинского двора, все чаще и чаще входившей в конфликт с наивными отцовскими верованиями. Когда брат и сестра, защищенные матерью, так никогда и не понявшей, какую роковую роль она сыграла, настраивая детей против отца, сидели над ее французскими «просветительскими» романами, где от издевок над религией все так и блистало, когда они упражнялись в сомнительном, не сдержанном никакими границами искусстве говорить с иронией и сарказмом, они, конечно, не ведали, что творят. Де-факто, они бросали в лицо отцу перчатку, вступая в провокационную конфронтацию и идя против его жизненной позиции и всех устремлений.
Король все чаще задавался вопросом: «Что происходит в этой маленькой голове? Я знаю точно: он думает иначе, чем я». Нередко он брал мальчика с собой на парады и в инспекционные поездки по воинским частям, но вскоре понял, что сын не имеет к ним ни малейшего интереса: он явно скучал и строил насмешливые мины. Тогда отец говорил двенадцатилетнему сыну: «Фриц, задумайся над моими словами: всегда держи хорошую армию! У тебя не будет лучшего друга, чем она, и никто тебя без нее не поддержит. Наши соседи ничего так не желают, как нашего падения. Я знаю об их намерениях, и ты тоже о них еще узнаешь. Поверь мне, не думай о славе, смотри реальности в глаза! Всегда надейся только на хорошую армию и на деньги. От них зависят слава и безопасность монарха…»
Снова и снова отец взывал к будущему королю, пытался с ранних лет донести до него мысль об опасностях, подстерегающих прусское государство. Конфликт между отцом и сыном четко обозначился, когда Фридриху исполнилось тринадцать лет.
Затем Фридрих Вильгельм день ото дня стал проявлять свое глубинное недовольство сыном все сильнее. Все ему не нравилось, все раздражало, все злило в мальчишке, не желавшем быть таким, как он сам; всем своим поведением сын причинял боль отцовскому сердцу. Разве не дал он Фрицу ясные, разумные указания по поводу того, как себя вести? Почему этот мальчик не желает хотя бы на минуту подумать о том, что однажды ему придется стать королем и примером для подражания? Фриц и знать не желал о голландской чистоплотности, соблюдать которую требовал отец; он постоянно пачкал себя духами и пудрой, подобно женщинам, боялся воды и мыла. И походка у него какая-то обманчивая, и даже намека на солдатскую выправку в нем не найти… Зато, танцуя, этот юный щеголь дрыгает ногами, как французская обезьяна! С простыми людьми господин сын разговаривать не изволит, потому что плохо понимает немецкую речь; да есть у него дела и поважнее. На охоту в Вустерхаузене этот неженка не ходит, в военном строе красоты не видит. Придет вечером в Табачную коллегию — и корчит там надменные рожи, вздрагивает при каждой солдатской шутке или возмущенно отмахивается своей ручкой с дурацкими манжетами от табачного дыма. А стоит отцу на параде или смотре прикрикнуть на этот «чертов сброд», забывший, как ружья держать положено, или вправить мозги господам офицерам, Фриц тут же презрительно отворачивается и показывает всем вокруг, как противны ему отцовские манеры. «Синие мундиры» для него, как он однажды при всех заявил, — это «похоронные кители». А сам одевается в шелк и золотую парчу — по последней французской моде, конечно. Если отец хочет честно с ним поговорить, сын делает вид, что умирает от скуки, либо ищет предлог сбежать на женскую половину.
Когда Фридрих Вильгельм обнаружил сознательное сопротивление сына, он предпринял грубую педагогическую контратаку. Начались приказы и ругань. В результате сын начал притворяться, избегать всяких попыток втянуть его в серьезную беседу либо уходил в высокомерное молчание. Граф Зекендорф, находившийся тогда в Берлине, сообщал принцу Евгению 27 июня 1725 г., что тринадцатилетний кронпринц начал терять свою отроческую беззаботность, что он производит странное впечатление, выглядит неестественно и чуть ли не дряхло. Проницательный граф-шпион увидел в этом результат постоянного притворства принца: тот питал глубокую неприязнь к образу жизни отца и испытывал растущее давление, поддаваясь ему только для вида. В дальнейшем педагогические стычки переросли в драматический конфликт поколений. Фридрих Вильгельм, глубоко уязвленный упрямством и неискренностью сына, усиливал контроль. Поймав сына на занятиях его любимой музыкой, он обзывал его «флейтистом-свистуном» или «рифмоплетом». Шлафрок из золотой парчи летел в огонь, французские романы конфисковывались и возвращались книготорговцу со строгим наказом больше не предлагать кронпринцу «развратное» чтиво. Сумму карманных денег отец сократил до предела (двадцать пять талеров в месяц), инструкции воспитателям ужесточались.
Возможно, все еще уладилось бы. Но после того, как 12 октября 1726 г. в Вустерхаузене заключили секретный договор с императором, отменявший великолепный проект «двойной свадьбы», в семье поселились раздражение и злоба. 1727 г. для всех стал чистилищем. Королева, глава английской партии, вынашивала в своих покоях планы мести, в то время как Зекендорф и Грумбков поддерживали короля в Табачной коллегии. Старшие дети, Вильгельмина и Фриц, принимали участие в интриге; мать обычно высылала их вперед. В течение двух лет Софья Доротея, которой уже перевалило за сорок, отбивала любовные атаки своего мужа: хватит с нее детей, она не машина по их производству. Однако открытой политической конфронтации королева избегала. Она ссылалась на мигрень, хваталась за сердце или уходила в свой кабинет. А Вильгельмине и Фрицу доставались окрики и пощечины — при виде того, как разрушается душа семьи, смутно чувствуя интриги за своей спиной, отец давал волю своему буйному темпераменту. И больше всего доставалось кронпринцу — ведь ему следовало быть на стороне короля! В борьбе за сына отец использовал средства неверные и почти крайние.
В начале 1728 г. показалось: перемирие близко. На свое 16-летие кронпринц получил чин подполковника прусской пехоты, а Софья Доротея сумела заставить короля взять с собой сына в официальную поездку к Августу Сильному в Дрезден. Однако на зеркальном дрезденском паркете раскол между отцом и сыном только усилился. В то время как тщеславный и легкомысленный принц переживал первое амурное приключение, Фридрих Вильгельм писал в Берлин: «Здесь христианской жизни и в помине нет. Но Бог свидетель: я не нахожу в этом удовольствия и чист так же, как в детстве, и с Божьей помощью останусь таким до своего конца».
В мае 1728 г. дрезденский двор нанес ответный визит в Берлин. Еще во время пребывания в саксонской метрополии Фридрих Вильгельм прекрасно понял, что его сыночек влюбился в капризную графиню Орсельскую, внебрачную дочь Августа Сильного. И дальнейший рост подросткового чувства кронпринца было решено пресечь с помощью строгого надзора. И все же молодые люди его перехитрили. Вместе с двумя юными польскими графинями Орсельская поселилась в доме скончавшегося в 1725 г. барона фон Принцена на Бургштрассе, напротив Кавалерского моста (позднее моста Кайзера Вильгельма), и там, несмотря на строгий надзор короля, свила любовное гнездышко. Ночным посетителем квартиры долго был прусский кронпринц, прошедший там полный курс секса и эротики. Лишь после отъезда польско-саксонских гостей отец узнал о «распутных» похождениях своего сына на Бургштрассе.
И о другой выходке кронпринца, на этот раз принявшей политическую окраску, король узнал лишь много дней спустя. 11 августа 1728 г., когда Фридрих Вильгельм находился в магдебургских землях с очередной проверкой (кронпринц уклонился от этой совместной поездки, сославшись на частые головокружения), Фридрих в сопровождении подполковника фон Калькштейна инкогнито прискакал из Потсдама в Берлин. В столицу он прибыл в три часа пополудни и был принят дамами как юный бог. Королева во второй половине дня вместе с девятью детьми уехала в Монбижо. При свечах и при широко распахнутых дверях состоялся, как пишет современник, «божественный концерт»; Фридрих и Вильгельмина в течение двух часов «превосходно аккомпанировали» на рояле. В десять вечера концерт окончился, а затем еще час был проведен в разговорах. Подавалось вино. К восторгу дам, русский посол по особым поручениям фон Мардефельд принес собственноручно написанный портрет 14-летней Натальи, сестры русского царя.[36] Чтобы расхвалить все ее достоинства, у посла просто не хватало слов. Пока кронпринц любовался портретом, Вильгельмина подшучивала над братом: возможно, очаровательная русская царевна когда-нибудь станет его невестой. Фридрих рассмеялся и заявил coram publico:[37]«О невесте я буду думать только через много лет. Но если придется ее выбирать, командовать собой я не позволю. Мне также хочется надеяться, что мой уважаемый папаша задумается наконец, захотелось бы ему самому брать в жены женщину против своей воли». Присутствующие сдержанно похлопали в ладоши. Слова наследника, сказанные в присутствии иностранного дипломата, воспринимались как едва ли не прямое объявление оппозиции королю, находившемуся в отъезде.
Достоин удивления тон этого юноши. Времена, когда принц казался Зекендорфу замкнутым и чуть ли не дряхлым, явно миновали.
Для Фридриха не прошел бесследно успех его дрезденского приключения, во время которого польско-саксонское общество осыпало прусского кронпринца розами. Самоуверенность молодого человека выросла настолько же, насколько ухудшилось здоровье и понизился международный авторитет сорокалетнего короля-солдата. Придворные и дипломаты уже привыкли оказывать почтение «восходящему солнцу»; капля за каплей интриги Вильгельмины и матери приносили результаты. И сын почувствовал: отец, выбираясь за пределы своего солдатского мирка, действует как неуклюжий медведь и другие монархи не воспринимают его всерьез. Он слышал, как отца за глаза называют «фельдфебелем на троне», считая его духовно и умственно ущербным и чуть ли не варваром. Кронпринц не обольщался почестями, воздаваемыми королю, видя, как ничтожно уважение мира к Пруссии. И все это усиливало неприязнь к отцу. Встречаясь с королем, Фридрих корчил надменные гримасы или презрительно ухмылялся. Почти ежедневно между ними происходили отвратительные сцены, причем отец бушевал тем сильнее, чем больше он чувствовал сопротивление сына. Кронпринц писал матери, уехавшей на лето:
«Я нахожусь в полном отчаянии. Король совсем забыл, что я его сын, и обращается со мной как с последним человеком. Этим утром я, но обыкновению, вошел в его комнату. Он тут же набросился на меня и самым жестоким образом стал избивать палкой, пока силы его не оставили».
Безвыходная ситуация. Отец — в беспомощном неистовстве, в полной изоляции, в преддверии сумасшествия. Сын — в отчаянии, его гордость оскорблена, уже не в первый раз он заигрывает с мыслями о самоубийстве. Вот доподлинные слова Фридриха: «У меня слишком сильное чувство собственного достоинства, чтобы терпеть такое обращение и дальше!» Компромисс между такими натурами исключался. Но кому следовало играть роль победителя, а кому — побежденного? 11 сентября 1728 г. принц садится за стол и пишет отцу следующее письмо:
«Мой дорогой папа! Я уже давно не могу решиться посетить своего дорогого папу. Иногда меня отговаривают, но чаще я боюсь еще худшего, чем обычно, приема, поэтому и решился написать письмо. Итак, я прошу своего дорогого отца смилостивиться надо мной. После долгих размышлений я убедился: моя совесть так и не указала на то, в чем я мог бы провиниться. Но если я без умысла чем-либо обидел моего дорогого папу, сим я всеподданнейше прошу прощения. Я неизменно надеюсь, что мой дорогой папа отбросит лютую ненависть, с которой я хорошо познакомился благодаря его поступкам. Иначе я не смогу убедиться в доброте отца и буду вынужден думать иначе. Проникаюсь доверием и надеюсь на милость моего дорогого папы ко мне».
Невероятный документ! И прочесть его надо не один раз. На первый взгляд письмо преисполненно покорности и смиреннейшей мольбы о прощении. В действительности же это речь прокурора: он обвиняет отца в «лютой ненависти» и во всем винит его. За собой сын так и не чувствует никакой вины; отцу пора «отбросить ненависть», то есть признать свои собственные ошибки. И все письмо пронизано ледяной иронией. И ко всему в придачу — шесть раз «дорогой папа», а за каждым «дорогим папой» — звонкая пощечина. Одна провокация следует за другой, сын дает отцу понять, что держит его за дурака.
Король-солдат не располагал оружием саркастических намеков и ироничных непристойностей, будучи грубым и прямым. Но неискренность, лицемерие и провокационный характер этого письма он понял. Диктуя ответ, он будто бился насмерть. Король отвел истерзанную душу, перечислил все недостатки своего «старшенького», и каждое предложение тут дышит разумной строгостью:
«Ты своенравный и злой мальчишка, не любящий своего отца. Ведь когда отца любят, выполняют его приказы. Причем не только когда он рядом, но и когда он тебя не видит. Кроме того, ты знаешь: я терпеть не могу неженок, не умеющих ездить верхом и стрелять, не курящих табак, неряшливых в одежде и носящих дурацкие прически. Я говорил об этом тысячу раз, но все напрасно, и без всяких улучшений. Наконец, ты грубый и чванный, не разговариваешь с людьми, не принадлежащими ко двору, ты не хочешь быть простым и общительным, корчишь дурацкие рожи и ни во что не ставишь мою волю, пока тебя не подчинят ей силой. Сначала возьмись за ум, а потом проси любви и радостей для себя. Это мой ответ. Фридрих Вильгельм».
Здесь сошлись два мира, и оба — непримиримы. Кронпринц и не думает изменить свое поведение и пойти навстречу отцу. Его тактика заключается в намерении либо перехитрить короля-солдата, либо спровоцировать его и выставить на посмешище, желательно в глазах других. То, что Фридрих называет «чувством собственного достоинства», делает его опаснейшим врагом отца, все чаще оказывающегося несправедливым из-за своей грубости. 3 января 1729 г. в столовой берлинского дворца произошла невероятная сцена. Кроме короля и кронпринца, там присутствовали князь Леопольд Анхальт-Дессауский и его сын Леопольд, саксонский посол фон Зуум и множество генералов. Кронпринц начал жаловаться господину фон Зууму на скаредность отца и жизнь в вечной кабале. Между тем он поглядывал на короля, и, когда тот ответил на взгляд сына, Фридрих выразительно крикнул: «И все же я люблю тебя!» Затем он снова продолжил свои жалобы, а убедившись, что все их услышали, Фридрих сделал паузу и вдруг бросился на шею отцу, который, пожалуй, только один и догадывался о неискренности сына. «Ладно, хватит, будь только хорошим парнем», — смущенно пробормотал король, в то время как обманутая и растроганная до слез публика начала выкрикивать тосты в честь кронпринца. Это было неслыханно, это была просто невероятная наглость, грязная комедия от начала до конца.
Вечером Фридрих опять сидел рядом с послом фон Зуумом в Табачной коллегии и презрительно разглядывал отца, пившего пиво и ругавшего «чернильные души». Для сына этот табачный парламент (он назвал его по-французски «tabagie») являлся воплощением зла. Надменно разглядывал он грубое мужицкое общество, едва сдерживаясь, наблюдал за хамскими повадками старой прусской военщины. До какой степени иным миром был для него салон королевы, показывают первые стихи, написанные им:
И все же в отношениях между отцом и сыном целый год соблюдалось нечто вроде перемирия. Стороны не стали ближе друг другу, но все же старательно избегали соблазнов пошевелить угли потухавшего костра. Свое 17-летие кронпринц встретил, разработав тайный план. О его исполнении стало известно в августе 1730 г., а пока Фридрих никому об этом плане не рассказывал. Фридрих Вильгельм, со своей стороны, тоже нуждался в мире: королева снова была беременна, и он желал удержать ее от всяких волнений. Он даже не спорил с сыном, устраивавшим скандал за скандалом. Отношения короля со старшей дочерью Вильгельминой тоже вконец испортились после краха проекта «двойной свадьбы». И Фридрих Вильгельм страдал из-за этого несказанно.
28 февраля 1730 г. в три часа пополудни король, приехавший с сыном из Потсдама в берлинский дворец, немедленно отправился в спальню жены. Софья Доротея, беременная уже шестой месяц, держалась за виски и жаловалась на сильные боли в животе. Фридрих Вильгельм начал ее утешать: «Фикхен, отошли этого доктора Шталя; твоим лейб-медиком теперь буду я. Перестань пить крепкий кофе, это никуда не годится! Ты не должна пить ничего, кроме бульона. Тогда и волнение пройдет…» Софья Доротея, послушная жена, скушала большую чашку бульона и скоро почувствовала облегчение. Довольный король походил, держа руки за спиной, перед кроватью жены, присел на краешек, взял жену за руку и сказал: «Фике, ты у меня уже двадцать четыре года. И я желаю сохранить тебя до конца своей жизни. С ребенком Бог пусть делает что хочет, лишь бы он оставил мне тебя». Затем вошли и Фриц с Вильгельминой. Всхлипывая, принцесса бросилась отцу на шею: «Папа снял с меня тягостную немилость! Я прошу своего дорогого папу любить меня по-прежнему». Фридрих Вильгельм погладил дочь по голове и сказал: «Все хорошо, Вильгельмина. Ты навсегда моя любимая дочь». Затем в переднюю подали ужин, и все девять детей сели за стол. Отец ходил от стола к постели жены и обратно, рассказывал анекдоты и смешные истории, громко смеялся и хлопал детей по плечам. Каждое слово и жест короля дышали семейным счастьем. Когда младший ребенок, четырехлетний Генрих начал плакать из-за того, что ему перед сном больше не дают его любимой рыбы, отец сказал старшей дочери: «Вильгельмина, дай ему немножко, пусть успокоится… Пока мама нездорова, заботиться о Генрихе будешь ты…»
Семейная идиллия оказалась обманчивой. Через три месяца, 23 мая, Фридрих Вильгельм торжествовал: родился здоровый мальчик, принц Фердинанд, и «четверка» мальчиков была наконец в полном составе. Но уже через несколько дней обстановка изменилась: ожидался приезд сэра Чарльза Хотхэма, британского посла по делам «двойной свадьбы». В один миг берлинский дворец вновь охватили интриги: начались усобицы английской и австрийской партий.
Мы уже знаем: король-солдат, атакуемый со всех сторон, очень долго не мог принять решение, и его переговоры с Хотхэмом привели к весьма драматичному итогу. В заключительном скандале не в последнюю очередь виноват оказался наследник трона. Граф Зекендорф подбросил сообщение из Лондона, где говорилось, как кронпринц по настоянию матери написал королеве Великобритании письмо и торжественно поклялся ей не жениться ни на ком, кроме английской принцессы.
Фридрих Вильгельм был взбешен. Так-то обращаются с ним, абсолютным монархом Пруссии? Тайная дипломатия за его спиной? Заговор против его королевского суверенитета, организованный женщинами и собственным сыном, дабы осмеять его перед всем миром? Сэру Чарльзу пришлось уклоняться от пинков короля. Но и упрямого сына разъяренный король избил до крови. Отныне отец и сын даже не скрывали ненависть друг к другу.
Кронпринц был вне себя: кричал в покоях королевы, что не намерен терпеть «эту собачью жизнь» дальше, что «тем или иным способом» положит ей конец. И кронпринц принял решение, сообщив о нем по секрету лишь Вильгельмине: бежать из Пруссии. Побег он обдумывал и в день своего 17-летия. Примерно за полгода до того Фридрих познакомился с неким лейтенантом Гансом Германом фон Катте. 27-летний Катте, сын прусского генерал-лейтенанта, служил в элитном жандармском полку, расквартированном в Берлине. Он был галантен, любезен, образован и тщеславен до мании величия, прекрасно играл на флейте и на фортепьяно и почитал кронпринца сверх всякой меры. Посвятив Катте в план своего побега, Фридрих нашел в легкомысленном лейтенанте не только полное понимание, но и активную поддержку. Бежать он собирался в Англию через Голландию или Францию. Для реализации плана предполагалось использовать совместную с королем поездку на юг или на запад Германии. Катте должен был позднее бежать из Берлина.
В свои намерения Фридрих посвятил и британского посла, а это уже смахивало на подготовку к государственной измене и являлось результатом безответственного поведения Софьи Доротеи, настраивающей сына против отца. Королева науськивала на него старших детей уже много лет. Уже давно она вела тайные переговоры с послами западных держав, Англии и Франции, пытаясь ослабить австрийское влияние Зекендорфа и Грумбкова. Шаг за шагом она толкала сына чуть ли не на предательство своего отечества. Фридрих брал деньги, и большие притом, у английского и польского дворов, вел переговоры и с Версалем. Французский посол сообщал в депеше из Берлина: «Чтобы разоружить отца, необходимо создать партию кронпринца и привлечь на его сторону нескольких офицеров… Думаю, это вполне возможно. В любом случае следует воспитывать принца в благоприятном для Франции отношении». Кронпринц оказался в величайшей опасности: еще шаг — и он становился настоящим предателем! Сын короля находился на грани преступления, каравшегося смертью. Фридрих Вильгельм I, даже не подозревавший о замышлявшихся втайне от него планах, назначил на середину июля поездку в западные страны. На вопрос Грумбкова, возьмет ли тот с собой кронпринца, король ответил утвердительно, мрачно добавив, мол, все уже и так видели, как этот юный хлыщ ведет себя за границей. Король-солдат и не подозревал, что эта поездка станет переломной для его жизни, для его роли отца и главы семейства.
15 июля 1730 г. король с кронпринцем и свитой из двадцати четырех человек отправился в поездку на запад. Дорога проходила через Лейпциг, Кобург, Бамберг, Эрланген и Нюрнберг в Ансбах. Группа прибыла в Ансбах 21 июля и провела там десять дней. Отец и сын почти не разговаривали друг с другом, но и стычек между ними не было тоже. Фридрих написал письмо лейтенанту фон Катте: тот должен был приготовиться. В случае удачного бегства кронпринца Катте должен был тут же покинуть Берлин, чтобы встретиться с Фридрихом в Гааге.
31 июля процессия выехала из Ансбаха и отправилась по направлению к Хейльбронну. Ночь с 4 на 5 августа провели недалеко от Зинсгейма, в деревне Штайнсфурт. Этой ночью Фридрих и решил бежать. В предрассветных сумерках он стоял у амбара и ждал сообщника, пажа Кайта, который должен был явиться с лошадьми. Но провожатые кронпринца в последний момент одумались, сорвав предприятие. Отец так ничего и не заметил. Вместе с сыном они днем осматривали достопримечательности Мангейма. Фридрих снова потребовал от пажа обеспечить его свежими лошадьми; тот, испугавшись, вечером бросился королю в ноги и поведал о планах кронпринца. Два дня Фридрих Вильгельм делал вид, будто ничего не случилось. 8 августа было перехвачено письмо от Катте, убедительно изобличающее намерения принца. И тогда король набросился на сына, причем в прямом смысле слова. Он приказал арестовать Фридриха и доставить его на речной корабль. Схватив сына за волосы, он таскал его по палубе и бил палкой до тех пор, пока у того не пошла кровь из носа. «Никогда еще лицо бранденбургского принца не покрывалось такими знаками бесчестья!» — в отчаянии воскликнул Фридрих.
По распоряжению короля с принцем обращались как с государственным преступником. Конвоиры получили строжайший, под угрозой смертной казни, приказ: по Рейну доставить арестанта в прусскую крепость Везель. Живым или мертвым! 12 августа в Везеле отец и сын встретились снова. Короля трясло от едва сдерживаемой ярости. Смертельно бледный Фридрих встретил отца с высоко поднятой головой. Далее последовал следующий диалог:
Король. Почему ты хотел дезертировать?
Принц. Потому что вы обращались со мной не как с сыном, а как с последним рабом!
Король. Ты и есть всего лишь жалкий дезертир, в тебе нет и намека на честь!
Принц. У меня столько же чести, сколько и у вас. И я сделал лишь то, что вы, по вашим собственным словам, сами сделали бы уже давно.
Фридрих Вильгельм пошатнулся. (Он и в самом деле прокричал однажды сыну: «Если бы мой отец обращался со мной так же, как я с тобой, я бы уже давно сбежал от него!») У него перехватило дыхание; лицо короля побагровело, а глаза полезли из орбит.
В бешенстве он выхватил шпагу. Но тут комендант крепости, генерал-майор фон Мозель, встал на его пути, широко расставив руки: «Сир, проткните меня! Но пощадите своего сына…»
В Берлине ничего не знали о происшествии на Везеле. 15 августа, сорок второй день рождения короля, проходит в развлечениях. На следующий день становится известно об аресте лейтенанта фон Катте. Но трагедии из этого никто не делает; королева устраивает во дворце Монбижо роскошный пир на 27 персон. Лишь к вечеру тучи страха и неизвестности собираются над прусской столицей.
На следующий день придворная дама, обер-гофмейстер королевы г-жа фон Камэке, получает от короля письмо, написанное 12 августа в Везеле: «Фриц хотел дезертировать. Я счел нужным отдать приказ о его аресте. Прошу Вас известить об этом мою жену, постаравшись не испугать ее. Во всем обвиняйте несчастного отца». И только тогда в берлинском дворце началась настоящая паника. Королева и принцесса Вильгельмина завладели шкатулкой кронпринца с письмами и записками, способными выдать причастность обеих дам. Они были уничтожены, а затем Софья Доротея и Вильгельмина всю ночь напролет писали невинные письма их и положили в шкатулку. В страхе прошли десять дней. Охочая до удовольствий королева отменила, как сообщал брауншвейгский посол, все намеченные увеселения.
Воскресным вечером 27 августа прибывший из Потсдама Фридрих Вильгельм I появился у берлинского дворца. Он сообщил собравшимся армейским офицерам пароль: «Бог и Бранденбург». Затем один унтер-офицер и три гренадера привели лейтенанта фон Катте; внесли и его опечатанный письменный стол с потайными ящиками. Присутствовали генерал-майор Грумбков и два важных судебных чиновника, Мюлиус и Гербет. Когда вошел король, Катте упал перед ним на колени: Фридрих Вильгельм сорвал с шеи лейтенанта мальтийский крест и начал бить Катте чем попало: ногами, руками, палкой. На допросе Катте сразу признался, что хотел помочь кронпринцу бежать и собирался в побег сам. Но слово «Англия», которое ожидал услышать король, считавший эту страну целью побега, Катте так и не произнес.
В соседней комнате умирали от страха королева и ее статс-дамы. Когда король вошел, дрожащая Софья Доротея шагнула ему навстречу. Муж поприветствовал ее сообщением о казни этого негодяя Фрица. Но одна из дам шепнула королеве, что это неправда; она знала совершенно точно: кронпринц еще жив. Фридрих Вильгельм грубо потребовал выдать ему личные бумаги кронпринца. С красным от гнева лицом он начал рыться в письмах, заблаговременно подброшенных сестрой и матерью. Между тем в комнату вошли сыновья Август Вильгельм и Генрих в сопровождении шести дочерей. Отец набросился на Вильгельмину, подобно тигру. Он бил принцессу по щекам, досталось ей и палкой. Визжащие и плачущие дети столпились в кучу. Но король не мог себя сдержать. Он кричал, что найдет доказательства вины Фрица и Вильгельмины, а потом казнит их. Рыдающая королева убежала прочь. Г-жа фон Камэке отважно заслонила собой Вильгельмину и стала говорить королю: «Сир, прежде вы находили славу в том, чтобы быть справедливым, богобоязненным королем. Побойтесь же и сейчас нарушить Божьи заповеди! Оба монарха, убившие собственных сыновей, Филипп II и Петр I, умерли, не оставив наследников. Весь мир будет произносить ваше имя с отвращением. Возьмите себя в руки, ваше величество! Приступ гнева можно простить. Но теряющий самообладание становится преступником…»
Фридрих Вильгельм схватился за голову, будто проснулся после страшного сна. Он подошел к г-же фон Камэке, долго смотрел ей в глаза и, откашлявшись, сказал: «Вы слишком смелы, мадам. Но я не злюсь на вас. Вы думаете правильно. Я уважаю вас за откровенность. Ступайте, успокойте мою жену».
4 сентября кронпринца, доставленного с Рейна через Миттенвальде и Тройенбритцен, посадили в камеру крепости Кюстрин. Днем позже его учителю Дюану де Жандо было приказано покинуть столицу в течение шести часов и ехать в Восточную Пруссию, в город Мемель. В тот же день Фридрих Вильгельм издал распоряжение, адресованное губернатору Кюстрина:
«Дорогой генерал-майор и губернатор фон Ленель! Я требую Вас уделять арестованному принцу Фридриху пристальное внимание. Вы не должны разрешать ему разговаривать ни с кем, кто бы то ни был, даже с его слугой, когда тот будет рядом с ним. Слуга должен жить не при нем, а в городе. Когда он будет приносить еду или белье, всегда должен присутствовать офицер, дающий на то согласие и внимательно следящий за происходящим, дабы слуга тайком не передал арестанту письмо или какие-нибудь вещи. Вы также не должны разрешать арестованному отправлять или получать письма. Обо всем, что он делает, Вы должны каждую неделю писать рапорт и представлять его мне. Если кто-то будет устно или письменно спрашивать Вас о самочувствии и поведении арестованного, Вы не должны отвечать никому, в том числе и коменданту крепости, заранее его об этом предупредив».
Король-солдат распорядился также приносить принцу еду из кюстринского трактира: обед стоимостью в шесть, а ужин — в четыре гроша. В ноже и вилке ему следовало отказывать: измельчал мясо ножом дежурный офицер. В середине октября кронпринц дал пощечину лейтенанту, пришедшему, как и полагалось, в восемь часов вечера тушить свечу в его камере. А над тайным советником Гербетом, когда тот потребовал объяснений, Фридрих только посмеялся: «Что ему надо? Допрашивать он может мошенников и воров, а не меня…» 22 октября король распорядился о созыве военного трибунала.
Через три дня военный трибунал под председательством генерал-майора фон дер Шуленбурга собрался в Кепенике. Трибунал составляли три генерал-майора, три полковника, три подполковника, три майора и три капитана. Генерал-аудитор Мюлиус, тайный советник Гербет и аудитор жандармского полка Румпф входили в состав трибунала без права голоса, в качестве консультантов. Для вынесения решения трибуналу понадобилось три дня. По поводу кронпринца трибунал объявил себя не в состоянии «судить о сыне и семье нашего короля»: сын предавался отцовской милости. Лейтенанта фон Катте, признанного виновным в заговоре против короны и попытке дезертировать из армии, девять офицеров решили приговорить к смерти, а семь — к пожизненному заключению. Поскольку голос председателя был решающим, а генерал-лейтенант фон дер Шуленбург высказался за более мягкий приговор, трибунал рекомендовал королю наказать Катте пожизненным заключением в крепость.
В первой половине дня 29 октября Фридрих Вильгельм прочитал решение трибунала. Он пришел в ярость, швырнул бумаги на пол и велел вызвать к себе тайного советника Гербета. Тот все же остался на стороне трибунала. Вечером король-солдат бушевал в Табачной коллегии: ему нужна была голова «этого дезертира Фрица». Генерал фон Будденброк выскочил и крикнул: «Сир, если вы непременно жаждете крови, пролейте мою! Но кровь принца вы не получите, пока жив я…» Старый князь Леопольд тоже энергично выступал за кронпринца. Как имперский князь, он утверждал, что и кронпринц Фридрих, будучи курпринцем Бранденбургским, является таким же имперским князем. А стало быть, король не имеет права расправляться с сыном самочинно, в обход императора. Фридрих Вильгельм вспылил: «Вы так думаете, князь? Отлично. Если император и империя захотят отказать мне в праве судить курпринца Бранденбургского, я велю доставить дезертира Фрица в Пруссию (т. е. в провинцию Восточная Пруссия. — Примеч. авт.) и буду вершить справедливость там, в суверенном королевстве…»
На следующий день, 30 октября, граф Зекендорф передал королю-солдату письма от императора и от принца Евгения, взявшихся быть посредниками. Прочитав послания, Фридрих Вильгельм на два дня уединился в Вустерхаузене. Жизнь его сына была спасена! Что же касается лейтенанта фон Катте, то 1 ноября 1730 г. король издал следующее предписание трибуналу:
«Относительно лейтенанта фон Катте, его преступления и вынесенного по этому делу приговора военного трибунала: Е.К.В. не привык настаивать на самых суровых карах, но, напротив, всегда старался по возможности смягчить их. Однако этот Катте — офицер, состоявший на службе не просто в моей армии, а в жандармском полку. А поскольку армейские офицеры должны быть мне верны, такой верности тем более следует ожидать от офицеров полка, предназначенного для охраны лично Е.К.В. и Его королевского дома. Но Катте вступил в заговор с будущим королем и готовил побег вместе с иностранными министрами и послами, в то время как он не только не должен был так поступать, но, напротив, был обязан доложить о покушении на заговор Е.К.В. и господину генерал-фельдмаршалу фон Нацмеру. Поэтому Е.К.В. не видит причин, но которым военный трибунал не приговорил его к смерти.
Е.К.В. никогда не поступит таким образом с офицером или чиновником, оставшимся верным своей присяге и долгу. Но если подобные вещи произошли однажды, они могут повториться. И все преступники отныне смогли бы ссылаться на то, как поступили с Катте и как легко он отделался, а потому требовать такого же отношения к себе.
В своей юности Е.К.В. тоже прошел школу и выучил латинскую пословицу: „Fiat justitia et pereat mundus“.[38] Итак, настоящим Е.К.В. изъявляет свое основанное на законе решение: хотя за подготовку преступления против Его Величества Катте заслужил, согласно законам, растерзание раскаленными клещами, но, уважая семью Катте, его должно лишить жизни с помощью меча».
Последний абзац этого документа гласил:
«Военный трибунал, зачитывая Катте приговор, должен ему сообщить, что Его Королевское Величество весьма опечален. Однако будет лучше, если умрет он, чем если бы из мира ушло правосудие. Вустерхаузен, 1 ноября 1730 г. Фридрих Вильгельм».
6 ноября лейтенанта Катте, за три дня до того доставленного из Берлина в Кюстрин, повели на казнь. Она совершилась внутри крепости, и на эшафот преступнику пришлось пройти мимо камеры кронпринца. Бледный как смерть кронпринц стоял у решетки; его поддерживал дежурный офицер. Когда Фридрих увидел своего друга, шагающего твердой походкой, с шляпой под мышкой левой, как и предписывал устав, руки, он разрыдался. «Катте, мой милый! Прости! Тысячу раз прости! — закричал кронпринц по-французски. — Умоляю именем Бога: прости!» Катте почтительно послал ему воздушный поцелуй и прокричал в ответ: «Не надо просить прощения, мой принц! Я рад умереть за вас». Перед тем как палач нанес смертельный удар, кронпринц потерял сознание.
Страшное известие потрясло страну. Свинцовая тишина нависла над Пруссией. Королева заперлась в своих покоях. Принцесса Вильгельмина, вызывавшая преклонение лейтенанта фон Катте, переживала тяжелое нервное потрясение. Через две недели после казни на парадном плацу Потсдама произошел знаменательный инцидент: восьмилетний принц Август Вильгельм, обучавшийся главным приемам обращения с мушкетом, отказался продолжить занятия. Король увидел это, подошел и сказал: «Если ты не будешь заниматься дальше, ты не сможешь носить темляк». Мальчик пристально посмотрел на него и ответил: «Дорогой папа! Я как раз хотел его вернуть…» Отец гневно прервал его: «Тогда ты не сможешь стать офицером!» Маленький принц сказал: «Я об этом и не прошу! Мой дорогой папа велит рубить головы своим офицерам…» Тут же он стал получать одну оплеуху за другой. Затем принц отправился под домашний арест. Его воспитатель, военный советник Линденер, был строго предупрежден.
В конце ноября, через три месяца заключения, кронпринца Фридриха освободили из тюрьмы. Он мог покинуть крепость, но перед этим должен был дать клятвенное обещание. Во-первых, он обязался никому не мстить за свой арест, во-вторых, отныне во всем подчиняться отцовской воле, в-третьих, не жениться без ведома и согласия короля. В случае нарушения клятвы Фридрих лишался прав наследника трона и достоинства курпринца Бранденбургского.
Через два дня после освобождения в семь часов утра кронпринц приступил к исполнению обязанностей в кюстринской камер-коллегии, куда был направлен по распоряжению отца. Официально его должность называлась «судебный следователь», то есть кронпринц был стажером. Носить униформу ему не приходилось — он был отчислен из прусской армии. Служба в камер-коллегии продолжалась ежедневно с семи до половины двенадцатого, а затем с пятнадцати до семнадцати часов. Кронпринц был обязан слушаться председателя камер-коллегии, основательно изучать дела и аккуратно проверять все счета. Во второй половине дня Фридриху предстояло заниматься перепиской либо слушать лекции камер-директора Гилле и военного советника Хюнэке по финансовому или полицейскому делу, но в основном по разным отраслям экономики. В перерывах допускались беседы с инструкторами, темы которых также ограничивались королем: «о слове Божьем, об устройстве и законах государства, о мануфактурах, о полиции, о возделывании земель, о финансовых отчетах» и так далее. Впервые в жизни Фридрих занялся полезным делом. Бессмысленной жестокостью явилось ограничение права на переписку: одно письмо в месяц отцу и одно матери, и больше никому. Кроме того, кронпринцу запрещалось слушать музыку и играть на флейте. Во французском чтиве Фридриху было отказано. Если уж ему непременно хотелось читать, он мог взять Библию, сборник евангельских песнопений или труд Арндта «Об истинном христианстве».
Декабрь 1730 г., вплоть до кануна Рождества, король провел в Потсдаме. Гнев все еще не покидал его. Трижды он приглашал в гости своего друга, князя Леопольда, и трижды получал отказ, что не улучшало его настроения. Гнетущая атмосфера царила и в берлинском дворце. Королева до сих пор не выходила из своих комнат. Страх и угрызения совести продолжали мучить ее. С 7 ноября Вильгельмина лежала в постели и ни с кем не разговаривала. Брауншвейгский посол сообщал: «Во всем дворце стоит тишина».
Рождество 1730 г. прошло мрачно. Сочельник пришелся на воскресенье. Во второй половине дня король отправился на рождественский базар и накупил для маленьких принцев и принцесс «всяческих забавных вещиц». Вечером королева могла раздать подарки детям. Но согласно приказу короля, Фриц и Вильгельмина не получили ничего. Члены семьи почти не разговаривали друг с другом. Женщины и девочки ходили с унылыми лицами. О единственной радости короля-солдата в эти мрачные дни сообщал брауншвейгский посол: «В первый день Рождества генеральская вдова фон Дёрфлинг принесла королю во дворец блюдо тушеной кислой капусты с зажаренным гусем, поскольку Его Вел. очень любит это кушанье, а на второй день праздника — блюдо прекрасных яблок, также милостиво принятых».
И лишь в апреле 1731 г. забрезжила надежда на то, что король поставит «милость выше права» и сделает шаг к примирению с сыном. Вся Европа являлась горячей сторонницей Фридриха. И в то время как король поражал мир своей грубостью и безвкусицей — именно тогда он похоронил придворного шута Гундлинга в винной бочке, — брауншвейгский посол сообщал (28 апреля) из Берлина:
«В сообщениях из Кюстрина говорится: кронпринцу присылают разные деликатесы, вина, снедь, ликеры и другие подарки из Франции, Англии, Голландии, Гамбурга, Любека, Данцига и других мест, причем анонимно; видимо, иностранные монархи весьма сострадают этому необычному принцу; они продолжают надеяться, что после их подарков король скорее позволит ему дышать полной грудью».
И все же перелом в конфликте отца и сына наметился лишь 10 мая. В этот день князь Леопольд, четырежды отклонявший приглашение короля, приехал в Потсдам и вместе с герцогом Бевернским посетил дворец. Король-солдат, осчастливленный появлением друга, старого князя Леопольда, надолго закрылся на совещание с обоими посетителями. Князь Леопольд атаковал августейшего друга требованиями заключить наконец мир со своими старшими детьми. Он, князь Леопольд, и сам может съездить в Кюстрин и привезти сюда кронпринца. И хотя Фридрих Вильгельм остался непоколебим в отношении к Фридриху, он намекнул на возможность примирения с принцессой.
Через две недели Вильгельмина вместе с принцессами, 12-летней Софьей и 8-летней Амалией, ожидали в берлинском дворце короля, официально объявившего о встрече с ними. Едва отец вошел, рыдающая Вильгельмина бросилась ему в ноги, умоляя о «милостивом прощении» за то, что «рассердила» дорогого папу. Потрясенный ее раскаянием, отец поднял принцессу и обнял ее. Но Вильгельмине тут же пришлось дать ему обещание отказаться от «английского вздора» и выйти замуж за того, кого найдет для нее отец. Тут появилась и королева, не видавшая любимую дочь Вильгельмину с конца января. Стоит ли говорить, как рада она была примирению дочери с отцом! Брауншвейгский посол сообщал своему двору: «Не хватало лишь одного: если бы кронпринц снова оказался на свободе, радость достигла бы вершины».
Вечером того же дня король написал очень серьезное письмо гофмаршалу фон Вольдену, стерегущему его сына в Кюстрине и заботившемуся о нем:
«Ваш подчиненный, кронпринц, должен приучаться вести скромный образ жизни: выбросить из головы всю английскую и французскую дурь, оставить только прусское и иметь немецкое сердце! Он также должен узнать, что его старшая сестра через четыре недели выходит замуж за маркграфа Байройтского: a propos[39] я считаю, Фридриху также нужно жениться на принцессе, не принадлежащей к английскому королевскому дому. Но у него будет возможность выбора, о чем, впрочем, Вы можете ему сказать».
15 августа 1731 г., в сорок третий день рождения короля, состоялась наконец встреча отца и сына, не видевшихся уже год. Грумбков изобразил ее следующим образом.
Прибыв в Кюстрин, Фридрих Вильгельм I, в сопровождении «многих сотен людей», тут же направился в дом губернатора. Короля сопровождали генералы Грумбков и Лепель, а также полковник фон Дершау. Гофмаршал фон Вольден отправился за кронпринцем, и через несколько минут Фридрих в сопровождении камер-юнкеров фон Роведеля и фон Нацмера вошел в комнату, где король стоял у окна и барабанил пальцами по стеклу. Когда отец обернулся, сын упал перед ним на колени. Фридрих Вильгельм велел сыну встать и тут же набросился на него: «Слушай, мой мальчик: даже если бы тебе было шестьдесят или семьдесят лет, ты и тогда не смог бы мною командовать!» Далее грозным тоном были еще раз перечислены все прегрешения принца, и прежде всего долги: живущий в долг подобен вору. Думал ли он, сын, о том, что, собственно, произошло бы в случае удачного побега? «Ты разбил бы сердце своей матери, а Вильгельмина всю жизнь провела бы в месте, куда не заходят ни солнце, ни луна».
И пока мертвенно-бледный кронпринц, стиснув зубы, слушал короля, тот расхаживал перед ним по комнате. Наконец король перевел дыхание и заговорил спокойно и серьезно: «Прошел уже год со дня твоего позорного поступка. Ты помнишь, какой страшный, безбожный поступок ты совершил. А ведь я с детства держал тебя при себе: делал все, и добром, и силой, чтобы ты стал честным человеком. Из-за твоего дурного поведения я не раз обращался с тобой грубо и жестоко, но делал это в надежде, что ты образумишься, будешь вести себя хорошо и попросишь прощения. Но все было напрасно. Ты всегда был упрям».
Внезапно король остановился перед сыном и напрямую спросил: была ли Англия истинной целью его побега? Принц, на всех допросах отрицавший это намерение, ответил утвердительно. Король кивнул и сказал: «Единственное, чем можно загладить вину, — это попытка загладить ее во что бы то ни стало, из всех сил». Принц бросился королю в ноги и стал молить его о самых тяжелых испытаниях: он вытерпит все, лишь бы вернуть милость короля. Отец пристально посмотрел на сына, а затем задал свой главный вопрос:
Король. Ты подговорил Катте? Или Катте подговорил тебя?
Принц. Я подговорил его…
Король. Наконец-то ты сказал правду. Мне это нравится.
Принц медленно встал на ноги. В комнате воцарилось молчание. Фридрих Вильгельм спокойно продолжал: «Как тебе нравится жизнь в Кюстрине? Ты все еще ненавидишь Вустерхаузен и „похоронные кители“, как ты называл униформу? Наверное, да, потому что тебе не нравится мой образ жизни. Это понятно: у меня нет французских манер, я не умею остроумно говорить, что, впрочем, считаю признаком бездельников. Нет, я немецкий князь, таким я буду и таким умру! Так скажи мне, чего ты добился благодаря своему упрямству и злому сердцу? Ты всегда ненавидел все, что люблю я. Когда я что-то замечал, ты этого не видел. Если я отправлял под арест офицера, ты жалел его и ходатайствовал за него. Настоящих друзей, которые со мной заодно, ты ненавидел и избегал. Но тех, кто тебе льстил и укреплял в злых намерениях, ты привечал… Плоды своего поведения ты пожинаешь теперь…»
Вскоре король перешел на «язык религии» и стал, по свидетельству Грумбкова, говорить сыну, «какие horrible suiten (страшные последствия. — Примеч. авт.), в соответствии с absoluto decreto (в соответствии с кальвинистским учением о предопределении. — Примеч. авт.), влечет за собой грех, которым Бог отмечает грешника». Кронпринц стал клятвенно заверять отца в том, что разделяет его христианские убеждения. Фридрих Вильгельм сказал: «Если безбожник согрешит против своего долга, против Бога, короля и отца, он должен упасть на колени и страстно просить Иисуса Христа спасти его и наставить на путь истинный. И если молитва исходит из сердца, то Иисус, возлюбивший всех людей, его услышит».
Он протянул сыну руку и сказал, что прощает ему все. Фридрих разрыдался.
Взволнованный король отвернулся и вышел в соседнюю комнату. Кронпринц пошел за отцом и поздравил его с днем рождения. Фридрих Вильгельм обнял сына, а затем покинул губернаторский дом и направился к карете. Фридрих последовал за ним и на улице, в присутствии «многих сотен людей», поцеловал ему ноги. Король поднял его со словами: «Я верю в твою преданность и хочу заботиться о тебе и дальше».
Через три дня после кюстринской встречи с сыном Фридрих Вильгельм въехал в столицу. Было около одиннадцати утра. Толпы ликующих берлинцев провожали карету короля до самой дворцовой площади, так как разнесся слух, будто отец и сын окончательно помирились и кронпринц возвращается домой, к матери. Публике пришлось испытать разочарование: кронпринц Фридрих из кареты не вышел. Через десять дней берлинцы повалили к Монбижо, надеясь увидеть боготворимого принца там, на вечернем концерте у королевы. Брауншвейгский посол сообщал: «Они обманулись в своих надеждах, однако стало известно, что возлюбленный ими кюстринский узник снова вернется в Вустерхаузен. На этой неделе полковник фон Вреех принимает его в своем прекрасном поместье, расположенном в двух милях от Кюстрина; там принц должен день за днем наслаждаться вместе с полковником охотой».
Однако Фридрих не собирался отправляться в Вустерхаузен; по приказу короля, местом его постоянного пребывания остался Кюстрин. Правда же заключалась в том, что сейчас кронпринц, с согласия короля, смог покинуть этот город и совершить небольшое путешествие по его окрестностям. После этого он, как и прежде, принялся за работу «стажера» в кюстринской камер-коллегии. Но теперь в его обязанности входило инспектирование королевских поместий (доменов) и подробное их описание, для чего кронпринцу приходилось вести обстоятельные беседы с арендаторами и крестьянами. Вернувшись в Кюстрин, он должен был составить детальный отчет о поездке и выслать его отцу на проверку. Ему следовало находить великое в малом.
Воскресным днем 18 ноября 1731 г. в Берлине состоялось обручение принцессы Вильгельмины и маркграфа Байройтского. Впервые за полтора года после катастрофы в Везеле все увидели короля-солдата довольным. Еще бы! Ведь это обручение окончательно разрушало злополучный проект «английской свадьбы»! (Король и помыслить не мог, что уже через полтора года эта интрига получит продолжение.) Фридрих Вильгельм лично проверил все приданое невесты и убедился в его отменном качестве. По возвращении из церкви молодые легли в постель «в присутствии роскошно одетой именитой публики». Фридрих Вильгельм произнес для новобрачных трогательную и смешную речь, спел песенку и потребовал от них сомкнуть уста в страстном поцелуе. Затем король и королева пожелали молодым спокойной ночи, и все отправились в главный зал — танцевать до утра. Но торжество было омрачено: кронпринц так и не приехал, хотя Вильгельмина в слезах умоляла об этом отца.
Через пять дней, 23 ноября, во дворце снова устроили большой бал; король дал его в честь Вильгельмины. Через городские ворота проехал молодой всадник, назвавшийся в темноте польским офицером. То был кронпринц Фридрих. Два дня назад отец тайно послал к нему курьера с предписанием: явиться на бал в Берлин. В соответствии с приказом принц явился на квартиру к полковнику фон Дершау — его дом стоял в берлинском предместье. Там принц переоделся в приготовленный для него иссиня-серый камзол с серебряными позументами (мундир тайного советника короля). В этом костюме принц внезапно явился на бал через полтора часа после его начала. Все были потрясены. Музыка умолкла. Только король удовлетворенно потирал руки — ведь спектакль устроил он сам. Братья и сестры с визгом бросились к Фрицу. «Радость этого события не поддается описанию, — сообщал брауншвейгский посол, — и многие высокие особы, а также простые люди плакали от счастья».
Для Фридриха Вильгельма этот вечер стал самым радостным событием в жизни. Улыбаясь, он расхаживал по празднично украшенным залам. Король был полностью доволен: Вильгельмина вышла замуж за немецкого принца, Фриц вновь принят в семью. Все вокруг него гремит, поет и веселится, все так, как он любит. В одном из залов дворца собрались представители городских сословий, приглашенные лично королем. Здесь находились советники, секретари, сборщики налогов, купцы и простые ремесленники — всех пригласили с женами. Нигде в Европе и подумать бы не решились пригласить «подлый народ» во дворец на королевскую свадьбу. Но именно с ними король-солдат и чувствовал себя лучше всего. Под музыку цыганского оркестра мужья хватали под руки жен, танцевали и с криками прыгали по залу. Фридрих Вильгельм стоял в дверях и смотрел на эти забавы «с величайшим удовольствием».
В десять вечера начался праздничный ужин, сопровождаемый «виртуозной музыкой». После ужина король танцевал с Вильгельминой, а затем пригласил на танец герцогиню Бевернскую. (Кронпринц Фридрих не танцевал ни с кем, даже с сестрой, но стоял, скрестив руки на груди, и смотрел на праздничную сутолоку.) Среди ночи Фридрих Вильгельм запретил лакею, стоявшему при дверях, в течение ближайших трех часов кого-либо впускать или выпускать, а сам отправился в свой кабинет. За эти три часа естественные нужды гостей обострились до предела. Почти все просились выйти из зала, но всем было отказано. Наконец в три часа ночи подошел всласть выспавшийся Фридрих Вильгельм и двери открыли. Увидев, как дамы мчатся к заветной цели, король от смеха чуть живот не надорвал. Он свистнул в пальцы и крикнул музыкантам: «Польскую!» Ураганом понеслась по дворцу мазурка, а король схватил Вильгельмину и закружился с ней в танце. Потом настала очередь Ульрики, и снова король танцевал, пока не начал задыхаться. Под конец зазвучал полонез, и процессия во главе с издающим крики королем двинулась в соседний зал, в другой, третий, четвертый…
В следующие дни каждый, имевший чин и имя, пытался добиться встречи с кронпринцем. Но кронпринц всем самым недвусмысленным образом дал понять, что он предан одному только королю и больше никому, что с ним лучше дела не иметь и что он ничего не забыл. Как сообщал брауншвейгский посол, он «недовольно морщился при виде то одного, то другого генерала, а на некоторых смотрел свысока».
27 ноября кронпринц явился в кабинет отца с рапортом. Король снова принял его в прусскую армию. Он преподнес сыну униформу, офицерскую шпагу и присвоил ему чин генерал-майора пехоты. В рассветных сумерках 4 декабря кронпринц, за эти дни так ни с кем и не поговоривший по душам, отправился назад, в Кюстрин.
Кошмарное противостояние отца и сына продолжалось полтора года, с августа 1730 по декабрь 1731 г. В следующие полтора года сын вел себя так, как хотел король-солдат. 10 марта 1732 г. Фридрих по приказу отца объявил о своей помолвке с принцессой Елизаветой Кристиной Брауншвейг-Бевернской, племянницей императрицы. В мае 1733 г. король-солдат впервые посетил полк своего сына и удостоил Фрица похвалы высшей степени. 12 июня 1733 г. кронпринц и принцесса Елизавета Кристина заключили брак во дворце Зальцдалюм близ Вольфенбюттеля.
Фридрих Вильгельм I одержал победу по всем направлениям. Он разрушил «авторитет юнкеров» и сломил сопротивление сына. Но какой ценой! Он казнил человека, разбив сердце сыну. Король добился покорности наследника, ввергнув того в состояние ужаса, рабской покорности, лицемерия. И вопреки, а не благодаря Фридриху Вильгельму кронпринц внутренне не сдался, а сразу же после смерти отца этот удивительный молодой человек выпрямился, подобно согнутому ураганом дереву, и явил всему миру свой истинный облик.
Отец видел сына насквозь. С учетом феноменального незнания королем людей это чудо можно объяснить лишь его любовью и самолюбием, поскольку в старшем сыне Фридрих Вильгельм желал родиться заново. Фридрих действительно рос крайне несимпатичным юношей: высокомерный, циничный, он «не хотел быть простым и общительным», чванился родословной, а в своем эгоизме не остановился даже перед «изменой», то есть дошел до сотрудничества с иностранными державами против собственного отца и государства. Сын постоянно давал понять своему неуклюжему отцу, как он презирает его за неумение «остроумно говорить». Высокомерие ослепило сына: он и внимания не обращал на титанические усилия этого человека, сумевшего вопреки всем известным законам природы вырвать свою страну из грязи и нищеты.
Но победа Фридриха Вильгельма оказалась пирровой победой. Он не смог добиться любви и уважения сына в последние годы своей жизни. Лишь за два дня до смерти он догадался, какая неукротимая энергия, какие небывалые таланты скрыты в этом «Фрице». Как король Фридрих Вильгельм одержал победу в битве за государственный суверенитет; как отец он проиграл сражение за сына.
Должно было пройти еще много лет. И лишь во время ужасов Семилетней войны, когда Фридрих Великий отчаянно сражался за существование Пруссии и считал себя на грани краха, однажды ночью, в походе, он проснулся в ледяном поту и прошептал: «Отец, правильно ли я поступаю?»
Через тридцать лет после начала трагического конфликта отца и сына, весной 1758 г., в промежутке между сражениями при Лейтене и Цорндорфе, беседуя с чтецом де Каттом, Фридрих вынес справедливый приговор отцу:
«До чего же это страшный человек! Но и до чего же справедливый, умный, сведущий! Вы и представить не можете, какого порядка во всех ветвях управления государством он добился. Ни один монарх не смог бы превзойти его в умении вникать в малейшие подробности. А он вникал в них, чтобы, по его же словам, довести до совершенства все части государственного аппарата. И только благодаря его заботам, его неустанным трудам, благодаря мучительной справедливости его политики, его поразительной бережливости и строгой дисциплине, введенной в созданной им армии, стали возможны все мои прежние достижения».
Веротерпимость
Ранним утром среды 8 августа 1731 г. лейб-егерь короля вошел в комнату Фридриха Вильгельма. Король-солдат уже проснулся и теперь являл собой плачевное зрелище. Сгорбившись, стоял он у постели, стонал и с трудом переводил дыхание. Застарелая подагра снова обострилась, одну ногу раздула водянка. Король кивнул лейб-егерю. Тот без особых церемоний обхватил своего господина и вместе с ним спустился по лестнице. У входа во дворец стояла карета. Камердинер Эверсман был в полном отчаянии: несмотря на болезнь, король собирался ехать в Потсдам. «Глупости! — прорычал Фридрих Вильгельм. — В Потсдаме скопилось полно работы». Короля перенесли в карету. Кучер крикнул «Но-о!», и в сопровождении генерал-майора фон Докума, скакавшего слева, король тронулся в путь по песчаной бранденбургской дороге.
Тем же ранним утром, когда Фридрих Вильгельм I выезжал из Берлина, на территории Зальцбурга — земли, входившей, как и Пруссия, в состав Священной Римской империи, — творилось нечто небывалое. Едва утреннюю дымку прорезали первые лучи солнца, экспедиционный корпус императора, состоявший из 3000 всадников и 600 человек артиллерийской прислуги, вторгся в пределы зальцбургской земли. Были перекрыты все перевалы и дороги; солдаты заняли деревни, и там начались обыски. В домах горцев-крестьян искали Библии в переводе Лютера. После массовых обысков 74 приверженца лютеранского вероисповедания были доставлены в архиепископскую тюрьму города Зальцбурга.
Неслыханное, почти невероятное происшествие! Со времен окончания Тридцатилетней войны еще никогда в германские земли не вводились войска для преследования иноверцев. Известие об этом как вихрь разнеслось по всей Европе. Министрам Генерального управления в Берлине о зальцбургском инциденте тоже стало известно; в конце концов, Пруссия — главная протестантская страна империи. Министры поспорили о способах помочь гонимым братьям по вере и сошлись во мнении: надо написать письмо и отправить его королю, находившемуся в Потсдаме.
Утром 21 августа хромающий король-солдат подошел к своему письменному столу в потсдамском дворце. Подагра отступила, но распухшая от водянки королевская нога никак не выздоравливала. Кряхтя, король уселся за стол и надел нарукавники, без которых никогда не брался за переписку. Он начал читать письмо от министров и гневно ударил кулаком по столу. Успокоившись, король дочитал послание до конца: министры Грумбков, Фирэк, Гаппе и Фибан осторожно (все, связанное с расходами, вызывало у короля ужас) спрашивали, могут ли быть приглашены в Пруссию некоторые из гонимых единоверцев. «Хорошо! Прекрасно!» — вырвалось у короля. Он схватил перо и написал на полях письма: «Если можно пригласить только десяток семей, тогда хорошо; если можно получить тысячу семей и больше, то еще лучше!» Затем он продиктовал приказ по Генеральному управлению: официально заняться переселением зальцбургских протестантов в Пруссию.
Эту дату, вторник 21 августа 1731 г., надо запомнить обязательно: с королевской резолюции на полях началась самая значительная акция из всех известных к тому времени выступлений в защиту прав человека и свободы совести. И в тот же день началось уже давно запланированное Фридрихом Вильгельмом наступление на Восточную Пруссию. Заселение этой провинции колонистами и ее освоение станет главным предметом постоянных забот короля в последнее десятилетие его жизни.
Но что же за событие произошло в далеком Зальцбурге? Почему волны, поднятые этим событием, прошли все семьсот километров между Зальцбургом и Берлином, не потеряв силы? В чем причина зальцбургского скандала?
Отступим еще на два века назад. К началу XVI столетия идеи Мартина Лютера прошлись по городам и селам Германии подобно факелу. И вскоре уже папские легаты сообщали в Рим, что протестантами станут девять из каждых десяти немцев. Не в последнюю очередь это касалось и австрийских земель империи, в частности архиепископства Зальцбургского. Друг Лютера Штаупиц, ставший аббатом монастыря бенедиктинцев, взял под защиту зальцбургских приверженцев лютеранства. В 1525 г. разразилась Великая Крестьянская война. И тогда величайший революционер немецкой истории Михаэль Гайсмайр возглавил освободительное движение в Тироле, а также в зальцбургских землях. После кровавого подавления крестьянских восстаний зальцбургские протестанты попали под жесточайший гнет князей-победителей. Архиепископ кардинал Маттиас Ланг, он же светский князь Зальцбурга, провел контрреформацию с помощью казней и пыток. Тринадцать лет подряд, вплоть до смерти Ланга в 1540 г., продолжались религиозные преследования (конечно, они сопровождались и социальным угнетением). Зальцбургским крестьянам пришлось смириться и сделать вид, будто они вернулись в лоно католической церкви. Но в глубине души каждый из них упрямо оставался приверженцем лютеранства.
Таким положение оставалось полтора века. Зальцбургские протестанты всегда находились под надзором католических священников, однако прямым преследованиям они подвергались редко. В конце XVII века архиепископ граф Гаррах закрывал глаза на то, что крестьяне тайно привозят из имперских городов Нюрнберга и Аугсбурга Библии в переводе Лютера и, тайком собираясь в хижинах, молятся по евангелическим канонам и поют протестантские хоралы. Едва ли причиной такой терпимости был гуманизм. Архиепископ опасался нарушить однозначные определения Вестфальского мира 1648 г., гарантировавшие протестантским конфессиям империи защиту от преследования и угнетения.
Все переменилось в 1728 г., когда Фридрих Вильгельм I отмечал в Берлине свое сорокалетие. Новый архиепископ, Леопольд Антон Элефтерий Фирмиан, старый фанатик, год назад ставший преемником умершего графа Гарраха, развернул в епископстве наступление на протестантских «еретиков». Отныне чтение лютеровского перевода Библии и прочих реформатских текстов строго наказывалось. Отцам-иезуитам поручалось лично проверять затерянные в горах поселения крестьян и следить за их регулярным посещением церкви. Зальцбургских протестантов заставляли носить скопулиры (монашеские наплечники), четки и молиться иконам. Специальным декретом предписывалось приветствовать друг друга словами «Слава Иисусу Христу!» и отвечать «Во веки веков аминь».
Зальцбургские протестанты продолжали упорствовать. Отказываться от веры, принятой их отцами двести лет назад, они не собирались ни на минуту. Едва горы и долины погружались во мрак, протестантские семьи собирались в каком-нибудь доме на отшибе и там при свечах читали вслух и толковали Священное Писание в немецком переводе Лютера. Один из самых горячих приверженцев лютеранства, некий Лерхнер, был застигнут «на месте преступления». Его доставили в зальцбургскую тюрьму и после допросов под пытками изгнали из страны.
Это явилось крупной тактической ошибкой Фирмиана. Узколобый фанатик Лерхнер и не помышлял о смирении. В начале 1730 г., сопровождаемый несколькими друзьями-крестьянами, он отправился в Регенсбург. Придя в рейхстаг, он выступил на открытых слушаниях и там начал жаловаться депутатам лютеранских имперских сословий[40] на зальцбургского архиепископа, обвиняя его в нарушении условий Вестфальского мира 1648 г. Лерхнер проливал горькие слезы, сжимая огромные кулаки.
Отчаянные гримасы этого неуклюжего крестьянина произвели на депутатов сильное впечатление. «Евангелический корпус», то есть объединение всех евангелических депутатов рейхстага, 22 апреля 1730 г. обратился к зальцбургскому архиепископу с настоятельным требованием остановить гонения протестантов либо разрешить им свободно выезжать из страны, предварительно продав свое имущество. Зальцбургский представитель в рейхстаге высказался против «вербальной ноты» и немедленно сообщил обо всем графу Фирмиану. Архиепископ усилил гонения — это стало единственным результатом протеста и выступления депутатов.
Через год, 16 июня 1731 г., зальцбургские крестьяне снова появились в Регенсбурге. Они передали «евангельскому корпусу» жалобу, где говорилось:
«Архиепископ заставляет нас носить четки и скопулиры и молиться иконам, а за пропуск мессы налагает штраф в два гульдена. Католические священники силой врываются в каждый дом. Того, у кого найдут лютеранскую Библию, бросают в тюрьму и, если он не откажется от своей веры, изгоняют из страны. Хватает также издевательств и мздоимств другого рода…»
Епископ Фирмиан велел объявить рейхстагу, что о нарушении условий Вестфальского мира речь идти не может; в 1624 г. — на эту дату указывает Вестфальский мир, называя тогдашние конфессии, — в его стране вообще не было протестантов (формально это соответствовало истине, поскольку иные конфессии в Зальцбурге запрещались). И все же под давлением депутатов архиепископ образовал комиссию, в течение месяца зарегистрировавшую 20 678 приверженцев лютеранской конфессии из семи зальцбургских округов, то есть примерно пятьдесят процентов зальцбургских протестантов.
На деле это оказалось практически явкой с повинной: Фирмиан объявил, что в его списки занесены опасные «мечтатели и фанатики», коих следует взять под полицейский надзор. Он послал в Вену каноника графа Турна, и тот сообщил имперскому гофрату о начале в зальцбургской земле «новой Крестьянской войны» (ничем господ нельзя было напугать больше, чем напоминанием о революции 1525–1526 гг.). От имени архиепископа каноник попросил императора немедленно предпринять карательную акцию против «бунтовщиков». В Вене прекрасно знали — и в те же дни это подтверждали дипломатические депеши, поступавшие в столицу, — что зальцбургские крестьяне «не устраивали каких-либо беспорядков и вообще не делали ничего неправого». И все же император распорядился о введении в зальцбургские земли экспедиционного корпуса, чем поставил тамошних протестантов в критическое, даже невыносимое, положение. Ведь на императора, то есть верховного властителя мира, управы уже не было.
Такой была обстановка 21 августа 1731 года, когда Фридрих Вильгельм I отдавал прусскому правительству распоряжение заняться судьбами гонимых зальцбургских протестантов. Естественно, он заступался за братьев по вере как главный член евангелических имперских сословий, как протестантский монарх. Пропагандистская и дипломатическая война того времени проходила так же, как и сегодня, и двигали ее тоже религиозные убеждения. И за свободу совести Фридрих Вильгельм выступал абсолютно серьезно. Но особенностью, характеризующей этого монарха наиболее ярко, было то обстоятельство, что он связывал религиозные вопросы с экономическими. (Насколько же проницательной оказалась мать, Софья Шарлотта, указывая на «дух экономии», завладевший ее маленьким сыном!)
Как мы уже знаем, Фридрих Вильгельм I видел свою королевскую обязанность, наряду с созданием «устрашающей» армии, в развитии экономики и подъеме уровня жизни «нижних слоев», крестьян и бюргеров. В этом, коротко говоря, был смысл всей его хозяйственной и социальной политики. К «благотворительности» такая политика отношения не имела; в конечном счете дело касалось судеб налогоплательщиков, от которых государство могло что-либо получить лишь тогда, когда оно их защищало, а также поощряло их труд. И главной проблемой этой политики многие годы оставалось «безлюдье», редкое заселение страны. Последствия Тридцатилетней войны, до сих пор заставлявшие страдать Бранденбург и Померанию, усугубились страшной чумой, в течение года унесшей почти все население Восточной Пруссии и разрушившей хозяйство этой провинции.
Фридрих Вильгельм считал людей главным богатством своей страны. Но где же было их взять? И королю-солдату вспомнился опыт его прославленного предка, Великого курфюрста, старавшегося привлечь в свою страну иммигрантов из стран с более высоким уровнем развития экономики и культуры (из Нидерландов, к примеру). Подобную политику продолжил и внук. Великий курфюрст взял под защиту гонимых по религиозным и политическим мотивам гугенотов-французов; Фридрих Вильгельм продолжил традиции веротерпимости. Он пытался по-хозяйски совместить два блага: покровительство гонимым и их защиту с пользой и выгодой для собственного государства. Смесь терпимости и хозяйственности ярко иллюстрирует письмо короля к Зекендорфу, где он пишет о переселенцах: «Если приедут еще 30 000, у меня места хватит. Расходы на них, между нами, не очень велики; зато я смогу заселить свою безлюдную страну».
К началу правления Фридрих Вильгельм должен был закончить учебу. Свирепые сокращения бюджета королевского двора и столицы вызвали серьезное беспокойство гугенотских семей в Берлине и в Потсдаме. Возникла опасность реэмиграции, и Фридрих Вильгельм пошел навстречу своим новым гражданам, предоставив и гарантировав им особые права, — ведь он желал, чтобы они успешно прижились в его стране. Это далось ему нелегко, но в ближайшие пять лет, с 1715 по 1720 г., король был с французскими колонистами очень заботлив. Он назначил генерала Форкада председателем «Grand conseil»,[41] поставив ему задачу дальнейшего воплощения в жизнь прав и свобод, гарантированных гугенотам знаменитым Потсдамским эдиктом Великого курфюрста. Во всех начинаниях Форкад находил поддержку короля. И когда «дурак на троне» дошел до решения оградить французских колонистов от рук офицеров-вербовщиков, благодатные последствия этого поступка не замедлили сказаться. Доверительные отношения между королем и колонистами были восстановлены, и поток французских переселенцев в Пруссию снова набрал силу. Новые переселенцы-гугеноты направлялись преимущественно в Штеттин и Потсдам. Согласно указанию короля, там, как и в Берлине, они могли жить в обособленных французских кварталах, пользоваться особыми, ясно оговоренными правами, выбирать в магистрат своих представителей.
История с гугенотами прояснила для короля следующее: всех подданных нельзя стричь под одну гребенку; необходимо отделять одних от других. Государство должно давать новым иммигрантам материальные преимущества, если желает получить их лояльность. Этот опыт подвигнул Фридриха Вильгельма на издание Эдикта о переселенцах от 6 июня 1721 г., отныне определявшего принципы обращения со всеми иммигрантами: всех их без исключения следовало на первые три года освобождать от налогов, всем предоставлялась продолжительная отсрочка от исполнения воинской повинности либо, если они были религиозными пацифистами — как, например, «богемские братья», — полное освобождение от нее; в больших городах право на застройку городских пустырей должно было предоставляться в первую очередь им; иммигранты бесплатно получали лес для строительства домов, а 12,5 процента строительных расходов брало на себя государство; иммигрантам-ремесленникам предоставлялись государственные кредиты на самых выгодных условиях.
И позитивные результаты разумной и практичной политики не замедлили сказаться. В Пруссию ежегодно въезжали до 6000 иммигрантов — немцы, голландцы, швейцарцы, чехи, французы. По всем ост-эльбским провинциям они распространяли опыт и знания, полученные в более высокоразвитых странах, где прежде они занимались торговлей и ремеслами, работали на первых индустриальных производствах. Земля постоянно заселялась, особенно быстро росли города, и так же стабильно и бесшумно рос материальный и культурный уровень населения государства, прежде называемого — то с жалостью, а то с презрением — «песочницей империи».
И зальцбургские события Фридрих Вильгельм встретил во всеоружии: он был опытным специалистом в области иммиграционной политики (успешно использовать свой опыт он мог еще десять лет назад). Только что он совершил продолжительную инспекционную поездку по Восточной Пруссии, лично проверил, в каком положении находятся евангелические переселенцы из Пфальца и из католических епископств на Рейне и на Майне, откуда в последние годы люди приезжали тысячами. В присущей королю манере он вникал во все подробности: как происходит закладка домов, как проветриваются стойла, как эти люди сеют, в каком состоянии крестьянский инвентарь и т. д. (Кроме того, король строжайшим образом проверил кассовые книги доменов — подробности мы еще узнаем!) Так король и добывал себе компетентность и независимость даже на поприще международной политики, хотя всячески ее сторонился. Вооружившись прогрессивными идеями толерантности (эпоха Просвещения уже наступила), будучи непревзойденным профессионалом миграционной политики, теперь Фридрих Вильгельм появился на международной сцене, чтобы сыграть блестящую роль. И тут оказалось: король, так мало сведущий в делах дипломатических маскарадов, не знает себе равных там, где речь идет о вещах практических и близких каждому человеку.
26 августа и в Зальцбурге, и в Восточной Пруссии одновременно раздались раскаты грома, заставившие содрогнуться всю немецкую общественность. Император, чувствуя угрызения совести из-за военной акции против зальцбургских крестьян и в то же время опасаясь за свою «Прагматическую санкцию», пожелал огласить в Зальцбурге так называемый «Декортаториум». Император призывал протестантов к спокойствию, настоятельно советовал покориться власти архиепископа, но в то же время сулил помощь тем, кто обратится к нему с жалобами по религиозным вопросам. Архиепископ Фирмиан, оскорбленный нарушениями его «территориального суверенитета» в Зальцбурге, велел сорвать императорские объявления со стен. Свою позицию по отношению к «крестьянскому сброду» он подтвердил новыми угрозами. Тем же днем в Кёнигсберге, столице Восточной Пруссии, по приказу Фридриха Вильгельма I был публично повешен глава местной палаты Управления королевскими доменами фон Шлюбхут. Господина фон Шлюбхута, «кавалера из старинного дворянского рода» и родственника графа Трухзеса фон Вальдбурга, то есть аристократа, осудили уголовным судом в Берлине после трехдневного процесса. В качестве главы местной палаты фон Шлюбхут «немилосердно обращался с подданными», а также растратил 1700 талеров, предназначенных для выдачи «колонистам, привезенным из чужих стран». Король-солдат велел немедленно привести смертный приговор в исполнение.
Ужас привилегированных сословий в Пруссии, да и в империи тоже, перешел все границы. Никто не мог вспомнить, чтобы когда-либо представитель дворянского рода столь наглядно наказывался за жестокое обращение с бедняками и за растрату. Брауншвейгский посол в Берлине сообщал своему двору: «Этот пример навсегда будет стоять перед глазами каждого чиновника, давшего присягу…» Совершенно верно. Но прежде всего это касалось всех чиновников Пруссии: они убедились, что обманывать переселенцев, еще не знакомых с местными условиями и потому особо нуждающихся в заботе и внимании государственных служащих, король никому не позволит. Показательная казнь одного — кровавое поручительство за благо десятков тысяч.
1 сентября Фридрих Вильгельм отправил в регенсбургский рейхстаг служебную записку, где предлагал зальцбургским протестантам убежище в Пруссии. А 5 сентября в Вене был опубликован императорский мандат, полный угроз в адрес Регенсбурга, где развелось слишком много терпимости и сотрудничества с «крестьянскими изгоями, под предлогом религии образующими праздные толпы». В тот же день архиепископ Фирмиан снова заявил, что «бунтовщики» зальцбургской земли — не лютеране, а опасные сектанты, «мечтатели и фанатики».
Во вторник 11 сентября Софья Доротея прибыла вместе с придворным штатом в Вустерхаузен для участия в охотничьем сезоне. Король, куривший у окна в Табачной коллегии, при виде кареты королевы встал, выбил трубку и взмахнул платком. Тут же раздался оглушительный залп замаскированных пушек — королеву приветствовали салютом. Королева и ее фрейлины от неожиданного грохота оказались чуть ли не в шоке. А король хохотал и от радости бил себя ладонями по бедрам. Его распирало хорошее настроение. На днях в голову королю пришла замечательная идея, и вот вчера он отправил в Регенсбург специального курьера с заданием: посетить заодно и зальцбургскую землю и поговорить там с крестьянами, дабы убедиться в их «истинной набожности», а также ознакомиться с их бытом.
Евангелический корпус под председательством саксонцев обратился к императору и ввиду нетерпимого положения протестантов в зальцбургском архиепископстве попросил предоставить им право на эмиграцию. В письме от 15 сентября король-солдат требовал сделать еще один шаг: в случае, если зальцбургский архиепископ наконец не образумится, пригрозить ответными мерами против католических церквей и монастырей на территориях, подвластных протестантским князьям. Он писал:
«После того как представитель Зальцбурга столь нагло ответил на прусский рескрипт (от 1 сентября. — Примеч. авт.), будет уместно довести до его сведения следующее: евангелические имперские сословия и князья надеются на прекращение императором чудовищных притеснений протестантов. Но если зальцбургский архиепископ продолжит гонения, евангелические князья и сословия поступят так же и с собственными подданными-католиками».
Эти усилия дали результаты. Клерикалы-католики северных и восточных германских земель испугались угроз непредсказуемого прусского короля и, ломая руки, воззвали к австрийским братьям по вере. В Вене тоже скандала не хотели: как раз в это время император хлопотал о международном признании своей «Прагматической санкции». Таким образом, зальцбургский архиепископ, и слышать не желавший о том, что его «еретиков» надо оставить в покое, оказался под сильным давлением венского рейхсгофрата.
Атакуемый со всех сторон, Фирмиан организовал против своих упрямых подданных провокацию (уже вторую — первой был трюк с переписью протестантов). Всем зальцбургским «стрелкам», то есть всем мужчинам, способным держать в руках оружие, отдавался приказ: явиться 22 октября на очередной смотр. Едва стрелки собрались на площади, как тут же появились три тысячи императорских всадников, взявших их в плотное кольцо. Под угрозой смертной казни ошеломленных стрелков заставили сдать оружие. Сопротивления со стороны зальцбургских эмигрантов теперь можно было не опасаться, и через три недели Фирмиан опубликовал свой знаменитый Патент о переселении. Отныне все жители зальцбургской земли, не признающие римско-католического вероисповедания, под угрозой телесных наказаний и смерти высылались из страны. Из разрешения на эмиграцию архиепископ сделал эдикт об их изгнании! Высылке подлежали все лица в возрасте от тридцати лет и старше: детей до двенадцати лет брать с собой не позволялось. (То есть матери из страха за детей должны были склонить своих мужей к покорности!) Все неимущие — слуги, рабочие, пастухи, чиновники, строители, рудокопы и т. д. — должны были покинуть страну, прихватив свои семьи и пожитки, в течение восьми дней, самое позднее к 30 ноября. В противном случае им грозило тюремное заключение. Все бюргеры и мастера тотчас же лишались особых прав. Владельцам домов и земельных участков давались, «благодаря особой милости князя», два-три месяца для продажи собственности. Затем они тоже должны были исчезнуть.
Известие о патенте Фирмиана возмутило весь евангелический мир — северные княжества империи, Англию, Нидерланды, скандинавские страны. Евангелический корпус выразил свой протест. В евангелических городах империи начали собирать пожертвования; за гонимых молились.
Тогда же, в середине ноября, специальный курьер Фридриха Вильгельма вернулся на родину. С ним приехали и два представителя зальцбургских протестантов — Петер Хильденштайнер и Никлас Форстройтер. Король послал к ним придворных священников Ролоффа и Райнбека. Они поговорили с крестьянами и 21 ноября представили королю письмо, где под присягой заявляли, что в лице зальцбуржцев имели дело с христианскими евангелическими христианами и настоящими лютеранами. Тем самым обвинения зальцбургских протестантов в «мечтательстве и фанатизме» утрачивали силу. Теперь Фридрих Вильгельм не только имел право, но и был обязан пресечь гонения на них, как того требовали положения Вестфальского мира. Об этом он и сказал прямым, бесхитростным крестьянским представителям, которые произвели на него очень хорошее впечатление. Кроме того, дотошный король получил от крестьян много ценных сведений о привычках и обычаях их земляков.
23 ноября король продиктовал весьма резкое письмо в регенсбургский рейхстаг. Он предупреждал, что в католическом кафедральном соборе Миндена (на прусской территории) будут проводиться протестантские богослужения, если зальцбургский архиепископ не одумается и не проявит уважение к Вестфальскому миру. Однако в это же время начались и большие торжества по случаю брака принцессы Вильгельмины и маркграфа Байройтского, продлившиеся месяц, который королю пришлось потратить на высоких гостей. В начале рождественских праздников король заболел — вероятно, из-за праздничных излишеств и неумеренных возлияний. На три с половиной недели король практически вышел из строя, так что зальцбургские дела оставались без движения почти два месяца.
Но тем больше событий произошло за это время в вотчине Фирмиана. 30 ноября в деревни пришли хорошо вооруженные солдаты, арестовавшие почти тысячу батраков и работниц. Те все еще не уезжали, поскольку крестьяне, на которых они работали, имели время — свои дома и участки им следовало продать до середины февраля. Кое-как одетых, не успевших взять свои вещи работников отвели в тюрьму города Зальцбурга, где их держали две недели, пока готовились документы об их отъезде. В середине декабря погибающих от голода и холода людей вывезли к баварской границе. Курфюрст Баварский начал затяжные переговоры с зальцбургским архиепископом: речь шла о расходах, связанных с пребыванием протестантов на баварской территории и их вывозом. В конце декабря протестанты перешли границу, слыша проклятия в свой адрес. И начались их мучительные странствия по скованной морозом Баварии. В конце концов изгнанники пришли в южнобаварский город Кауфбойрен, первый город со смешанным населением, евангелическая часть которого с радостью приняла братьев по вере.
Вихрь ужаса и сострадания пронесся по протестантской Европе, когда в конце 1732 г. стало известно об этих скандальных событиях. С протестами выступили короли Дании и Швеции. На пятницу 2 февраля 1732 г. Фридрих Вильгельм I назначил экстренное заседание Генерального управления. Министры сообщили обо всех подробностях расправы, показавших, что архиепископ Фирмиан ведет себя как изверг, а зальцбургские протестанты потерпели поражение. Они посмотрели на короля, скрипевшего зубами, и заключили: «При религиозных инцидентах вся империя смотрит на короля Пруссии». Фридрих Вильгельм встал со стула и произнес: «Если архиепископ не хочет видеть в своей стране протестантов, пусть в течение года отпустит их и вышлет в мою страну! Я буду им очень рад!» Затем он продиктовал знаменитый Патент о переселенцах от 2 февраля 1732 г., навеки закрепивший за ним почетное место в истории.
В начале длинного текста прусский король заявлял: сердечная боль и сострадание заставили его протянуть руку помощи гонимым братьям по вере из далекой зальцбургской земли. Но патент не ограничивался гуманитарно-идеологическими декларациями. Он содержал также самый подробный перечень практических мероприятий.
1) Зальцбургскому архиепископу прямо и твердо предлагалось отпустить своих подданных-протестантов с миром и без какой бы то ни было дискриминации; они должны были получить, в соответствии с законами империи, возможность вывезти из страны свое движимое имущество (на случай полного или частичного отказа между строк упоминается и возможность контрмер).
2) Начиная с того дня, когда зальцбуржцы принимали решение отправиться в Берлин, их следовало считать гражданами Пруссии (с тем чтобы во время долгого путешествия они, как лица без гражданства, не смогли быть подвергнуты новым притеснениям).
3) Всем имперским князьям и имперским сословиям предлагалось разрешить переселенцам свободный проезд по их территориям. Послы прусского короля по особым поручениям вместе с соответствующими дворами и имперскими городами вырабатывали точное расписание, устанавливающее сроки и маршрут их продвижения.
4) Королевские комиссары выезжали навстречу зальцбуржцам и сопровождали их во время путешествия по всему маршруту, продолжительность которого, в зависимости от места их исхода и избранной дороги, составляла от 750 до 1000 километров.
5) Каждому переселенцу ежедневно выдавались деньги: мужчины получали четыре, женщины три, а дети два гроша. Эти суммы выплачивались им в течение всего путешествия вплоть до их прибытия к месту назначения (продолжительность поездки составляла от пятидесяти до семидесяти пяти дней).
6) Каждому переселенцу король гарантировал блага, предусмотренные его патентом 1721 г.
7) Переселенцы, желающие поселиться и крестьянствовать в Восточной Пруссии, сверх того бесплатно получали необходимый скот, семена и сельскохозяйственный инвентарь.
8) Переселенцы получали письменную гарантию того, что на новой родине для них будут построены церкви, а для отправления служб в их приходах прибудут протестантские священники.
10 марта тайный советник Данкельман передал патент короля зальцбургскому посланнику в Регенсбурге. Тогда же посланнику стало известно: католические церкви и монастыри в прусских областях Магдебурге, Хальберштадте и Миндене предупреждены о том, что их ожидает, если зальцбургский епископ не прекратит бесчинства в отношении протестантов своей страны. Вена также усилила дипломатическое давление на Фирмиана. И тот вынужден был сдаться: распорядился отпустить «еретиков», не принуждая их к скоропалительной продаже имущества.
Наконец-то зальцбуржцы получили возможность собрать пожитки и отправиться в далекий путь к «земле обетованной» — в страну прусского короля. После прибытия его комиссаров колонны повозок с домашним скарбом, женами и детьми тронулись в путь. (По настоянию короля выехать смогли и дети младше тринадцати лет.) Разными путями ехали они в Пруссию: вниз по Рейну через Вестфалию, вдоль по Майну через Фогтланд либо по берегу Верры через Тюрингию. Везде, где появлялись изгнанники, происходили трогательные сцены: солидарность и сострадание обуревали их новых соотечественников и единоверцев. Евангелические земли и города встречали странников колокольным звоном и духовными песнопениями. Помочь переселенцам захотели и еврейские общины: раввин хальберштадтской синагоги объявил, что перестанет считать себя иудеем, если из торговли с зальцбуржцами будет извлечена хотя бы малейшая выгода.
К шести часам вечера 30 апреля 1732 г. первые 843 зальцбургских переселенца вошли в Берлин. Три дня спустя брауншвейгский посол сообщал:
«Все они держали в руках книги с псалмами и благоговейно пели духовные песни: „Хвалим Тебя, Господи“, „Благи дела Господни“ или „Кто послушен воле Божьей“. В колонне двигалось около тридцати запряженных четверками лошадей телег, на которых люди везли инвалидов и свои жалкие вещи. Многих берлинцев это зрелище повергало в слезы, и они подавали странникам милостыню. Даже евреи и сострадательные солдаты протягивали им подаяние».
Сама Софья Доротея на следующий день принимала иммигрантов в своем дворце Монбижо, где им раздавали деньги и библии. Придворный художник Песнэ написал для коллекции королевы портрет милой зальцбургской девочки. Берлинцы сделали из иммигрантов настоящий культ. В моду вошли крестьянские украшения из серебра, берлинские дамы стали носить островерхие шляпы фольклорного покроя — как у женщин с зальцбургских гор. Во встрече переселенцев король-солдат принял самое горячее участие. Один свидетель сообщал, как король долго стоял в толпе странников перед дворцом, слушая их рассказы, и «слезы катились по его щекам».
Из Берлина переселенцы под руководством комиссара отправились в Штеттин. Там стояли корабли для доставки их в Восточную Пруссию.
А потоки гонимых зальцбургских протестантов продолжали двигаться с юга на северо-восток, к прусским границам. (Фридрих Вильгельм настоял на продлении срока исхода зальцбургским архиепископом до 15 апреля 1733 г.) Временами в Берлине скапливалось до двух-трех тысяч иммигрантов, а четыре тысячи человек проходили через Берлин ежемесячно! И наконец министры Генерального управления стали озабоченно переглядываться. Но король-солдат писал на полях докладных записок, предостерегающих его от излишнего оптимизма: «Слава Богу! Что за милость Господь оказал бранденбургскому дому! Именно Он нам этих людей и посылает».
Никогда за все время своего правления Фридрих Вильгельм не был так счастлив и доволен, как в эти дни. Снова и снова вдалбливал он в головы чиновников: люди — главное богатство страны, а их благополучие — единственное оправдание любого правителя. Надо быть достойным Божьей милости и принять в Пруссии десятки тысяч зальцбуржцев. Расходы на переселенцев — ничто по сравнению с выгодами, приносимыми ими государству. Что касалось расселения зальцбуржцев, король был краток: «Ремесленников — в Неймарк, земледельцев — в Восточную Пруссию». Однако в действительности строгого распределения не происходило. Король-солдат охотно расселил бы часть иммигрантов на землях Магдебурга и Хальберштадта. Но однажды он уже объявил переселенцам, что они смогут поселиться на новой родине там, где захотят. А рассудительные зальцбуржцы внимательно изучили патент от 2 февраля. И почти все они захотели поехать в Восточную Пруссию — частично ради особых льгот, частично для того, чтобы оставаться вместе. И король подчинился их воле.
До конца сентября через Берлин прошли уже 16 848 зальцбургских протестантов, а с юга приближались еще более восьми тысяч. Кроме того, из Берхтесгадена шли около тысячи двухсот других протестантов, а число беженцев из Богемии, просивших прусского короля о защите, в конце года превысило две тысячи. «Именем Бога всех примем», — распорядился король. Только в 1732 г. прусские маршевые комиссары раздали более пяти миллионов грошей дорожных денег.
От весны 1732 до весны 1733 г. в Пруссию въехало около 30 000 иммигрантов. Для XVIII века миграция такого масштаба была беспрецедентной, и сравнить ее можно лишь с выездом в Северную Америку. Ни одному из гонимых не было отказано в пересечении прусской границы. «Раз они не смогли забрать свое имущество, — писал король, — следует позаботиться об их пропитании». И от слов перешел к делу. Выполняя поручение короля, прусский посланник в регенсбургском рейхстаге, энергичный барон фон Плото осаждал зальцбургские власти до тех пор, пока архиепископ Фирмиан не вернул четыре миллиона гульденов, вырученные в результате поспешной продажи протестантами своих домов (один миллион шантажист все-таки оставил себе).
И теперь Фридрих Вильгельм засучив рукава взялся за Восточную Пруссию, более двадцати лет назад опустошенную чумой. Согласно его распоряжению, квалифицированных ремесленников из Зальцбурга расселяли преимущественно в городах — Кёнигсберге, Гумбиннене, Инштербурге, Тильзите и Мемеле. Крестьяне же селились в основном в прилегающих деревнях — в округах Хайлигенбайль и Бальга, в местности вокруг Прейсиш-Эйлау и в Мазурском поозерье. За шесть лет, до 1738 г., король вложил более шести миллионов талеров в возрождение Восточной Пруссии. К 1713 г. там насчитывалось шесть городов и 322 деревни, опустошенные чумой. Сейчас они были возрождены — шесть городов, 332 деревни (имеющие в среднем по двести жителей каждая) и девять королевских поместий. Возвращались в оборот 180 000 моргенов запущенной земли — ее хватило для трех тысяч новых крестьянских хозяйств. Повсюду можно было увидеть зальцбургских переселенцев в живописных национальных костюмах — они расчищали землю под пашни, пахали, стучали молотками, строили. Каждый десятый житель Восточной Пруссии — переселенец, корни каждого двадцатого восходят к австрийским Альпам.
Как и следовало ожидать, новая жизнь далась переселенцам не без срывов и неудач. Им не пришлась по вкусу тяжелая традиционная пища новой родины, а суровые зимы вселили в них ужас. Скоро дала о себе знать тоска по величественным горам, зеленым альпийским лугам, приветливым долинам и клумбам герани возле домов. Да и местные жители не всегда показывали себя с лучшей стороны. Хотя обитатели Восточной Пруссии славятся гостеприимством, их упрямство и тугоухость стяжали им ничуть не меньшую славу. Они завидовали привилегиям переселенцев и отпускали грубые шутки по поводу базедовой болезни, обезобразившей шеи многих новоселов. Сообщая об этом, новый полномочный министр по делам Восточной Пруссии фон Гёрне утешал короля: со временем они привыкнут друг к другу, а пока старожилы должны иметь кого-то, «с кем можно поссориться»: в конце концов они всего лишь люди. «Поссориться? — гневно начертал король на нолях доклада. — Они ссорятся со мной! Ведь за все отвечаю я!»
Король-солдат твердо стоял на своем, проводя политику поддержки переселенцев. И в целом она дала великолепные результаты. Население Восточной Пруссии постоянно росло, из зачумленного края она превратилась в цветущую провинцию. Число новых деревень к 1740 г. выросло до пятисот. Расцвели запущенные ландшафты Натангена (южнее Кёнигсберга) и мазурские земли — балтийские племена пруссов, аборигенов этих мест, веками оказывали яростное сопротивление христианизации. Инштербург и Гумбиннен, до 1728 г. лежавшие в руинах, переживали настолько сильный подъем, что там были учреждены самостоятельные Военная палата и палата Управления королевскими доменами. Сумма налогов, собираемых в главном городе провинции Кёнигсберге, в течение восьми лет выросла на сорок процентов, или на 140 000 талеров, ежегодно.
Летом 1739 г., за год до смерти, Фридрих Вильгельм посетил Восточную Пруссию в последний раз. Его сопровождал сын. Из Берлина кронпринц выезжал в самом мрачном расположении духа. Циничный Фридрих легко мог вообразить все предстоящие события по прежним путешествиям: следуя за толстым, потным, без умолку болтающим королем, он будет пробираться по стойлам, месить грязь на глинистых полях и пашнях. Отец часами будет беседовать с неграмотными крестьянами о севе и урожае, о соли для коров, о сене для лошадей. А потом он поедет с пыхтящим отцом дальше, от деревни к деревне, тоскуя все больше и больше. Но уже через несколько недель, 27 июля 1739 г., наследник сел писать письмо своему прославленному другу Вольтеру. Да, у него, Фридриха, просто глаза на лоб лезли во время этого путешествия: он не узнавал Восточную Пруссию! Позднее ему и делать тут уже ничего не придется. Потому что здесь произошло настоящее чудо, да еще по воле и трудами одного человека! Именно как чудо он и описывал для великого Вольтера, называвшего его отца не иначе как «вандалом», новый облик Восточной Пруссии, где теперь жили более 500 000 человек, где стало больше городов и деревень, чем до чумы, где пустынные ранее земли лежали сплошь обработанными, где на лугах паслись внушительные стада. Эта земля, писал кронпринц, еще десять — двенадцать лет назад запущенная до первобытного состояния, сейчас более плодородна и богата, чем любая другая германская провинция. И все это, продолжал кронпринц, явилось делом рук одного человека, короля: «Он не только приказывал, но и сам являл пример того, как можно задумать и осуществить свой план, не боясь трудов и волнений, не жалея огромных денег, связывая себя обещаниями и раздавая награды, для того чтобы дать полумиллиону мыслящих существ человеческое существование и счастье, которым они обязаны только ему».
Суждение сына о нелюбимом отце выносит социальной и миграционной политике Фридриха Вильгельма I приговор окончательный. Король-солдат самоотверженно и последовательно помогал беженцам, гонимым. Не богатеям и обманщикам, а попавшим в беду людям любого происхождения.
Но разве за всем этим не стояли и скрупулезно сделанные расчеты? Разве при ближайшем рассмотрении не оказывалась политика веротерпимости твердой демографической политикой Пруссии? «Чем больше людей, тем лучше», — писал король незадолго до своей смерти, 11 марта 1740 г.
Фридрих Вильгельм никогда не скрывал, что из идеи приглашения гонимых он хочет по возможности извлечь материальные выгоды для своего государства. Каким же благом для человечества могло бы стать подобное совмещение терпимости и расчета другими монархами! Король-солдат не рассуждал, подобно сыну-интеллектуалу, о «мыслящих существах» и об их «счастье». За подобные слова он подверг осмеянию еще Лейбница, «типа, не годящегося даже в часовые». Нет, его миром была практика. Он подсчитывал, во сколько могут обойтись ему взятые под защиту гонимые и какую «выгоду» для государства смогут получить его наследники с помощью этих людей.
Таким он был и другим быть не мог. И он хотел оставаться таким до самого конца.
Слово «веротерпимость» не являлось для него пустым звуком. При всей горячей приверженности протестантскому вероучению Фридрих Вильгельм I не терпел в своем государстве насилия над свободой совести. Что бы ни нашептывали ему протестантские клерикалы, каких-либо притеснений подданных-католиков он не допускал. Он следил за регулярным посещением католическими священниками мест дислокации его полков: те служили там мессы для солдат римско-католического вероисповедания по крайней мере раз в месяц. Он разделял мнение друга, князя Леопольда: «Солдат без христианской веры — размазня, да и только». Веротерпимость короля распространялась не только на армию, но и на гражданские сферы! Сегодня это кажется нормальным, естественным. Но в Европе начала XVIII века подобного отношения монарха к иноверцам нигде больше не встречалось.
Более того: миграционная политика короля, да и его внешняя политика в целом, подчинялась не только соображениям выгоды. Где бы люди ни становились жертвами религиозного фанатизма, король Пруссии произносил свое слово. В 1715 г. в Берлин бежал польский староста Унру, приговоренный на католической родине к гильотине за книгу, говорящую о нетерпимости церковников. Король не только предложил ему защиту и помощь, но и воспользовался этим случаем, чтобы взбудоражить английскую общественность и склонить правительство Лондона к совместной акции в защиту польских диссидентов. Он вступался — безуспешно — за угнетаемых протестантов в Венгрии, ходатайствовал — с успехом — перед королем Сардинии о гонимых вальденсах; обеспечил достойной службой свободомыслящего священника, изгнанного Тевтонским орденом.
Благодаря королю-солдату свобода совести, выражавшаяся тогда в религиозных убеждениях, признавалась в Пруссии государством. Страна Фридриха Вильгельма явилась первым в истории толерантным государством. Отрицать это невозможно! И король-солдат сам говорил о «деле совести», когда речь шла о его подданных либо о потенциальных переселенцах в Пруссию.
В 1728 г. он узнал о произошедшем в Силезии, входившей тогда в Австрию, возмутительном случае. По приказу императора арестовали и приговорили к штрафу в тысячу дукатов силезского помещика фон Кесселя. В 1726 г. Кессель, взяв за образец сиротский приют, учрежденный в Галле Августом Германом Франке, открыл вблизи Эйля дом для сирот и больных. Уже через год в приюте на личные средства Кесселя содержалось более ста беспомощных людей. Поскольку он создал также две евангелические школы и сам ими руководил, католическое духовенство (особенно силезские иезуиты) не успокоилось, пока Кессель не был арестован в декабре 1727 г. Приют закрыли, а больных и сирот без долгих разговоров выбросили на улицу, где стояли лютые морозы.
Возмущенный Фридрих Вильгельм схватился за перо. Он сообщал Зекендорфу, едва сумевшему разобрать торопливо написанные строки:
«Настоящим я заявляю, что не собираюсь вмешиваться в дела высоких особ, прежде всего глубокоуважаемого мною императора. Но здесь речь идет о деле совести. Поэтому умоляю Вас именем Иисуса: немедленно передайте это письмо в Вену, дабы император смог проявить милость и сострадание. Решение императора может оказаться положительным. Но против будут иезуиты, эти птички, поющие славу Сатане и желающие расширить его царство. Да благословит и наставит Бог императора!»
Хозяин
28 апреля 1731 г. граф Мантейфель, уже многие годы служивший саксонским послом в Берлине и готовый с радостью перейти на прусскую службу, находился в окрестностях Магдебурга по личным делам. И там он узнал, что Фридрих Вильгельм I находится неподалеку — инспектирует свое поместье Шартау. Ему предоставилась замечательная возможность познакомиться с королем поближе. Вскоре в Шартау прибыл Юхтриц, секретарь графа, желавшего узнать, сможет ли он нанести монарху визит. Король вместе с Юхтрицем пошел в курительную комнату, предложил ему трубку и благосклонно его выслушал. Затем он дружески хлопнул секретаря по плечу и велел передать: он приглашает графа на завтрашний обед, если того устроит грудинка с горошком.
Так 29 апреля 1731 г. в Шартау состоялся обед, подробно описанный Мантейфелем в его послании к генералу Грумбкову. Письмо дает нам редкую возможность взглянуть на короля-солдата, шагнувшего в последнее десятилетие своего правления. В ту пору Фридрих Вильгельм был доволен жизнью как никогда. Только что он подавил бунт своего сына (кронпринц Фридрих, возвращенный в Кюстрин, жил там под постоянным надзором). Покончил король и с интригой жены и принцессы Вильгельмины — о «двойной женитьбе» уже и речи быть не могло. В простоте сердечной он полагал также, что пришел к полному взаимопониманию со своим «другом», австрийским императором. Письмо Мантейфеля позволяет нам рассмотреть и хозяйские качества удивительного короля Пруссии.
Граф Мантейфель явился в Шартау к одиннадцати часам утра. Короля он нашел в обществе господ Будденброка, Докума и Мёллендорфа. Скоро к ним присоединились полковник граф Дона, строитель крепости Магдебурга полковник Вальраве и два майора. Все они только что вернулись с охоты, и король улыбался во весь рот: ему удалось застрелить зайца, фазана и одиннадцать куропаток. Король крепко пожал Мантейфелю руку, извинился за скромность предстоящего обеда и помчался в дом основательно мыться и сменить платье. Наконец все сели за простой, добела выскобленный стол, где серебряные приборы с королевскими монограммами соседствовали с простой крестьянской посудой из дерева и рога.
«Дети, кушать! — крикнул король, усаживаясь. — Вам должно понравиться!» Фридрих Вильгельм повязал на груди белоснежную салфетку, и тотчас же были внесены гигантские блюда с яствами: копченое мясо с горошком и карпы под вишневым соусом. Подняв огромный кубок, Будденброк предложил тост за короля. Король радостно согласился, и все присутствующие выпили. После основательной закуски на столе появились блюда с говядиной, зажаренными зайцами, фазанами, тетеревами и куропатками. Подали рейнвейн, и король произнес тост: «За всех бравых офицеров и солдат!»
Атмосфера за столом царила праздничная. Королю не было нужды соблюдать правила этикета в этом мужском, солдатском обществе, и вел он себя вполне непринужденно, не щадил вина и призывал к тому же гостей. Он сам предложил тост за здоровье короля Польши и Саксонии Августа Сильного. Затем между королем-солдатом и сидевшим слева от него Мантейфелем состоялась беседа:
Король (доверительно). Он (Август Сильный. — Примеч. авт.) храбрый воин, я всем сердцем люблю и уважаю его. Прости, Всевышний, негодяев, совращавших его! Видит Бог, я никогда не был против него (в то время отношения между берлинским и дрезденским дворами были расстроены. — Примеч. авт.). Наверное, король еще исправится… Что ты об этом думаешь?
Мантейфель (иронично). Я никогда не слышал о его грехах. Стало быть, и исправляться ему не надо.
Король (смеясь). Ну, ну, говорить не хочешь! Но ты прав. Я тебя и не виню. Ты же заступаешься за своего старого господина… Но ты отлично знаешь, как там (в Дрездене. — Примеч. авт.) идут дела. Еще лучше меня…
Мантейфель, опытный дипломат, ничего не ответил, а только осторожно улыбнулся.
Король (похлопывая его по плечу). Не хочешь говорить, черт этакий! Понимаю, понимаю… Да, если бы не эти чертовы французы! Все в мире было бы прекрасно. Ненавижу этот сброд! Слышишь? Ладно, плевать на них. Я с императором и империей… Ух эти французишки! Черт бы их всех побрал.
Фридрих Вильгельм поднял кубок и провозгласил свой любимый тост: «За Германию германской нации! Собака, кто так не думает!» Потом разговор зашел о сельском хозяйстве, о строительстве крепости и, наконец, о религии.
Письмо Грумбкову Мантейфель заканчивал словами: «За столом мы провели четыре часа. После еды все вместе курили до девяти. Позже принесли свежую сельдь с луком и огурцами, затем все выкурили еще по трубке. Наконец, сказали друг другу „спокойной ночи“, так что домой я вернулся лишь около полуночи».
Смесь грубости и хитрости, наивности и напора, присущая беседе Фридриха Вильгельма с иностранным дипломатом, отличала и саму власть короля над государством. Во время десятилетия 1731–1740 гг. с наибольшей очевидностью выявились свойства личности Фридриха Вильгельма, принесшие ему славу «великого хозяина». Подобно патриарху, ответственному за порядок в доме и на дворе, управлял он Пруссией. Согласно представлениям того времени, когда господство связывалось с сиянием золотой короны и скипетра, Фридрих Вильгельм едва ли походил на «правильного монарха»: домохозяином, помещиком Пруссии он был гораздо больше, чем королем.
Следующее письмо короля-солдата — наилучшее тому подтверждение:
«Если в одном домене будет основана новая пивоварня, стоящая 2000 талеров и дающая 1500 талеров арендной платы, то за вычетом 5-нроцентного налога на капитал в 100 талеров останется доход 1400 талеров. Но если в соседнем городе налог на пиво составит 1400 талеров, прибыли не будет, а будут потеряны 2000 талеров из-за налогов и издержек на постройку, утварь и рабочих. В результате я еще и должен останусь. Но если обустроенная заново пивоварня принесет 200 талеров в год, а потеряны будут лишь 100 талеров налога, мне достанутся другие 100 талеров прибыли. С таким итогом я согласен».
Как никто в мире, этот человек хорошо понимал смысл фразы «Дьявол прячется в мелочах». 20 декабря 1722 г. он издал знаменитую «Инструкцию», заложившую основы централизованного и рационализированного управления государством. В течение следующего десятилетия токи подобного решения постепенно изменили «базис»; заложенные в «Инструкции» идеи и приказы короля сформировали особый уклад государственной и общественной жизни, получивший наименование «пруссачества». Но Фридрих Вильгельм никогда не довольствовался лишь закладыванием основ. Он постоянно проверял работу сподвижников. То, чем он истязал своего гениального сына, — а он прививал ему умение видеть большое, изучив мелочи, — являлось повседневной кропотливой работой Фридриха Вильгельма. Он не желал выслушивать болтовню арендаторов своих поместий, описывавших хозяйственные успехи в общих словах и в розовом свете. Король все хотел знать конкретно, сам задавая вопросы: «Прилежно ли расстелена солома в стойлах для коров, близко ли от хозяйств располагаются навозные кучи, своевременно ли вывозятся они на поля». Эффективность хозяйства интересовала его так же, как чистота и гигиена. Его наставления и доводы во всем и для каждого были настолько же экономическими, насколько и педагогическими.
Кто тут не вспомнит бабушку, Луизу Генриетту Оранскую, некогда вникавшую в каждую деталь ораниенбургского хозяйства! Внук походил на нее во всем. В 1718–1724 гг. по его распоряжению с помощью отводных каналов осушались хафельские топи у Фризака. Так получили 15 000 моргенов превосходных лугов и полей. Когда из Восточной Фрисландии пригнали несколько коровьих стад, он распорядился об учреждении в Кёнигсхорсте образцового молочного хозяйства. Теперь, к началу 1731 г., масло и сыры из Кёнигсхорста поставлялись в Берлин бесперебойно, и эта торговля ежегодно приносила Фридриху Вильгельму 14 000 талеров. И король приказывает: прислать в Кёнигсхорст «честных» крестьянских девушек из Бранденбурга и Померании для изучения молочного дела по голландскому образцу. То есть Кёнигсхорст стал первым учебно-производственным предприятием Нового времени, где изучались передовые методы ведения сельского хозяйства.
«Контрибуция», то есть ежегодный доход от королевских поместий, в 1724 г. составлявшая около 2,9 миллиона талеров, выросла до 4,5 миллиона. И такой «излишек» стал возможен только благодаря неусыпному надзору короля. Везде поспеть не мог даже он, поэтому особые комиссары Генерального управления находились в пути постоянно, из года в год. Они готовили отчеты о состоянии зданий, о доставке навоза на поля, об уходе за животными, о корме для коров, овец, свиней, лошадей и т. д. Земельный участок, предложенный королю на продажу, должен был представлять собой чуть ли не целый округ, где можно было бы обустроить крупное и эффективное хозяйство; в противном случае король отвечал: «Я не трачу денег на пустяки». Если королю предлагали нововведение, сулящее хороший доход, никакая сумма инвестиций не казалась ему слишком большой. Тем более жестко вел он себя при всякого рода провалах и неудачах. На просьбы арендаторов поместий о помощи он накладывал резолюцию: «Отказать. Следующий год будет удачным». Когда арендатор из Пирны доложил, что эпизоотия унесла у него 68 голов скота, за которые ему причитается 406 талеров из государственной казны, Фридрих Вильгельм отозвался: «200 талеров. У этого парня полно скотины. Он хочет нажиться на падеже».
Почти маниакальное желание получать прибыль приводило его к грубым ошибкам. Так, однажды он прочитал книгу с интригующим названием «Опыты об экономии». Автором книги был некий Эккарт. Среди прочего в ней сообщалось, как можно сэкономить массу дров и одновременно предотвратить образование сажи в печах. Это Фридриху Вильгельму и было нужно! Перерасход дров при отоплении дворца злил его давно, а о несовершенном устройстве каминов он постоянно слышал еще в детстве. Король тут же велел разыскать автора книги — легкомысленного прожектера, разводившего тогда фазанов в Брауншвейге, а прежде занимавшегося темными делами в Анхальте. Эккарт явился в Берлин и действительно добился более экономного расхода дров во дворце. Фридрих Вильгельм был в полном восторге. А когда Эккарт отремонтировал топку в королевской пивоварне, его доверие к решительному, бывалому человеку перешло все границы. Он сделал его членом Военного совета и Управления королевскими доменами, направлял его в инспекции в качестве королевского комиссара, доверял ему контроль кассовых книг в доменах и в городских управлениях, да и вообще во всем оказывал ему поддержку.
Вскоре Эккарт перестал сдерживать высокомерие и, вооружившись скопидомской философией короля, начал выдавать себя за его ближайшего советника и доверенное лицо. Со временем он превратился в настоящее бедствие. Обер-президенты Померании и Восточной Пруссии протестовали против наглого поведения Эккарта. В народе он получил клички «господин каминный советник» и «господин хапуга». Но ничего не помогало: доверие короля к шарлатану было непоколебимо, хотя горький опыт собственной доверчивости у короля имелся. В 1717 г. венгр по фамилии Климент убедил короля-солдата в том, что его хотят убить заговорщики императорского двора. Фридрих Вильгельм спал с пистолетом под подушкой несколько лет. Подозрительность его доходила до умоисступления. Только в 1720 г. князь Леопольд сумел доказать королю лживость утверждения Климента от начала до конца. И все же король опять оказывал безграничное доверие человеку, его не заслуживающему. Он упорно считал: аристократия просто завидует self-made man,[42] человеку из народа. Правда, он писал Эккарту: «Будь честен, поступай как должно, а также не забирай чересчур много излишков». Но Эккарт над этим письмом только посмеялся. Уж он-то видел короля насквозь и чувствовал глубинную суть своего задания: распространять по отдаленным палатам и канцеляриям прусского государства дух того самого «выжимания излишков». Чересчур много, считал Эккарт, повредить не может. И в конце концов королю пришлось плюнуть даже на самые справедливые жалобы. (Лишь сын короля, Фридрих Великий, в 1740 г. снял Эккарта со всех постов и выслал из страны.)
Но несмотря на промахи Фридриха Вильгельма, последовательность хозяйственной политики все же позволяла ему ежегодно повышать доходность доменов на 100 000 талеров, а в конечном счете доходы достигли уровня 4,5 миллиона талеров в год. Это составляло около 60 процентов государственного дохода. Другие 40 процентов (примерно 3 миллиона талеров) король получал благодаря налогам на предметы потребления, так называемому «акцизу», которым облагались у городских ворот товары всех видов.
Но и здесь он подал личный пример. Уже через несколько недель своего правления, 20 мая 1713 г., он приказал взимать у городских ворот обычные налоги на все товары и продукты, потребляемые в королевских дворцах Берлина и Потсдама. То есть особых налоговых льгот для семьи монарха больше не было. Каждая королевская телега с продуктами в воротах проверялась, а «контрабандные» товары могли быть конфискованы без всякого снисхождения.
Значение при этом имели не только налоги, сами по себе весьма существенные для горожан, но и то, как они взимались. Каждый человек, проходящий через городские ворота, подвергался строгому осмотру и обязывался предъявить все наличные деньги. На это тратились и нервы, и время — манеры акцизных чиновников оставляли желать лучшего. Все ломовые телеги останавливали, их содержимое основательно проверяли. При этом не помогали никакие просьбы и жалобы: каждый ящик, корзина, тюк вскрывался или опечатывался. Затем вещи перевозили на тачках грубиянов полицейских к городскому складу, где такие же грубияны подвергали приезжего обстоятельным «откуда-куда», а под конец нехотя разрешали ему оформить уплату «акциза».
Впрочем, все это еще куда ни шло. В конце концов подобные процедуры проводились у всех городских ворот и на всех границах «Священной Римской империи германской нации». Но и внутри городов ремесленники и купцы не чувствовали себя в безопасности. Каждую неделю акцизные чиновники внимательно исследовали запасы в подвалах мясников и на складах пекарей — они искали следы контрабанды. А мельников, имевших запасы муки, обыскивали практически ежедневно, хотя вряд ли это было нужно, ведь без обязательной регистрации через городские ворота никто не мог ни войти, ни выйти. Переписывались быки и лошади, запряженные в крестьянские телеги, дабы ни одно животное, не обложенное «акцизом», не осталось внутри городских стен. Бюргеры постоянно жаловались на невыносимые придирки налоговых чиновников, но ни у кого не хватило бы мужества поговорить об этом с королем. Подкупы «акцизных» помогали мало. Король-солдат достаточно часто переводил чиновников и писарей налоговой службы от одних ворот к другим и из города в город: «мошенничество и кумовство» следовало лишать почвы заранее.
Берлин страдал от контрольной системы Фридриха Вильгельма больше, чем остальные города. За период с 1730 по 1738 г. здесь была выстроена стена высотой в шесть метров. Она проходила западнее Шпрее между районами Унтербаум и Обербаум, а затем соединяла Бранденбургские ворота с воротами на дорогах, ведущих в Потсдам, Галле, Котбус, Кепеник и в Силезию. По мнению короля, «берлинская стена» предотвращала, во-первых, контрабандный ввоз товаров в город, а во-вторых, дезертирство солдат из города.
Чем тверже и упрямее проводил Фридрих Вильгельм ненавистную акцизную политику, тем лучше сказывалась она на государственном бюджете. В Кёнигсберге акцизные сборы выросли с 1728 по 1738 г. на 40 000, а в Берлине за то же время на 84 000 талеров. В 1724 г. общие поступления в государственный бюджет от акцизных сборов, речных и пограничных таможен составили 2 миллиона талеров. Через несколько лет они достигли 3 миллионов, то есть увеличились на пятьдесят процентов. Проклятое «взимание излишков» оправдывало себя и здесь.
Взимание акцизных сборов (или освобождение от них) являлось составной частью политики меркантилизма, господствовавшей тогда почти во всей Европе. Принцип меркантилизма заключался в поощрении развития собственного хозяйства и в посильном ограничении импорта. То есть проводилась политика, противоположная экономике со свободной торговлей; в современной терминологии ее можно было бы назвать политикой автаркии. Ничего другого слаборазвитая Пруссия не могла себе позволить, не подвергаясь опасности утратить государственную независимость (в те времена по пути свободной торговли могли пойти лишь Англия и Голландия, два государства с огромными флотами, колониальными богатствами и капиталами). Вопрос теперь заключался в следующем: развивать ли собственное промышленное производство, а затем, по мере удовлетворения внутренних потребностей, ограничивать ввоз иностранных товаров, либо, наоборот, начинать государственное развитие с подавления импорта, заставив население удовлетворять свои потребности собственным трудом.
Король-солдат долго колебался, делая выбор между двумя направлениями меркантилизма. Наконец он выбрал второй путь и теперь, в соответствии со своим характером, осуществлял этот план твердо и последовательно.
Тем самым он выбрал более трудный, но и более перспективный путь развития: экономическая политика была одновременно и педагогической. Фридрих Вильгельма I предложил своим подданным — каких бы денег это ни стоило! — путь самостоятельного развития и превращения в самостоятельную нацию, в нацию самостоятельных производителей. Неустанно требуя от Генерального управления создавать «как можно больше разного рода мануфактур по обработке шерсти, железа, дерева и кожи, каких еще нет в стране», он выражал главную цель развития национальной экономики: остановить проникновение в Пруссию качественных иностранных товаров, а тем самым стимулировать собственное производство вещей того же качества.
Блестящим примером такой хозяйственной политики стало поощрение прусской шерстеобрабатывающей промышленности. Едва взойдя на трон, Фридрих Вильгельм создал государственную комиссию. Ее выводы говорили о плачевном состоянии шерстоткачества в стране: сукно здесь почти не производилось. В числе причин упадка комиссия называла беспрепятственный вывоз необработанной шерсти на чужие рынки, а также страх ткачей перед армейскими офицерами-вербовщиками. В течение шести лет Фридрих Вильгельм экспериментировал, предоставляя ткачам-шерстянщикам освобождение от военной службы. Но затем он все же понял: прусская шерстеобрабатывающая промышленность увеличит количество продукции и повысит ее качество лишь в том случае, если государство запретит экспорт необработанной шерсти. Но запрет на вывоз шерсти нанес ущерб в основном помещикам, классу юнкеров. И король-солдат испытывал угрызения совести: с экономической точки зрения он «поднес нож к горлу» землевладельческой аристократии, поставлявшей ему кадры для офицерского и чиновничьего корпусов. Ну что ж тут поделаешь? Давая присягу, король обязался ставить благо государства превыше всего. Поэтому 24 мая 1719 г. со всех церковных кафедр был зачитан королевский эдикт: отныне никто (включая дворян!) не может продавать за границу необработанную шерсть. У виновных в нарушении запрета отбирали шерсть, телеги, лошадей и упряжь; кроме того, за каждый фунт конфискованной шерсти взимался штраф в размере одного талера. Это подействовало. Ни один фунт необработанной шерсти отныне не пересек прусскую границу.
Но еще раньше Фридрих Вильгельм принял решительные меры для развития прусской шерстеобрабатывающей промышленности. Он централизовал обработку шерсти, основав берлинский Лагерхаус. Благодаря кипучей деятельности тайного советника Краута за три года работы Лагерхауса удалось покрыть потребность армии в штанах, рубашках и цветных обшлагах — ежегодно здесь собственными силами изготавливали три тысячи штук сукна (одна штука равнялась 20 метрам). Росту производства содействовал Фридрих Вильгельм: он обязал военных закупать для обмундирования только отечественное сукно. И в 1720 г., когда ввоз испанской шерсти был заменен шерстью из Бранденбурга, проблем с поиском прусского сукна не стало. В 1738 г. из 8736 штук сукна, необходимого для увеличившейся втрое армии, берлинский Лагерхаус был в состоянии производить 5500 штук, то есть более 60 процентов. Остальную ткань закупали в маленьких городах королевства. Сам Фридрих Вильгельм был этим не очень доволен. Он писал: «Все равно это плохо. Эти 3236 штук (то есть 40 процентов. — Примеч. авт.) надо делать в Берлине. Тогда и жалобы на нехватку хлеба прекратятся. Лагерхаус призван давать работу Берлину». Эту мысль короля мы смогли бы сегодня назвать программой занятости населения в ее изначальной форме. И действительно: когда умер Фридрих Вильгельм (в 1740 г.), в Лагерхаусе трудились около 5000 берлинских рабочих. Конкретно это означало следующее: при том, что в Берлине жили 80 000 человек и из этого числа надо вычесть 20 000 человек военного сословия, одна треть берлинцев существовала благодаря фабрике короля. Уже в 1734 г. из Пруссии было вывезено 44 000 штук сукна по 24 эля (один эль составлял 85 см), то есть почти миллион метров ткани.
Вслед за шерстеобрабатывающей промышленностью настала очередь оружейной. Оружие для армии Великого курфюрста изготавливала преимущественно фабрика семейства Энгельс из Марки Бранденбург. Внук пригласил западно-германских специалистов в Берлин и построил крупные оружейные фабрики в Шпандау и в Потсдаме. Они сразу же начали очень эффективно работать и скоро уже были в состоянии удовлетворить потребность прусской армии в оружии и снаряжении. Успех достигался не в последнюю очередь благодаря господам Шплиттгерберу и Дауму. Этим осмотрительным предпринимателям Фридрих Вильгельм передал ведение фабричных дел, предоставив им неограниченный кредит из средств, формально принадлежавших кронпринцу. И беседовал с обоими купцами он практически ежедневно, в первой половине дня, на парадном плацу. Столь тесное сотрудничество главы правительства с предпринимателями привело к основанию в Пруссии многочисленных фабрик, мануфактур по производству и обработке меди и латуни и даже мануфактуры по выпуску зеркал в Нейштадте-на-Доссе (Бранденбург), вскоре ставшей известной на весь мир. Вместе с тем король-солдат последовательно запрещал ввоз в страну соответствующих товаров и сырья, содействуя тем самым скорейшему повышению уровня отечественной промышленности.
В случаях с шерстью и оружием Фридриху Вильгельму сопутствовала удача. Хуже обстояли дела с табаком. Еще в 1676 г. Великий курфюрст передал табачную концессию в руки многочисленных торговцев-евреев. С тех пор, согласно условиям концессии, в сельской местности табак продавался по здешним ценам, а берлинцы могли получать табак из Гамбурга и Лейпцига — у городских ворот он облагался налогом в размере одного гроша за фунт.
Когда Фридрих Вильгельм I пришел к власти, курение в Европе распространилось уже достаточно широко и каждому правительству стало ясно, какие выгоды можно извлечь из налогов «на дым». И новый король немедленно удвоил налог на табак, в 1719 г. утроил, а к 1739 г. налог дошел до пяти грошей за фунт.
Так король распорядился иностранным табаком, а концессию на производство отечественного Фридрих Вильгельм в 1719 г. передал придворным и военным комиссионерам Мозесу и Элиасу Гомпертам. За это они обязались найти «верзилу» стоимостью в 1300 талеров, а также ежегодно платить в рекрутенкассу 20 000 талеров.
В 1724 г. табачную монополию отменили, а производство табака внутри страны стало свободным. Но публика предпочитала импортную продукцию, поступавшую из Лейпцига и Гамбурга. Производство прусского трубочного табака успехов не приносило (сигары и сигареты тогда еще не были известны). Только в Бранденбурге-на-Хафеле со временем научились получать высококачественный табак из импортного сырья. Наконец, в 1736 г. Самуэль Шок из Страсбурга основал в Потсдаме, второй прусской столице, фабрику нюхательного табака. Скоро продукция фабрики завоевала иностранные рынки; самым знаменитым потребителем ее табака стал Фридрих Великий.
Тогда путешествие из Страсбурга в Потсдам можно было сравнить с кругосветным. Интересно, сколько же недель понадобилось Самуэлю Шоку, прихватившему багаж для преодоления этого расстояния? Дороги по всей Европе находились в отвратительном состоянии, и на их ремонт король-солдат не выдавал ни гроша. Прошло еще почти столетие, прежде чем увеличившийся товарооборот между странами, а также нужды наполеоновской армии потребовали модернизации проезжих дорог.
И все же Фридрих Вильгельм поощрял развитие почты, поручив ведение ею энергичному, дальновидному советнику Грабе. Почтальонам вменялась в обязанность точность; позднее они работали по точному графику. Была создана необходимая как воздух система «экстренной почты». Государство старалось вывести из частной сферы перевозку людей, доставку грузов и почты. В 1719 г. отправления весом меньше двадцати фунтов доставлялись только королевской почтой: наконец-то публика могла быть спокойна за свои посылки.
Однако ценность прогрессивных начинаний сводилась на нет обычной для того времени грубостью почтовых служащих. Едва солнце начинало заходить, почтальоны останавливали свои экипажи, распрягали лошадей и бесцеремонно сообщали пассажирам, что они могут сами начинать подыскивать себе место для ночлега. Перемещение людей и грузов из одного почтового экипажа в другой сопровождалось оскорблениями, а тот, кто возмущался, мог прождать многие часы и даже дни, пока его не подбирал кто-то из почтальонов-сообщников. О вежливости тут и речи быть не могло. Правда, грубить в городах почтальоны не осмеливались — королю, неизменно требовавшему от них «галантного» поведения, об этом сразу же стало бы известно. Но в дороге? В рескрипте Генерального управления от 25 апреля 1729 г. по этому поводу говорилось: «…поскольку стало известно о жалобах пассажиров на плохое обращение почтмейстеров и на грубость почтальонов, а жалобы могут дойти до Его Величества…» То есть королевского гнева почта все же боялась. Если бы не этот страх, на дорогах между городами все оставалось бы по-старому.
А общины самих городов могли только порадоваться королевским заботам. К 1713 г. большие и малые города Бранденбурга все еще находились в плачевном состоянии после Тридцатилетней войны. Везде и всюду взгляду нового короля представали пустыри, пожарища и руины. Если не считать население Берлина, в обширном Бранденбурге за городскими стенами жили только 40 000 человек — в десять раз меньше, чем в селах. Король-солдат тут же объявил о намерении срочно привести все бранденбургские города в довоенное состояние. Его патент от 20 ноября 1721 г. объявлял городским властям: «пустынные места», в течение года не застроенные новыми домами, будут отчуждены государством и сданы в аренду.
Одними приказами возродить города невозможно, и король использовал способы особые, связанные с «nervus rerum», с обожаемыми деньгами: сумел преодолеть маниакальную бережливость и проявил неслыханную щедрость. Город Люхен получил из личных средств короля 26 000, а город Темплин — 30 000 талеров. Единственное условие, поставленное королем, гласило: все деньги должны быть потрачены только на строительство домов. Город Стендаль, где в руинах лежало больше ста домов, получил еще более значительную помощь: каждый строящий дом получал бесплатно строительные материалы и наличные деньги для оплаты рабочей силы. Во всех городах Пруссии любому человеку, построившему дом, государство возмещало сначала 12,5, затем 15 и, наконец, 23 процента строительных расходов. (В сельской местности показатель равнялся 12,5 процента.) Новый домовладелец мог также рассчитывать на полное освобождение от уплаты налогов в течение 6–8 лет. Ничуть не меньшую энергию проявил Фридрих Вильгельм и на новостройках. Потсдам, в прошлом неприметная рыбацкая деревня на Хафеле, где жили 400 человек, обязан королю городским статусом. Фактически город стал шедевром самого Фридриха Вильгельма: к концу его правления Потсдам превратился во вторую столицу Пруссии и насчитывал 20 000 жителей. Свой любимый город король-солдат превратил в прусскую Спарту: как из-под земли вырастали тут казармы, оружейные фабрики, гарнизонные церкви, плацы, манежи, здания комендатуры и офицерские жилища, инвалидные и сиротские дома. Построенные по линейке здания наложили на один из красивейших ландшафтов Германии неизгладимый милитаристский отпечаток. Но в то же время Потсдам стал городом ремесел и даже своеобразных индустриальных искусств. Для выписанных из Нидерландов мастеров по изготовлению бархата и шелка король построил «голландский квартал»: дома красного кирпича с высокими фронтонами, окруженные живописным каналом в голландском стиле.
Многим обязан королю и Берлин. 1350 домов построили в прусской столице за время правления Фридриха Вильгельма I, в том числе тысячу — в районе Фридрихштадт. Уже в 1723 г. король, давно озабоченный проблемой городского планирования, издал распоряжение о подготовке концепции расширения Фридрихштадта, где тогда стояли лишь триста домов. На само строительство тогда не было денег. 8 ноября 1728 г. брауншвейгский посол сообщал: «В высочайшем присутствии Его Вел. во Фридрихштадте размечены места для различных построек». В 1730 г. началось строительство, и до самой смерти Фридрих Вильгельм имел удовольствие видеть, как тут ежегодно возводится более ста домов.
Так возникла самая известная часть Берлина. Во Фридрихштадте находятся такие знаменитые на весь мир места, как Оперная площадь, Жандармский рынок, Фридрих-, Вильгельм-, Лейпцигер- и Шарлоттенштрассе, Парижская и Лейпцигская площади, а также площадь Вильгельма. Внутри Берлина возник многочленный «мир уединений»: на Вильгельмштрассе, возле дворца Венецобре, селилась землевладельческая аристократия; на Линденштрассе, возле Коллегиенхауса (сегодня здесь Берлинский музей), стали жить тайные советники; а построенная в 1735 г. Вифлеемская церковь собрала вокруг себя дома приехавших из Богемии текстильщиков. Когда Фридрих Вильгельм умер, во Фридрихштадте жило около 26 000 человек, более тридцати процентов берлинского населения.
Правда, для застройки Фридрихштадта король использовал довольно своеобразные, мягко говоря, методы. Зная лично каждого состоятельного подданного, он брал списки горожан, тыкал пальцем в определенное имя и заявлял: «У него есть деньги. Должен строить!» А дальше не помогали никакие жалобы и вопли. Бежать от королевского приказа было некуда.
Застройку Фридрихштадта король поручил полковнику фон Дершау. Этот старый служака просто не желал обращать внимания на то, что почти вся будущая Фридрихштрассе состоит из непроходимых топей. Королевское дело — приказать, а уж «чернильные души» пусть сами думают, как справляться с заданием. Например, тайный советник фон Нюслер стал причитать, что, мол, он уже был на этом страшном болоте, где при всем желании ничего нельзя построить и это будет слишком дорого. Дершау зарычал: «Король хочет застроить это место. Точка! Если захотите, он может приказать вашему тестю дать вам несколько тысяч на строительство. У него денег много…» «Ради Бога! — воскликнул Нюслер. — Тогда я стану тестю смертельным врагом». Полковник посмотрел на него и пожал плечами: «Ну, тогда стройте на свои деньги». И ушел. Нюслер бросился к королеве. Та пыталась ему помочь — напрасно. Наконец, он сам написал прошение королю, и 1 февраля 1733 г. получил сухой ответ: «Тайный советник Нюслер должен без рассуждений строить дом на указанном месте во Фридрихштадте либо ждать немилости Его Величества». Пришлось строить, хотя на указанном месте находился пруд. Когда для дома забивали сваи, там еще можно было ловить огромных карпов. Некоторые из деревьев, окружавших пруд, достигали восемнадцати метров в высоту и стоили двадцать талеров штука. Так во Фридрихштадте построили роскошный дом, обошедшийся господину фон Нюслеру в 12 000 талеров.
Столь бесцеремонно поступали не только с тайным советником Нюслером, а со всеми. И чем более знатен и богат был застройщик, тем дороже ему обходился новый дом. Король не пощадил и личных друзей. Генералы фон Трухзес и фон дер Шуленбург, тайные советники фон Клинггрёф и Маттиас, министр фон Гаппе, главный ланд-егермейстер граф Шверин, граф Дёнхоф и т. д. — всем пришлось строить во Фридрихштадте, и ни для кого не нашлось бесплатных строительных материалов. Результаты дерзкого наступления на болота и пески оказались блестящими. На Вильгельмштрассе и на площади Вильгельма возникли внушительные дворянские особняки в итальянском стиле, придавшие Берлину облик мировой столицы будущего.
Так застраивали Берлин, Потсдам, все города и городки королевства. Шум работы разносился по всей Пруссии. Кроме дворянских особняков, вдоль Вильгельмштрассе возводили дома простых бюргеров и школы, казармы и крепостные сооружения, госпитали и богадельни. Строили без особой помпы и архитектурных излишеств, экономно и просто, как того требовали практические нужды.
В искусстве и в науках король не разбирался и смысла в них не видел. Ученость, если та прямо не отвечала народным нуждам, он презирал. Изящные искусства, живопись, архитектуру, всячески поощряемые его отцом Фридрихом I, Фридриху Вильгельму представлялись «глупостями», бесполезными забавами, усладой всезнаек-интеллектуалов. Берлинская академия наук, основанная силами его матери Софьи Шарлотты и «безмозглого дурака» Лейбница, пришла при Фридрихе Вильгельме в полный упадок. Он решительно не понимал, зачем тратить 1000 талеров в год на королевскую библиотеку. 60 талеров жалованья библиотекарям, стирающим с книг пыль, — это понятно: чисто должно быть и в библиотеке. Но остаток в 940 талеров был вычеркнут из бюджета. К чему вся эта «ерунда», собранная в толстых томах? Он, король, регулярно читал Библию, «Христианские утренние молебны» Кройцбергера, а кроме того — памятные записки, статистические отчеты и уставы армии. Разве этого не достаточно? В 1734 г. на закупку книг было отпущено четыре талера, в 1735 г. — все пять. Королевской библиотеке оставалось лишь отапливать зимой читальные залы и хранилища да продавать тайком дубликаты книг частным лицам.
Да, Афины-на-Шпрее Фридриха I и Софьи Шарлотты превратились в Спарту-на-Шпрее. Фридрих Вильгельм велел оценить собранную Великим курфюрстом и Фридрихом I коллекцию живописи и чуть не потерял от радости рассудок, узнав, что за нее можно получить добрую тонну золота. Вот он, государственный резерв на случай эпидемии или голода! Затем он велел убрать картины и больше ни разу на них не взглянул. Придворный художник-француз Антуан Песнэ был единственным, чье имя он не вычеркнул из штатного расписания: время от времени возникала необходимость дарить иностранным вельможам портреты членов королевской семьи. За все прочие задания по приказу короля брались мастера прикладной живописи Вайдеман, Мерк и Деген. Деген увековечил военные победы Великого курфюрста, Мерк изображал охотничьих собак и добытых Фридрихом Вильгельмом кабанов и оленей (крупно и пестро, насколько возможно). Наконец, Вайдеман всю жизнь занимался созданием портретов «верзил» в полный рост.
Университеты Пруссии — в Кёнигсберге, Галле, Франкфурте-на-Одере — короля заботили мало. Благосклонно он относился лишь к факультетам теологии и медицины, занимавшимся душой и телом человека. Иногда он присваивал профессорам титулы тайных советников, но идея повысить их жалкие гонорары в голову королю не приходила. Так что профессора нанимались учеными экспертами или подрабатывали сочинением диссертаций. Но если они не приходили на лекции — пусть в аудитории сидел всего лишь один студент, — король угрожал им штрафами. Профессорам полагалось нести службу так же, как добросовестным солдатам его армии.
Не намного лучше обстояли дела в гимназиях. Фридрих Вильгельм чихать хотел на изысканное образование, подобавшее отпрыскам состоятельных семей. Иоахимстхальская гимназия принесла Берлину славу питомника гуманистических традиций и теперь могла бы значительно расширить комплекс своих зданий, но короля-солдата это не волновало: гимназия и так располагала владениями, неприкосновенность которых была закреплена указами Великого курфюрста. При пожаре в церкви Св. Петра Кёльнская гимназия сгорела дотла; дирекция попросила у короля на ее восстановление 3000 талеров. Король не дал ни гроша, но выделил гимназии пустырь для стройки. В течение многих лет гимназисты ютились в подсобных помещениях ратуши. В 1735 г. среди этих гимназистов находился и некий Иоганн Иоахим Винкельман, ученик сапожника из Стендаля. Днем он учился, а по вечерам стоял на берлинских улицах с протянутой рукой и пел, чтобы заработать пару пфеннигов. Позднее Винкельман прославился, став основателем научной археологии.
Жалкое существование влачили музы и науки в государстве короля-солдата. Все, требовавшее денег, но не приносившее немедленной выгоды, являлось для него непозволительной роскошью, частью ненавидимого, помпезного мира отца, которому он заранее объявлял войну. Литература, архитектура, эстетика — все, что «украшает бытие», в годы его правления существовало тайком, в салонах королевы, в кабинетах кронпринца и принцессы Вильгельмины. И на все это король смотрел с подозрением. При Фридрихе Вильгельме I Пруссия оставалась плацем, где звучали команды и раздавались залпы «пелетонов», рабочей площадкой, где все трудились засучив рукава, но прежде всего — своего рода усадьбой с распорядком, подчиненным ее великим хозяином исключительно законам «экономии».
Лишь в последние пять лет жизни короля его враждебность к ученым пошла на убыль. Целебный опыт королю принесло «дело Вольфа». Уроженец Бреслау, Кристиан Вольф (о нем уже шла речь на известном «диспуте» во Франкфуртском университете) с 1706 г. занимал кафедру математики и философии в университете Галле. Он стал первым профессором, читавшим лекции по математике на немецком языке. Вольф создал философскую систему рационализма и прославился на весь мир своими попытками дать математические основы логике, метафизике, естественному праву, да и всем философским постулатам. Его статьи и книги представляли собой собрание многословных рассуждений, написанных весьма громоздким языком и никому до конца не понятных. Но благодаря холодной рассудительности устных выступлений он стяжал такую философскую славу, которую до него имел только Лейбниц, а после него — Кант. Учение Вольфа завоевало все университеты, и студенты, опьяненные духом начинавшейся эпохи Просвещения, штурмовали залы, где философ читал лекции. Разумеется, месть его коллег — во главе с теологом Иоахимом Ланге и деканом Августом Германом Франке — не заставила себя долго ждать. В 1721 г. Вольф прочитал лекцию о высокой морали китайцев, поднося, естественно, тем самым зеркало к облику европейского общества. И коллеги обвинили его в неуважении христианской этики. От имени теологического факультета Ланге и Франке написали королю жалобу на Вольфа, чьи лекции якобы прививают студентам отвращение к слову Божьему.
Фридрих Вильгельм ничего не понимал в ученых спорах, и письмо это отложил в сторону. Но на беду, тогда же в Берлин из Галле приехали генералы фон Нацмер и Лёбен. Вечером, сидя в Табачной коллегии, они рассказали, как Вольф защищает на своих лекциях учение Лейбница о предопределенной изначально гармонии в отношениях души и тела. При упоминании Лейбница глаза короля налились кровью. Этого «безмозглого дурака», умершего в 1716 г., король хорошо знал с детства. Именно Лейбниц своей заумью разбил сердце его нежной матери и отвратил ее от Бога, именно этот бездельник только и мог вопрошать о «причине причин», а сам, по мнению Фридриха Вильгельма, не умел даже ружье «на караул» взять. А еще генералы объяснили королю: учение Вольфа о предопределенной гармонии снимает с человека ответственность за его поступки. Поскольку все и так уже предопределено, пойманный дезертир теперь сможет ссылаться на предопределенную гармонию: его побег, мол, был предопределен свыше. Король с размаху ударил кулаком по столу. Этого еще ему не хватало: чтобы учением Лейбница оправдывались лодыри, симулянты и дезертиры! 8 ноября 1723 г. он продиктовал университету Галле предписание, запрещающее лекции Вольфа. Документ заканчивался словами: «Вы должны сообщить Вольфу, что в течение 48 часов после получения этого распоряжения он под угрозой виселицы должен покинуть город Галле и все земли Нашего королевства».
Вольф уехал из Пруссии и стал профессором Марбургского университета. Но с изгнанием Вольфа инцидент не был исчерпан. «Дело Вольфа» продолжало будоражить умы. В Берлине самым горячим сторонником Вольфа оказался пастор Райнбек. В 1732 г. он познакомился с тем самым графом Мантейфелем, описавшим обед в Шартау. Граф уже переехал в Берлин и основал здесь «Общество друзей истины». Королева, кронпринц и глава Высшего суда Коксэжи сочувствовали идее реабилитации гонимого философа. Им даже удалось заинтересовать судьбой Вольфа князя Леопольда и генерала Грумбкова, так что в Табачной коллегии эта тема была затронута снова. В начале 1736 г. Фридрих Вильгельм, понявший, что он стал жертвой университетских интриганов, распорядился о создании комиссии из пяти человек под председательством Коксэжи. Комиссия получила задание: беспристрастно оценить сочинения Вольфа.
Оценка комиссии оказалась самой высокой, и короля стали мучить угрызения совести. Он предложил Вольфу вернуться в Пруссию. Здесь философу были обещаны титул тайного советника и жалованье в две тысячи талеров; ему даже гарантировали профессорскую должность в университетах Галле и Франкфурта-на-Одере. Вольф, не доверявший «чудесному вразумлению», находил все новые отговорки, лишь бы не покидать Марбург. (В Пруссию он вернулся лишь при Фридрихе Великом.) А желание Фридриха Вильгельма вернуть изгнанника только усиливалось.
Постепенно он изменил отношение к ученым — 21 декабря 1738 г. кронпринц написал: «Отец теперь считает науки полезными и достойными похвалы». И действительно, Фридрих Вильгельм даже решил сам ознакомиться с философскими трудами Вольфа. Для этого он использовал подборку цитат из его трудов, составленную Готшедом. И кронпринц изумленно сообщал послу Зууму, как его отец читает теперь «по три часа ежедневно». Однако удивительного здесь было мало. В книге Вольфа «Разумные мысли об общественной жизни людей» Фридрих Вильгельм среди прочего нашел такую фразу: «Оставленные в стране деньги — это философский камень». Ничто больше не могло убедить короля-солдата в здравости ума Вольфа и в ценности философии вообще. Господа философы, переставшие витать в эмпиреях и тем более способные объяснять реальный мир, перейдя от бесполезной метафизики к конкретной государственной философии, становились понятными и близкими людьми. Декретом от 7 марта 1739 г. Фридрих Вильгельм потребовал от студентов-теологов королевства «основательно и своевременно изучать философию и логику, например труды профессора Вольфа».
Поведение короля-солдата в «деле Вольфа», его способность к обучению и внутренний переворот продиктованы, несомненно, чувством справедливости, издавна укоренившимся в душе этого человека и спрятанным за фасадом деспотизма и склонности к насилию. Однако между личным стремлением к справедливости и господством права в королевстве расстояние оставалось колоссальным. Термин «права человека» тогда еще не существовал; эти слова впервые были произнесены лишь через пятьдесят лет после смерти Фридриха Вильгельма. В первой половине XVIII века правосознание было слабо развито во всех странах. Лишь в узком кругу образованных людей сохранились представления об идеях великих философов и государственных мужей античности (как раз в это время их сочинения были открыты заново). Согласно их постулатам, под справедливостью подразумевалось господство закона, которому подчинялись и сильные мира сего в интересах общества. На один исторический миг, в эпоху Великой Крестьянской войны и Реформации, Мартин Лютер сумел даже возродить древние германские принципы справедливости. Но под гнетом церковного мракобесия, веками освящавшего рабскую покорность неизменно правым властям, о правах одиночек не могло быть и речи.
В последующие двести лет ситуация только обострялась. Во Франции, подававшей пример европейскому абсолютизму, народ подвергался настолько страшной эксплуатации, что эту страну уверенно можно было считать рабовладельческим государством: любой бедный там либо рано умирал, либо отправлялся в тюрьму. Каждый горожанин (о крестьянах и говорить не приходилось) мог быть схвачен на улице и лишен свободы на неопределенный срок — для этого стоило лишь заполнить формуляр. Такие формуляры, изготовленные типографским способом, сохранились. Вот их содержание: «Господин… направляю Вам это письмо с тем, чтобы приказать Вам доставить в мой замок Бастилию господина… и содержать его там до моих дальнейших указаний. Кроме того, молю Бога, дабы Он взял Вас, господин… под свою защиту. Подписано: …Людовик».
Во Франции господствовал беспросветный произвол. Но разве с другой стороны Ла-Манша, из Британии, не доносился призыв к свободе и справедливости? Разве в 1688–1689 гг. там не были приняты «Декларация о правах» и «Билль о правах»?
«Славная революция» в Англии в конечном счете привела лишь к жестокой, едва прикрытой диктатуре и к дальнейшему угнетению народа. Королевскую власть потеснила власть парламента: родовое дворянство и крупная лондонская буржуазия разделили власть в стране поровну. Эта «демократия» воплощала олигархию, власть немногих и богатых; из трех миллионов совершеннолетних жителей Британии лишь десять процентов имели право голоса. Места в парламенте продавались, хотя и не каждому, имевшему деньги. Специальные команды патрулировали улицы портовых городов и принуждали пойманных прохожих к службе на кораблях английского флота, где дисциплина поддерживалась с помощью кнута и виселицы. Английских матросов подвергали куда более страшным наказаниям, чем солдат прусской армии — при том, что в море вряд ли существовала опасность дезертирства.
Четыре пятых богатств Британии принадлежали 7000 аристократам. Рабочие жили хуже рабов античности; в условиях свободного товарно-денежного хозяйства их продавали вместе с мануфактурами. Один английский епископ заявил: «Законы нужны народу только для того, чтобы слушаться их!» В руках дворян находился весь государственный аппарат. Они избирались в судьи, и судьи всегда были землевладельцами. Британское правосудие всех повергало в отчаяние. Универсальным приговором судов была виселица: смертная казнь предусматривалась более чем за сто правонарушений. И сами казни в Британии были варварскими: государственным преступникам вырывали кишки; мертвые тела четвертовались.
Такой же или почти такой же была юстиция повсюду в Европе. Подданные короля, парламента или дворянских клик смиренно признавали в своих властителях высших судей, имеющих право произвольно распоряжаться их жизнями. И каждое воскресенье священники всех конфессий благословляли такое положение вещей и объясняли его «Божьим промыслом». Естественно, король-солдат, будучи абсолютистом до мозга костей, обращался с правосудием в своей стране как хотел. В принципе о разрухе в юридической сфере государства он знал очень хорошо. Еще будучи кронпринцем, Фридрих Вильгельм писал 10 марта 1710 г. министру фон Качу: «Неправый суд вопиет к небу. И если я не улучшу юстицию, вся ответственность за это ляжет на меня». Но выводы, сделанные Фридрихом Вильгельмом, ставшим королем, гласили: больше справедливости через усиление наказаний. (Его просвещенный сын Фридрих Великий позднее пошел по обратному пути: через смягчение наказаний — к более справедливому судопроизводству.) Нетерпеливый и гневливый Фридрих Вильгельм I повсюду являлся этаким берсеркером с занесенной дубиной и, несмотря на свои прогрессивные мысли, в реальности практиковал безграничный деспотизм. С одной стороны, в 1714 г. он запретил преследование ведьм и приказал снести все столбы, у которых сжигались «ведьмы». С другой — ужесточил наказания, прежде всего за воровство и за растраты, кто бы их ни совершил. Так, молодого человека, укравшего пару куропаток, приговорили к шести годам каторги с содержанием в цепях. А когда высокомерный Шлюбхут напомнил королю о своих дворянских привилегиях и предложил полностью возместить деньги, выданные на нужды переселенцев и растраченные им, взбешенный Фридрих Вильгельм выкрикнул: «Я не хочу твоих грязных денег!» — и велел его повесить.
Воровство и растраты он считал покушением на общее благо, кощунственным посягательством на основы общества и государства. Так же строго он карал за убийства, придерживаясь библейского принципа: кровопролитие может быть наказано лишь смертью. Один полковник, убивший на дуэли своего брата, пережил запоздалое раскаяние и обратился к королю с прошением о помиловании. Свою просьбу полковник изложил в форме псалма. Король ответил неумолимым двустишием:
Фридрих Вильгельм всегда ужесточал приговоры, вынесенные судом. Его чувство социальной справедливости шло рука об руку с его деспотизмом. По делу лейтенанта Катте мы знаем о королевском кредо: пусть лучше умрет человек, чем из мира уйдет правосудие.
Руководствуясь библейскими принципами, он обращался и с еврейским меньшинством. О расизме или социальном предубеждении короля по отношению к евреям говорить не приходится. Но евреи «убили Христа», а потому должны были еще и радоваться, что их присутствие терпят в Пруссии. Лично он против евреев ничего не имел. Банкир Мозес Леви Гомперт, ведавший поставками фуража в армию во время померанского похода, в 1717 г. получил титул придворного и военного комиссара, дающий право «носить шпагу». Через шесть лет король ограничил права евреев на торговлю подержанной мебелью и одеждой, а также издал декрет, запрещавший им взимать более двенадцати процентов при выдаче денег в рост. Еврейство, однако, эти распоряжения не выполняло, и в 1728 г. Фридрих Вильгельм постановил: еврейская община ежегодно будет платить 20 000 талеров берлинской рекрутенкассе или приюту для солдатских сирот в Потсдаме. Король чрезвычайно разгневался, узнав, что еврейский меняла Файт после своей смерти оставил долг в 100 000 талеров и взыскать их теперь не с кого. Он велел собрать всех берлинских евреев в синагогу, где главный раввин Яблонский должен был наложить на Файта проклятие по всем правилам. Впрочем, прихожан это не столько напугало, сколько рассмешило. В 1730 г. король-солдат издал «Генеральный привилегиум» — документ, наконец-то упорядочивавший правила пребывания евреев в Пруссии и гарантировавший им сносные условия существования. И в то же время он не отказывал себе в развлечениях, заставляя приверженцев иудаизма покупать кабанов, убитых им на охоте.
Между реальным отношением короля к правосудию и его намерениями в этой области зияла бездонная пропасть. Мы помним, как 4 марта 1713 г. он потребовал создать в Пруссии суд, способный вершить дела «чистыми руками» и быть «быстрым и беспристрастным, равным для людей бедных и для богатых, для знатных и для простых». Месяц спустя он впервые заговорил о создании Всеобщего свода законов, действительного для всех прусских земель, а 18 июня 1714 г. предложил юридическому факультету университета Галле прислать идеи по поводу «составления некоторых конституций к своду законов».
Конечно, такое предложение стало сенсацией. Принимаясь за составление Всеобщего свода законов для всей страны — тогда как повсюду в мире господствовал произвол, — Пруссия оказалась в историческом авангарде. Однако уровень образования Фридриха Вильгельма не позволил ему осмотрительно и терпеливо внедрять разумные начинания в общественно-политическую и юридическую практику; воплощением идей короля-солдата занялся его просвещенный сын Фридрих. Кроме того, Фридрих Вильгельм сам тормозил реформы своей кадровой политикой. В лице президента Берлинской судебной палаты, тайного советника фон Коксэжи, он имел выдающегося человека, располагавшего достаточной волей, знаниями и энергией для претворения реформ в жизнь (этим Коксэжи занимался также при его сыне). Король-солдат очень высоко ценил Коксэжи. Уже в 1722 г. он писал своему сыну: «Плото ни на что не годен. Назначь Коксэжи президентом (Тайного совета юстиции. — Примеч. авт.) вместо Плото и предложи ему управление всей твоей юстицией, потому что он честный, умный человек». Но сам он не решился снять с должности министра юстиции аристократа Плото и отправить его восвояси.
Сколько-нибудь заметных правовых реформ Фридрих Вильгельм так и не провел. Однако сыну — и тем самым грядущим поколениям — он оставил в наследство фундамент, на котором Фридрих Великий смог воздвигнуть здание «Всеобщего свода прусских законов». Только 1 марта 1738 г. Фридрих Вильгельм сообщил Генеральному управлению о его поручении господину фон Коксэжи «подготовить постоянный и вечный свод законов, дабы изъять запутанные и неприемлемые для нашей страны нормы, привнесенные Jus romanum,[43] и включить в свод законов бесчисленное множество эдиктов». Это был стартовый сигнал для начала великих реформ, сделавших Пруссию первым правовым государством в Европе. В 1740 г. сын и Коксэжи приступили к работе. А отец во всем остался верен своему же изречению: «Крупица природного ума весит больше центнера университетской премудрости».
Величайшим историческим завоеванием короля-солдата стала революция в области народного образования. В те времена ни одно правительство Европы не заботилось о просвещении низших социальных слоев, составлявших тогда почти все население. Вольтер говорил о «девяноста процентах неграмотных», о людях, не умевших ни читать, ни писать, ни считать, — о тех, кого сегодня назвали бы «лишенными самосознания». Если дело все же доходило до обучения бедных и бесправных, этим веками занималась церковь. Однако она учила лишь тех, кто был способен, получив необходимые знания, поступить на церковную службу. Умственным же развитием народных масс, борьбой с неграмотностью не занимался никто. Напротив. Разве события двухсотлетней давности, Реформация и Великая Крестьянская война, не показали, до чего способны дойти массы, знакомые с печатным словом? Нигде в мире народное просвещение не входило в планы власть имущих.
Король-солдат оказался единственным монархом своего времени, осмыслившим школьное обучение как народное просвещение. Уже в 1716 г. он обязал полковых священников обучать чтению и письму всех без исключения рекрутов его армии. Таким образом, когда Кантональный регламент впервые установил воинскую повинность, в тот же момент армия превратилась в «школу нации».
Через год, 23 октября 1717 г. (знаменательная дата!), вышел эдикт о введении в Пруссии школьной обязанности, особенно важный для сельской местности. Эдикт представлял собой «генеральное предписание», касавшееся всех консисторий и церковных служащих «во всех землях». Отныне все дети в возрасте от пяти до двенадцати лет должны были посещать школу — зимой ежедневно, а летом, когда они работали на полях, один или два раза в неделю. Родители обязывались платить за обучение детей шесть пфеннигов в неделю. За неимущих платили местные кассы для бедных. Королевский эдикт 1717 г. начал делать историю; он наполнил жизнью понятие «революция сверху» (если такое понятие вообще имеет право на существование). В одно мгновение Пруссия сделалась самым прогрессивным государством Европы! В 1866 г., когда Бисмарк и Мольтке одержали победу над Австрией, стало ясно: битву при Кёниггреце выиграли учителя прусских школ. Французские атташе в 1866–1870 гг. сообщали из Берлина: армия и население Пруссии — самые образованные в Европе. И эти обстоятельства берут свое начало в том самом знаменательном дне 1717 г. Королевский патент о переселенцах от 2 февраля 1732 г. и «Школьный эдикт» от 23 октября 1717 г. сделали Фридриха Великого первым правозащитником в XVIII веке.
Конечно, «школьная революция» в Пруссии встретила на своем пути и противодействие, и прочие трудности. В деревнях не было зданий для школ; никто, естественно, заранее их не построил. Чтобы обойти все возникшие препятствия, понадобилась вся полнота власти короля-солдата. Помещики получили приказ построить школы и взять на содержание учителей. В королевских доменах школы строились за счет казны. Лес, камень, известь король выдавал бесплатно; доставлять строительные материалы он обязал сельские общины.
Но затем революция натолкнулась на другие препятствия. Сопротивление оказывали те подданные, чьи интересы были задеты. Родители считали «Школьный эдикт» посягательством короля на их собственное право распоряжаться детьми; они не желали видеть своих детей более умными, чем они сами, и, уж конечно, не хотели освобождать детей, самую дешевую рабочую силу, от работы по будням. Церковные функционеры видели в эдикте посягательство на их священную привилегию «окормления» народа, не оспариваемую прежде в течение многих веков. И даже Генеральное управление возмущалось введением школьной обязанности: ведь она потребовала колоссальных денег! Фридрих Вильгельм, как и всегда, сражался один против всех.
Инспектируя в 1718 г. Восточную Пруссию, он увидел, что там дело так и не сдвинулось с мертвой точки. «Базис» (народ) смутно роптал; «верхи» (церковь, дворянство, бюрократия) оказывали противодействие. 2 июля 1718 г., сразу же по возвращении из инспекционной поездки, король издал указ, где говорилось: «Знания и навыки сельского люда пребывают в самом плачевном состоянии». Он настоятельно потребовал от чиновников принять «совместные меры, дабы окончательно одолеть невежество». Замечательные слова, которые не мешало бы вписать в летопись человечества золотыми буквами.
Против собственной воли, поглядывая на палку непредсказуемого короля, кряхтя и ругаясь, но общество и государство все же пришли в движение. Королевские комиссии объезжали провинции и собирали необходимые сведения о местных условиях и возможностях наладить там школьное обучение. Доклады, представленные королю, свидетельствуют: по своей точности и обстоятельности эти сведения ни в чем не уступали результатам современных социологических исследований.
Столичное и местное чиновничество продолжало оказывать пассивное сопротивление — недовольство помещиков и брюзжание церковных функционеров давали о себе знать. Школьная революция, как считалось, наносит ущерб государственной экономике; о безумных расходах на школы говорили все вокруг. Конечно, эти доводы излагались с расчетом на хозяйственность короля, на его страсть к получению «излишков». Но оказалось, королевская «революция сверху» преследовала не только экономические выгоды. Голый материализм, как выяснилось, был ей чужд. «Все это ерунда! — гневно воскликнул король 31 января 1722 г. в ответ на упреки министров. — Если я строю и украшаю страну, не создавая христиан, ничто мне не поможет». Так Фридрих Вильгельм I дал определение организованной им в Пруссии революции: она была прежде всего педагогической, а уж потом экономической. Ведь под «христианами» тогда подразумевали людей, умеющих читать, писать, считать и молиться, то есть тех, кому свойственно самосознание, «сознательных людей».
Школьная революция продолжилась, и за ее успехи король бился всю оставшуюся жизнь. В 1732 г. в Кёнигсберге собралась комиссия правительственных чиновников и духовных лиц под председательством тайного советника фон Кунхайма. Комиссия должна была выработать «Principia regulative»,[44] или Всеобщий школьный план по обустройству школьного образования в Пруссии. Рескриптом от 26 февраля 1734 г. король утвердил «Principia», получившие 1 апреля 1736 г. силу закона, и выдал на строительство школ 90 000 талеров личных денег. Еще раньше король решил проблему нехватки квалифицированных учителей. Для этого он ежегодно нанимал сотню студентов-теологов из сиротского дома Августа Германа Франке в Галле — обучая сирот, они накопили немалый опыт современной педагогики. В 1735 г. пастор Шинмейер с помощью короля основал подобную семинарию в Штеттине, а 5 декабря 1736 г. такое же заведение по приказу Фридриха Вильгельма основал в Магдебурге аббат Штайнмец.
И дела заметно пошли в гору. Уже 30 июля 1736 г. пастор Шульц из Кёнигсберга сообщал королю, что в кёнигсбергских школах-приютах ежедневно 65 студентов теологии бесплатно обучают 1300 детей. «Бедняки, прежде сотнями просившие на улице подаяние, — продолжал он, — не только обеспечены всем необходимым, но более чем 800 из них изучают слово Божье при церквях. Уже два года никто из отроков не проходит конфирмацию, не научившись читать и не получив необходимых знаний о христианстве. Только в течение трех лет беднякам роздано 40 000 сборников псалмов…»
Потребовалось полтора десятилетия тяжелой борьбы, пока не наступил великий перелом — это произошло между 1734 и 1736 гг. Отныне уже никто не решался противиться продолжению школьной революции короля. Конечно, трудный путь к полной ликвидации безграмотности оказался очень долгим: он растянулся более чем на полтора столетия. Но начало искоренению массового невежества было положено. Наряду с военной повинностью и свободой совести школьная обязанность стала решающим условием становления «взрослой нации». Даже одна цифра может дать представление о значении этого эпохального труда короля-солдата: к началу его правления (1713 г.) в Восточной Пруссии находилось 320 деревенских школ (то есть по одной школе на 1500 человек), а четверть века спустя, в 1738 г., их было 1480, то есть одна школа приходилась на 400 человек.
Итак, великий хозяин Фридрих Вильгельм I швырял деньги не только на свое «хобби» — армию, хотя два с половиной столетия об этом только и твердили. Значительные суммы государственного бюджета из года в год тратились на просвещение и на прием переселенцев — за годы правления короля-солдата в Пруссии нашли очаг и новую родину в общей сложности от 135 000 до 150 000 жертв преследований и религиозной нетерпимости.
С 1722 по 1727 и с 1732 по 1738 г. Фридрих Вильгельм ежегодно тратил 15 процентов государственного дохода на возрождение одной-единственной провинции — Восточной Пруссии. При этом государственный бюджет, две трети которого шло на армию, вооружение и шерстеобрабатывающую промышленность, король стабильно увеличивал.
Население страны выросло более чем на 40 процентов, или на 750 000 человек: с 1 750 000 до 2 500 000. Прирост населения в отдельных провинциях оказался следующим (цифры округлены):
Характерным для развития страны оказался прирост преимущественно городского населения, занятого в промышленности, ремесленном производстве и в торговле. В 1713 г. Бранденбург населяли около 500 000 человек, из них 20 процентов, то есть 100 000 человек, жили в городах. В 1740 г. провинция насчитывала около 700 000 жителей, из которых тридцать процентов, то есть 210 000 человек, были горожанами. В то время как сельское население провинции увеличилось с 400 000 до 500 000 человек, то есть на 25 процентов, население городов там возросло вдвое — со 100 000 до более чем 200 000 жителей.
Вот плоды неустанных трудов Фридриха Вильгельма, возродившего опустошенные еще катастрофой Тридцатилетней войны земли. При этом он наделал множество ошибок, обусловленных его энергией, буйным темпераментом и деспотическими наклонностями. Так, в 1724 г. король отдал распоряжение: в течение шести месяцев разобрать и распахать крестьянские участки, ставшие бесхозными в результате войны. Совершенно невозможное требование: нельзя за полгода возродить разрушенное век назад. Фридрих Вильгельм понял, что поторопился, и приступил к планомерному повторному заселению этих земель. Во всех церквах сообщалось: каждый сможет получить заброшенный двор с земельным наделом, причем бесплатно, как только обратится к властям. В 1724 г. король приказал разыскать по всей стране кадастры, составленные перед Тридцатилетней войной. Население каждой деревни следовало увеличить хотя бы до уровня столетней, 1624 г., давности.
Осторожно и деловито, упрямо и страстно, подкрепляя порой указы палкой, Фридрих Вильгельм I поднял страну, причем сам, собственными силами, без иностранных кредитов и займов. Каждый новосел получал столько пашен, лугов и пастбищ, сколько требовалось его семье, чтобы позже, по прошествии нескольких лет, платить государству налоги. Эта комбинация попечительской и налоговой политики дополнялась мерами по защите неимущих. Дворянству, получившему от короля привилегию служить армии и государству, не разрешалось приобретать бесхозные крестьянские земли. Если же обнаруживались одна-две гуфы[45] крестьянской земли, ставшие юнкерскими, Фридрих Вильгельм требовал от помещика исполнения обычных крестьянских повинностей и оброков.
Таким и видели короля изо дня в день на его рабочем месте: он возрождал страну и превращал ее в рациональное государство, управляя ею как «наместник Бога» и как «великий хозяин». Беспощадный и к знатным, и к простым, он был деспотичен и нетерпелив: рвение короля не знало границ. За каждого крестьянина, за каждого бедняка, заселявшего брошенные земли, за каждого переселенца, принятого королем в свою страну, он горячо благодарил Бога — но при этом все делал сам! Со страной король делал то же, что с обширными болотами и пустырями: он ее возделывал. Он превратил в рай не одну лишь Восточную Пруссию. Торфяные болота Хафельланда — семьсот квадратных километров равнины между реками Хафель и Рин — он осушил с помощью двух главных и множества обводных каналов. Болота, примерно равные по площади всему Берлину, превратились в пашни и пастбища, и на этой земле смогли начать новую жизнь тысячи семей.
В одном из писем к старому князю Леопольду Фридрих Вильгельм говорил: «Власть в этом мире — всего лишь труды и мучения». Ради страны и народа король действительно провел жизнь в трудах и мучениях. Наследнику он оставил десять миллионов талеров в казне и ни пфеннига долга, 75-тысячную армию, с которой он не устроил ни одной войны, и два с половиной миллиона подданных, трепетавших перед королем и не любивших его, но имеющих верный кусок хлеба и работу.
Через полвека после смерти «Великого хозяина», в 1790 г. в Йене вышел немецкий перевод французской книги, изданной в Лондоне двумя годами раньше и привлекшей внимание всего мира. Она вышла из-под пера одного из вождей Французской революции, знаменитого графа Мирабо, и называлась «De la Monarchie prussiene».[46] То, что написал в этой книге Мирабо — революционер, внимательный наблюдатель, — и по сей день остается лучшим из всего сказанного о трудах Фридриха Вильгельма I и его сына, сказанного со знанием дела и с учетом исторической ситуации:
«Прусская монархия заслуживает симпатии всего мира. Она — великолепный и грандиозный шедевр, над которым в течение веков трудились гениальные мастера. Она прекрасно обустроена. Ее дух — дух порядка и регулярности. Свобода мысли и веротерпимость торжествуют здесь. Гражданские свободы широки настолько, насколько они вообще могут существовать под неограниченной властью одного человека. Самый крупный пережиток варварства в этой стране — кабала (крепостное право и личная зависимость. — Примеч. авт.), удерживающая значительную часть крестьянства. Она обладает армией, и этой армии нужна лишь легкая доработка, чтобы стать совершенной. Наконец, ее свод законов — образец для всей Европы, хотя никто еще к этому образцу и близко не подошел. С закатом Пруссии исчезнут и забудутся все эти блага, а искусство быть королем впадет в детство».
Эпилог
Начиная с 1728 г. Фридрих Вильгельм был тяжело болен. Остается только удивляться, как сумел он править еще двенадцать лет. Почти каждый его день был полон «трудов и мучений».
В 1734 г. врачи применили экспериментальный метод лечения: пытаясь избавить короля от водянки, они сделали на его ногах глубокие надрезы. В 1739 г., во время инспекционной поездки по Восточной Пруссии, давно зажившие надрезы открылись и сильный приступ лихорадки лишил короля подвижности. Умирающего, издающего стоны короля привезли в Берлин. О его традиционном охотничьем сезоне в Вустерхаузене нечего было и думать. Медики лишь задумчиво качали головами: они не верили, что король переживет зиму.
В октябре Фридрих Вильгельм собрался с силами и приказал отвезти себя в Потсдам. Его едва смогли перенести в карету: настолько сильные боли он испытывал, имея к тому же огромный избыточный вес. Но король хотел еще раз посмотреть на Потсдамский гвардейский полк.
В парке между дворцом и гарнизонной церковью полк прошел перед ним торжественным маршем. Впереди шли барабанщики и флейтисты, игравшие марш князя Леопольда: «Так живем мы, так живем мы, так живем мы во все дни». Следом торжественно вышагивали гренадеры — каждый не ниже 1,85 метра ростом. Опираясь на палку, король отдал им честь. Придворный из свиты кронпринца, барон фон Бильфельд, наблюдавший эту сцену, писал: «В молодости он, должно быть, выглядел гораздо лучше, но сейчас от той внешности не осталось и следа. Его лицо переливалось красными, синими, желтыми, зелеными оттенками. Круглая голова короля лежала прямо на плечах; он обладал невысокой и приземистой фигурой».
Смертельно больного короля снова отвезли в Берлин. Зима 1739/40 г. оказалась одной из самых суровых в XVIII столетии. Вино в погребах превращалось в лед, птицы на крышах и деревьях замерзали целыми стаями. Трескучие морозы продолжались до апреля 1740 г. Изо дня в день мучения короля только усиливались. Он чувствовал приближение смерти, в феврале написав князю Леопольду: «Я собираюсь умирать». Хотя король и не мог встать с постели, он продолжал работать. «Короли, — говорил он, — должны быть выносливее других людей». Если короля посещали музы, он занимался живописью («in tormentis pinxit») или мастерил ящички из липового дерева, при этом так энергично работая молотком, что стук его был слышен за пределами дворцовой площади.
Март принес королю некоторое облегчение. Фридрих Вильгельм стал снова посещать свою любимую Табачную коллегию. Однажды туда без предупреждения вошел кронпринц. Все присутствующие встали, хотя уже давно, следуя неписаному закону, в Табачной коллегии никто никогда не вставал, даже если входил сам король. Фридрих Вильгельм вышел из себя: как, они уже заигрывают с «восходящим солнцем»?! Он тотчас отправился на своем кресле-коляске в спальню и передал всем оставшимся приказ разойтись.
В апреле, когда холода прошли, король собрался в Потсдам. Он знал, что больше не увидит Берлин («Прощай, Берлин! Хочу умереть в Потсдаме»), и потому раздал бедным сто тысяч талеров. Едва приехав в Потсдам, он вызвал священников Ролоффа и Кохиуса. Они должны были молиться в присутствии короля, а тот повторял их слова громким командным голосом.
Фридрих Вильгельм постоянно звал Софью Доротею, свою возлюбленную «Фикхен». Она держала его за руку, присев на кровать. Благочинный Ролофф сменял Софью Доротею и вел с королем беседы на религиозные темы. Ролофф упрекал короля в неправедных делах, снова и снова напоминая ему, что, ужесточая приговоры, он грешил не столько перед людьми, сколько перед Богом. Фридрих Вильгельм казался глубоко потрясенным. Он терпеливо сносил упреки и, уж конечно, не угрожал пастору ни кулаком, ни палкой. Ролофф сообщал: «Король совершенно перестал сдерживаться и, когда речь заходила о признании грехов и раскаянии в них, использовал экспрессии (резкие формулировки. — Примеч. авт.), крепче которых не может и быть. Перечисляя грехи, он пускался в такие подробности, что я молил его воздержаться, ибо тайная исповедь у нас не принята».
Ролофф остался доволен благоразумием короля. Но когда он попробовал заставить Фридриха Вильгельма признать себя величайшим грешником из всех монархов, король запротестовал: ведь он всегда был верен своей жене, и короля нельзя судить так же, как частное лицо. Ролофф свидетельствует: «Когда я все же попытался переубедить его, erat altum silentium (он немного помолчал. — Примеч. авт.), а затем вернулся к мысли о некоторых преимуществах королей перед партикуляриями (частными лицами. — Примеч. авт.). Снова и снова он пытался оправдать свои деяния».
Ролофф и Кохиус объясняли королю: он должен простить врагов, если хочет заслужить вечное блаженство, и тот наконец с этим согласился. Но тут же Фридрих Вильгельм исключил из числа прощенных им врагов своего шурина, английского короля Георга II. Он ударил ладонью по постели и закричал: невозможно простить такого поганца, комедианта, принесшего ему столько горя! Священники настаивали на своем, и наконец король согласился: пусть Софья Доротея напишет брату, что на смертном одре он его простил. «Но она должна написать, — гневно прокричал король, — я простил его, когда был уже мертвым, совсем мертвым!»
В ночь с 26 на 27 мая королева послала гонца к сыну в Рейнсберг известить о близящейся кончине отца. Кронпринц помчался в Потсдам, куда прибыл в полдень. На дворцовой площади он увидел короля, сидевшего в кресле-коляске. Кронпринц спрыгнул с лошади и подбежал к отцу. При виде сына Фридрих Вильгельм расплакался. Он вытащил из-под пледа руки и обнял его. «Я всегда желал тебе только добра, — всхлипывал король, — я всегда любил тебя, даже когда был к тебе строг».
Субботу 28 мая отец и сын провели за закрытыми дверями, в присутствии одного лишь министра фон Подевильса. Король дал наследнику подробный отчет о состоянии прусского государства. Кронпринц Фридрих смог прочитать завещание, составленное для него королем около двадцати лет назад. За это время в завещании, запечатлевшем личность короля и его волю, не изменилось ни слова. В важнейших пунктах этот документ говорил о взглядах, опыте и выводах прусского короля-солдата:
«1. Я был покорен Богу. С двадцати лет я полностью вверил себя Всевышнему и молил Его услышать мои просьбы. И Он всегда слышал их. Я уверен в благословении Иисуса Христа и от всего сердца раскаиваюсь в явных и тайных грехах, ведь я всегда работал над улучшением самого себя и, с Божьей помощью, был упорен в этом до самой кончины. В этом помогал мне Дух Святой и Иисус Христос. Аминь.
2. Всех правителей, помнящих Бога и не имевших любовниц (лучше было бы сказать „шлюх“. — Примеч. авт.) и ведущих богобоязненный образ жизни, Бог осчастливил Своей благодатью. И я прошу своего возлюбленного наследника жить честно, быть хорошим примером для страны и армии и не предаваться пьянству и обжорству — спутникам жизни нечестивой. Итак, я советую тебе: забудь о любовницах, онере, комедиях, балете, балах и маскарадах и не веди безбожную жизнь.
3. Остерегайся льстецов и угодников, которые во всем станут тебе поддакивать. Они — твои враги. Не слушать их надо, а гнать как можно дальше. Иначе они доведут тебя до беды и причинят вред твоей армии и твоей стране.
4. Когда я отдам Богу душу и умру, мой наследник, ты должен все опечатать и забрать все ключи. Затем ты должен составить государственный бюджет на следующие шесть месяцев, как это сделал я после смерти отца. Ты должен тщательно изучить бюджет. Все расходы ты обязан сократить. Начни с господ министров. Например, тот, кто получал 200 талеров в месяц, отныне должен получать 120 или 150 талеров. Благодаря этому ты сбережешь много денег. Распорядись об этом сам, один, дабы все знали: решение исходит от тебя и ни от кого другого. Через год ты сможешь повысить жалованье сотрудникам, отличившимся по службе. Ты и сам должен работать как они, как всегда работал я! Потому что король, желающий честно править, сам должен исполнять обязанности. Правители созданы для работы. И когда ты, мой возлюбленный наследник, все приведешь в порядок, дела пойдут так же хорошо, как звучит хорошая музыка! К сожалению, в большинстве своем монархи забывают Бога, перепоручают дела министрам, а сами предаются разврату и плотским удовольствиям. Но я твердо верю: мой любимый преемник последует моему примеру.
5. Настоятельно прошу тебя: не лишай офицеров, унтер-офицеров и солдат моих полков причитающегося им жалованья и доплат. Если ты выполнишь эту просьбу, получишь мое благословение. Если нет, я прокляну тебя с того света.
6. Министры всегда будут плести интриги. Они станут говорить тебе, что бюджет не выдержит такой огромной армии. Составь смету расходов — и ты увидишь: бюджет положительный и что король Пруссии правильно поступает, когда правит сам и не дает господам министрам провести себя за нос. Тот, кто станет умничать и протестовать, — твой враг. Но все они поверят в тебя! Потому что диспозиция, оставленная мною тебе, хорошая: не обременяет горожан и не требует возврата к акцизам.
7. Что касается финансов, то после моей смерти ты не должен ворошить прошлое и проверять, обманывал ли меня тот или другой: думай о будущем! Через год ты сможешь составить новый бюджет и будешь тратить только имеющееся в бюджете. Армии и чиновникам всегда плати вовремя. Покупки за границей оплачивай немедленно. Тогда весь мир будет тебя уважать. Слава Богу, я не должен ни одному человеку! Не делай долгов и ты. Трать не больше, чем получаешь сам.
8. Что касается религии, то я был и, с Божьей помощью, умру реформатом. Но я считаю: лютеране, живущие богобоязненно, блаженны так же, как и реформаты. Их разделяют только споры священников. Оказывай реформатам и лютеранам равное почтение. За это Господь благословит тебя. Там, где нужно, строй церкви и школы. Делай бедным добро и никогда не мирись с нуждой. Помогай всеми доступными тебе способами! Бог воздаст за это тысячекратно. Разошли по консисториям указ, запрещающий реформатам и лютеранам спорить друг с другом в церквях. С церковных кафедр должно доноситься лишь слово Божье. Но прежде всего священники не должны вмешиваться в мирскую жизнь, что они очень любят делать! Все они хотят стать римскими папами и управлять нашей совестью.
9. Думай о мануфактурах, мой любимый наследник. Поощряй их развитие и поддерживай изо всех сил. Ты должен увеличивать число мануфактур, особенно в Восточной Пруссии. Соблюдай эдикт, запрещающий ввозить в страну шерстяную ткань. И знатные, и простые люди должны одеваться в одежды не из иностранных, а из изготовленных в Пруссии тканей. Подай сам тому хороший пример. Тогда ты увидишь страну цветущей и приумножишь доходы.
10. Наша династия имеет законное право притязать на Юлих-Берг, Восточную Фрисландию и Мекленбург. Подтверждения тому ты найдешь в Тайном архиве. Если во время твоего правления появится возможность вступить в эти права, отстаивай их всеми силами и ни в коем случае не уступай! Курфюрст Фридрих Вильгельм привел наш дом к расцвету. Мой отец добился королевского достоинства. Я привел в порядок страну и армию. На тебе, мой любимый наследник, лежит обязанность: сохранить все, созданное твоими предками, и забрать земли, принадлежащие нашему дому по праву и благословению Божьему.
11. Уповай на Господа и никогда не начинай неправедных войн! Но того, на что имеешь право, не уступай. Поэтому молю тебя именем Бога: заботься об армии, делай ее все более сильной и боеспособной, но никогда не отправляй полки воевать за деньги или за другие блага. Те, кому ты нужен, дадут тебе все. Если ты не нужен, держи армию наготове и жди. Высшая доблесть короля — хорошо заселенное королевство. В этом и есть подлинное богатство страны. А потому, мой дорогой наследник, прошу тебя еще раз: не начинай несправедливых войн. Бог запретил их! И тебе придется дать отчет о каждом человеке, погибшем на неправедной войне.
12. Дорогой наследник, сим даю тебе еще раз свое отцовское благословение и желаю тебе всегда помнить Бога, править страной справедливо и со страхом Божьим, всегда иметь верных и послушных подданных, а также сильную руку и мощную армию для защиты от врагов. Желаю тебе, а также твоим наследникам здравствовать до скончания веков, а всем твоим землям — расцветать с каждым часом. Да поможет тебе всемогущий Бог.
Твой до гроба верный отецФридрих Вильгельм».
Чтение этого документа произвело на сына сильнейшее впечатление. Затем отец повел речь об отдельных провинциях государства. Он начал с Восточной Пруссии, перешел к Померании, заговорил о Бранденбурге, Магдебурге, Хальберштадте и закончил прусскими землями в Рейнланде и Вестфалии. Говоря о свойствах людей, населявших ту или иную область, король был то экономистом, то психологом, то педагогом. Он подробно описал наследнику достоинства и слабости министров Краута, Грумбкова, Гёрне. Коксэжи удостоился величайших похвал. Король настоятельно советовал сыну приступать к созданию Всеобщего свода законов Пруссии. Под конец он перешел к внешней политике и стал говорить о России, Польше, Саксонии, Ганновере, Швеции, Голландии, Англии, Франции, о сдержанной политике в отношениях с императором и империей. И обо всем смертельно больной, истерзанный болью человек рассуждал, как свидетельствует его сын, «в полном сознании и с величайшим спокойствием». Кронпринц понимал отца с полуслова, излагая свое мнение. И только теперь, в последние часы жизни, король сумел оценить политические таланты этого 28-летнего человека. «Господь оказал мне величайшую милость, — обратился он к присутствующим министрам и генералам, — дав такого замечательного сына». Кронпринц поцеловал ему руку, но Фридрих Вильгельм обнял его и проговорил сквозь слезы: «Милый Боже! Я умираю с радостью. У меня такой достойный сын и наследник».
29 мая Фридрих Вильгельм продиктовал сыну подробные указания о том, как поступить с его телом после его смерти. Это один из самых замечательных документов мировой истории, непревзойденный памятник бесхитростной самооценке.
«Дорогой мой сын!
Настоящей инструкцией я сообщаю о том, что ты должен сделать с моим телом, после того как Всевышний заберет меня из бренного мира.
И вот что я хочу:
1. Как только я умру, мое тело следует обмыть, надеть на него чистую рубашку и положить на деревянный стол. Затем меня нужно побрить, тщательно умыть, покрыть простыней и оставить на срок от 1 до 4 часов.
2. В присутствии генерал-лейтенанта ф. Будденброка, полковника ф. Дершау, майора ф. Бредова, капитанов ф. Принцена и ф. Гааке и лейтенанта ф. Винтерфельдта, а также всех полковых хирургов и моего камердинера следует произвести вскрытие, чтобы увидеть, почему я, собственно, умер и как это отразилось на моем теле. Но я категорически запрещаю что-либо от него отрезать. Затем мое тело следует помыть и надеть на него лучшую униформу, положив вслед за этим в простой гроб, закрыв его и так оставив на ночь.
3. Сразу же после моей смерти солдаты лейб-гвардейского полка должны получить новые мундиры и шляпы.
4. На следующий день следует построить мой полк. Первый батальон фронтом обращен к дворцу, правый фланг стоит у воды, где начинается стена. Все должны быть при оружии, и каждый гренадер должен получить 3 заряда. На знаменах надо повесить траурные ленты, а барабаны обернуть черной тканью.
5. Катафалк, взятый из каретного сарая в Берлине, нужно поставить у зеленой лестницы, при этом головы лошадей должны быть обращены к воде. Пусть восемь капитанов моего полка перенесут меня на катафалк, а сделав это, возвращаются в строй. Когда катафалк тронется, должны забить барабаны. Гобои исполнят известную песню „О, голова в крови и ранах“. Мои сыновья Вильгельм и Генрих останутся в строю. Ты, как мой старший сын, а также маленький Фердинанд, одетые в униформу, будете идти за катафалком, равно как и генералы, офицеры, а также полковые священники Кохиус и Эдсфельд.
6. Затем мое тело надо перенести в церковь через дверь, которой я обычно туда ходил. Как только гроб внесут под своды, гобоисты тут же умолкнут. Мой капельмейстер Людовици должен играть на органе. Из генералов и офицеров должны присутствовать те, что окажут мне последние почести и перенесут меня в склеп.
7. 24 шестифунтовые пушки, доставленные из Берлина, должны дать двенадцать залпов один за другим. Затем по очереди стреляют батальоны.
8. Гренадеры сворачивают знамена после твоего, дорогой сын, приказа. Каждый гренадер должен получить на пиво столько же, сколько он получает после смотра.
9. Присутствующим генералам и офицерам следует выкатить бочку лучшего рейнского вина, и вообще в этот вечер не следует пить ничего, кроме хорошего вина.
10. Четырнадцать дней спустя во всех церквах следует прочесть поминальный стих „Я боролся за благие дела“. Затем надо спеть песню „Кто милость Господа снискал“. О моей жизни, о моих делах и обо мне самом не следует говорить ни слова. Но народу следует знать, что я сам запретил это и умер как величайший и ничтожнейший грешник, молящий, однако, Бога и сына Его о милости. И вообще на поминальных проповедях не надо меня ни осуждать, ни хвалить.
Мой дорогой и преданный сын, я не сомневаюсь в твоем точном исполнении моих последних желаний. А я остаюсь до самой своей смерти
всецело преданным тебе отцомФридрихом Вильгельмом».
30 мая король велел доставить себя в покои королевы и детей, где те с ним попрощались. Уже в своей спальне он сказал приближенным: «Теперь я вырвал из сердца самое дорогое: жену, детей, армию, страну и весь мир». Он все привел в порядок и теперь ждал смерти.
Решив развеять грусть, король велел спеть при нем хорал «Зачем же мне печалиться?». При словах «И предстану я нагим…» он воскликнул: «Нет, отставить! Я хочу быть похороненным в мундире». Ему сказали: на том свете армии нет. Король изумленно проговорил: «Как?! Три тысячи чертей! Почему?» Узнав, что на небесах не нужны солдаты, король погрузился в мрачное молчание.
Утром 31 мая, глядя из окна на конюшню, он внезапно велел вывести лучших коней и предложил старому князю Леопольду и генералу Гааке взять себе на память приглянувшихся им скакунов. Конюхи забыли положить под седла чепраки, король заметил это, поднял кулак и закричал: «Эх, будь я здоров, как бы я этих подлецов отделал! Спуститесь кто-нибудь да врежьте им как следует!»
Его перенесли в постель. Обессиленный Фридрих Вильгельм подозвал кронпринца и министра Подевильса и прошептал, что он больше не король и передает трон сыну. Майор фон Бредов громко повторил его слова для присутствующих офицеров и чиновников. Подевильс объяснил: в таком случае надо составить официальный протокол. Король ничего не отвечал.
В одиннадцать часов он потерял сознание. Снова придя в себя, Фридрих Вильгельм позвал священника Кохиуса. Король еще раз обнял жену. Затем спросил старшего хирурга лейб-гвардейского полка, сколько ему осталось жить. Тот взял его руку, подумал и ответил: «Еще полчаса. Пульс почти остановился». Король поднял руку кверху и крикнул: «Он не должен останавливаться!»
Чтобы развлечь короля, через комнату провели слуг в новых ливреях. Фридрих Вильгельм едва заметно покачал головой: «О, гордыня, гордыня!»
Он велел принести зеркало, рассмотрел свое чудовищно распухшее лицо, потрогал грудь и сказал: «Вот здесь я уже мертв». Затем вздохнул, внезапно приподнялся и, сжав кулаки, прокричал на берлинском диалекте: «Смерть, да не боюсь я тебя!»
Кронпринц вывел из комнаты королеву и тут же вернулся. Обмороки короля участились. Наконец король прошептал: «Господи Иисусе! Для Тебя я жил, для Тебя умираю. Ты мой доход…» В два часа пополудни король скончался. Был вторник 31 мая 1740 г.
Фридрих Вильгельм I умер на пятьдесят втором году жизни. Он был королем Пруссии двадцать семь лет. Сын безмолвно стоял у смертного ложа и смотрел на отца сухими глазами. В своих мемуарах Фридрих Великий писал: «До последнего мгновения он сохранял удивительное присутствие духа. Как великий государственный человек он привел в порядок все дела. Как врач он наблюдал за ходом своей болезни. Он взглянул смерти в глаза как герой».