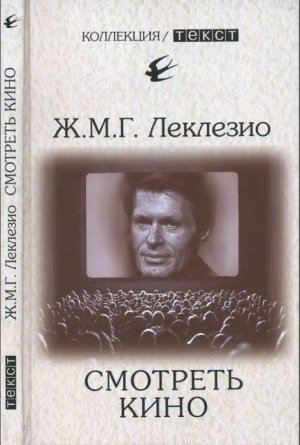
СТАКАН МОЛОКА АНДРЕ ЖИДА
Он присел на сундук Лаллы, чтобы выпить стакан чаю с мятой. Лалла не боялась его, но знала, что если она не уйдет, то настанет день, когда он силой уведет ее к себе, чтобы взять в жены, потому что он богатый и всесильный и не любит, когда идут ему наперекор.
Ж. М. Г. Леклезио, «Пустыня»
Точно помню, как я стал фанатом литературы.
В ту пору я был очень юн и жил с родителями на улице Виллерсексель в VII округе Парижа. Прошло совсем немного времени после Освобождения, я только что перешел в предпоследний класс в лицее Людовика Великого. Во Франции не хватало всего, но только не артистической жизни — наоборот, она-то имелась в изобилии. Американские фильмы, не выходившие целых пять лет, обрушились на освобожденную Францию, а Сен-Жермен-де-Пре так и норовил превратится в нервный узел философии, джаза и снобизма. До самого моего перехода в предпоследний класс я был прилежным, дисциплинированным учеником, но ограничивался тем, что усваивал необходимый минимум знаний. Входившие в программу авторы насыщали мое любопытство, и моя охота к чтению не продвигалась дальше обследования библиотеки моего отца. Некоторых иллюстрированных изданий на веленевой бумаге, в которых, что греха таить, даже не все страницы были разрезаны, как, например, «Песни Билитис» Пьера Луиса, вполне могло бы хватить для стимуляции юношеской пылкости мальчика моих лет. Но были там в горделиво блестевших переплетах и собрания сочинений Мопассана, Флобера, Мериме, Доде. Это было уже многовато. Слишком. Вот тут на сцену и выходит наш преподаватель французского, латыни и греческого, мсье Бийо, имевший манеру шептать ученикам на ушко.
Мураками сегодня рассказывает, что, когда Гайдн сочинял музыку, он имел привычку облачаться в соответствующее платье и надевать напудренный парик. Вот такого же типа был и мсье Бийо, когда приходил на урок, — типа, на описание которого Бальзак потратил бы с десяток страниц. Кутаясь в широкий плащ в крупную клетку, который он редко снимал, замотав горло изысканным шейным платком, мсье Бийо громогласно упивался началом «Болот» Жида, которое заставлял выучить и нас:
В шесть часов явился мой большой друг Юбер; он вернулся с манежа.
Он сказал: «Ах вот что! Ты работаешь?»
Я ответил: «Пишу "Болота"».
Мсье Бийо читал так, что мы слушали как зачарованные. И само молчание, следовавшее за его чтением, было частью полученного наслаждения. Потом мы бежали в книжный «Жибер Жен» на бульваре Сен-Мишель спросить в букинистическом отделе Жида, которого у них не было.
С тех самых пор, когда я открыл для себя еще и «Подземелья Ватикана», Жид стал одним из моих кумиров. Другим был Орсон Уэллс, чей «Гражданин Кейн» заставил сбежаться весь киноманский Париж. Я, как и всю свою жизнь, балансировал между литературой и кинематографом. Меня обуревала страсть то к кино, с его ощущением действия, непосредственностью, сильным эмоциональным зарядом, то — к литературе: там психологические тонкости, самоанализ, стиль, счастье писать — просидеть целое утро в раздумьях над точкой с запятой, чтобы после обеда ее вовсе убрать.
Не думаю, что сохранилась фотография той единственной в своем роде вечеринки, но я видел их вместе. Я видел, как они пожимали друг другу руки! Уэллс и Жид. В тот вечер там был еще и Кокто. Сейчас уже и не вспомнить многих, кто еще там был. Возможно, Александр Астрюк… А с Жидом эта моя встреча оказалась единственной.
Я был в том возрасте, когда вам крайне неприятно, если вас увидят с мамочкой. И тем не менее мы с ней вместе пошли на презентацию фильма в киноклуб, который я посещал регулярно. Это была мировая премьера «Макбета» Орсона Уэллса в Доме работника химии на улице Сен-Доминик. В том самом доме, где, как я узнал позже, нацистский военный трибунал в 1942 году приговорил к смертной казни молодых участников Сопротивления…
Холод стоял собачий. Орсон Уэллс вышел сказать несколько слов, и Кокто выразил большое желание представить его. Орсон отвечал голосом, которым поистине впору было декламировать Шекспира. Да мог ли я предполагать, что со временем стану другом Орсона, этой громадины Орсона, чье тело еще не совсем отяжелело от злоупотреблений жирным свиным шпиком, от которого он был без ума? Он показался мне изумительным, точно таким, каким к нему уже присмотрелись на экране в «Гражданине Кейне», «Леди из Шанхая» или — там он появлялся пореже — «Третьем человеке». Уэллс, с его манерой широко шагать, повадками ребенка-вундеркинда, с его насмешливым взглядом и, что забавно, маленьким носиком, этим свидетельством детской уязвимости, делавшим его еще очаровательнее.
Присутствовал там и Жид, чествуемый, окруженный лестью и поклонением. С ним пришла Дороти Басси, его переводчица, у которой волосы вились голубоватыми кольцами; она играла с моим отцом в бридж. Жид с его пергаментным лицом в свои без малого восемьдесят превратился в этакого старого мерзлявого господина, беспрестанно кутавшегося в толстый коричневый шерстяной плащ и не снимавшего с головы берет. И я, как зачарованный, смотрел на него. Своей вытянутой маской, мешками под глазами и бледностью треугольного лица он напомнил мне мсье Бийо. У меня остались такие чистые, такие светлые воспоминания об этой встрече, что иногда я и сам не могу понять — память ли это о Жиде как человеке или скорее о том образе, который понемногу запечатлелся в моей душе после его фотографий и прочитанных произведений.
Чтобы сделать мне приятное, мать уговорила Дороти Басси, чтобы мы довезли Жида на машине на улицу Вано, в дом номер 1-бис. В ту пору у нас был одиннадцатый «ситроен», черного цвета и легкий, и я даже помню его номер: 307 RS3. За руль сел я, ведь я только что получил права. Жида усадили справа от меня — на почетное место рядом с водителем. В этот поздний час улицы были пусты, и ничто не мешало доехать быстро и без помех. Естественно, я изобретал самые заковыристые повороты, ссылаясь на то, что там или сям запрещен проезд, и ехал со скоростью десять километров в час — таким до смешного коротким казалось мне расстояние от Сен-Доминик до Вано. Жид наверняка заметил мои проделки, однако не подал виду. Тем временем он обратил внимание, как жадно я поглядываю на его губы — точно ловец жемчуга, высматривающий во глубине океанских вод жемчужину. Наконец он покрутил трость между костлявых колен и наклонился ко мне. Его ничего не значившая фраза еще звучит у меня в ушах с необыкновенной точностью:
— А вы, мсье, чему намереваетесь себя посвятить?
Я прекрасно понимал, что это банальность, но ведь я вез в своей машине Божество. Я был не в силах сформулировать мысль. Я ответил, сам не понимая что:
— Попозже я хотел бы заняться писательством. Или преподавать французский язык.
Жид кивнул головой. Я украдкой следил за ним. Страх пропустить хоть крупицу того, что он сейчас скажет, сжал мне сердце.
— Ах, как хорошо, — произнес он, и его тонкие губы сложились в призрак улыбки.
Я с удовольствием ехал бы так всю ночь, плутая по лабиринту времени и не испытывая никакого желания выбираться из него. Увы. Мы уже приехали на улицу Вано. Жид с трудом вылез из «ситроена» — точнее, его вытащила оттуда Дороти. Потом он повернулся ко мне, тоже вылезшему попрощаться с ним, и сказал мне с видом человека, одурачить которого не вышло:
— Спасибо, что прокатили, молодой человек.
Эта фраза подействовала на меня так, будто меня прокололи шилом, словно один из тех punte,[1] какими наказывал самого себя Лафкадио из «Подземелий Ватикана», но на сей раз это была противоположность того удивительного беспричинного деяния.
Тогда, пока он маленькими скользящими шажочками прошел в ворота и, так и не обернувшись, растворился в полутьме двора, я смотрел, как исчезает его знаменитый силуэт, воплощавший для меня все величие и всю тайну литературы.
Благодаря моей матери я смог прикоснуться к руке великого человека! Отца Лафкадио! Жид, Уэллс, Кокто. Может быть, и Сартр, Камю в непромокаемом плаще с поясом, у которого я осмелился попросить автограф на книжной распродаже: невозможно представить, как много значило это дефиле гениев для молодого человека семнадцати лет, к тому же скромного и еще совсем желторотого, ничего не успевшего понять в жизни и посещавшего всего нескольких друзей и несколько художественных событий в родном городе, который он так мало знал. Но уже склонного к преклонению и одержимого пылкой мечтой: самому играть роль, пусть самую маленькую роль, в области раскрытия дарований. Тот же самый пожар сердца я буду испытывать при каждой крупной встрече на кинофестивале в Каннах. Возбуждение началось тогда, и ему больше не будет конца.
В тот вечер мать удивило, как я уходил к себе в комнату.
— Я ведь не пожелал тебе доброй ночи, — сказал ей я.
Я набросился на книги Жида, которых до этого не читал, — на «Фальшивомонетчиков», «Прометея плохо прикованного», другие. Пока однажды не наткнулся в его «Дневнике» на такую вот невозмутимую констатацию: «Выпил молока».
Сколько же лет нужно работать, чтобы достичь такой чистоты стиля? Вспомнив все, я заключил, что старина Жид был со мной красноречивей, чем мне показалось. Решено: буду писателем.
Прошло еще три года — и я точно помню, как стал фанатом кинематографа.
Признаться, тогда я влюбился в Сюзанну Клутье, увидев ее в «Царстве небесном» Дювивье.[2] У нее были ореховые глаза, очаровательная походка манекенщицы, и после того, как я осыпал ее комплиментами, придя к ней в уборную в театре «Эдуард VII» после спектакля «Лангуст, который не думает ни о чем», мы пару-тройку раз встречались. А теперь она играла Дездемону у Орсона Уэллса и снималась в его «Отелло» в марокканском Могадоре. Даже само изображение ревности оказалось заразительным — ревнуя ее, я весь извелся и не смог противиться желанию рвануть туда следом за ней. Так вышло, что моим партнером по теннису был Дониоль-Валькроз, один из редакторов «Кайе дю синема». Он-то и выдал мне удостоверение журналиста-международника, которое я храню по сей день, и я отправился брать интервью у Уэллса с заездом в Марракеш. Только я успел приехать, как ассистент, уже предупрежденный о моем прибытии, говорит мне, что снимается очень важная сцена — общее погребение Отелло и Дездемоны. Такой пролог к фильму придумал Орсон. Если не возражаете, добавил он, мы вас задействуем в толпе как статиста, а то нам их не хватает. Я влезаю в латаный-перелатаный бурнус, который он мне подает, и мы стремглав несемся к крепостной стене. Меня еще не представили самому Уэллсу, хотя он здесь, командует осветителями и актерами, а сам еще в гриме венецианского мавра, подчеркивавшем белки его глаз. Уэллс ждал своего «часа икс» — когда свет заходящего солнца отвесно озарит охристые камни. Вокруг нас высилась грандиозная декорация — над развалинами громко рыдали чайки, морской бриз покачивал рыбацкие сети, и две монашеские процессии то останавливались, то опять возобновляли медленное шествие, повинуясь приказаниям режиссера. Сюзанна не участвовала в съемках — понятно почему, — но тоже важно стояла в толпе под белой вуалью, чтобы пополнить массовку, тем самым словно бы присутствуя на собственных похоронах. Я тихонько проскользнул к ней поближе и украдкой пожал ей руку, никто не заметил моей проделки, и она не уклонилась.
— Тебе-то известно, как я хотела стать монахиней, — прошептала она с усмешкой, подобно мне возбужденная величием этой сцены.
На следующее утро мне предстояло брать интервью у Орсона. Я постучал в дверь его номера в тот момент, когда они с Сюзанной выясняли отношения. Я понял, что ей приходится защищаться. «Если тебе больше нравится малышка Бетси, — говорила она, — еще есть время отдать роль ей. Это будет уже которая?» Он крикнул, чтобы я вошел. Уэллс вальяжно развалился в постели. Я попятился было, шагнув обратно к двери, но тут он пинком отбросил одеяло, и я увидел, что он лежал совершенно одетый, — подобные мистификации для него были самым обычным делом. Уэллс пригласил меня в мавританское кафе с музыкантами. Какое-то подобие местного фиакра подвезло нас совсем недалеко, а потом мы дошли до кафе отлого спускавшимся переулком. Это был час намаза, и в пустом зале кауаджи принес нам дымящийся мятный чай.
— Мне предлагают снимать «Подземелья Ватикана». Понимаете, что это значит?
Уэллс раскатисто захохотал.
— Снимать-то должен был Рене Клеман, да Белла потащила его к карточной гадалке, а та заявила, что из фильма ничего не выйдет. Это такая же истинная правда, как вон та смесь табака с гашишем, которую сейчас курит этот старик араб, скрестивший ноги на циновке. Вот, должно быть, отчего и вспомнили про меня.
И он снова расхохотался.
— А насчет Лафкадио… Признайтесь честно — вы видите в роли Лафкадио Уильяма Холдена под тем предлогом, что он сыграл в «Сансет-бульваре»? Снимать, естественно, надо будет на английском языке. Только не записывайте этого в ваш блокнот, ведь после смерти Жида дочь должна дать согласие, а она его не дает.
Но я уже не слушал его. Я думал о том, кого бы лучше сыграла Сюзанна — Каролу или Женевьеву де Баральуль. Что вы хотите, ведь я был влюблен: и точно помню, что в эту минуту я стал фанатом самой жизни.
Зато мало кому известно, что назавтра, в последний съемочный день, Сюзанна не пришла на праздничную вечеринку в честь окончания съемок. Я узнал, что она в ту же ночь уехала в пустыню, не подав никаких признаков жизни. Что за мощная сила обрушилась на нее, заставив отступить? От кого или от чего она спасалась бегством? Газеты в те дни пестрели заголовками о вторжении китайских войск в Корею. О ее исчезновении не было ни слова.
— Когда ты поймешь, — сказала мне мать по моем возвращении, — что женщина непредсказуема?
Сюзанна объявилась только две недели спустя — в Лондоне, где все кончилось ее замужеством за Питером Устиновым.
Я вспоминаю тот вечер в Могадоре, где между нами разыгралась немая сцена. Она была женой венецианского мавра; а я — я был Яго. В лучах заходящего солнца ее густые светлые волосы блестели словно корона. Я впервые рассказываю об этом.
Жиль Жакоб,
кинокритик, президент Каннского кинофестиваля
***
Смотреть кино
это падать с неба
с облака на облако
среди
молний
Свет во тьме, он окружает вращающуюся Землю, ее свет струится из беспредельного
Двадцать пять веков назад написал это стихотворение грек Парменид, и вот кинематограф ставит философский вопрос вновь. Этому свету из беспредельного, который озаряет экран, подобно сиянию, исходящему от луны, необходима темнота; светящаяся звезда похожа на диск, на зеркало или, может быть, даже на линзу, не она ли и послужила прообразом проектора или камеры-обскуры, отбрасывая собственный образ сквозь просветы в листве деревьев? Пучок света, падающий на экран, — разве он не принимает форму круга, если не заключить его в рамку (должно быть, по заразительному примеру прямоугольной формы живописных полотен), подправив с помощью каширования? И камера, и проектор — механизмы, придуманные для того, чтобы воссоздать для нас свет из беспредельного, — разве не воскрешают они саму природу этого лунного отблеска, чрезмерно белого, чрезмерно контрастного ночного сияния, чтобы в темном зале кинотеатра мы смогли прожить жизнь, о которой только мечтаем, уйдя далеко, так далеко от реальности?
Все с самого начала разворачивалось в этой двузначности — от реального до придуманного, от переживаемого до воображаемого, от того, во что веришь, до того, чего жаждешь. Политый поливальщик братьев Люмьер вызывал смех потому, что на него взирали издалека, ощущая собственную неуязвимость (то бишь чувствуя себя сухими). Анри Бергсон обнаружил в кинематографе подтверждение своей теории смеха: ни один другой жанр не в силах был придать ему предельную выверенность механики, к тому же, как любая механика, и эта тоже могла быть бесконечное множество раз заново поставлена и сыграна, и все с тем же успехом. Повторение, настойчивость, простота ловушки делают свое дело, и раскатистый хохот свидетельствует о том, что сами-то мы под надежной защитой, мы просто зрители.
Свет из беспредельного: то, что это слово «свет» — «люмьер» — будет ассоциироваться с кинематографом, с его историей, — вот что поразительно. Свет существует прежде кино. Он есть выражение бытия. Он сияет из самого далекого прошлого, из глубин пещер Альтамиры, с тех наскальных рисунков, нанесенных далекими предками, которые оживали от движения факелов, — стад бизонов, антилоп, притаившихся воинов, охотников, потрясающих дротиками.
Электрический свет, пусть так! Первые шаги кинематограф делает еще до использования электрических ламп накаливания. Это волшебный фонарь XIX века, тот, что описывает Пруст на первых страницах «Любви Свана», неустанно возвращаясь к истории Женевьевы Брабантской, тот самый, о котором Ингмар Бергман рассказывает в «Латерна магика» как о проводнике его инициации в мир образов. Или тот, который я смотрел ребенком в коридоре моей бабушки, он работал на масляной лампе, а внутрь вставлялись стеклянные пластины, на них бледными красками были нанесены картинки, которые знакомили меня со сценами из басен Лафонтена или сказок Перро.
Не хватало движения, то есть жизни. Феномен изображения, задерживающегося на сетчатке глаза, был известен с давних времен. Ребенком я узнал о нем из чудесной книги Тома Тита («Занимательная наука»), которая учила, как можно поэкспериментировать с блюдцем и картонным кружком, — если его проткнуть посередке, то получается карусель, на которой, стоит мне только захотеть, поскачет лошадь или побежит человеческий силуэт. Говорят, в Ангкоре похожее развлечение устраивали себе кхмерские принцы, глядя из окна проносившейся кареты на то, как шагают каменные слоны. Не пора ли нам вернуться к античной философской мысли, ко всем этим вопросам о том, насколько реально движение, полет птиц, галоп лошадей, которые все суть вариации Зеноновой стрелы? Фотография, а потом и кинематограф принесли зачатки ответа. Но разрешили ли они проблему времени?
«Прибытие поезда на вокзал Ла-Сьота», «Выход рабочих с заводов Люмьер» мгновенно обессмысливают эту тему. Подобные ожившие картины утверждают реальность, демонстрируют ее весомо, грубо, как принцип. Течение жизни становится данностью. Зритель больше не размышляет. Он не отступает, чтобы лучше разглядеть, не прищуривается. Он пугается, очаровывается, ему смешно, он забывает обо всем. Режиссер Робер Брессон вспоминает, как воздействовало кино на своих первых зрителей. «Больше всего нас удивило, — рассказывает он, — что шевелились листья на деревьях».
В одном из первых фильмов, навеки запечатленных синематографом, Луи Люмьер снимает своего брата Огюста в кругу семьи, в саду, когда тот кормит младенца, вкладывая пищу прямо ему в ротик. Это называется «Завтрак ребенка». В глубине сада по листве кустов пробегает легкий ветерок. Прошла сотня лет, но мы испытываем все то же очарование этой обыденной сценкой, будто это одно из наших собственных воспоминаний, будто мы вот-вот услышим шепоток пробегающего по саду ветра, услышим, как ложка звякает о тарелку, и еще смех, нежные слова родителей.
Я очень люблю лунную метафору. Не потому ли я и вглядываюсь в свое детство, что мне так нравится свет кинематографа, этот бледный, жемчужный, зернистый свет, немного сероватый или, напротив, чрезмерно резкий, свет, который, как говорится, светит, да не греет, зато может оживлять сны и призраки? Луна — звезда сновидений, ее диск — это серебряное зеркало, или, быть может, линза, или еще то выпуклое зеркало, что отражает пучок от электрической лампы проектора. Проектор, ну точно как лунный свет, распространяет сияние, совершающее путешествие во времени, прежде чем оно доберется до белизны экрана. То, что он освещает, — театр теней, ибо в ту минуту, когда на них смотришь, несмотря на их движение и жизнь, эта реальность, эти мужские и женские силуэты уже перестали существовать.
Все помнят значительные технические трудности, сопутствовашие изобретению кинематографа. В ранние годы снимали лишенные движения сцены на пленэре, в студии, простейшие опыты. Трудно увидеть в этих трепетных, обольстительных кадрах что-то иное, кроме плохой имитации реального.
Иногда это может спровоцировать эмоцию, вызвать забавное замечание, на грани изумления. Но в первые мгновения своей жизни кинематограф кажется обреченным на интерьерные съемки (стена в глубине пещеры). Вне помещения слишком яркое солнце, слишком сильный ветер, может быть, слишком много шевелящихся листьев на деревьях. Ночь, настоящая ночь слишком темна, и пленка не может зафиксировать сверкание звезд.
Если хотят иметь дело с искусством (а кажется, именно этого и хотели — от создания «Фильм д'Ар» до основания «Метро-Голдвин-Майер»), с приключением, с любовью, с чувством, необходимо извлечь кино из его хитроумной механической оболочки, забыть его волшебные детские времена. Его истина лунная, она в одно и то же время и далекая, и родная, она изобретает реализм, но так никогда и не станет реальностью. Все первые кинофильмы рассказывают интриги, показывают сцены, заимствованные из романов или театрального репертуара. Их вдохновляет нечто среднее между мифом и фарсом. А ведь это именно то, чего так ждут зрители. Моему отцу было всего семнадцать, когда он на острове Маврикий узнал о том, что семья разорена и грядет выселение из отчего дома. Он пошел на обман, прибавив себе лет, и завербовался добровольцем в британскую армию, чтобы ехать сражаться в Европу, на ту войну, о которой ничего не знал. Чтобы обмануть свою печаль, он пойдет посмотреть один из первых игровых фильмов, которые показывают в театре «Кюрпип», видавшем виды и перестроенном под кинозал. Фильм называется «Эдип царь», по Софоклу. Его режиссер — Андре Кальметт. Дата выхода— 1908 год. Я так и не смог представить себе, на что же он был похож, этот фильм, с драматической ролью Муне-Сюлли, игравшего ослепленного Эдипа в духоте маврикианской зимы, в то время как по гофрированному железу крыши барабанили потоки дождя, над Мока и родным домом собирались грозовые облака, и иная гроза, куда более страшная, назревала на другом краю света, над долиной Марны. У меня ничего не осталось от того волнующего вечера. Только маленькая записная книжка отца, в которой есть сделанная карандашом пометка, полустершаяся от времени: «10 декабря 1914, ходил в кино смотреть «"Эдип царь"».
Рождение кинематографа для такого ребенка, каким был я, поначалу (а сегодня, должно быть, это повсеместно распространено благодаря телевидению и DVD) было развлечением домашним. В квартире, где мы жили после войны, моя бабушка устроила у себя в коридоре систему, состоявшую из проектора «Патэ Бэби», экрана из белой скатерти, повешенной на стенку, и стульев для детей. Проектор и бобины принесла бабушкина подруга, ее звали Габи, и она всю жизнь проработала на заводах Патэ — о ней я еще расскажу чуть дальше. Чего только не находили мы в коробке с кинолентами. Бобины со старыми новостями тридцатилетней давности, виды Парижа и Эрменонвилля, прекрасные незнакомки в узких корсажах и украшенных цветами шляпках (подруги бабушки или Габи, а может, и девицы, желавшие стать актрисами, пришедшие сняться в пробах на студию Патэ в X округе), документальные съемки об Алжире и Крайнем Севере, автомобильные гонки — больше всего я любил эпизод, где показывалось, как высоко стоявшие на колесах автомашины опрокидывались на крутом вираже с такой неспешностью, что сидевшие за рулем вполне успевали вылезти и отойти в сторону. Проектор с ручкой позволял поэкспериментировать и с замедлением, смотреть кадр за кадром (однако нельзя было долго задерживаться на чем-то одном, иначе лампа проектора могла прожечь пленку). Еще я обнаружил, как приятно смотреть фильмы с конца, крутя ручку в обратную сторону. Особенно для этого подходила бобина, на которой был снят прыжок с парашютом. Можно было видеть, как человек подскакивает, отрываясь от земли, обвязанный веревками парашюта, который после этого сразу складывается, и как потом его, пятящегося задом, проглатывает открытая дверь биплана. Думаю, что благодаря этому маленькому проектору я познакомился со всеми техническими приемами кинематографа — замедлением, монтажом, крупным планом, зумом и размытостью изображения, — хотя некоторые из этих приемов объяснялись по большей части ветхостью пленки. Для приведения ее в божеский вид мы использовали специальный клей и прищепки. Позже, когда бабушка решилась поменять «Патэ Бэби» на проектор для широких бобин, тоже снабженный ручкой, я открыл искусство зрелища. Соединяя разнородные куски, я делал фильмы длительностью минут по двадцать, организуя их более логично, по-новому склеивая документальные съемки («Празднования победы 1918 года», «Утиная охота на биплане», «Вторжение в Рур», сцены бури или закатов, верблюд в Ботаническом саду, мультипликации, комедии). Если мне случалось приглашать на такие просмотры приятелей, я вывешивал афиши, указывая в них программу.
Бабушкин коридор был для меня тем, что зовут открытием мира, которое и есть кинематограф. Окно в реальную жизнь, окно во вражеской стене, в послевоенной оборонительной системе. Того, что показывал нам экран, уже давно не существовало, но я этого не знал.
Эти господа в котелках, с закрученными усиками, чернеющим взглядом, с их манерой ходить вприпрыжку, преувеличенной выразительностью жестов, эти дамы под вуалетками и в пышных юбках, затянутые в корсет, на ногах ботиночки, эти слишком бледные, слишком накрашенные лица, губы, напомаженные сердечком, взмах ресниц и взгляды искоса, такие долгие и говорящие так много, — я еще мог верить, что все они по сию пору живы, что они населяют эти города по ту сторону стены — должно быть, последние, кто еще уцелел от этой исчезнувшей цивилизации, вроде бабушкиного «Де Дион-Бутона», с которого немецкие солдаты сняли шины, и в нашем дворе он стал моей игрушкой.
Обучение на таком конвейере для снов позволило мне овладеть этой иной реальностью, что была живее, забавнее моей повседневности, но при этом столь же безумна. Она породила во мне ощущение иного измерения, фантастическое, изнанку окружающего (но где же тогда было его настоящее лицо?), воображаемое — а иными словами, образное мышление.
В детстве я не ходил в кино. Я не знал, что собою представляет «зрелище», не понимал разницы между документом и вымыслом. Единственными ориентирами для меня были книги, точнее, словари, а еще точнее — двадцать томов «Словарей разговорной речи», занимавших целую этажерку в библиотеке бабушки.
Илья Эренбург знает, что говорит, упоминая о революции «Патэ Бэби». Революцией была возможность для семей творить у себя дома собственное волшебство. В темноте коридора — мы завешивали окна голубой бумагой, во время войны употреблявшейся для светомаскировки, — я смотрел, как на белом полотне оживают эти трепетные, немного призрачные картины. Нашим излюбленным фильмом был «Дом с привидениями» Гарольда Ллойда, и вспоминаю, что смотреть на эти самодвижущиеся столы было и страшно, и смешно. В мультфильмах людоед с огромным ножом, ощупывающий головы своих дочерей прежде чем отрезать их, вызывал у меня какой-то недоверчивый ужас. Тогда, во время этих просмотров, я впервые испытал эстетическое чувство. Мне хватило его надолго. И мне не нужно было ничего иного.
Тем временем в мире-то кино существовало. Оно совершило гигантский прорыв. Снимали сблизи, и издалека, и патетически, и грандиозно, актеры говорили, пели, музыка усиливала впечатление от душераздирающих сцен, от гэгов, от поцелуев любовных пар. Звезды появлялись, и звезды исчезали.
Но для меня, тщедушного малыша военной поры, весь мир был замкнут в этом закутке коридора с его хрупкими и огнеопасными пленками, с вслушиванием в треск вертящейся ручки, и хотелось вертеть и вертеть ее до боли в запястье. С обязательным наведением резкости с помощью навинчиваемой линзы, со склеиванием обрывов — оживить изображение, заставив пленку пробежать по всем шести пружинящим роликам.
Это было детство, и мое детство, и искусства. С тех пор как я ушел из этого коридора, с тех пор как понял, сколь большое расстояние отделяет меня от действительности, очарование рухнуло. Мне потребовалось нечто иное, крупнее, оглушительнее. Коллективное зрелище. Я упаковал старый проектор в картонную коробку, вместе с бобинами кинолент. Я пошел в кино.
Интермедия 1
Габи-монтажерка
появилась на свет в конце 1880-х годов, и ей, должно быть, уже стукнуло лет двенадцать в 1901-м, когда Шарль Патэ после многочисленных авантюр решил открыть заводы в Венсене и Жуанвиле, чтобы в больших количествах производить на них фильмы для показа в кинозалах. Я хорошо знал эту женщину в конце ее жизни, в Ницце, где она хваталась за любую работу ради куска хлеба (в те времена работницам никакой пенсии не полагалось), реставрируя картины, расписывая абажуры. Это была женщина своеобразная, так и оставшаяся незамужней, наделенная блистательной красотой и трудным характером. В семье моей бабушки (думаю, по отдаленному родству Габи приходилась ей кузиной) она считалась артисткой, независимая, беспечная, — ее прозвали Стрекозкой за полное неумение заботиться о завтрашнем дне. Я очень любил ее. Жила она вместе с сестрой в окружении стаи полудиких котов, в подвале дряхлой виллы, куда я приходил ее навещать. Я знал, что она работала в монтажных мастерских Патэ в Венсене, но никогда не проявлял любопытства и не просил ее поделиться воспоминаниями. Да она и не выказала бы никакого удовольствия от моего любопытства. Она всей душой ненавидела свою молодость и вздорный характер людей уже поживших на свете тоже не слишком щадила. Только по обрывкам реплик, когда при мне речь иногда заходила о ней, я и узнал о ее кинематографическом прошлом. Все это было отнюдь не безынтересно. Множество детей и даже подростков полагают, что кино — это всего лишь фильм, увиденный ими на экране. В лучшем случае они проявляют интерес к актерам, актрисам, читают сплетни из мира шоу-бизнеса, которые печатают специальные журналы. Благодаря Габи, благодаря окружавшей ее своего рода легенде я рано узнал, что по ту сторону экрана скрыт целый мир, мир работников, техперсонала, они за кулисами, и это они делают декорации, проявляют, рисуют, ретушируют фотографии, разрезают и склеивают кинопленку, готовят заглавные титры и субтитры.
Габи, по-видимому, очень рано пришла работать на заводы Патэ. Драма, разразившаяся в ее семье, превратила и ее, и ее сестру в сироток, каких немало, лишившихся всего и не имевших никакой специальности. Им необходимо было работать. Одна играла на пианино, говорила по-английски. Вторая умела чертить, рисовать. Вот она-то и нашла работу монтажерки, изготовительницы макетов, колористки. Пришла она где-то в годы 1910-е, а ушла с завода Патэ, кажется, когда он перешел под руководство братьев Натан, это было в 1930-е. Двадцать лет трудилась в мире кино, не снискав никакой славы, не оставив ни малейшего следа. Можно лишь воображать, сколько километров фильмов всех мыслимых жанров прошло через ее руки. К этой эпохе относятся все ленты, виденные мною в раннем детстве, те самые, что показывались у бабушки на импровизированном экране при помощи знаменитого проектора «Патэ Бэби», выпущенного в продажу Шарлем Патэ в 1920-м. А что, если это были вырезанные куски, отходы? Или, что вероятнее, Габи, работая там, имела возможность забирать пробные позитивы или покупать бобины по сходной цене? В коробках с фильмами, в которых мы копались, когда жили у бабушки — у Габи никогда не было средств иметь собственный проектор, — было все, и лучшее, и худшее той героической эпохи, комические ленты, жалкие фильмы с Ригаденом («Ригаден и соблазнительная маникюрша», «Женитьба Ригадена») или с Боситроном («Изобретатель», «Детская соска»), документальные фильмы, мультипликация («Мальчик-с-Пальчик», «Басни Лафонтена» и очень оригинальный мультик «Горести пешехода», в нем авто преследовало пешехода до самых лестниц его дома).
Некоторые из этих фильмов несомненно носили следы работы Габи. Мне она об этом никогда не рассказывала, но я знал — те сцены, где показывалось, как из куколки вылупляется бабочка (смелая покадровая съемка) или как распускается цветок камелии, были раскрашены именно ею, кадр за кадром, что для фильма длительностью в полторы минуты составляло около 2000 картинок, на которые краски надо было наносить кисточкой, глядя через сильную лупу.
Эту историю великой эпохи Габи прожила на заводе в Венсене, который, по рассказам самого Шарля Патэ, походил на улей с множеством рабочих, ежедневно печатая до 40 километров пленки, работая в две смены. Я представлял ее себе, очень парижскую молодую девицу, в подвязанном фартуке, белокурые волосы собраны в шиньон, с головой погруженную в свой ювелирный труд посреди шумной мастерской. Ее жизнь совпала с жизнью завода и в известном смысле с историей кинематографа первых лет после его изобретения. Бывала ли она на студиях, где снимал свои фильмы Шарль Патэ? Знавала ли актеров и актрис той эпохи, Гретийя и Дефонтена, Лепренса, Монсу, Мишеля Каре, а может, Луи Фейяда с его съемочной группой, Рене Карл, Иветт Андрейор, Жанну-Мари Лоран… и — чем черт не шутит? — Жоржа Мельеса и изумительного мастера на все руки со студий Патэ, которого звали Макс Линдер? Уж наверное, ей довелось повидать тогдашних режиссеров, и прежде всего Фердинанда Зекка, который был одним из спонсоров студий Патэ, Альбера Капеллани, вместе с Гуггенхаймом руководившего Кинематографическим обществом авторов и литераторов, или еще Альфреда Машена, снявшего все первые документальные фильмы об Африке. Вполне возможно, что в оживленных коридорах венсенских мастерских ей случалось натолкнуться — хоть он и проходил, не обращая никакого внимания, мимо простой девушки с большими глазами и прической на манер школьницы Клодины,[3] — на самого старика Шарля Патэ, всегда любезного и элегантного господина в строгом сером костюме и котелке, своим добродушным видом очень напоминавшего юмориста Альфонса Алле.
По-видимому, ее талант рисовальщицы оценили по достоинству, ибо она приехала работать в Ниццу на студии дома Патэ, которые как раз открылись там в конце 1910-х годов. Вот об этом своем месте жительства она, должно быть, рассказывала, потому что мне известно, что для нее это были счастливейшие годы жизни. Дом Патэ снимал для технических служащих квартал маленьких вилл, построенных на месте древних крепостных стен, вдоль Английского бульвара. Зимой и летом, прежде чем отправиться на работу, Габи каждый день выходила из дома, пересекала Бульвар и купалась в Средиземном море. В Ницце она, должно быть, и познакомилась на съемочных площадках с режиссером Ромео Бозетти, французским специалистом по гонкам с преследованиями, создателем серий «Казимира» и «Малыша Морица», ныне давно канувших в Лету.
Как же изменилась жизнь. Теперь Бульвар весь запружен автомобилями, пляж кажется неприступным и переполненным людьми, а студии «Викторин» после мертвого сезона пыжатся изо всех сил, стараясь возродиться. Но каждый раз, когда я прохожу мимо этих домиков на Английском бульваре — а там есть и такие, что сохранили ветхое обаяние бель эпок, — я думаю о том, как Габи в пеньюаре шествует к галечному пляжу, как она плывет по синему-синему морю, подставив лицо солнцу. Это потрясающий образ, образ женщины свободной, в гордом одиночестве зарабатывающей на жизнь своим мастерством, с полной достоинства скромностью трудящейся ради пришествия искусства, которому вскоре суждено будет завоевать весь мир.
Стремилась ли Габи делать фильмы сама? Уж наверное, настала в ее жизни такая минута, когда, работая в Венсене, ей пришлось самой поставить камеру и попытаться снять что-нибудь на пробу. Сохранилось несколько пленок, на которых запечатлен бабушкин дом в Париже, семейные вечера, заснятые в Эрменон-вилле, и уникальные кадры молодых лет моей матери. Попытка снять гэг — когда бабушкины фокстерьеры подпрыгивают и приплясывают на задних лапках на манер цирковых собачек! Нет сомнений, что Габи была способна стать постановщицей фильмов. Технику она знала, на площадках для съемок бывала частенько и, главное, была наделена изобретательным воображением и своего рода художественным чутьем. Однако времена к тому не располагали. Очень характерно, что среди создателей самой ранней истории кино нет женщин. Смелость Габи смогла найти свое выражение в независимости ее жизни, ничем не обязанной мужчинам — до конца. Умерла она в 1980-е в домике у моря, где проживала в маленькой мансарде на последнем этаже. За несколько дней до кончины, уже после инсульта, она все беспокоилась, что обездвижела и не сможет пойти проголосовать на выборах. «Надо побеспокоиться о будущем», — говорила она.
Боги —
это они, те самые, кто стоял у истоков рождения кинематографа, и в пантеоне искусств еще слышны отзвуки преданий о них. Они-то все и изобрели, причем с такой смелостью, что и их идеи, и технические новации живы по сей день. В 2007 году еще можно смотреть истрепанную, дрожащую, иссеченную царапинами копию «Страстей Жанны д'Арк» Карла Дрейера, «Золотую лихорадку» Чарли Чаплина, «Нанука с Севера» Флаэрти или «Путешествия на Луну» Жоржа Мельеса и приходить в восхищение, пленяться, переживать самые разные чувства, от смеха до слез. Это не вопрос культуры. Это не означает быть или не быть синефилом (вот необычный клуб по интересам). Ребенок, подросток, никогда не бывавший в кино — в долине Амазонки или на Борнео такое уже едва ли встретишь, а вот в общине меннонитов в Нуэва-Альзасия, что в Мексике, наверное, еще можно, — наверняка испытает то же ощущение, что и самые первые зрители, увидевшие чудо движущихся картин.
Кинематограф — единственное искусство, целиком и полностью зависящее от электричества. За срок менее столетия он накопил необыкновенный капитал изобретений, усовершенствований, опытов.
Это могло бы стать для него непомерной обузой. Реализм, символизм, экспрессионизм, фантастика, эротизм, наркомания, обнаженка, хоррор, синема-верите и полудокумент-полуигровое кино, фильм, составленный из скетчей, из гэгов, тенденциозный, тематический, телесериал, мыльная опера, рекламный фильм, пропагандистский, клип, музыкальная комедия, роуд-муви, психодрама, фильм, снятый коллективно, анонимный, порно — все уже создано, все уже сказано, и лучшее, и худшее, искусство и пустая киножвачка.
Вот какие слова сказал Жиль Жакоб в интервью по случаю пятидесятой годовщины Каннского кинофестиваля: времена, когда полагали, что о кино знают абсолютно все, прошли. В начале XX века тому, кто увлекся кино, кто работал в этой среде — как моей старой подружке Габи, монтажерке у Патэ, о которой я только что вспоминал, — удавалось ухватить самое главное. Несколько дюжин короткометражных комедий с Максом Линдером, Боситроном или Ригаденом, чуть побольше документальных фильмов — «новостей» или кинопутешествий, горстка игровых картин. Актеры, режиссеры (что очень часто совпадало) переезжали из одной студии в другую, из той страны в эту в соответствии с их контрактом. Макс Линдер снимается в Соединенных Штатах, Мозжухин во Франции, Любич в Германии, Бунюэль в Мексике. Есть ощущение, что тогда пользовались огромной свободой, отличались необыкновенной изобретательностью.
Сегодня кино — это прежде всего индустрия — так гласит определение, вынесенное Андре Мальро, — а Илья Эренбург выразился поэлегантнее: «фабрика грез». В мировой продукции счет идет на тысячи. Индия выпускает по фильму в день, Египет и Китай — по всей вероятности, тоже. Продюсеры по всему миру проворачивают миллиарды. Когда-то была нефтяная пристань Сан-Педро — а теперь тут Голливуд. Это он кормит весь штат Калифорния. Нет сомнений, что сегодня можно, не прочитав всего самому, быть в курсе мировой литературной продукции. Но это совершенно исключено с продукцией кинематографической. Наконец, культура визуального образа стремится заменить все другие формы культуры. Можно об этом сожалеть или этому радоваться. Нельзя лишь этого отрицать. Меткое предвидение Шарля Патэ, когда в 1901 году вместе с Франсуа Дюссо он создавал свой знаменитый продюсерский дом, уже осуществилось: «Кино станет театром, газетой, школой завтрашнего дня».
На самом деле вопрос, который мне хотелось бы задать (любому из режиссеров, а можно ведь и у зрителя спросить), звучит так: чем фильм лучше книги? Возразят, что выбор, может быть, не так однозначен, как может показаться, что речь просто о двух радикально разных выразительных средствах — чтобы не называть их противостоящими друг другу. Однако, если поразмыслить как следует, не стараясь выдать желаемое за действительное, решение придется принимать. Кино берет роман или стихотворение за образец (Годар отталкивается от «Столицы печали» Поля Элюара, Пазолини или Бергман — от сочинений маркиза де Сада, Феллини — от Боккаччо). Фильмы часто служат источником вдохновения для романистов или поэтов, прямо или опосредованно. В «Пере» Анри Мишо есть нечто чаплинское, в Олдосе Хаксли что-то от Фрица Ланга, в Верноне Салливане — от Хьюстона. Слова «розовый бутон», преследующие «Гражданина Кейна» Орсона Уэллса, эхом откликаются в готическом романе Стивена Кинга «Сияние», затасканное «Аll work and no play makes Jack a dull boy» (французский вариант этой поговорки «лучше один раз «возьми», чем дважды "когда-нибудь возьмешь"») — почти та же самая загадка, которую слышит старик, когда в «Земляничной поляне» Бергмана ему снится, что его допрашивают в суде.
Эту связь необходимо принять, даже если она никому не по душе: та реальность, какую мы видим перед собою, которая у самых границ наших, каждый миг изменяется образами, пробегающими по экрану. В романе «Над пропастью во ржи», памятнике, который воздвиг Сэлинджер нью-йоркской культуре, молодой Холден Колфилд принимает и извергает из себя этот поток образов, этот виртуальный ручей, заполняющий его город, его мозг и дарующий ему чувство, будто он и есть персонаж фильма, абсолютно phoney(неестественный) и безмозглый.
Итак, надо выбрать: писать или снимать?
Есть такие, кто делает и то, и другое: Мальро — и режиссер и романист, Колетт пробовала силы и там и тут, Бергман курсирует между театром и кинематографом, а из более свежих примеров — корейский режиссер Ли Чанг Донг. Последний, отвечая на прямой вопрос об этом, признался, что для него имеет значение прежде всего результативность воздействия. У романа, у спектакля аудитория совсем не так уж велика. А вот кино как раз привлекает больше зрителей, и ощущение прямого контакта есть. Это имеет смысл, когда творчество отождествляют с битвой (за справедливость, за реформу институций и изменение нравов). Но вправду ли такова цель искусства?
Результативность воздействия кино исходит из его сиюминутности. Эта движущаяся картинка, эти персонажи, воплощающие в себе мысли или навязчивые идеи режиссера, выражающие поэтичность, человеческие драмы, устремления, наивность, — в тот момент, когда я их вижу, они и есть настоящее. Я не чувствую никакой дистанции, не подозреваю, как они далеки от меня. Разве что какие-нибудь детали окружающей обстановки, марка машины, стиль одежды, даже определенная манера выражаться переносят их в другие времена, но искусство режиссера настойчиво заставляет забыть об этой разделяющей дистанции. Если я смотрю фильм Мидзогути, Сембена или Альмодовара — разве я не японец, сенегалец, испанец, пусть даже не урожденный? А когда меня уносит музыка слов Петера Хандке в «Крыльях желания» или когда я слушаю язык бамбара в «Йеелен» («Яркий свет») Сулеймана Сисе — да разве я все еще иностранец?
Для меня доводы в пользу кинематографа — это а contrario[4] похвале литературе, всему, что таится в ней хрупкого, задушевного. Я люблю книги именно за то, что они не требуют от меня такого напряжения. Да взять хоть процесс письма: не нужны для него никакие продюсеры, режиссер, актеры, ни техработники, ни бухгалтеры, ни банкиры. Мне хватает угла стола, тетрадки, ручки — ну, в некоторых случаях еще компьютера. Мне нравится эта свобода писать, когда зависишь только от себя самого. Мне нравится чувствовать ее и при чтении книг. Я думаю, она и есть самое блистательное, самое цельное в литературе. Если я хочу прочесть стихотворение — вот оно, здесь и сейчас. Хочу драму или диалоги, описание, перемену обстановки, хочу о любви — и все это немедленно в моем распоряжении. Стоит перевернуть страницу, и можно читать. Стоит лишь взять еще лист бумаги, и можно писать.
Такая свобода — не просто свобода экономическая. Слишком легко говорить, что кино — это индустрия и оно требует вложения капиталов. Современный кинематограф доказывает, что этот довод не окончательный. Сегодня можно снимать на видео или портативной камерой, может быть, даже и камерой наблюдения. Можно снимать на улице, перед восходом солнца, не прося разрешения ни у какой охранной службы. Снимать можно без студии, без сценария, без музыки, без актеров.
Свобода есть во всем. В литературе свобода — это прямое обращение к источнику эмоций, памяти, воображения, иными словами — к речи. Вот где, должно быть, и сокрыт корень того выбора, о котором я говорил выше. Кино — это иной способ высказывания. Его язык соткан из образов. Он обращается к другой области мозга, затрагивает другую память, приводит в действие иные механизмы. В книгах я чувствую такое же колдовство, как и колдовство пения, колдовство музыки. Пока я упиваюсь сюжетом, или историями, или теми частицами истории, которые мне рассказываются, — слова, проникая внутрь, включают во мне медитацию о языке. Меня глубоко волнуют вот такая вот манера говорить, интонация, плотность текста, задушевная близость того, кто написал это для моего прочтения. Я ощущаю сарказм, гордость, запах, нежность, тепло, сокрытые в этих словах, но при этом я ведь не забываю и слов других, и песен иных. Это искры, высекаемые из жизни, сверкающей, неисчерпаемой. «Слышу песню, вижу цветок, — говорится в поэме принца ацтеков Нецауалькойотля. — Да не увянут они вовек!»
Это написано в иные времена, в ином мире, ныне давным-давно исчезнувшем, как и народ, населявший его. И тем не менее стоит мне открыть книгу — и это уже моя жизнь, мое достояние, мое настоящее. Из книги, наводящей на меня скуку, я с легкостью могу выйти вон. От книги трудной я жду чего-то необычного, чуда, озарения, иллюминации. Чтобы найти верный путь к «Поискам утраченного времени», мне очень долго пришлось возвращаться и возвращаться туда заново, теряться там, искать ключ. Однажды я нашел его: нет, никакое не печенье Мадлен — а та длинная фраза из самого начала «Любви Свана», где говорится о колокольчике у парадного дома Вердюренов: его звон возвещает прибытие того, кто включает ход памяти рассказчика. Это напомнило мне хокку о шуме горного водопада: «Вот он, исток…»
То, чем меня обогащает кинематограф, так же интимно, столь же глубоко. И по-другому. Колдовская зачарованность. Ослепление. Кино обращается к нашему чувству реального, то есть не только к нашим стереотипам или к нашим человеческим меркам, привычным для восприятия мира (вот шляпа, а это женщина, ребенок, это старик, это любовная сцена, тут преследование, там печаль), но и к нашим сенестезии и синестезии — ощущениям и отождествлениям. Высокое, низкое, глубина, прошлое, будущее, подлинное, опасное, отвратительное, сомнительное… Вот же, вот как нас околдовывают, разоблачают, похищают, закабаляют. Но в то же время мы и свободны, в полном сознании, сами пришли — можем встать да и хлопнуть откидным сиденьем, толкнуть дверь, выйти. Совершенно неповторимое состояние.
О кино говорят, что оно способно вызывать попеременно, а подчас и одновременно и смех и слезы — это пара масок классического античного театра. Такое мощное владение противоположными чувствами, наверное, и есть самое лучшее определение этого искусства. Смех в кино — это предельно просто, никаких комплексов. Со смеха кино начинало свою карьеру. Устанавливая свой необыкновенный аппарат на «разъездах» Нью-Йорка или парижских Больших бульварах, Цукор или Патэ, к бурному веселью ребятишек, зазывают клиента, желающего поглазеть в камеру, и заставляют его заплатить за это.
Чувство, сочувствие, симпатия, короче говоря — то, что вас волнует и исторгает слезы, что заставляет забиться ваше сердце, — вот что придает кинематографу его истинную глубину. Это свойственно отнюдь не только трагедии. В фильмах Чаплина, Тати, в нежных и горьких комедиях Карне или Бергмана ощутим тот же род тревоги, тайной боли, который проникает в вас и достигает самой чувствительной точки вашего существа. Это ловкий трюк киношников: ведь, в конце концов, все это не более чем тени, пробегающие по белому полотну. Даже если это цветные тени и сопутствующие им музыка и шумы громки и записаны с высокой точностью воспроизведения, это все равно не более чем обманка. Но ведь этот образ или последовательность образов обращены к вашей памяти, к вашему воображению. В «Малыше» Чаплин и Джекки Кутан, бродяжка и уличный мальчуган, волнуют все так же, как прежде. Уличная сцена, свидетелем которой вы оказались, или затянутая туманом, издалека пришедшая картинка, воспоминание, воскрешающее страх любого ребенка однажды оказаться брошенным. В «Жизни О'Хару, куртизанки» Мидзогути женщина бродит в ночи в поисках клиента, пряча лицо под покрывалом: нет, она не боится, что ее узнают, — просто ее лицо постарело и может не понравиться мужчинам, которых она завлекает; в «Легенде о Нарайяме» Имамуры старуха крестьянка разбивает себе зубы о камень, чтобы ей больше не могли отказывать в праве умереть: это не просто эпизоды, не просто театральные эффекты. Это говорит нам о повсеместной жестокости, в которой живут женщины, о несправедливостях, о роковом предопределении, это волнует нас так, словно мы пережили это сами. Ибо эти образы проникают в вас именно там, где безмолвствует бессильный язык, они как ударивший вас камень, как укол иглой, и искусство оператора и режиссера как раз в том, чтобы безошибочно прицелиться в чувствительную точку, не дав бодрствующему духу времени парировать удар. Да и как его парировать — разве что пойти в кино?
Кинематограф — это, наверное, прежде всего искусство лиц. Любят вспоминать об экспериментах Кулешова с лицом Мозжухина, или о том, как Эйзенштейн монтировал лица с масками животных, или о превращении Вакаси в страшного ночного демона в «Угэцу моногатари» Мидзогути. Но нас лицо привлекает главным образом своей банальностью, обыкновенностью. Я вспоминаю мысль Годара, сказавшего, что единственный фильм, который можно было бы назвать окончательным, идеальным, должен был бы показывать человеческое лицо с момента рождения до смерти, взяв за принцип «каждый день — один кадр», чтобы получилось двадцатиминутное зрелище лица, раскрывающегося и постепенно увядающего, как цветок.
А что, если так и есть, — поверх всех рассказываемых нам сложных и захватывающих историй кино по сути своей именно вот это: лицо, человеческое лицо во всей его тревожащей естественности, и не важно, каковы его корни, природа, красиво оно или безобразно — удивительная ли это чистота Анны Вяземски в «Наудачу, Бальтазар» или искаженная страданием и ненавистью образина Бориса Карлоффа в фильме Джеймса Уэйла, — чувственное ли свечение Моники Витти в «Приключении» или застывшая маска из кожи, на которой виден след от ожога, в «Дерсу Узала» Куросавы.
Одно лицо, все лица. С мимики кожи лиц мы считываем эмоции, которые сами переживаем в ту же минуту, ибо в этом зеркале мы видим самих себя. Кино — это, без сомнения, доказательство нашего желания быть, нашей жажды знаний. Оно порождает в нас это желание, затеяв игру с нашим сознанием, показывая нам по ту сторону плоского, жемчужного экрана, в этом лунарном сиянии, наше собственное лицо, то самое, что мы и есть, чем когда-то были. В начале моего балансирования — от лица к лицу, от фильма к фильму — я думаю еще и вот о чем: о слезах. Кино сходно с музыкой этим умением исторгнуть сии драгоценные капли, единственные по-настоящему соленые потому, что пропитаны солью этой земли и всего сотворенного на ней и появляются украдкой, нежданно, так что сдержать их нельзя. Господствующая в Западной Европе культура, наследница сальянских франков и саксов, запечатлела в нашей душе известный код, подавляющий открытые проявления эмоций. В отличие от индусов, южноамериканцев, корейцев или африканцев, у нас не принято проливать слезы. Кинематограф, с его темнотой просмотровых залов, внезапно привечает их, заставляет литься, стремится их вызвать. Что, если мы на пороге революции?
Смех сквозь слёзы
Иногда говорят, что труднее посмеяться с друзьями, чем поплакать с врагами. Если это правда, то кинематограф может служить примером такой трудности, ибо он начал смеяться с самых первых лет своей жизни. Эта необычная механика кажется созданной для уморительных забав, импровизации. Прежде чем придумать мелодраму или саспенс, кино изобрело гэг. Вырезанные из черной бумаги силуэты на белом экране передвигаются, спотыкаются, падают, поднимаются, пошатываясь, теряют все свое достоинство или пытаются обрести его заново, поправляя шляпу тросточкой. Гэг прекрасно вписывался в немоту экрана. Чтобы понять, слов не нужно. Поджидающая ловушка, засада, оплошность — все сразу заметно. Зритель, как в пьесе театра гиньоль, упивается тем, что сам-то смотрит со стороны, и догадывается, что сейчас произойдет.
Мое детство протекало под обаянием такого вот кино, самого немудрящего, самого действенного. И моим любимым героем тех времен (в бабушкином коридоре, которым и ограничивался весь мир зрелищ) был Гарольд Ллойд. Уже потом я посмотрел великих классиков — Макса Линдера, Бастера Китона, Чаплина, В.К.Филдса, Лаурела и Харди, Кантинфласа. По мне, никто из них не идет ни в какое сравнение с Гарольдом Ллойдом. Дело тут не в моем снобизме или причастности к избранному кругу. Между 1920 и 1930 годом Гарольд Ллойд снялся в ряде самых лучших комедийных фильмов за всю историю кино. Я не видел эпизодов с Лонесамом Лаком, когда Ллойд еще не Гарольд, он только нащупывает свой персонаж — ведь тем же путем шли и Чаплин, и Линдер, и большинство великих актеров немого кино. Для меня его творчество начинается с «Дома с привидениями», который я смотрел, наверное, сотню раз, крутя ручку бабушкиного детского «Патэ». С тех пор я не пересматривал его. У меня сохранилось впечатление, что фильм очень длинный, сложный, где смешное перемешано со страшным, мне даже кажется, что я слышу звуки, хлопанье дверей, завывания привидений, закутанных в белые простыни, смех, когда на экране испуганное и нежное лицо малыша Саншайна Сэмми Моррисона. Потом я узнал, что Сэмми было примерно столько же лет, сколько моему отцу, что он сделал долгую карьеру в кинематографе вплоть до своей смерти в 1970-е годы. Но когда я смотрел «Дом с привидениями», я видел мальчишку своих лет, и мне по сей день кажется, что это был мой братишка, еще не выросший, я вспоминаю его так же, как тех африканских малышей, с которыми играл возле отцовского дома в Огожа. Фильм датирован 1920 годом, это начало великой эпохи Гарольда Ллойда, времен «Выйдите и доберитесь», «Горячей воды» (там Гарольд впервые стоит на крыше трамвая в Сан-Франциско, прижимая к груди индюшку) и особенно «Наконец в безопасности», с той бессмертной сценой, когда Гарольд карабкается по фасаду большого магазина компании «Энгульф и Девор», а потом цепляется за стрелки часов. Но шедевром Гарольда Ллойда для меня остается «Женобоязнь», снятая в 1924 году. В этом фильме с его ошеломляющим ритмом Гарольд — подмастерье портного, скромный и неуклюжий, один вид молодой девушки превращает его в заику. Излечиться от этого недуга помогает только свисток его дядюшки. Но при этом он мечтает стать писателем и приносит насмешливому издателю рукопись своего «Искусства заниматься любовью», подписанного псевдонимом «Эксперт». Случай сводит его с дочкой богатого промышленника, за которой увивается мужчина, интересующийся главным образом ее состоянием. Фильм, сперва немного слащавый (хотя Гарольд Ллойд ухитряется сделать так, чтобы в немом фильме мы слышали, как он заикается), заканчивается самой необыкновенной гонкой с преследованием в истории кино (ни комбинированных съемок, ни дублера — а она стоит всех современных сцен!) Через весь Сан-Франциско мчится Гарольд на повозке с отваливающимися колесами, на мотоцикле полицейского, на несущейся стремительным галопом лошади, потом на крыше трамвая без вагоновожатого, повиснув на электрорее. Изумительно!
Карла Дрейера (снятое в 1955 году) — один из безусловных шедевров кино. Мощь его образов, некий род визуального колдовства, проникающего в нас исподволь, понемногу, заставляя утратить чувство реальности, — пример того, сколь многого удалось достичь искусству кино со времени его изобретения. Только живые картины, ритм эпизодов могли обладать подобной силой. В «Слове» очень мало дерзновенных нововведений — если сравнивать стиль Дрейера со стилем Ланга или Мурнау, — совсем маловато и эффектов, как и движений камеры или крупных планов, и никаких комбинированных съемок. Ритм медленный, планы по большей части средние, снятые без всякого нажима на высоте человеческого роста, все сцены практически полностью интерьерные. Игра актеров напыщенна, без ярко выраженной экспрессии, дикция театральная.
И тем не менее это далеко не театр. Медлительность, тяжеловесность ритма, ощущение странности, в которую погружена обстановка сцен, определенное пристрастие к продолжительным паузам, насыщенность молчания, а главное — эта необыкновенная конструкция в черно-белом, лица, подчеркнуто помещенные в самый центр затемненной зоны, композиция вглубь, освещаемая лишь бледным лучом из узенького окошка, — все это очень сближает нас с героями, как будто это мы сами находимся внутри дома патриарха семейства Борген, дышим воздухом этой драмы, стремимся тоже принять в ней участие. Вот она, разница между искусством кинематографическим и искусством сценическим. Дрейер передает напряженность потрясающей человеческой драмы, не прибегая к помощи движения, наоборот — ограничивая поле действия неким замкнутым пространством. Ферма семейства Борген — низкие потолки, окна, больше походящие на бойницы, свет, ужавшийся до кружка от масляной лампы, — закрытое место, в котором чувства докипают до степени неконтролируемого безумия. С той стороны — дом Петера Петерсена, врага Боргенов, и их истовая религиозность, пуританская и ханжеская, кажется миром свободы и радости по сравнению с железными семейными запретами, которые установил патриарх-вольнодумец.
В его закрытой от мира крепости единственным разумным существом кажется Иоханнес Борген со своей просветленной верой. Его нежность, его детский мистицизм — мерцающее пламя, блуждающий огонек посреди пронизывающего всю уединенную ферму насилия. Единственные мгновения свободы — только когда повозка патриарха мчится мимо дикой деревни, где высоченные травы и камыши гнутся под ветром, а над людьми нависает низкое облачное небо, ослепляющее пустотой и холодом, безразличием и вечностью.
В комнате дома Боргенов рожает невестка (Ингер, сыгранная актрисой Биргиттой Федершциль) — и это одна из самых мощных сцен фильма, полная первобытной силы, заставляющей забиться наше сердце, причиняющая нам боль, потому что она связана с жизнью, с той реальностью, в какой живут все женщины. Все происходит по ту сторону стены, мы ничего не видим. Зато слышим. Вопли, рыдания страдающей роженицы (легенда рассказывает, что актриса была беременна во время съемок и, когда ей пришло время родить, Дрейер записал ее крики и плач для озвучания этой сцены) смешиваются с шумом со двора, из внешнего мира, с доносящимся из стойла тяжелым мычанием коров. В существующем мире, по Дрейеру, нет ни нежности, ни гармонии, он земной и жестокий, и жизнь в нем перемешана со смертью, а фантазия — с истиной.
Лишь два существа заслуживают спасения в этом хаосе гордыни, религиозной веры, интересов, озлобления. Иоханнес, этакий Иисус, отвергнутый людьми и замкнувшийся в безумии, — он единственный, кто достоин называться сыном человеческим. И Ингер, молодая жена Миккеля Боргена, умирающая при родах. Они встречаются только раз — в финальной сцене. Медленная и тяжелая поступь фильма, обыденные сцены из сельской жизни, ненависть, разделяющая глав обоих семейств, та разновидность веры пополам с суевериями, что сродни колдовству, чью истинную сущность так умело показывает Дрейер, опасная, таящая прямую угрозу, которой противостоит одно только безумие Иоханнеса, — все это, что не назовешь иначе как реализм, ведет нас к непостижимому, неприемлемому для понимания. В тот миг, когда крышка гроба уже вот-вот захлопнется над телом Ингер, Иоханнес взывает к той, в ком уже явила свою сущность смерть, и вновь возвращает ее к жизни. Иоханнес-то говорит, обращаясь к Ингер, но мы видим чудо воскресения отраженным на лице маленькой дочки Ингер. Эта сцена покоряет вас, трогает до слез. Ах, сколько еще можно сказать о слезах в кино! Разве не потрясающе, что простой ряд черно-белых картинок на плоском экране волнует вас так, словно вы сами там, по ту сторону, как будто вы пальцами ощупываете эти существа и предметы, сами являетесь их частью, сами родом из этой же семьи? Финальная сцена «Слова» отмечена дерзновенностью незабвенной и в то же время простотою почти детской. Она одна показывает всю силу кинематографа, несравненную в его первые времена.
Родившийся в первые годы существования кино, в 1903-м, он в 1934-м снял один из самых изобретательных фильмов за всю историю немого кино, «Укикуса моногатари» («Повесть плавучих трав»). В 1959-м, поддавшись давлению продюсеров, он сделал новую версию фильма, цветную и звуковую, не дотянув ее до талантливости первой. Это в том же ряду, что и некоторые фильмы Мидзогути, или «Быть или не быть» Любича, или «Дети райка» Марселя Карне, — тот случай, когда подлинным сюжетом фильма выступает театр, а подчас и сам кинематограф. Актер-неудачник, жизнь которого клонится к закату, Кихати (сыгранный Такеши Сакамото) переезжает из города в город вместе со своей маленькой разношерстной труппой, играя там и тут спектакли театра кабуки. Это плохой актер-кривляка, он несправедлив, постоянно озабочен поиском средств к выживанию, готов ради этого на все. И вот он опять оказывается в том городе, где у него когда-то была любимая женщина и остался от нее сын. Этот мальчик, пока еще студент, влюбляется в Отоки, девушку из труппы Кихати. Понемногу становится понятно, что вот-вот наступит момент истины и для старого актера, и для женщины, которую он любил когда-то, и в жизни его сына, а главное — для всей театральной труппы. По уши в долгах, уставший от бесконечных скитаний, Кихати подумывает бросить все и остаться в доме у бывшей любовницы, занявшись воспитанием сына. Но как раз сын-то, узнав правду, отвергает отца, некогда бросившего его, и оставляет его на произвол судьбы бродячего актера. Фильм, начинающийся с прибытия труппы на вокзал, там же и завершается, оставшиеся в труппе актеры встречаются вновь, разочарованные, но в конце концов счастливые, что опять могут вернуться к привычным приключениям.
Фильм Одзу ценен не столько сценарием, сколько манерой, в которой режиссер изображает эту семейную драму. Открытых проявлений чувств мало, трагических эффектов нет вовсе. Отчаянное положение Кихати, его встречи с женщиной, которую он не видел вот уже двадцать лет, взаимная любовь его сына и Отоки, привязанность девушки к старому Хозяину театра, которым она восхищается, сама жизнь внутри этой труппы скитальцев, немножко пьянчуг, немножко лгунов, но всегда бесконечно забавных чудаков, — все это показано с целомудрием и скромностью, в реалистическом ключе и с редкой сдержанностью (фильм снят в годы расцвета крайностей эскпрессионизма и фантастического кино).
Одна сцена в фильме трогает своей неподдельной возвышенностью (не побоимся этого слова). Шинкити, сын Кихати, встречает Отоки на железнодорожных путях. Девушка любит Шинкити, но ей очень трудно изменить свою жизнь, бросить бродяжничество. Ничто не сказано словами, никак не прорываются ее чувство, ее опасения. Она просто уходит вдаль в ночной темноте, балансируя на рельсе, и этот образ, ее невесомый силуэт, раскачивающийся и растворяющийся в ночи, на бегущей линии рельсов, проникает в нас и наполняет ощутимым счастьем совершенства.
Искусство Одзу может послужить примером, ибо оно лишено всяческой напыщенности и свидетельствует о высшей степени мастерского владения профессией. Тут нечто вроде интуитивного предчувствия всего того, чем станет кино современное, — в ритме, нарезке планов, сцеплении эпизодов. «Повесть плавучих трав» окончательно отделяет немое кино от искусства пантомимы — и еще это будет последний немой фильм Одзу, поскольку в 1936 году он придет в кино звуковое с фильмом «Хитори мусуко» («Единственный сын»). Без символов, без выспренних речей, без кривляния и бессмысленных ужимок, просто используя одни лишь картины реальной жизни, Одзу успешно передает для нас тревогу своих главных героев, их страх перед будущим, то, как трудно им пойти на компромисс с действительностью. Каждый персонаж воспринимается как чрезвычайно живой, со всеми его недостатками, притворством и со всей своей искренностью. Роль женщин в поисках счастья, без сомнения, центральная тема фильмов Одзу: их воля, их замкнутость, стремление к согласию и сочувствие. Это они управляют миром, одинаково успешно справляясь с этим как в безопасных условиях дома, так и в поисках приключений. Это ощущение реальности и интимной задушевности Одзу возводит в принцип своего искусства. Он снимает человеческие особи такими, как они живут на свете или, может быть, какими их видят собаки: камера устанавливается на расстоянии двадцати сантиметров от пола, чтобы быть вровень с ними, когда они сидят на полу. При том, что голосов их не слышно, планы чередуются так, что диалог выглядит живым. Одзу пользуется приемом пропуска, планы сменяют друг друга быстро, без ненужных эффектов. Иллюзия присутствия такова, что вот-вот вы забудете о том, как стар этот фильм, у него даже нет звуковой дорожки. Как будто слышишь и голоса актеров, и их песни, их смех. Одзу показывает нам человеческие существа в их восхитительной обыденности. Отака, главная актриса труппы — любовница Кихати, — очень правдивый, современный женский тип — Мидзогути черпал в нем вдохновение, когда изображал гейшу в «Жизни О'Хару, куртизанки», и ничто не мешает предположить, что он же мог послужить образцом и для Гаранс из «Детей райка» Марселя Карие. Чувства, которые она переживает, обыкновенны, иногда до смешного. Скорее ревность, досада, чем отчаяние, — когда она понимает, что Хозяин вот-вот бросит ее, чтобы зажить семейной жизнью с бывшей любовницей и сыном. В последнем эпизоде Отака в одиночестве дожидается на вокзале поезда, который увезет ее далеко-далеко. У нее больше ничего нет, все продано — платья, украшения. Не осталось ничего, кроме пачки сигарет. Она курит, ожидая прибытия поезда, и на ее лице отражается одна только долгая усталость, бесконечная горечь. Когда Кихати тоже приходит на вокзал, она разделяет с ним на двоих рюмку сакэ, поет прощальную песню, и в эту простую минуту в ней такая эмоциональная самоотдача, столько естественности, что поклясться можно, будто на самом деле слышишь эту песню, слышишь слегка хрипловатый тембр ее голоса, потрепанного театром, алкоголем и табаком. Вот и все. Ничего особенного. Только большое искусство, такое точное, такое подробное, такое настоящее. В отличие от Мидзогути, Ясудзиро Одзу, умерший слишком рано, не оставил заметного следа в киноманской памяти западных зрителей (при том, что это одно из самых славных имен кино японского). Но придуманное им еще живо.
Жана Виго сияет несравненным светом на небосклоне кинематографического искусства. Мне не удалось посмотреть его в киноклубе в Ницце, который редко включал фильм в свои программы, хотя и носил название «Жан Виго», которым там очень гордились. Мне нравились «По поводу Ниццы» и «Ноль за поведение», показывавшиеся в лицее, в маленьком зальчике, где наш преподаватель филологии, мсье Вольфель, перекрикивая неописуемый галдеж, старался привить нам любовь к классике. «Аталанта» вошла в мою жизнь гораздо позже, во время аналитических занятий по искусству в синематеке. Что меня потрясло сразу — так это смелость Виго, его спокойная дерзость, мастерство съемок, ведь он тогда был таким молодым, что, кажется, опыта не должен был нажить никакого (в работе с актерами, в коммерческой кинопостановке). Из банальнейшего романса — Жан любит Жюльетту, берет ее в жены и увозит на своей шаланде, она скучает и хочет бросить его — Жан Виго создает совершенно исключительный мир, выдумывает и способ повествования, и романтику, и киноманеру, предвосхитившую стилистику того кино, каким оно еще только станет в будущем. В «Аталанте» сливаются чувственность, меланхоличность «Моники» Бергмана, изящество Трюффо периода «Четырехсот ударов», «Дикого ребенка», юмор и вызывающая надменность Годара в «На последнем дыхании», «Женщина есть женщина», экзистенциальная тоска Антониони в «Затмении» и «Ночи», а можно даже перекинуть мостик и в кино современное — к «Через оливы» Кьяростами или к некоторым фильмам Тима Бартона.
Все сказано визуальными образами. Они проникают в вас и неотступно преследуют как осколки сна, раздвигают границы настоящей реальности, придавая ей внутреннее измерение. Свадебный кортеж, шествующий вдоль берегов Сены, одновременно и напыщенный, и гротескный, грязная земля, трепет речных вод, шлюзы, силуэты подъемных кранов и стоящих на якорях кораблей. Дита Парло, в платье новобрачной всходящая по чуть наклонному мостику баржи, в игре смешивающихся друг с другом нюансов черного, серого и белого, отнюдь не абстрактной — но лунатической, словно из иных миров, — это уже что-то напоминающее лодку Охамы из «Угэцу» Мидзогути. Любовь — теперь уже не жеманная изысканность застывших фотографий, этой услады начала века, нет — чувственная, земная, она так сильна, что к ней явно примешиваются тоска и боль, любовь Жана и Жюльетты, наполняющая каждое мгновение их жизней на этой шаланде, которая им и защита, и плен. Потом — насмешливость и беспокойная веселость папаши Жюля, Мишель Симон в окружении котов и колониальных сувениров выглядит здесь этаким Диогеном, похожим на философа Бриса Паррена из «Жить своей жизнью» Годара, — вот только коллекционировать ему судьба велела не слова, а сирен и талисманы тех мест, где он плавал, король на этой куче хлама и рухляди, непрестанно что-то разбивающий, передвигающий, переворачивающий вверх дном. Любовь папаши Жюля, любовь Жана, любовь Жюльетты на этом кораблике, плывущем наудачу, — что же везет он? Судьбу нашу? Иллюзии наши? Или просто безмерную силу молодости, которой самому Виго попользоваться так и не было суждено?
То, что с такой волшебной непринужденностью изобретает Виго, и есть язык кино, окончательно отделяющий его от романного письма и сфотографированного театра. Непосредственность, легкость и игра актеров рождаются из их собственной глубины, и окружающая обстановка подыгрывает им — никакого декора больше не существует, есть только то, что видят и чувствуют Жан и Жюльетта, то, что управляет ими, без помощи слов, не выражаясь в их психологии, но посредством инстинкта, интуиции, жизни. Они одни в мире, подвешены во времени, плывут по течению вод. В папаше Жюле есть что-то от кормилицы из «Ромео и Джульетты» (nurse, sweet nurse, tell me, where is my love?[5]), он жив тем, что помогает другим пережить то, что в реальной жизни не довелось самому. В нем выражен еще и взгляд режиссера на то, что создается на наших глазах, на этот хаос образов, смутных воспоминаний, дешевых сувениров, от которых у него остался один только свет совершенной любви. И стоит Жюльетте потеряться, уйти от Жана и с «Аталанты», как папаше Жюлю срочно необходимо разыскать ее, не для того, чтобы уберечь ее наивность от соблазнов большого города — Жюльетты, бродящей возле витрин больших магазинов, Жюльетты, соприкоснувшейся с отчаянием очереди рабочих, ожидающих работы у заводских проходных, — но дабы сохранить этот бесконечно долгий миг любви, этот образ, превратившийся в эталон.
Жан Виго — исключение в ходе истории кино, некий блуждающий огонек, видение. В нем есть что-то от Алена-Фурнье, от Радиге (скорее от него, нежели от Рембо), от Модильяни, влюбленного в Жанну Эбютерн. И не только потому, что ему не дано было времени постареть. «Аталанта» несет в себе воодушевление и природное изящество молодости, но это фильм не о молодости. Как во всех великих произведениях, в нем есть весомость опыта, мастерство выразительных средств и зрелость чувств. Кадры, в которых «Аталанта» тихонько скользит по глади вод, вся эта разруха и опустошенность на окраинах большого города, немножко безвкусная поэзия простонародья, кислое молодое вино, веселая насмешка, лицо Диты Парло, ее радость, ее обнажившаяся детскость, желание жить и любопытство к жизни — вот те коды, которые использует в своем киноязыке Жан Виго. С реальностью у этого ничего общего нет. Это перемешано со смертью, с отчаянием, с сознанием вселенской изменчивости. Вот почему это так волнует нас, мы живем, смеемся и переживаем вместе с ним, ибо каждый миг, каждая сцена, каждый кадр дают нам понять, что в этом и состоит работа киноискусства — показать нам незавершенное в преходящем, бесконечное в мимолетном.
Интермедия 2
Комната Одзу
Вот здесь он проживал в последние годы жизни. Я, в общем-то, не слишком интересовался местами проживания писателей или домами художников. Мне все равно, где они жили, неинтересно созерцать их мебель. Дом Бунюэля в Койоакане, лагерь в джунглях Фрэнсиса Форда Копполы в Белизе или даже комната Мисимы в токийском отеле «Хиллтоп» — все это меня никак не трогает. Уж если бы я и сделал исключение, то разве что для квартиры Ингмара Бергмана в Стокгольме и для мансарды Рембо в Париже на улице Серпант, просто потому, что они располагаются в самых оживленных уголках обеих столиц. Но комната Ясудзиро Одзу — дело совсем иное. Меня пригласил туда японский друг. Это в Шигасаки, на роскошном берегу по пути в Иокогаму, место, кажется, выпавшее из времени, повисшее над океаном, обратив лик к самому знаменитому вулкану всей планеты. Квартал, состоящий из маленьких избушек, часть из них еще бревенчатые, как до войны, кривые тихие улочки, по которым ходят кошки. Климат здесь, похоже, мягкий, потому что в садиках я заметил пальмы вида Cycas. Но когда я приехал, вся деревня утопала в сугробах. Отель «Шигасаки Кан» стоит немного в отдалении, на откосе, к нему ведет такая узенькая тропка, что трудно представить, как по ней может пробраться машина. На самом деле это рёкан, то есть типичный постоялый двор старинной Японии, где спят прямо на земле и едят в общей столовой. Холод, должно быть, отпугивает отсюда клиентов. Меня поселили в довольно просторной по японским меркам комнате в конце длинного застекленного коридора, ведущего из основного здания в апартаменты для гостей. Вот здесь Одзу писал, принимал друзей, спал. Из мебели только самое необходимое: хлопчатый матрас на полу, полочка, чтобы было куда поставить чашку, шкаф для одеял и кимоно, лохань для умывания. У выхода из спальни — нечто вроде летней веранды, выводящей в сад, там стоят маленький столик и два низких стула. Окна все на застежках-молниях, большие и прямоугольной формы, заклеенные квадратами из рисовой бумаги. На стене я увидел фотографию, на ней маэстро на этой летней веранде сидит за пишущей машинкой.
Полагаю, что в этом уединенном и промерзшем доме я провел одну из самых скверных ночей в своей жизни — но в то же время и одну из самых вдохновенных. Стоило зайти солнцу, как моя спальня стала похожа на что-то вроде крытого плота, затерянного во льдах зимних небес. Незадолго перед сном я прошелся по улочкам Шигасаки до самой плотины, от которой виден конус горы Фудзи, еще розовевший поверх токийских туманов. Потом все постепенно сковало морозом. Ложась на матрас, я вслушивался в то, как снежные хлопья похрустывают на ветках садовых кипарисов. Я думал о том, какое же оно нежное, тепло человеческих жилищ в фильмах Одзу, — как та женская душа, о которой так много сказано в его лентах. Я думал об этом особом мире, в котором все происходит на уровне пола, в лоне очень древнего народа. Я думал о его жизни, такой яркой, полной песен, беспрестанного бренчания странствующих оркестров, смеха детей, запускающих на пляже воздушных змеев, об этой жизни, напоминавшей о временах, когда Япония хранила связь с почвой, выражавшуюся не в невинности золотого века, а, напротив, в твердом следовании заветам предков. То и дело я просыпался. Среди ночи мне почудился в коридоре какой-то легкий шорох, вздох. Не стану пугать страшилками: то старый управляющий рёкана, про которого я уже понял, что именно он и есть последний свидетель того, как здесь жил Одзу, он, облаченный в шуршащее кимоно, в подследниках и бамбуковых галошах, как и подобает старцу придирчивому и осмотрительному, совершал обход, памятуя о временах, когда постоялый двор и путешественников приходилось охранять от воров. Ранним утром, позавтракав в общей столовой, промерзшей и горделивой, словно брошенный храм, я вышел на городские улочки, немного удивляясь тому, что за мной не бежит ватага мальчуганов, во времена оны преследовавших по пятам актера Кихати, и отправился на железнодорожную станцию.
Война — Кино было японским
в те годы. «Угэцу моногатари» — или «Сказки туманной луны после дождя» — так, немного вычурно, назвали фильм Мидзогути во Франции (японское название означает просто: «Сказка луны в сезон дождей»).
Тогда я впервые понял для себя, что кино — это искусство. И еще тогда же впервые заключил, что, как и большинство французов, ничего не знаю о японской цивилизации — как и вообще о Востоке. Мысль, что Европа чем-то обязана Японии, в то время, когда я увидел фильм Мидзогути, звучала совсем не так, как сегодня. Япония — что-то далекое, непонятное, начиненное штампованными клише ар-нуво (эти ширмы, коробочки из папье-маше, цветочные букеты, кривые мечи и романы Пьера Лота — о Лафкадио Хирне тогда никто еще ничего не слыхал, — которые были в доме моей бабушки).
Иной вклад, в промышленное развитие, только еще начинает осознаваться в Европе. От отца, работавшего врачом в Африке, я знал, что Япония была самым крупным поставщиком (уже!) промышленных товаров в страны третьего мира: эмалированной посуды, алюминиевых котелков, столовых приборов, кухонной утвари, ламп и всевозможных обогревательных приборов, но не изделий, связанных с высокими технологиями, — например, фотоаппарат у него был производства немецкого.
Японские литература, философия были совершенно не известны широкой публике. Молодежь имела доступ к отрывкам из Камино Мичи в виде «Сказок и легенд». В лицеях ничего не хотели знать о такой литературе, и филологические изыскания пренебрегали японской философской мыслью и восточной мыслью вообще — насколько мне известно, такая нетерпимая ситуация сохраняется и по сей день. Даосизм, синтоизм, буддизм — о них в учебниках сообщалось, что «тут не приходится говорить о собственно философии». Даже самый «западный» из японских философов, Нишида Китаро, не был переведен на французский. Естественно, что, за исключением нескольких специалистов, никто из широкой публики и понятия не имел о том, какой долгой была история кино Японии — первый японский фильм, документальная лента о театре кабуки, был снят в 1898 году! Ничего не известно и о Мидзогути, о его пути кинорежиссера — начиная с 1923 года он сделал около девяноста фильмов, выпуская по два в год, чередуя короткометражные, авторские, экранизации классических романов, не допуская никаких простоев и снимая все с одинаковым мастерством. В те времена, когда я посмотрел «Угэцу» в первый раз, кино показывало Японию только в форме лубочных картинок или в тех страшных американских фильмах про войну, где японцы — джэпс — представлены, как индейцы старых времен, — кровожадными фанатиками, готовыми на все, чтобы завоевать мир и разрушить Америку.
Где же я впервые посмотрел «Угэцу»? Мне было не то пятнадцать, не то шестнадцать лет, и это, должно быть, случилось в одном из залов, где устраивались «просмотры с обсуждениями» — они тогда существовали, и там показывали сразу по нескольку фильмов, подобранных или по странам, или по темам. Помню я это смутно. Изображение черно-белое, трясущееся (конечно, то была заезженная копия), субтитры слишком низко, нечитабельные. Фильм, который я не видел, а скорее смутно предвидел, такой необычный и так смутивший меня, что мой дух был им обольщен, как будто я видел сон или оказался невольным свидетелем какого-то происшествия.
Потом я снова пересматривал «Угэцу». В Синематеке на Трокадеро или в парижских кинотеатрах. Очарованный до наваждения, я брал его напрокат в видеотеках, с английскими субтитрами, такими неразборчивыми, что их было невозможно прочесть, с забеленным изображением, подчас ослеплявшим неким сиянием (потом я подумал о глянцевитой глазури, гордости гончара Гэндзюро, принесшей ему неутолимую страсть принцессы Вакаса).
Стоит мне взять и пересмотреть этот фильм, — и очарование воскресает вновь, с самых первых кадров, с заглавных титров. Уже с первых начертаний иероглифов кандзи, вот они:
потом, вписанные в точное пространство квадрата, имена актеров, сопровождаемые тягучим напевом флейты, — словно письмена, начертанные на талисмане.
Фильм открывается долгой панорамой заснеженной поляны посреди леса мертвых деревьев. Внезапно появляется деревня, напоминающая пейзаж на картинах Босха, где крестьяне в рубище гнут спины возле своих хижин. Это страна одновременно и знакомая, и очень древняя, край вневременной нищеты земной. Другим долгим панорамированием с высокой точки камера показывает нам персонажей, Гэндзюро и его жену Мияги, Тобэя и Охаму. И вот уже я чувствую, что сроднился с этим местом.
Я стараюсь понять.
С первых кадров Мидзогути задает нам моральное измерение. Актеры этой сказки нам не чужие. То, что они переживают, — это есть драма войны, увиденная глазами жертв. Тут надо вспомнить о дате съемки фильма: 1953 год. Меньше десяти лет минуло с бомбардировок, предававших огню Токио, и с ядерного уничтожения Хиросимы и Нагасаки. Меньше десяти лет с одной из самых кровавых войн за всю историю и с единственного поражения Японии. Если считать еще и время на подготовительный период и работу над фильмом — сотрудничество Мидзогути со сценаристом Йода Йошикатой свидетельствует о необычайном внимании режиссера к мельчайшей детали, — то можно сказать, что «Угэцу» рожден из пепла войны.
Вот это, наверное, и волнует меня больше всего, ибо этот фильм чем-то соотносится с моей детской памятью. Тут никаких идеологий нет и в помине, это война глазами тех, кто от нее страдает, главным образом женщин и детей. Действие фильма разворачивается в феодальную эпоху, но на самом деле речь о современности.
В этой Богом забытой долине, населенной крестьянами, так упрямо стремящимися выжить, одержимыми страхом голода и подверженными многим опасностям, я могу узнать ту долину, в которой во время войны жил я сам. Тот же холод, голод, такая же теснота, а главное — гул войны, которая и не видна, и очень близка, которая вынуждает нас прятаться за закрытыми ставнями, вслушиваться, выжидая услышать ночную поступь врага или взрыв снаряда, а подчас и ружейные выстрелы, доносившиеся из леса.
Как раз отдаленные звуки выстрелов и раздаются в первых мгновениях фильма, давая нам понять, что война все еще здесь, что она рыщет вокруг деревушки. Армия, как ее показывает Мидзогути, — не славное войско, двигающееся с вымуштрованной механической точностью, возбужденное национализмом, какой ее представляет себе имперский образ мыслей. И тем более не свирепый сброд, врассыпную разбегающийся от самого Тихого океана, не фанатизм солдат Иво Дзимы и не зверская жестокость побежденных, какой показал ее Кон Итикава в «Полевых огнях», где люди опускаются до людоедства, только чтобы выжить. Это абсурдное, первобытное насилие, в котором крестьяне, становящиеся самурями, своровав пику и доспехи, превращаются в хищных зверей, высматривающих, где можно утолить свое стремление к грабежу, насилию и убийству. Их охотничьи угодья — отнюдь не города и богатые жилища. Это нищая и голодная деревня, жители которой спасаются бегством и прячутся в лесных чащах, а вослед им несутся победные вопли преследователей, похожие на рев животных.
Мидзогути выстраивает весь свой фильм наподобие фуги, где сменяют друг друга вариации на тему войны. Он заставляет мажор смениться минором, нежные тона — сильными и громкими, чередуя сцены, которые открываются и закрываются затемнением длиной в несколько секунд, и в каждом новом эпизоде опять слышна та же тема, соединенная с предыдущей сценой какой-то вариативной музыкальной дрожью.
Контрапунктом эпизодам насилия служат сцены, где показана женская нежность: Мияги крутит колесо гончарного круга, пока ее муж Гэндзюро лепит горшки. Без сомнения, это одна из самых трогательных сцен в фильме. Все сказано в одном только этом, простом и продуманном образе: упорство Гэндзюро, его гордость своим ремеслом гончара, честолюбие, заставляющее его пренебречь опасностями войны. Любовь Мияги, ее тревога за мужа, за их сына, живущие в ней моральная сила и смелость, ее земное чувство реальности. Эгоизм мужчины, помышляющего о славе, — Гэндзюро хочет попользоваться войной, чтобы разбогатеть, Тобэй втемяшил себе в голову, что ему надо вступить в войска, чтобы стать самураем, — и инстинктивная мудрость женщин, не желающих ничего другого, только счастья и покоя. По одну сторону — неудовлетворенность, тщета, алчность, по другую — гармония, смысл жизни. Гончарное колесо крутится, а на дальнем плане мы видим искаженное тревогой лицо Мияги. И ритм в это время ускоряется — крутящееся колесо заставило меня вспомнить подражание звукам древнего водяного колеса в музыке египетского уда — вместе с пронзительным звучанием одержимой флейты, тяжелым барабанным боем, понемногу переходящим к джазовому ритму, выражающими неотступную манию Гэндзюро, растущее беспокойство Мияги.
Эпизод с лодкой, скользящей по водам озера в туманном пейзаже, наверное, один из самых знаменитых в истории кино. Для меня, для многих людей моего поколения этот эпизод незабываем, ведь он стал символом мощи кинематографического искусства.
Я хочу понять его во всех деталях, потому что мне кажется, что этот эпизод объединяет в себе одном все основы и все чаяния, связанные с этим искусством.
Несомненно, в нем есть экзотика. Это ожившая картина. Тут есть все штампы японского искусства живописи: можно вспомнить Хокусая, картины, изображавшие Внутреннее море, знаменитую лодку, в которой плывут монахи, символ мимолетности жизни на этой земле. Медленностью, величием он напоминает о буддизме, а особенно — о поэзии хокку с ее минимализмом. Есть в нем и протяжность театра но, того песнопения, где есть строгая схема выражаемых чувств.
Кроме того, это ведь не центральный эпизод. На самом деле он — вторые врата, которые надо миновать, чтобы войти в фильм, — первыми была сцена ночного грабежа. Этот эпизод тоже о войне, насилии, непостоянстве и слабостях людских. Через эти врата мы попадаем в фантасмагорию. Протяженные воды, которые путники должны переплыть, чтобы добраться до города Омидзу, — это пустое пространство, разделяющее жизнь и смерть. Вторгаясь в эту область, Гэндзюро, Тобэй и Охама идут навстречу своей судьбе. Они теряют свое земное счастье.
Носовая часть лодки медленно выплывает из тумана, проскальзывая между водой и небесами, в окружении испарений. Но еще прежде, чем мы сможем разглядеть тех, кто в лодке, мы слышим голос Охамы, она протяжно поет под ритмичный и очень глухой барабанный бой. В этой сцене нет ничего от реальности — лодка плывет сама по себе, и повороты Охамы, опирающейся на длинный шест, стоя у кормы, никак не могут управлять ее движением. Да и сам пейзаж кажется нереальным. У тумана, у воды странная тяжелая плотность, они словно нарисованная декорация (а ведь Мидзогути был известен тем, что предпочитал снимать главным образом на натуре). Все в этой сцене кажется почти символичным. Скорее надо бы сказать, что тут все одушевлено, все живое, все пронизано мыслью. Нос лодки выплывает из тумана, рассекает воду, в которой вспыхивают искорки, так, словно вокруг ни день, ни ночь, а какая-то вялотекущая вечность, обволакивающая эти места тишиной, которую лишь слегка нарушает плеск под лодкой и печальный голос Охамы. Волны разбегаются от носовой части лодки, оставляя следы, смыкающиеся с полосками облаков, унося путников от тех мест, откуда они отправлялись в путь, снова закрывая за ними врата реальности. Становятся различимы силуэты путников, сперва Охамы, стоящей на корме, так странно помахивающей рукой, будто это длинный плавник. Им навстречу плывет другая лодка, но это всего лишь сбившаяся с пути жалкая посудина, в ней человек, который вот-вот умрет. Прежде чем испустить последний вздох, он предупреждает путников. Их тоже подстерегает смерть, здесь пираты, они грабят, убивают и угоняют женщин.
Искусство достигает в этой длинной сцене вершины, изящества, трагизма, застывшей красоты, переживания. Слово «классицизм» было бы здесь слишком ограниченным. Правильнее сказать «шекспировской силы». Как и в театре, для режиссера Мидзогути (но это верно и для всех тех, кто пришел следом за ним, — для Куросавы, Кихати Окамото, Кането Синдо) фантастика — не средство, а цель, выражение совершенного совпадения реального и сказочного. Сказка «Угэцу» движется по двойному пути, один — исторический, критический, другой — философский, даже мистический. Конечно, Мидзогути — все что угодно, только не религиозный художник, и он сознательно отходит от буддийской морали положенной в основу фильма сказки Акинари Уэды, чтобы оставаться как можно ближе к психологической реальности своих героев в человеческой драме, причиной которой явилась война. Его сверхчувственность проявляется только и исключительно, в его искусстве.
Появление принцессы Вакасы, облаченной в белые одежды, в широкой шляпе, скрывающей лицо, сцена соблазнения, начертанные на теле Гэндзюро письмена для изгнания злых духов — эти образы неотступно преследуют, а по прошествии времени обретают мифологическую ценность. Они близки к образам из сна.
В доме среди ночи, подав ужин Гэндзюро, Вакаса танцует для него, горшечника, стараясь соблазнить его. Вакаса — это актриса Матико Кё, профессиональная танцовщица, которую Мидзогути будет снимать и в других своих фильмах, особенно в «Йохики» («Императрица Ян Гуй-фэй»). Ее танец, восходящий к театру но, свидетельствует о том, как крепко Мидзогути связан со старинным театром. Медленными, застывающими движениями танцует Вакаса, поводя веером, точно куртизанка, и песня, то взмывая к высоким тонам, то опускаясь до торжественных и низких, скорее кажется погребальным песнопением, нежели гимном любви, — в ней говорится о прошедших временах, о тщете любовного чувства, об обольстительности смерти. Тело Вакасы чувственно раскачивается, ее едва видные ступни, кажется, парят над полом, это танец, но это еще и судорога, гримаса боли, сдавленный крик, в котором страсть борется с гордыней, где, соприкасаясь, сходятся желание и жажда мести.
Любовь в «Угэцу», как и в большинстве фильмов Мидзогути, — это не удел мужчин, а выдумка и наваждение женщин. Гэндзюро становится предметом вожделения, сам вовсе этого не желая. Вакаса, умершая девственницей, возвращается в земной мир, чтобы познать любовь мужчины, но это означает превратить его в своего раба. Ей невозможно представить себе иную форму счастья, кроме обладания. Чтобы исполнить обет, она берет в мужья Гэндзюро, выбранного для нее царством теней. Ее песня и танец обольщают Гэндзюро, но обращены они к потустороннему, к духу ее отца. Эта сцена танца заканчивается на ирреальном образе — когда пронзительный голос Вакасы понемногу перекрывается низким бормотанием голоса ее отца, вдруг доносящимся из-под искаженной гримасой маски куцуки, дерева страдания. Медленные раскачивания тела Вакасы, веер, любовные заигрывания мало-помалу принимают характер угрозы, ибо слова песни предостерегают Гэндзюро от всяческих помыслов бежать и освободиться. Отныне он пленник Вакасы, он будет вечным любовником. Больше он не сможет вернуться назад. Сцена затягивается ночным мраком, словно он — пленник собственного сна.
Мидзогути смыкает две параллельные истории, обе — вариации на тему войны. Тобэй, брат Гэндзюро, — тоже жертва собственных честолюбия и тщеславия. Тобэй ушел от своей жены Охамы, чтобы попытаться раздобыть на войне славу и богатство. Как и воины сюзерена, он всего лишь крестьянин, напяливший солдатскую форму, вооружившийся пикой и нацепивший доспехи. Сцена изнасилования Охамы солдатами войска Шибаты показана с чрезвычайной силой и с непревзойденной мощью выражает весь кошмар войны. Изнасилование происходит недалеко от того города, куда отправился на поиски приключений ее муж, вокруг романтический пейзаж, птицы поют вовсю. После изнасилования Охама получает от обесчестившего ее самурая горстку монет, и становится она проституткой, как происходило и в эту войну тоже — с корейскими женщинами, угнанными японской армией.
Гончар Гэндзюро, околдованный красотой принцессы Вакасы, становится ее любовником — после любовной сцены на берегу реки он лежит на земле, напоминая Охаму после изнасилования, окруженный со всех сторон смертью, высохшими деревьями, ветви которых выгибаются точно когти, в разоренной деревне. Уже потом, пытаясь загладить свою вину перед Мияги, он скажет эти слова, в которых — итог всего периода, только что пережитого Японией: «Война вывернула наизнанку мою душу».
Искусство Мидзогути визуальное, именно в этом он предтеча и изобретатель кино современного. Тут есть еще и архитектура, каждый план выстроен со скрупулезной тщательностью, каждая точка съемки выбрана, чтобы выразить смысл действия, каждый элемент декора придуман так, чтобы сыграть свою роль в повествовании. Устремленные в небо острые когти иссохшего дерева побеждены изгоняющими бесов письменами, нанесенными на тело Гэндзюро, обольстительная песнь Вакасы — заклинаниями буддийского монаха. И точно так же человечности Мияги противостоит животная похоть Вакасы. В сцене, когда Гэндзюро пытается оттолкнуть любовницу, ее маска превращается в маску животного, голос становится невнятным, в нем слышатся вопли и завывания. Фантастическое — это не только исследование иного мира, связанное с древним шаманским культом Норо, — но еще и образ душевного помрачения, той ирреальности, в которую погружены действующие лица этой истории. Финальная сцена, в которой Гэндзюро верит, что в конце долгих скитаний вновь обрел жену и сына, восхитительна, она связана с первыми кадрами фильма. Снова Мияги крутит колесо гончарного круга, этот символ супружеского счастья, и в эту ночь Гэндзюро уверует, что снова обрел наслаждения утраченной любви. Но утром, едва проснувшись, он видит, что держит в объятиях бесчувственный труп, прядь волос, поседевших от времени. (Точно такую же сцену воспроизведет Кобаяси в новелле «Черные волосы» в своем фильме «Квайдан».)
Возвращение Тобэя в деревню, к работе на земле, которую ему не стоило бросать, завершает цикличный ход фильма. Таким же медленным восходящим движением, как и в самом начале, камера отъезжает от этого истерзанного несчастьями оврага.
В начале этой главы я поставил вопрос так: кино в те годы было японским? Произведение Мидзогути дает ответ, но в смысле более широком. Кинематографическое искусство многим обязано этой эпохе, когда Япония выпустила несколько самых великих фильмов за всю свою историю. Обязано оно еще и всей японской культуре, всему тому изумительному, что она подарила миру: ее совершенству, чувству меры, ее строгости.
Но, в противовес Итикаве, Куросаве или Синдо — не стоит упоминать здесь Одзу, который, думается, все-таки ближе к культурному синкретизму в манере Нишиды Китаро, — Мидзогути нивелирует и до такой степени минимизирует экзотическую сторону, что это позволяет нам уйти от поверхностного восприятия. Одна из его тем — тяжелые жизненные условия женщин в мире современном, и он исследует ее критическим взглядом социолога во всей ее актуальности. В Японии после войны женщина в подчинении у мужчины, но она поднимается над своим униженным положением. Когда Охама доходит до жизни проститутки, пока Тобэй в это же время важно разъезжает, похваляясь тем, что он теперь стал самураем, у нее вырывается горькое слово: за любое преуспеяние в жизни приходится платить несчастьем. В «Жизни О'Хару» молодая девица, проданная собственным отцом, соглашается принять судьбу куртизанки, ибо, уступив искушениям любви, она вступила на стезю безысходную. В этих историях можно усмотреть конфуцианский отпечаток синтоизма, согласно которому то, что нарушает общее равновесие бытия, не имеет права на существование. Но если поразмыслить, — ведь эту же самую тему, главную в творчестве Мидзогути, можно обнаружить и в классическом западном театре, и в современном романе. Она же вдохновляет и послевоенное реалистическое кино, от Росселини до Бергмана.
Чувство, которое у нас вызывают «Сказки туманной луны после дождя», основано на красоте образов, на медленном ритме эпизодов, подобном сопровождающему их тяжелому бою барабанов. Но оно рождается еще и из искренности, остроты и силы выражаемых эмоций, обжигающей правды. Вспоминаю, какое откровение испытал я в самые первые мгновения фильма от этих сцен, открывших мне ту долину отчаянной нищеты, в которой живут Гэндзюро, Мияги, Тобэй, Охама. Тогда я позабыл, что эти человеческие существа — японцы, что они говорят на другом языке и живут по иным законам. Я оказался в их мире, они стали частью меня, как и я стал частичкой их самих. Их фантастическое стало моей повседневностью.
Да, кино было японским в ту удивительную послевоенную эпоху, породившую столько шедевров: «Бирманскую арфу» и «Полевые огни» Итикавы, «Интенданта Сансё» Мидзогути, «Семь самураев», «Мададайо», «Жить» Куросавы, до великолепной «Легенды о Нарайяме» Имамуры. Из праха национализма, из тигля тотальной разрухи Япония выплавила искусство, сломавшее все преграды.
Революция
в те времена была итальянской. Фильмы, на которые мы ходили (в киноклуб, иногда в парижскую Синематеку, а чаще наудачу забежав в дешевые кинотеатры), все были левацкими, бунтарскими и яростными, в них была такая сила убеждения, что сегодня мне порой кажется, будто я оказался свидетелем необыкновенного и героического приключения, словно под окном протекает сам ход истории, а ребятишки, совсем еще маленькие, подглядывают за ним сквозь закрытые ставни, следя за толпой, слыша ропот, видя сцены жестокие, невыдуманные, без прикрас.
Витторио де Сика — «Шуша», «Похитители велосипедов», «Чочара», Латгуада — «Без жалости», Висконти — «Земля дрожит», «Рокко и его братья», Болоньини — «Бурная ночь», Феллини — «Ночи Кабирии», «Дорога».
Кинематографу было что сказать, немедленно, сгорая от нетерпения. Посмотрев фильм, мы выходили на улицу с колотящимся сердцем, с чувством, что борьба продолжается и мы должны принять в ней участие. Полагаю, что тут не было и следа политики. Просто мы вплотную подходили к идеальному отождествлению образа и реальности. За нашей спиной, вокруг, впереди рыскала скрытая, но реальная угроза. Продолжавшаяся война в Алжире, манифестации, избиение демонстрантов полицией. Как ошалелые, мы неслись по переулкам старой Ниццы с их облезлыми стенами, под вывешенными сушиться полотенцами, заставляя расступаться раздраженных мальчуганов, похожих на стайку воробьев, старух, бросавших нам вслед издевательские шуточки на том диалекте, на каком говорят в Ницце, рабочих в комбинезонах, которые сумрачными взглядами провожали этих лицеистов, студентов, считавшихся детками буржуазных семей, но пламенно протестовавших против войны и забрасывавших камнями фасад офиса Коммунистической партии, когда советские танки вошли в Венгрию.
А может быть, все объяснялось проще — этот мир цвета багрянца и охры, пропахший рыбной провансальской пиццей и арахисовым маслом, где еще иногда можно было натолкнуться на призраков прошлого, выкрашенные для маскировки стены, выбоины на бетонных цоколях зданий там, где немцы устанавливали пушки, обнесенные колючей проволокой пустыри — все наводило нас на мысль, что в этих фильмах рассказывается и наша история, или, точнее сказать, мы смыкались с историей старших поколений, наследниками которой были, хотя нам и не довелось пережить ее самим.
В те времена я пристрастился иногда, усевшись под оливами, предаваться чтению Вергилия, и в глазах моих плясали искорки Средиземноморья. На деле же я, сам того не зная, попал под влияние неореализма и всего того, что было перед глазами, — Рима, лежавшего в руинах, Апулии, Калабрии, ослепительно белой Сицилии и всех этих обитателей простонародных кварталов Трастевере или тех, что географически поближе, — Вентимильи и Борго-Сан-Маурицио, чванных стариканов в до блеска начищенных ботинках, одетых во все черное, матрон, мальчишек в штанишках уже не по росту, в латаных-перелатаных свитерах, девушек, постреливавших взглядами, ходивших по трое-четверо и не опускавших глаз перед мальчишками. Этих улиц, этих лестниц, этих меблирашек с невзрачными ставнями, закрытых в полуденный зной, и этих стен, которые эхом отражали тарахтенье мопедов с задним дополнительным пятнистым сиденьем, этих «веспа» и «альфа-ромео», направлявшихся к берегу моря, изобильно засаженному прибитыми дождем пальмами, и кафешек — особенно этих кафе с летними террасами, съедавшими добрую половину шоссе, где, казалось, льется и льется бесконечный вялый разговор, будто гомонит молодежь, зубоскалившая, сплетничавшая, переделывавшая мир заново. Кажется, был еще поезд, та двухцветная автодрезина, что уходила в туннель под лысой горой и, прежде чем уехать из города совсем, испускала двухтембровый вопль, громко и бессмысленно взревев. На набережных старого порта бастующие грузчики у коробок с красной пробкой, только что привезенных из Алжира, или оборотистые барышники, подгонявшие ударами дубин табуны тощих кляч — их гнали на бойню. По временам священники устраивали пышные процессии с хоругвями, балдахинами и кадильницами, дабы благословить рыбаков и лодочников, пропитавшихся тунцовой кровью. Проезжали тряские трамваи с висевшими сзади и сбоку гроздьями ребятишек. Ярмарочные гулянья, цыгане, акробаты, похожие на Энтони Куинна и Джульетту Мазину из «Дороги», доступные девицы, зазывавшие лицеистов прямо с балконов, а в цирюльнях (у Мотоссо) опереточные гангстеры в черных костюмах, которые приходили побриться, чтобы в приличном виде пойти на похороны одного из своих же, убитого прямо здесь, на тротуаре у злачного бара, в котором он пил неизменный пастис.
Все это не ради живописности, а чтобы сказать, до какой степени послевоенное итальянское кино — эта «послевоенная» пора продлилась до 1962 года, до конца другой войны — в Алжире, еще не имевшей своего названия (тогда мы еще не видели «Битву за Алжир», фильм Джилло Понтекорво, он выйдет на экраны только в 1966-м), — было для тогдашней молодежи, в том числе и для меня, нашей правдой, нашей жизнью. Нам не нужно было изучать корни такого киноискусства, его технические тонкости. Оно жило в нас самих, прорастало из города, его жителей, рассказывало о наших трудностях. И еще насмехалось, заставляя нас веселиться и плакать. Оно рассказывало нашу историю.
Крутой нищеброд, вот ведь имя-то — целая феерия. Помню, какое потрясение испытал, когда увидел фильм Пазолини в первый раз. Помнится, я ходил в маленький кинотеатрик неподалеку, было ясно, что фильм не продержится больше нескольких дней, он был хотя и новый, но Пазолини тогда еще не стяжал себе слегка сернистую славу, которую ему принесли «Теорема» в 1968-м и «Сало» в 1975-м. И тем не менее меня сразу пронзило чувство, что этот фильм показывал, выражал, рассказывал о современном мире лучше любого другого, что этот Рим 1960 года был моим городом, местом, где я вырос, где я жил, что никто и ничто здесь мне не чужое и что эти образы проникнуты горькой силой, сарказмом, нежностью, которые заставили меня хорошенько поразмыслить о моем существовании, о том, что меня вскормило и откуда я происхожу. Да, Рим, — но могла быть и Генуя, Сан-Ремо, Ницца или Марсель. На эти широкие улицы с пыльными кучами по обочинам солнце ложится ослепительными пятнами, тень черным-черна, стены облуплены донельзя, дрянные кирпичные развалины, загромождая пейзаж, соседствуют с футуристическими конструкциями страны, переживающей модернизацию, высокие уродливые дома, с одинаковыми окнами и балконами, газовые заводы, сортировочные станции, похожие на неприступные, необитаемые замки, сегменты автодорог, приподнятых на балках моста над темными оврагами, — Пазолини изобрел современный пейзаж таким, каким он появится в кино лишь спустя десятилетия — в «Отдельной банде», снятой Годаром в грязном хаосе района Дефанс, в «Руки над городом» Франческо Рози или даже Берлин в «Крыльях желания» Вендерса. Этот опустошенный город — жизненная среда тех мужчин и женщин, которые внутри собственного поколения чувствуют себя лишними. Изрешеченные пулями стены и пустые заброшенные овраги — вот место их обитания, пустыри — площадка для игр детей, не имевших отцов, улицы — зоны противостояния банд, полиции и проституток. Все это мы вскоре увидим в фильмах, исследующих острые социальные конфликты и особенно упадок морали. Любопытно, что Серджио Леоне годы спустя ad naseam[6] явно позаимствует у «Аккатоне» не только декорацию, но даже нелепый вид своих хулиганов, чтобы ввести моду на героев опустошенных, пропитанных пылью и ветром, дабы вновь воскресить вестерн, не имеющий уже ни малейшей связи с реальной жизнью, а просто изображающий мир, лишенный жалости и милосердия.
Но «Аккатоне» стоит большего: ничего лишнего, никакой эстетизации. Декорация одна — пустырь. Пустырь, в который землю превратила война, и пустырь, оставшийся в душах после поражения и дегуманизации. Отпечаток войны неизгладим: следы пулеметных очередей на стенах домов, выбоины, ожоги, шрамы, навеки выжженная земля, на которой ничто не может обрести приют. У человеческих существ, особенно у Витторио, — молчание, упертость, гнев, грубость, утрата чувства реальности. Пазолини неравнодушный художник, он рядом с ним. Он изобретает символы заново, меняет их значение. Он исследует психически нездоровые, деклассированные элементы и пережитки прошлого, потому что этот насквозь выветренный город, где не осталось ничего от славы прежних дней, где ничто не в силах выпрямиться и стать в полный рост, — самое место для сомнений. Персонажи, населяющие такой Рим, скорее похожи на магрибинцев, чем на итальянцев. Их манера выражаться, двигаться, то, как они сидят, удаль, с какой Витторио харкает на землю, чтобы выразить свое отвращение, свою ярость. Вот так же и в «Евангелии от Матфея», фильме очень близком к «Аккатоне» (и тематически, и хронологически), Пазолини одевает иудейских женщин как сицилиек, а солдат Ирода облачает в униформу фашистских бригад. Костюмы, декорации — да, но больше того: Пазолини погружает нас внутрь, показывая необходимость такого смешения времен, его неоднозначность, амбивалентность, и вот почему в тот момент я испытал такое волнение, ведь и в своей жизни, и в своем будущем, я видел точно такие же противоречия. Война, во время которой я родился, и та война в Алжире, что сожрала молодость, разрушила и мнимые ценности гуманизма и породила ползущие исподволь слухи о всевозможных предательствах. В тот момент, когда я увидел «Аккатоне» без всякой подготовки, я ощутил себя современником Витторио, Маддалены, Стеллы. Призраки, проходящие сквозь этот мир, оказались теми же, каких в реальности видел я. Ценности, те самые, рушились — я видел, как каждый миг их подвергают сомнению и расизм, и страх перед ближним, всевластие денег, грубость в отношениях полов, утрата религиозных иллюзий, насилие в политических схватках. Призраки буржуазии, навсегда дискредитированной фашизмом, колониализмом. Подавление восстаний в Африке, во Франции, в Индокитае — но еще и в Венгрии, в Польше. Как было не ощутить в собственной душе чувство Витторио, что изменить ничего нельзя, как было не разделить с ним это тюремное заточение в стенах города, внутри кастовых барьеров?
В «Аккатоне», наверное, впервые за всю долгую историю итальянского неореализма Пазолини не предлагает победоносного видения революции. Известно пристрастие режиссера к Грамши, к его трезвому пониманию классовой природы искусства. Но то, что светом одухотворяет «Аккатоне», придавая ему новое измерение, — это какие-то незримые бегущие токи, та витальность, что пробегает сквозь персонажей, высекает искры, дает почувствовать трепетную дрожь молодости. Лихорадочное возбуждение. Голод. Думаю, что ни один другой режиссер не смог так показать обаяние и жизненную силу молодости, если вести речь не о чувстве нежной заботы в «Парнях» Мауро Болоньини, а о том суровом и трудном братстве, какое, надо полагать, царило среди самых великих художников Возрождения — Микеланджело, Джотто, — оно в том, с каким молодеческим безрассудством Витторио бросает вызов смерти, прыгая с высокого моста в Тибр, как вызывающе издевается над карабинерами, мерится силами со всеми, кто вокруг, не минуя и тех, кто воображает себя его братанами. Сцены, доходящие до смешного, — уличная драка, когда тела барахтаются в пыли, куда как далека от постановочных голливудских драк, это скорей уж выяснение отношений между грязными типами, беспорядочная, звериная схватка. Аккатоне — своего рода варвар в самом цивилизованном городе мира. Чтобы выжить или чтобы подтвердить, что еще живой, он готов на все. Он лжет, он крадет, он заставляет Маддалену заниматься проституцией, несмотря на ее сломанную ногу. Но он не герой. Эти подонки с очень человеческими лицами, которые кажутся сошедшими с гравюр Жака Калло, — отбросы общества, они жалки, неимущи, голодны до гротеска. Они готовы на предательство за блюдо макарон. В их среде всем заправляет голод. Голод — наваждение, «порок», как выражается Аккатоне.
Витторио — accatone, нищий, сутенер. Но фильм отнюдь не ориентируется на образ poverello,[7] это не религиозный гимн во славу нищенства. В другом фильме, посвященном им святому Франциску Ассизскому («Птицы большие и малые», 1966), Пазолини вдохновляет не христианская мистика, а сила самой жизни, вступающая в противоречие со стремлением к святости и делающая Франциска милосердным, героическим, человечным.
Вот она, улица. Что-то вроде пыльной лощины, которая делает крутой вираж, выползая из-под тени моста, а вокруг пологие откосы, в них в ожидании проезжающих автомобилей кучкуются проститутки. Это Рим. Но это могло бы быть и в любом другом месте современного мира, в мире городских низов. Но это, конечно, Рим, и избитая подонками Маддалена идет по Аппиевой дороге, по кипарисовой аллее, в декоре бессмысленного и вышедшего в тираж расхожего образа вечного Рима, ставшего местом разборок проституток и разношерстной ночной братвы. Древняя история беспробудно спит среди этих камней и стен панельных домов, деревьев и холмов, фонтанов и небес. Это могло произойти где угодно, в Буэнос-Айресе, Мадриде, Барселоне. В России, в Румынии. Это могло случиться и в Алжире.
Испытав такое сильнейшее потрясение от этих образов, этих персонажей и их жизни, я не могу не вспомнить того, о чем читал у Камю (в годы войны в Алжире именно он был нашим духовным наставником больше, чем Грамши и Сартр), — конечно, в «Постороннем», но еще и в сборнике «Изнанка и лицо», и там такая же нестабильность, то же бессилие, такая же страна, тот же голод. Витторио — продукт городских окраин, он еще носит в себе черты уклада древнего, сельского, семейного, но уже извращенного бесчеловечностью той западни, что захлопнулась над его головою. Его участь — плоть от плоти участи улицы, жизни того оврага, откуда каждую ночь выгоняют своих подопечных на работу сутенеры. Он не жертва, а хищный паразит, заранее обреченный. У него нет прошлого, нет морали, скорее всего, нет и будущего. Он — образец всех заблудших парней, которым предстоит пройти через все послевоенное реалистическое кино от «Рокко и его братьев» Висконти до «Безумного Пьеро» Годара, и не забудем о Хосе — герое «Шакала из Науэльторо» Мигеля Литтина.
Появляется Стелла. Это один из самых трогательных персонажей фильмов Пазолини, а может быть, и всего итальянского кино. Она — икона, символ, образ выжившей в муссолиниевские времена, затерявшись среди мусорных римских руин. Она — носитель красоты, здоровья, моральной силы севера Италии, ее лицо чем-то походит на Мадонну, но есть в нем и языческое, чувственное, напоминающее о том образе Италии, что запечатлен в классических статуях и на почтовых марках (навевает мысли и о Свободе на баррикадах Делакруа). Она ведет скромную жизнь, ее, простую работницу, обирают хозяева, она кажется воплощением свежести и простодушия, и, когда она вдруг влюбляется в Витторио, уже ясно, какую судьбу подонок для нее заготовил. Но выясняется, что у нее-то тоже есть свое прошлое, ее мать была проституткой, и она не питает никаких иллюзий насчет Аккатоне. Она знает, что он хочет вытолкнуть ее на панель, но от этого не перестает любить его. Она соглашается из любви к Витторио. Поруганные чистота и невинность — это был рискованный сюжетец. В добродетельности Стеллы, одерживающей верх над пороком, ничего условного нет. Сила той любви, какую она испытывает к Витторио, — только она одна и способна изменить судьбу. Оглядев Стеллу, циничный клиент, увозивший ее на своей машине, раскаивается: «Мир превратился в клоаку».
Она выходит ночью на Аппиеву дорогу, вместе со всеми проститутками, мечтающими изменить свою участь. А надламывается, меняется жизнь самого Аккатоне — это не эффект искупления, а результат любви, которую он испытывает тоже, как единственного выхода из этой безысходности. «Я не хочу больше так жить, даже если снова придет Христос», — говорит он. По примеру Стеллы, пытающейся заняться проституцией ради любви, Витторио делает попытку работать, но тщетно, ведь общество уже приговорило его, он нищий, попрошайка, шут, и ничего тут изменить ему не дано.
Сон Аккатоне — эпизод удивительной силы, достигающий потрясения самыми простыми выразительными средствами, эта сцена всегда со мною, как будто этот сон приснился мне самому. Аккатоне на улице. Идет к стене. И там, под палящим солнцем, он видит трупы своих приятелей по распутству, иссохшие, недвижимые. Чуть дальше ему навстречу идет похоронная процессия, она медленно движется по пыльной, суровой, придавленной палящим солнцем окраине. Полная тишина, только затрудненное дыхание Витторио, вдалеке похоронный звон. Катафалк выруливает туда, где, оказывается, уже собралась толпа, Витторио спрашивает: «Что случилось?» — и один из идущих отвечает ему: «Аккатоне умер». Ворота кладбища, мимо которых Аккатоне столько раз проходил гуляючи, теперь снова закрыты для него. У стены он замечает могильщика, копающего землю на склоне холма, и умоляюще просит его рыть чуть подальше, там земля больше прогрета солнцем.
Его сон и есть завершение истории. Родившийся вруном, игроком, вором и сутенером, Аккатоне не может изменить своей доли, и любовь Стеллы тут бессильна. Обычный несчастный случай, пронесшийся мотоцикл, и вот он лежит на земле, прямо на улице, на берегу той самой реки, которой бросал вызов. «Вот теперь мне хорошо», — шепчет он, прежде чем умереть.
Интермедия 3
Жизнь Стивена Тоболовски[8] до наших дней
«Космические яйца» (Spaceballs), 1987, в роли капитана гвардии
«Большие огненные шары» (Great Balls of Fire!), 1989, в роли Джуда Филлипса
«Тельма и Луиза» (Thelma et Louise), 1991, в роли Макса
«Тихушники» (Sneakers), 1992, в роли Венера Брандеса
«День сурка» (Groundhogs Day), 1993, в роли страхового агента Неда Райерсона; эта небольшая роль, тем не менее растянутая на весь фильм. Сделала его знаменитым. В Вудстоке, месте съемок, на углу той улицы, где он натолкнулся на Билла Мюррея, установлена памятная табличка
«Убийство на радио» (Radioland Murders), 1994, в роли звукоинженера Эпплуайта
«Мистер Магу» (Mr.Magoo), 1997., в роли Чака Ступака
«Свой человек» (The Insider), 1999, в роли Эрика Кластера
«Помни» (Memento), 2000, в роли Сэмми Дженкиса
«Пошел ты, Фредди!» (Freddy Got Fingered), 2001, в роли дяди Нейла
«Чумовая пятница» (Freaky Friday), 2003, в роли мистера Бэйтса
«Гарфилд» (Garfield), в роли Хэппи Чепмэна
«Pope Dreams», 2006, в роли Карла Венейбла
«Свидание вслепую» (Blind Dating), вролидоктораПеркинса
«National Lampoon's Totally Baked: a Potumentary», 2006, в роли Джеско Роллинза
Кроме того, Стивен Тоболовски — создатель и исполнитель в автобиографической короткометражке «День рождения Стивена Тоболовски» (2005) и перенесенной им самим на экран театральной пьесе «Два идиота в Голливуде» (1988).
С ручной камерой
кинематографисты стали спутниками современной Истории. Они изобрели новый взгляд на окружающий нас мир, на только что произошедшие события, на тот пестрый ковер, из которого соткан наш повседневный быт. В известном смысле они породили новую мораль. Удобно устроившись в креслах кинотеатра, а еще лучше — откинувшись на подушки в наших уютных гостиных, мы в упор сталкиваемся с самыми жестокими, самыми значительными сценами нашей эпохи. Великие события прошлого — Столетняя война, покорение Мексики испанцами или даже бомбардировка Алжира французскими войсками — доходят до нас, лишь пройдя через фильтр историков или редких прямых свидетелей, рассказавших нам об увиденном. Нечасто услышишь рассказы, которым удается мобилизовать наше воображение. Тут вспоминается разве что свидетельство Гете о битве при Вальми или Стивена Крейна — о Гражданской войне в Соединенных Штатах. Толстой в «Войне и мире» воскрешает события вторжения в Россию наполеоновской армии, но это ведь форма романа. Элюар, Аполлинер, Рене Шар рассказали об ужасах войны в своей поэзии, то же сделал и Пикассо в «Гернике» или в «Войне в Корее». Но по силе воздействия и влияния ничто не в силах сравниться с кадрами, снятыми во время Первой мировой войны или войны в Испании. О том, что русская революция была окончательным ниспровержением основ, лучше всего говорят архивные кадры: запечатленные камерой великие события — семья императора Николая, которая вот-вот будет расстреляна, лицо-наваждение монаха Распутина, полицейские репрессии, выступления Ленина, большей частью заснятые на пленку, первые народные демонстрации, — но особенно сцены из повседневной жизни мира, который уже меняется, улицы Санкт-Петербурга перед октябрьским переворотом, уже запруженные автомобилями и трамваями, выхваченные камерой лица крестьян, стоящих на обочинах дорог, словно вышедшие из Средневековья, а за спиной у них — поля. Потом крещендо к войне в Западной Европе, эти кадры сгруппированных лиц молодых людей, большинство из которых будет скошено пулеметными очередями, первые воздушные бои, снятые прямо в небе, изображение скачет, прорезываемое зигзагами пролетающих пуль, а вот зрелище боя под Верденом, камера обшаривает сожженные холмы, искалеченные вывернутые тела, вповалку лежащие в траншеях, все то, что объектив выхватывает своим холодным зрачком, — для нас представляет собой нечто вроде памяти, восстанавливающейся как в одно и то же время и чужая и родная, с какой-то бесчеловечной беспристрастностью, которую не в силах сгладить прошедшее с тех пор немалое время. Ничто и никто не может лучше передать страшную мощь нацистской власти в Германии 30-х годов, нежели военные парады и чудовищные празднества гитлеровского культа, снятые актрисой Лени Рифеншталь для пропагандистского фильма, сделанного по приказу Гитлера: «Триумф воли» — эта хорошо организованная толпа, управляемая войсками ополчения и звеньевыми, шествующая по улицам, потрясая факелами, или вставшая по стойке «смирно» перед трибуной, вперив взор в героических орлов и знамена, под стягами и триумфальными арками, и отвечающая хором в унисон, загипнотизированная тем голосом, что льется из громкоговорителей. Эта постановка, отчасти искусственная — нетрудно представить, сколько в этой толпе нанятых статистов, — обладала такой силой убеждения, такой действенностью, что впору задаться вопросом, а до какой же степени эти фильмы послужили образцами для будущих диктатур — в Советском Союзе, в народном Китае, в Латинской Америке.
С самых первых лет своих кинематограф изобретает реальность, моделирует и преображает ее. Тот интерес, с которым мы сто лет спустя смотрим эти первые киносводки новостей, объясняется большей частью именно этим: того, что мы видим, больше нет, но мы знаем, что это было. Эти женщины, эти мужчины, которых мы видим суетящимися, говорящими, смеющимися, которых мы застаем на излучине их жизни, дышали, думали, мечтали, любили так же, как мы. Мы подобны принцу Гамлету, держащему в руках череп шута Йорика. Реальность ожившей картинки делает эту мистерию еще труднее для понимания, еще тревожней, мучительней. Все данные тут, перед нами, на расстоянии взгляда, и все-таки нас не покидает ощущение, что мы не способны их осмыслить. Как все это, эта история, эта правда, эти мгновения бытия были возможны? Что в них такого, что делает нас для них чужими? Насколько же мы изменились? Мы что, знаем какие-то секреты, недоступные для этих современников, или скорей наоборот — мы, по прошествии жизни стольких поколений, неспособны представить, чем была жизнь предвоенной поры для молодого немца из Дрездена или Берлина, или для польской фабричной работницы времен гетто, или для украинского крестьянина в пору молодости Сталина? И если это все действительно так, то есть картина показывает нам одни лишь тени, а реальность от нас ускользает, — что сказать тогда о «Дерсу Узала», снятом в Сибири через сто лет после того, как туда предпринял путешествие русский картограф Владимир Арсеньев? Как тогда понимать самые недавние, самые ближайшие события, самые значительные из них, части которых мы являемся современниками, — падение Берлинской стены, война в Косово, противостояние израильтян и палестинцев, резня в Биафре, в Руанде, голод в Дарфуре, истребление курдов в Ираке, бомбардировки Багдада американской авиацией?
На кинематографе, и документальном и художественном, и реалистическом и фантастическом, лежит этот отпечаток истории, умаляющий силу его воздействия. Часто говорят о цензуре — как о неприкрытом контроле, о больших ножницах, только тем и занятых, что резать на кусочки кинопленку, дабы удовлетворить запретам эпохи. И правда, что кино содержит в себе и все то, чего не видно, что мы не можем увидеть. Небезынтересно узнать, например, что в 50-е годы сцену поцелуя в постели можно было снимать только при непременном условии — если одной ногой женщина все еще опирается на пол. Да ведь еще и сегодня в голливудской системе моральных ценностей, которая превалирует в мире, женская нагота — а пуще того мужская — цензурируется строже, чем демонстрация военного насилия. Запретов куда больше, чем принято думать: запрещено показывать смерть, глубокую старость, болезнь, запрещены гомосексуализм, смешение рас, самоубийство. Иногда законодательные власти и работники правовой системы напрямую утверждают, что только кинематограф повинен во всех болезнях, которыми страдает современное общество, в то время как его образы — всего лишь отражение действительности. «Подглядывающий Том» Майкла Пауэлла в 1960 году был обвинен в том, что породил волну реального садизма, снимаемого на камеру в режиме реального времени (ленты типа snuff movies), «Прирожденные убийцы» сняты с экрана, поскольку поощряли подростков на пути к преступлениям, остававшимся безнаказанными. «Розетта» братьев Дарденн в Бельгии 1999 года привела к принятию плана «Розетта», придуманного для борьбы с подростковой преступностью. По той же логике и «Ненависть» Матье Кассовица была заклеймена как предвестник и даже вдохновитель бунтов обитателей французских пригородов.
Жан-Люк Годар имел основания выступать против ручной камеры как своего рода извращения образа, в ней ему виделся отрыв интеллекта от реальности. «Собачий мир» Гуальтьеро Якопетти — фильм 1960 года — представляет нам образчик как раз такой мировой сенсации, и фальсификаторской и упрощенческой (а будут утверждать, что это шокирующий кинодокумент). Событие, жажда скандала, культ новостей — вещи вовсе не невинные. Они выбивают из нас реальность, превращая ее в то зрелище, за которым нам можно лишь подглядывать. Такая банализация, ослабление остроты взгляда проскакивают поверх процесса Истории, это как легкая ручная стирка. Нетрудно понять отчаяние, охватившее оставшихся в живых пленников нацистских лагерей смерти, когда они впервые увидели (несмотря на весь талант и сострадание Алена Рене) кадры, снятые их палачами и вошедшие потом в фильм «Ночь и туман». Им казалось, что холодная отстраненность, гнусная низость этих кадров выхолащивают само содержание их памяти, делают ее недействительной. Ту боль, что довелось пережить их плоти, ту скорбь, что неизгладимо осела в их сознании, заменяли эти громоздившиеся вповалку тела, одичавшие изможденные лица, эта механика ужаса, которая казалась явившейся из другого мира.
Заснятые картины сопровождают человеческую историю, придают ей тот смысл, какого до изобретения кинематографа она иметь не могла. Мы в общих чертах знакомы с историей борьбы индийского народа за обретение независимости, с драматичными моментами восстания сипаев, взятием повстанцами Канпура, борьбой царицы Джанси и ее героической гибелью от пуль оккупанта. Но ничто не расскажет об этой эпической борьбе лучше кадров, снятых английскими войсками, на которых толпа индусов, напоминающая мощный и неудержимый поток, течет и течет по дорогам вслед за Ганди во время его Соляного похода.
Мы больше не сможем жить в мире без движущихся картин. В каждом мгновении нашего бытия, что бы ни произошло, эта виртуальная сущность уже осела глубоко в недрах нас самих. В каждый миг настоящее превращается в прошлое, запечатлевая вехи этой метаморфозы. Наша жизнь, наши жесты фиксируются механическим взглядом камер в магазинах, банках, на дорогах, в больничных палатах. Какие народы в мире еще противятся этому и насколько их еще хватит? Индейцы пуэблос из Новой Мексики выставили у дверей деревянные панно с предостережением: все это запрещено — фотоаппараты, камеры, даже мобильники — ведь ими тоже можно снимать.
Пора принимать новую мораль. С ручной камерой кинематографисты изобрели ответственность, которой до них не нес в себе никакой иной способ коммуникации. Разве было бы таким же наше представление о мире, не будь военных репортажей, драматичных картин великих событий, раскачивающих планету, землетрясений, циклонов, природных катастроф? Разве затрагивали бы нас до такой степени загрязнение окружающей среды, опустынивание регионов мира, вырубка лесов, незаменимых для сохранения на планете природного баланса, не будь кадров, которые показывают нам поступательное шествие всех этих бедствий? В 1918 году тиф (или грипп-испанка) унес больше человеческих жизней, чем погибло в траншеях войны. Но у нас-то осталась память о войнах, поскольку миллионы смертельных случаев, павших жертвами болезни, угасли в своих постелях, когда уже смолкли звуки боев, и большинство из них были старики или дети. Их лица не дошли до нас, их имена не высекали на памятниках.
Смонтировав архивные съемки американской армии — долгое время хранившиеся под грифом «секретно», — Тим Куррэн в 2003 году сделал фильм о том, как готовились два атомных взрыва, уничтожившие сперва Хиросиму — 6 августа 1945 года в 8.15 утра — и потом Нагасаки: 9 августа в 11.02. Эти жуткие события были показаны сотни раз, мы могли бы уже и привыкнуть к ним. Мы видели конусообразный столб дыма, вздымающийся в небо на десять тысяч метров высотой, выжженную землю, воронку в центре Хиросимы, обугленные стены, раненых с облезающей кожей, детей, облысевших от радиации, стариков, чьи лица ужасны, как у прокаженных. Но никогда мы не видели во всех подробностях медленную, безжалостную подготовку к тому, что станет одним из самых больших военных преступлений за всю историю человечества — 140 000 трупов за несколько секунд, большинство среди мирного населения. Со времен секретной разработки первой бомбы в лабораториях Лос-Аламоса под руководством Оппенгеймера до первого испытания в Аламогордо, в пустыне Нью-Мексико, уже не оставившего никаких сомнений в последствиях применения подобного оружия. Подготовительные действия, смертоносные нападения на Иводзиму и Якашиму, с единственной целью — проложить пути траекторий для полета гигантских бомбардировщиков к японским берегам. Военный летчик Тиббетс, окрестивший первую бомбу именем своей матери, Энолы Гэй, берет курс на Хиросиму. Съемки из кабины пилота, полет на высоте около десяти тысяч метров над городом, прекрасно различимым с его точно расчерченной сетью улиц и низкими домиками. Выброс бомбы, потом крутой вираж — чтобы ускользнуть от ослепляющей вспышки взрыва. Второе задание — полет к Кокуре, скучившиеся белые облака, скрывающие город, и поиск заменяющей цели для сброса второй бомбы, Фэт Мэн: Нагасаки. Секунды, отделяющие открытие люка от взрыва, наверное, самые долгие секунды за всю историю человечества, — пока они уходят, камера запечатлевает маленький портовый городишко, он кажется спящим в это уже уходящее, залитое летним солнцем утро.
Эти кадры, — как их ни анализируй, какой вывод из них ни извлекай, — они никогда не умрут. Им суждено остаться в нашей памяти. Через сто, через тысячу лет — если мир будет существовать — они еще будут живы. Вот она, новая мораль нашей эпохи. В ней нет ничего общего ни с идеологиями, ни с религиями, ни с политическими соображениями. Ручная камера представляет тому все доказательства. Есть среди них спорные, а иные бесспорны и навсегда останутся таковыми. Суда так никогда и не будет. Судьи, разумеется, всегда сами не без греха, да они, скорей всего, даже и на процесс не придут. Но доказательства — они вот, и они не умрут.
В 2005 году кинорепортер Эжен Джарецки назвал свой фильм так же, как некогда Фрэнк Капра — «Почему мы воюем», — тот самый, что был снят на деньги армии США, когда она вступила в войну с Германией и Японией, — чтобы изобличить политическую и экономическую машину, втравившую Соединенные Штаты в войну в Ираке. Политическая манипуляция, скажут некоторые. Блеяние пацифистов, не отдающих себе отчета в опасностях, которые несут терроризм и подъем радикальных движений на Среднем Востоке. Но ничто не дает лучшего представления о степени кошмарности этой войны, кошмарности всех войн, как отсутствие кадров бомбардировок Багдада авиацией американцев. Эта война на экране компьютера, напоминающая картинки видеоигр, скрываемая под маскировкой высоких технологий, делает разрывы сбрасываемых на город двухтонных бомб еще оглушительнее — когда в последний раз бомбили Берлин, бомбы, до основания разрушившие город, весили не больше пятисот килограмм.
«Facing Aids: Таиланд», репортаж Рори Кеннеди и Марка Бэйли, прослеживает медленный путь к смерти молодой проститутки, больной СПИДом, приехавшей обрести убежище в родную деревню, в дом своих близких. Этот фильм рассказывает о драме, коснувшейся десятой части населения нашей планеты, больше любых научных трактатов и больше, чем любая статистика. Надежда, которая еще есть у героини кинорепортажа Сах, любовь ее матери и ее дочери, потом — гнев, охватывающий ее, когда она уже совсем близка к смерти, ярость оттого, что ее загнали в ловушку, оттого, что умерить ее страдания невозможно, — все это потрясает нас пронзительной и грубой силой правды, реалистичностью. Между нами и нею нет ничего — ничего, кроме этого страдания, которое невозможно разделить. Глядя на погребальный костер, на котором горит тело женщины, мы понимаем, что эта жизнь прошла впустую и смерть оказалась напрасной. Смерть Сах ничего не привносит в наши знания об опыте человеческом. Ни смирение перед судьбой, ни принятие ее не имеют смысла. Гнев этой молодой женщины на смертном одре стоит больше любых философий. Слезы ее дочери, ее родителей, их согбенные под тяжестью скорби спины трогают нас до глубины души, ибо мы знаем, что ничего здесь не придумано. Только холодный объектив камеры оказался способен передать такое чувство, без пафосности, без комментариев.
Иранский кинорежиссер Аббас Кьяростами по поручению ЮНЕСКО объезжает Уганду, чтобы представить отчет о распространении эпидемии («ABC Африка»). Его камера наудачу, вдоль случайных дорог неспешно едет мимо слепящих пейзажей Африки, деревень, заваленных овощами и плодами рынков, задерживаясь на образах, почти ничего не значащих, дожде, стекающем по ветровому стеклу, сплошь покрытом мухами большом куске мяса, черных как чернила тенях пляшущих на площади женщин. Потом вдруг, у выхода из больницы, под палящим солнцем, этот страшный кадр — отец вывозит труп своего умершего от СПИДа ребенка, привязав его к заднему седлу велосипеда.
Да значим ли еще что-нибудь на фоне информации мы сами? Давно уж все сказано про информацию-дезинформацию, характерную для нашей фотографической эры. Если правда то, что любому визуальному свидетельству можно приписать какой угодно смысл и визуальный образ иногда лишает нас эмоции, превращая в банальность события экстремальные, — разве возможно нам отныне отрешиться от всего того, что привносит в нашу жизнь камера? Чудовищное нагромождение картин, окружающих наше бытие, больше не должно называться информацией. Это сотворение идеального мира, параллельного нашей действительности, без которого она больше не имеет смысла. Отсюда мы можем почерпнуть как самое лучшее, так и самое худшее. Жить без этого зеркала нам отныне уже невозможно. Конечно, мы еще не расшифровали все мифологемы и морфемы этого языка. Мы лишь знаем, что они соединяют нас друг с другом, не так, как в глобальной деревне, которую с такой насмешкой описывал Маршалл Маклюэн, а скорее с помощью общего кода, чьими возможностями — одной, потом другой — мы пытаемся научиться пользоваться. Такая коммуникация в мировом масштабе — наш ад и в то же время наша старая мечта о братстве. Речь не о вере в лучшее будущее, которое едва ли наступит. Нет, дело в том, что сегодня уже нельзя убить ребенка в глухом темном переулке, наобум устроить беспорядочную стрельбу или запереть людей в клетках с целью последующего их истребления — так, чтобы об этом не узнал весь мир, чтобы он не остановил погромы или внутригородские войны. Но, запечатлевая эти преступления в нашей памяти, камера делает нас ответственными за них, взывает к нашим обязательствам. Может быть, когда-нибудь наши дети, наши внуки, посмотрев эти кадры, просто разорвут порочный круг насилия, который им показывают. Пожмут плечами и найдут себе занятие получше.
Любовь,
это уж само собой: где кино, там и любовь. Истории о вожделении, нежная наука обольщенья — или внезапная страсть с первого взгляда, которую, скорей всего, кинематограф сам же и придумал. Страдания, безрассудство, бесчисленные уловки, ревность, отчаяние, месть. Самоотверженность, отвага, любовь до смерти. Всей этой психологической архитектурой, этой игрой воображения, творящей жизнь, кинематограф подпитывался, полнился до краев. Очень скоро после изобретения необычной машины братьев Люмьер и Томаса Эдисона кино переросло свою роль ярмарочного аттракциона, забавной штучки изобретателей, политых поливальщиков и bathing beauties (прекрасных купальщиц).
Любовь в кино была изобретением актрис. Когда Цукор в 1912 году ищет на театральных подмостках звезду для исполнения роли королевы Елизаветы, он обращается к Саре Бернар. Сара — великая возлюбленная, одно только ее присутствие в фильме — тем более историческом — будет залогом интереса со стороны публики, интереса самого страстного. Лилиан Гиш, Мюзидора, Мэри Пикфорд и странная притягательность дочерей Севера Асты Нильсен и Греты Гарбо станут у истоков звездного мифа, виртуального образа женщины, воплощающей ритуал любви. И если даже она остается безымянной, то от этого не перестает быть символом — как та молодая женщина в белых одеждах, ожидающая прибытия поезда на вокзале Ла-Сьота, которую обессмертили братья Люмьер, — ведь Жорж Садуль называет ее первой актрисой кино. Очень скоро ходить в кино начнут главным образом ради этих женщин, дабы обрести страсть, чувство, проекцию той жизни, какой хотели бы жить и женщины, и мужчины, и еще вечную молодость и красоту, тем более ошеломляющую, что она распространяется по всему миру (в отличие от элитного искусства театра) практически одновременно. Грета Гарбо в «Безрадостном переулке» Пабста, Мэйбл Норманн и Эдна Первиенс в фильмах Чарли Чаплина или еще Биби Дэниэлс — партнерша Гарольда Ллойда, — они, они делают это слишком юное искусство искусством взрослым, причем окончательно и бесповоротно, не столько ролями, которые они играют — подчас весьма бесцветно, — сколько вызываемым желанием и тем образом женского идеала, который воплощают в себе. Отныне постановщики (в абсолютном большинстве довоенных фильмов это мужчины) будут представлять себе фильмы не иначе, как череду любовных историй между ними самими, публикой и их актрисами.
Любовь станет великим источником творчества для Бергмана, она вдохновляла его на протяжении всей жизни. В 1952 году он снимает один из самых прелестных и уж точно самых романтичных своих фильмов — «Моника» (оригинальное название — «Лето с Моникой»). Этот фильм — та питательная среда, из которой выросли великие шедевры Бергмана: «Урок любви», «Земляничная поляна», «Улыбки летней ночи». Он рассказывает о любви Харри и Моники (чудеснейшая Харриет Андерсон), двух юных созданий, совсем не знающих жизни, полных надежд и упований.
Любовь — лето их бытия. Они открывают для себя природу, море, острова, первозданную дикую жизнь, вырывающую их из обыденности и безобразности повседневного быта, от бурливого, хаотичного, враждебного Стокгольма. Любовь — их сон, как в кино, которым Моника позволяет себе увлечься: вместе они смотрят «Песнь любви», над которой Моника плачет, пока более земной Харри скучает и позевывает. Взгляд Бергмана мечтательно задерживается на морских пейзажах, на волнующихся и бликующих водах, на струе за кормой моторной лодки, создавая разбавленное меланхолией впечатление, что мир только начинается. Ни один фильм не был до такой степени пронизан любовью к жизни, почти звериной радостью человеческих созданий в тот единственный и краткий миг их бытия, когда они всерьез верят, что только им одним суждено остановить действие общественных механизмов, обрести наготу духовную и телесную.
Гнусность возврата к реальной жизни, печальный конец любви и уход Моники, слишком юной, слишком бедной, чтобы вынести посредственную жизнь, на которую ее обрекает замужество, не в силах рассеять чувство счастья, с которого все начиналось, упоение этих двух детей, которым хотя бы на одно только лето удалось стать совершенно свободными.
такой меланхоличностью не отличаются. Это, несомненно, самый счастливый фильм Ингмара Бергмана. При этом сценарий — театральная пьеса, — который он начал писать, приехав отдохнуть в Швейцарию в 1955 году, приходится на один из самых мрачных периодов его жизни, когда его преследует мысль о самоубийстве. По его собственному описанию в книге «Латерна Магика», отель «Монте Верита», где он устроился, стоит в отдалении от мира, выходя фасадом на цепь альпийских гор. Единственное соседство — что-то вроде странноприимного дома-больницы, где проходят курс восстановления молодые пациенты, преимущественно сифилитики. В таком смертоносном обрамлении — тут поневоле вспомнишь края, вдохновлявшие Мэри Шелли на создание «Франкенштейна, или Современного Прометея», — Бергман забывает о делах, которые предстоит завершить, и сочиняет сценарий этой легкомысленной фантазии, полной жизнелюбия и молодости, которая очень понравилась бы Оффенбаху или Штраусу. Главное тут — лето.
По воспоминаниям Бергмана, тем летом стояло совершенно невероятное пекло. Он рассказывает, что многие сцены должны были сниматься на натуре, ранним утром, и даже в эти часы техперсонал, актеры и он сам моментально взмокали от пота. Воздух прогревался до такой степени, что перегорали лампы прожекторов. Такого пекла сценарий не предусматривал, но оно пронизало собой эпизоды фильма, привнесло нечто необычное в самый его ритм. Это скандинавское лето, с его долгими полуночными бдениями, ярким светом, срывающим покров со страстей, подстегивающим вожделения и пробуждающим инстинкт свободы. Именно такой свет очень часто отмечают в некоторых фильмах Бергмана (в «Монике», «Летних забавах», «Земляничной поляне»), он-то и выявляет в образах их первозданный смысл. Он обольстительно заливает собою улицы, он озаряет внутреннее убранство квартиры адвоката Фредрика Эгермана, он сияет в расположенном неподалеку загородном парке графини Армфельдт. Он объединяет все сцены какой-то медленной истомой, чувственной негой. Анна, жена Фредрика, — спящая красавица, капризные и еще ребяческие мечты для нее — убежище, поскольку она не хочет вырастать из детства. Прошло уже два года с ее замужества, узнаем мы из уст Фредрика, а она все еще девственница. И вот наступает лето, которому суждено пробудить в ней трепет жизни.
Главная тема «Улыбок летней ночи» — пробуждение, раскрытие чувств, рождение любви. У Бергмана этот световой поток, эта галлюцинирующая замедленность вовсе не случайны, они соотнесены со смыслом его произведения — и вот, должно быть, причина того, что снобистская критика подчас отказывается признавать значительность этого фильма, отмахиваясь от него как от случайного в карьере режиссера, просто одной из редчайших его попыток попробовать себя в комедийном жанре (да он и сам подпитывал сарказм критиков, настойчиво напоминая, что фильм стоил больших денег, и предполагалось, что он принесет их еще больше).
Однако именно такая длиннота времени (часто задаются вопросом о том, сколько продолжается час в «Улыбках летней ночи», да и в большинстве фильмов Бергмана), медлительная истома, мечтательная полудрема мало-помалу и вводят нас в тот процесс поиска желаний и счастья, который ведут главные персонажи фильма. Это бесконечно текущее время цементирует драму, оно напоминает о присутствии смерти — попытка самоубийства Хенрика, игра в русскую рулетку, которую предлагает Эгерману граф Малькольм, — и в особенности предвещает последнее предательство, когда Анна окончательно бросает мужа, чтобы уехать на поиски приключений с тем молодым человеком, с которым она познала любовные утехи. Именно это присутствие природы и света и связывает человеческие создания с единственным, что по-настоящему достоверно, — с навязчивой идеей Бергмана о бренности жизни. Со сведенборговской частью его личности, с его религиозными корнями.
Что действительно отличает «Улыбки», что в них может удивить, так это легкомысленность интонации, некая беззаботность, чаяние счастья, юности, насмешливая атмосфера. Все фильмы Бергмана театральны, и в данном случае это верно вдвойне. «Улыбки летней ночи» — комедия в стиле Мариво, фейерверки и потешные блестки острословия, веселых проделок, сарказма. Игра в двери, которые то закрываются, то открываются, разнообразные квипрокво, бурлескные ситуации следуют одна за другой, нагромождаясь до полного абсурда. Двойная ширма опускается и поднимается по команде в той спальне, которую прежде занимал шведский король, — это для того, чтобы он мог при звуке рожка, в который трубит толстощекий купидон, впустить прямо в свой сон вожделенную даму. Игры в ревность, обманы, реплики в сторону. Фредрик любит Анну, но не пользуется правом супруга. Малькольм любит Дезире, которая предпочитает ему Фредрика, своего недавнего любовника. Шарлотта любит своего мужа Малькольма, несмотря на его измены, и, дабы вызвать у него ревность, заключает пари, что сумеет соблазнить Фредрика. Анна со всем пылом невинности любит Хенрика, сына своего мужа. Хенрик, вечный мальчик, как его называет отец, «любит только самого себя, любит любовь».
Комедия ошибок, легкая и игривая. На первый взгляд сценарий Бергмана отсылает нас к театру — скорее не к Мюссе или Мариво, а к водевилю. В этой легкой и жестокой комедии драматические эффекты по преимуществу простонародны. Фредрик, обнимая жену, в полусне шепчет имя бывшей любовницы. Петра (снова Харриет Андерсон) — классическая субретка, разбитная и бесстыдная, несмотря на то что ей только семнадцать; она на все готова, чтобы подняться по общественной лестнице. Фредрик — не что иное, как старый дурачина, женившийся на девушке намного моложе себя: когда он появляется в прихожей своей квартиры, над его головой вздымаются восхитительные рога чучела оленьей головы. Каждый его разговор с сыном сопровождается криком кукушки. «Драгун» Малькольм и вправду любит по-солдафонски грубо позлословить о женщинах, и, когда он выставляет Фредрика из дома Дезире, тому приходится идти по улицам в легкой ночной рубашке и чепце — как раз этот ночной колпак исторг у Дезире сакраментальную реплику: «В тебе есть нечто в высшей степени человеческое!» Наконец, финальная сцена — и вовсе апофеоз бульварного театра: Хенрик, пришедший в отчаяние от несчастной любви к собственной мачехе, пытается покончить с собой и сует голову в петлю. Но развязывающаяся веревка приводит к тому, что он, раскачиваясь, запускает удивительный королевский механизм, открывающий потайную ширму и представляющий молодому человеку исцеление от всех бедствий — постель, на которой лежит спящая Анна. Рожок купидона провожает любовников к счастью, бросая старого мужа в одиночестве, утешительницей которого, как зрителю уже нетрудно догадаться, станет прекрасная Дезире. Фильм Бергмана заканчивается на том же, с чего начинался, на жестокой легкости комедии, поставленной в виде стилистического упражнения, — и, несмотря на холодный прием педантов, жюри Каннского кинофестиваля того самого 1955 года не дало себя обмануть, присудив Бергману приз за поэтический юмор «Улыбок летней ночи».
А уже потом — остальное, что недосказано, в сценарии не написано, а только подсказано, но оно и объединяет этот фильм с другими произведениями режиссера. Его навязчивая идея о времени, что утекает безвозвратно, его неизбывная тоска по очарованному миру детства. Вечную свою мечту воскрешает здесь во всех деталях Бергман, и это поместье на морском берегу — тот самый летний дом в Варомсе («Медведь»), где он ребенком проводил все летние каникулы, где счастливые дни до краев были полны играми и звонким девичьим смехом. В «Латерна Магика» Бергман рассказывает замечательную и трагическую историю Линнеа, хорошенькой служанки, в которую был тайно влюблен, — она забеременела и сбежала с любовником, а потом покончила с собой. Это открытие чувств, эта иллюзорная свобода притягивали его всю жизнь, она была горькой мечтой, через которую подросток учился познавать бытие. В «Земляничной поляне» Исаку Боргу на закате его эгоистичной и суетной жизни попадается на дороге вот такой же опустевший дом, в котором еще звучат звонкие голоса и мелодичные переливы его отрочества, где завтраки по утрам — как пышный обед у графини Армфельдт — это праздники и состязания в красноречии, в театральности и правдивости, те мгновения счастья, изгладить которые из памяти не в силах ничто. И именно она, эта память, и спасает людей от пустоты смерти.
Фильм Бергмана, да и все фильмы Бергмана — это объяснения в любви золотой поре молодости, молодости человеческой, молодости мысли, молодости искусства. Тут даже на пике легкомыслия угадывается тайная отсылка к Кьеркегору, к Ницше. Что Бергман показывает здесь с несравненным великолепием, так это блеск цивилизации тех лет — и особенно закат шведской аристократии в канун Первой мировой, почти перед самой индустриальной революцией. Мира вышколенного, элегантного, где все еще знают свое место — и слуги, и хозяева, где буржуазия еще позволяет себе посмеиваться над чванной спесью военного сословия, а сообщничество в вопросах нежной страсти заменяет высшую мораль. Мира, где самые совершенные формы искусства — это театр и опера, где духовность торжествует над озлобленной посредственностью и где нахлынувшая буря страстей еще находит свое выражение в изысканности речи, уже несколько старомодной, но еще сохраняющей свое очарование, несмотря на внешнюю странность. Мира, где нет ничего по-настоящему серьезного, по-настоящему важного, кроме любви. Где женщины лучше мужчин знают, чего хотят, и, чтобы добиться своего, с инстинктивным мастерством пользуются оружием соблазнения, музыкой, остроумной игрой слов и отражением в зеркалах.
Навязчивой идее об уходящем времени, о старости у дверей противостоит нетерпение, торопливость молодости. Алчности взрослых, толкающей их к желанию вечного обладания, — Фредрик Эгерман обладает Анной, Шарлотта обладает Малькольмом, сам Эгерман стремится обладать прошлым Дезире, заполучить права на ее ребенка, — противостоят искренность и взаимная физическая тяга Хенрика и Анны. Сила молодости навсегда обезоруживает Дон Жуана, но в ней нет ничего общего с опасной одержимостью Вальмона. Сознательно оставаясь в комедийном регистре, Бергман достигает сути того театра, который он любит, — Шекспира, Мольера или Ибсена. В большинстве фильмов Бергмана правыми оказываются женщины, ибо их положение в патриархальном обществе вынуждает их быть умнее мужчин. Его любимый образец — актриса, Дезире Армфельдт, женщина свободная и телом и душой, в ней Бергману видится женский идеал, который он обретает в своей жене Гуннар, описанной им так: «Первоклассная девушка, красивая, высокая, атлетическая, с глазами неисчерпаемой голубизны, звонким смехом, прелестными сочными губами, отличающаяся гордостью, чистотой и подлинной силой женственности». Лицедейке Дезире или танцовщице Мари из «Летних игр», женщинам, решительно выбравшим свободу, всегда приходится скрывать свой ум. Это в песне выразит Дезире Армфельдт, прогуливаясь с бывшим любовником Фредриком Эгерманом — долгий трэвеллинг под липами в знойной ночи шведского лета: «Мудрости закон — вот что такое любовь».
Сатьяджита Рея — лучшее свидетельство той любви, какую режиссер питает к актрисам, которых снимает. Как и Бергман, Рей, без сомнения, режиссер, до конца остающийся верным своим актерам, а особенно актрисам — с той лишь разницей, что он на них не женится! Он отождествляет их роль с их настоящей жизнью, и, так сказать, возделывает, моделирует их. В фильме «Мир Апу», последнем звене трилогии о жизни бенгальского мальчишки, есть одна из самых эротичных сцен во всем индийском кино — однако при этом и очень целомудренная. Согласно индуистской традиции Апу (Сумитра Чаттерджи) берет в жены совсем юную девочку Апарну, по существу, еще совсем ребенка. Мы ничего не увидим из того, что произошло между ними в первую брачную ночь, но на следующее утро Апу, оставшись один в спальне, с волнением обнаруживает шпильку для волос — молодая женщина оставила ее на подушке, когда распускала волосы, — и мечтает о счастье, держа ее в руке. Апарну играет актриса Шармила Тагор, и это ее первая роль. Во время съемок ей было всего четырнадцать лет! Позже она сыграет еще во множестве фильмов Сатьяджита Рея. Но именно в этой первой ленте, в этой двойственной роли женщины-полуребенка, она воплощает мысль Сатьяджита Рея о любви как чувстве, не имеющем завершения, хрупком и при этом единственном, что придает подлинность и расцвет бытию человеческому.
В фильме «Дом и мир», поставленном по повести Рабиндраната Тагора, любовная история принимает форму театрального треугольника: муж Никкиль, жена Бимала и любовник Сандип. На сцену выходит и четвертый персонаж — это сама Индия накануне обретения независимости. Никкиль происходит из старинной аристократии, той, которую не просто более чем устраивало британское присутствие, но которая еще и встроилась в колониальную систему, приняв как свои принципы равенства и свободы, вплоть до отказа от традиций собственной исконной культуры. Бимала, вышедшая замуж за Никкиля в соответствии с договоренностью между семьями, живет запертой в гинекее. Но именно муж стремится эмансипировать ее, дабы похвастаться в свете красотой и умом своей любимой. Бимала больше не носит традиционных одежд, берет у гувернантки уроки английского языка, поет меланхоличный ритурнель, припев которого теперь обретает новый смысл: «The song I used to sing — О песня, что певала прежде я».
Сквозь зарешеченные окна гинекея Бимала наблюдает за беседами мужа с другом его детства Сандипом, человеком честолюбивым, страстным, призывающим народ восстать против англичан. Никкиль устраивает их первое свидание, и Бималу понемногу обольщают речи Сандипа, то, с каким воодушевлением он говорит об Индии. Страсть — это нечто совсем новое для Бималы, она овладевает ею, заставляя забыть о благопристойности, и дело доходит до того, что она впутывается в организованную Сандипом революцию. Этой новой свободой, честолюбием и лживостью Сандипа и была разрушена пара, и в то же самое время насилие, вспыхнувшее между общинами, знаменует конец иллюзорной гармонии в Индии Рея. Использовав классическую схему любви, предательства и политики — точно такую же, как и в «Чувстве» Висконти, — Рей создал фильм, который можно назвать гимном супружеской любви. Медленное приближение камеры, сродни некоему брачному танцу, заменяет собою взгляд Никкиля, любуется Бималой, то точно куклой, одетой в сари и убранной украшениями, то как женщиной современной, жизнерадостной, веселой, желанной или еще как послушной, скромной супругой, прячущейся за деревянной решеткой окошка, чтобы послушать голоса улицы, понаблюдать за выражением лица Сандипа, когда тот произносит речь перед толпой.
В фильме «Дом и мир» есть восхитительный эпизод, ставящий этот фильм в недлинный рад шедевров современного кинематографа. В очень долгом, очень медленном отъезде камеры, понемногу ускоряющем темп, мы вместе с Бималой и Никкилем проходим по коридору, отделяющему гинекей от собственно дома, в котором живут мужчины и собирается общество. Гордо выпрямившись, подняв голову, выходит она навстречу свободе, навстречу новой жизни и, сама еще того не зная, навстречу драме, которой суждено будет навсегда изменить ее судьбу. Бимала ступает все быстрее, идя по застекленному коридору, и, когда она проходит, солнечные лучи, играя, отражаются на ее лице и фигуре. Она в красном сари. Теперь свет, проникающий извне, высвечивает в чертах ее лица обуревающие ее противоречивые чувства. Страх перед неведомым, отвага, почти детское любопытство ко всему, что за пределами ее мира, от чего до нее доселе доносился только глухой шум. Гордость, уверенность в себе. Молодость. Ее поступь — это поступь всей Индии, которой предстоит отречься от старого мира, дабы обрести обновленное достоинство. Но сказать, что этот эпизод — символ, означает не сказать ничего. В этом проходе Бималы явственно видна любовь Никкиля (и Сатьяджита Рея) к этой женщине, любовь всеобъемлющая, слепая, неисцелимая. Все творчество Сатьяджита Рея представлено в этом эпизоде. В нем нет ни единого слова, только звуки ситара, они все слышней, все громче, подобные биению сердца.
В большинстве своих фильмов Сатьяджит Рей демонстрирует крайнюю скупость выразительных средств. Проявления вожделения, страсти, страха — облачко гнева, пробегающее по лицу Сандипа, когда возникает препятствие, когда Бималу охватывают сомнения, стоит ли давать деньги на поддержку его партии, — все это под контролем сознания. Любовь, рождающаяся между Сандипом и Бималой, выражена не столько словами и действиями, сколько взглядами, и, когда Сандип хочет сохранить залог их свидания, он выбирает все ту же заколку для волос, ту заколку, которая распустит шевелюру Бималы и отдаст ее во власть желания.
У любви жестокие резоны. Для мужчин любовь Бималы — ставка в игре на грани абсурда. Ей незнакомо чувство полной завершенности. Бессовестность Сандипа, его вкус к власти не дают ему возможности постичь лучший мир. Для осуществления своего плана он без колебаний жертвует всем, что стоит на его пути — своим другом Никкилем, а потом и самой Бималой. Что касается Никкиля, то его любви оказалось недостаточно, чтобы предотвратить распад пары, а его благолепный гуманизм не в силах остановить насилие, которое бушует за стенами его дома, между индусами и мусульманами.
Единственным выражением любви остается долгий выход Бималы из гинекея — вот оно, то почитание, то восхищение, какое Сатьяджит Рей, сконцентрировав все это в Бимале, испытывает к индийской женщине за ее свободу, ее красоту, ее смелость. Этот триумфальный и опасный выход, почти танец под ускоряющийся ритм раги — символ положения женщины в Бенгалии во время обретения независимости, символ тех трудностей, которые ей предстоит преодолеть, чтобы победить традиционные табу и неудачи, ожидающие ее в этих поисках новой свободы, в стремлении к совершенной любви перед лицом эгоизма и тщеславного честолюбия мужчины.
Микеланджело Антониони — одна из самых прекрасных и самых странных историй о любви; прекрасная, странная, потому что рассказывает она не только о страсти, связавшей мужчину и женщину, но и об окружающей их действительности, об истории преступления, говорит об обществе 1960-х годов в Западной Европе, обществе, уже не имеющем никакого отношения к войне, ставшем праздным и буржуазным, бессмысленным и жестоким.
Странно исчезновение Анны во время прогулки на яхте к Эолийским островам. Здесь нет никаких квипрокво, хлопанья дверей, игр с зеркалами или с острым смыслом слов. Нет революции, как нет и никакого идеала, одно только горькое чувство меланхолии, нечто вроде ощущения конца века (та утрата аппетита к жизни, которая чувствуется у большинства итальянских режиссеров — у Феллини, у Висконти в «Смерти в Венеции», у Бертолуччи).
Есть природа. Дикая, враждебная, вездесущая. Подчеркнутый романтизм стихий: грозовое небо, бушующее море, черные скалы. Вспоминается ощущение глухой угрозы, нависшей над персонажами фильма Джона Хьюстона «Риф Ларго».
Кино той поры едва успело преодолеть социальный кризис. Война, фашизм, конфликт поколений, послевоенные забастовки и чувство вины у тех, кому довелось пережить разгром и оккупацию, — вся эта патология, подпитывавшая военный реализм, теперь лишилась причин быть. Антониони принадлежит к следующему поколению, и он режиссер настолько же современный, насколько Де Сика, Висконти и Росселини классики, а Феллини — великий мастер барокко.
Исчезновение Анны — это становится ясно сразу — не станет сюжетом фильма. Оно не получит никакого объяснения, загадка так и не будет разгадана. Однако Анна словно бы присутствует на протяжении всего фильма, и это-то как раз и придает истории такой странный привкус.
Странность ее исчезновения, но странность еще и в отношениях между ее любовником Сандро и ее подругой Клаудией — странность лица Моники Витти, в буквальном смысле сотворенного Антониони, ее замедленной, неумелой игры, впечатление, что она чувствует себя девушкой слишком простой, незаметной. Странность ее взгляда с легким косоглазием, странность ее души, чуждой этому миру.
Странность местности. Остров, голый, неистовый, хаос лавы, выплюнутой морем, где в трещинах земной коры можно найти черепки керамических изделий иных времен, где ощущается враждебное присутствие прошлого, как знать, не Минотавр ли это, пожирающий юных дев. А может, гораздо проще — тайное убежище контрабандистов.
Остров появляется только в начале фильма. Абсурдистская декорация, среди которой разгуливают участники прогулки, призрачные и расслабленные, очень напоминающие усталых полуночных гуляк из «Сладкой жизни» на большом пляже, где они находят случайно выброшенную на песок рыбу с пустым взглядом, так похожую на них самих.
Как и Анну, остров мы больше не увидим. Но его дикая ярость, грозовой холод вокруг хижины, в которой укрылись отдыхающие, видное отовсюду море, то мрачное Средиземное море, что когда-то поглотило жизнь Шелли, это небо, этот ветер проникают в сердца Клаудии и Сандро, и это они назначают удел их любви. Сандро желает Клаудию, страсть между ними возрастает, эти чувства поначалу возникают лишь для того, чтобы заполнить пустоту, оставшуются после исчезновения, чтобы побороть холод острова.
Для Сандро соблазнение — прежде всего игра, головокружительное чувство Дон Жуана, необходимость ублаготворения своего самолюбия, жажда верховодства. Для Клаудии, земной девушки, это страх одиночества.
Клаудиа ждет Сандро на улице, она даже не уверена, что действительно хочет ему уступить. Тогда следует сильная сцена, в которой Клаудиа медленно идет к солнцу, а ей навстречу выкатываются волны молодых людей, возбужденных ее красотой, распаленных сексуальным вожделением, вуайеристов, хищников, они почти касаются ее, обнюхивают, разглядывают, и в этом одновременно гротескном и трагическом параде проявляется вся грубая фальшь отношений между мужчинами и женщинами, фундаментальное одиночество, которое может лишь с непрочной, призрачной надеждой отступить перед абсолютной любовью. Чуть позже, в другой сцене, Клаудиа, оставшись одна в номере отеля, пока Сандро отправился на поиски легких приключений, ищет запах мужчины, которого любит, и ложится на пол, зарываясь лицом в старое белье.
Если сравнить «Приключение» с романом Альберто Моравиа «Скука», повлиявшим на него, то фильм Антониони, безусловно, реалистичен, иными словами, в конечном счете он скорее оптимистичен. Некоммуникабельность между мужчинами и женщинами есть заданная величина, основополагающий принцип. Она существует в той же степени, что и несправедливость, жестокость, эгоизм. Универсум Антониони не содержит ничего такого, что выходило бы за рамки мира взрослых людей. Это сартровский универсум, очень далекий от ликующего языческого мира Пазолини.
Именно это отражает и изобразительный ряд: точно просчитанная композиция, игра черного и белого (снятое в следующем году «Затмение» станет последним черно-белым фильмом Антониони, в 1964 году выйдет уже «Красная пустыня»), то, что Питер Бонделла называет «стилем, все более склонным к абстракции». Кадрирование, предметы-символы — телефон, поезд, — эстетизм приходит на смену призывам к революции, дабы дать нам проникнуться уделом человеческим, иначе говоря — кинематографом как поиском рецепта счастливой жизни, а не как способом исследования.
Одиночество, до невыносимости пропитывающее образы «Приключения», еще и передает нам живой трепет наслаждения. Непостоянство мужчины, его малодушие и тщеславие имеют неизбежным следствием жажду обладания, иллюзию счастья у женщины. Именно признание этого вывода как окончательного и дает силы жить.
Приключение — не просто страсть. Это и мир, окружающий человеческие существа, такой, какой есть: море, дикая земля, стихии. И такой, каким они его сделали: города, дороги, вплоть до сюрреалистической красоты заводов. Вот почему сегодня нам так нужен Антониони. Он убеждает нас, что сами люди больше, чем их слабости. Любовь, которую они придумали, эта немая любовь кинематографа, в которой жестов и взглядов больше, чем слов, и есть наша надежда на преодоление.
«Жило-было однажды кино»,
фильм Мохсена Махмальбафа (по-ирански он называется «Насреддин-Шах, Актер-е») — монтажный фильм в комедийном ключе, соединяющий архивные кадры с авторскими цитатами из самого себя, — о том, как в Тегеран, в королевский дворец, воистину обиталище множества котов, привозят первую кинокамеру. Этот монументальный киносъемочный аппарат, которого ждали как некой игрушки для ублаготворения прихоти тирана и теперь провозят по запруженным толпой улочкам Тегерана, прежде чем доставить во дворец, — начало современной части сюжета, глазок в познание мира. В ней, вокруг нее громоздятся, толкая друг друга, всевозможные киноштампы, вихляющийся силуэт малыша-добряка Чарли, лица актрис, танец семи покрывал, сцены, виданные-перевиданные множество раз, а посреди всего этого, с лицом, сияющим от восторга, вовсю жмет на педали Насим — герой фильма «Велосипедист».
Человечность искусства кино не выражается ни в революционной поэме, ни в обещании любви вечной и безупречной. Скорей она — в хаотическом нагромождении мыслей и образов, во всем этом шуме-гаме, этом потоке, что льется со всех сторон и уносит с собою и нас, смешивая прошлое с настоящим, правдоподобное с неосуществимым, забавное, легкомысленное с жестоким.
«Человечность» Бруно Дюмона — тут чувство сопричастности тягостное, плотское. Медлительность, оцепенение. Фараон де Винтер, Домино. Холодный северный пейзаж, бескрайнее небо, бурая земля. Рабочий поселок, состоящий из единственной улицы, ряд рабочих домиков, девушка, загорающая под чахлыми лучами солнца. Замкнутое пространство, в котором совершается страшное преступление, изнасилована и убита маленькая девочка, ее оголенное тельце брошено на обочине дороги, рядом со свежевспаханной землей, на мертвом влагалище запеклась кровь. Поезд пересекает горизонт. Грубость жестов, отсутствие речи. Констатация, отсылающая к картине Курбе «Происхождение мира»: крупный план женского полового органа призван вызвать ощущение принадлежности к роду человеческому, может быть, к семье. Сила, рассудительность Домино — надо отметить красоту Северин Канеель, ее лицо ребенка, тело женщины, нечто, что есть в ней неотесанного, первозданного, под стать древнейшему изваянию человека, вырезанному из слоновой кости. Отметим и то, как редко бывает, чтобы игра актрисы была так тесно связана с жизнью воплощаемого ею персонажа. И то же читается, то же дает нам прочесть Бруно Дюмон в удивленном взгляде Фараона де Винтера — Эмманюэля Шотте. Нет сомнений, что такого чувства сопричастности, родственной близости не возникло бы, не будь актеры любителями, лишь на время оставившими привычную свою, повседневную жизнь, дабы облачиться в одежды вечности. Дюмон говорит о том, что привносит в картину актер-непрофессионал, о той части самого себя, которая непредсказуема, очищена от всякой суетности, очень обнажена, очень необработанна. Наверное, в живописи можно сыскать подобные примеры того, к чему стремился Робер Брессон, — не роли, а натурщики, кинематографический эквивалент той юной незнакомки, которую изобразил Доменико Венециано, или ряд мимических изменений лица доктора Гаше на картинах Ван Гога, тот светлый, пронзительный взгляд Жанны Эбютерн, который нарисовал на ее портрете Модильяни перед ее гибелью — прежде чем она выбросится из окна.
Человечности, вот чего мы требуем от образов. Мы жаждем лиц, тел. В фильме Куросавы «Дерсу Узала» появляется маленький кривоногий человечек с широкоскулым, выдубленным лицом. Он кажется нам пришельцем из неизвестных краев земли, нет, не приятным видением (воплощающим известный сюжет начала века, когда русский путешественник Арсеньев впервые составляет карту необъятных просторов Сибири), а словно бы пророком грядущих времен. Из плоской, синеватой, испятнанной снегом земли Дерсу Узала добывает огонь, дружбу, волшебство шамана. В одной из самых прекрасных сцен фильма Дерсу Узала нарезает охапки камыша, чтобы сложить хижину для ночлега, а в это время солнце заходит, и сумерки окутывают степь какой-то доисторической тревогой.
Человечность — это тот самый запах, который вдыхает Фараон де Винтер, обнюхивая шеи тех, кого сразу после этого уведут, чтобы наказать за преступление. Запах страха, запах преступления, запах братства.
Никакое другое искусство, кроме кино, не способно так сплетать реальность и театрализованность, актера и живого человека. С головой погружаясь в становление зрелища, о котором у него нет еще ни четких представлений, ни знания о ходе его дальнейшего развития, ни предвидения финала, постановщик в одно и то же время и обретает, и отдает, изобретает то, что казалось ему давно знакомым, спотыкается, сомневается, приглядывается. Когда Жан-Люка Годара за кулисами Каннского кинофестиваля спросили, что он думает о «ручной камере», он ответил, что она ворует образы, тогда как камера создана чтобы их воспринимать. В «Нануке с севера» Флаэрти воссоздает быт экспедиции в Гренландию, он заставляет Нанука заново пережить все те события, из которых состоит его бытие, охоту с выслеживанием зверя, постройку хижины, чтобы было где укрыться от пурги, праздники, камлания. Видно, как идет по снегу Нанук, ощутим его тяжеловесный, архаичный силуэт, такой же древний, как мир. И невозможно отделаться от мысли, что вот пройдет несколько лет и он умрет посреди такой вот жизни, умрет с голоду вместе со всей своей семьей, перед смертью убив всех своих собак.
Вот эта человечность еще и сегодня волнует нас, хотя и утекло уже столько времени, хотя и все уже известно о кино, об актерах, вложенных средствах, хитросплетениях и притязаниях. То мгновение, когда происходящее уже не вполне правда, но еще не условность, тот миг, когда актер, актриса — Северин Канееле, Эмманюэль Шотте, Анна Вяземски — на самой грани, у пределов перевоплощения, это скорее еще они сами, а не персонажи.
Странный миг, которого добивались все режиссеры, ибо в этом головокружительном ощущении они, наверное, обретали ответ на вечную проблему легитимности творчества. Тот, кто играет, — это тот же, кто сочиняет, а кто сочиняет — может ли владеть тем, чего требует? Робера Брессона только и занимал один этот вопрос, ибо в нем суть человеческой природы. В «Наудачу, Бальтазар» человечность то и дело ускользает, ставится под вопрос, она сомнительна и переменчива (как, очевидно, и мораль). Мария никогда не совпадает с тем, чего от нее ждут, она никогда не оказывается там, где ее ожидали найти. Единственная точная величина — рыщущее по деревне насилие. У зла нет основ, как нет и никакого оправдания ударам, сыплющимся на Бальтазара, ослика, переходящего от одних хозяев к другим. В «Карманнике» руки Мартена Лассаля ловко обшаривают чужие карманы, и этот незамысловатый жест, повторяющийся, забавный, еще усиливает головокружительное ощущение, которому нет конца. В «Ланселоте» рыцарь в доспехах чает разбить врагов, завоевать любовь Гениевры, искупить свой проступок. Но в кадре-то земля, грязная, растоптанная, обыкновенная земля, на которую падают тела, которую под грохот бьющихся друг об друга железных доспехов топчут копыта лошадей. Земля убегает и из-под копыт Бальтазара, ибо отпущенное ему время жизни и есть пробегаемый им путь, эти понапрасну преодоленные версты, эти поля, взрытые его копытцами от рождения до смерти. Правда не больше и не меньше того, что мы видим своими глазами, вот чему нас учит Брессон, но она полностью заключается в том, что мы видим. В чертах лица Анны Вяземски, в мягкой лепке ее скул, разрезе глаз, изгибе рта, в целомудренных и чувственных очертаниях ее спины. В зазоре между ее жизнью и ее ролью, между тем, что она есть, и тем, кем так и не станет никогда, до самой ее жертвы, до смерти, в тот предопределенный миг, значимый и наполняющийся смыслом каждый раз, как зажужжит проектор и озарится светом экран.
Стартовав с того места, на котором остановился Брессон, Кассаветес и «новая волна», Мохсен Махмалбаф и Аббас Кьяростами отважились повести кино еще дальше, изобрели другие способы снимать, иной взгляд, извне, или со стороны, а может быть, и просто внутрь. Что же, сегодня кино иранское? Когда первый порыв тщеславной ярмарки голливудского пышноцветья в нагромождении трюкачества и спецэффектов иссякает — тогда искусство кино способно возродиться в новых формах, искать иные перспективы. Такая лавина снов и фантазмов, придуманного и жизненно засвидетельствованного, такой поток идей, слов, форм, который подпитывается кинематографом с его самых первых лет, — эти воды должны течь и течь неостановимо. Они должны просачиваться сквозь все поры, орошаться из всех артерий.
Мохсена Махмалбафа — несомненно, один из самых значительных фильмов сегодняшнего кино (снят в 1985 году). Тут нам рассказывают историю, единственную в своем роде. Происходит все в Иране, на границе с Афганистаном. Мужчина, иммигрант по имени Насим, живущий вместе с сыном, безуспешно ищет работу. Его жена тяжело больна, она лежит в больничной палате и ждет, что, может быть, сыщутся деньги на ее лечение. Никто никому не нужен в этом пропыленном, перенаселенном пригороде. На площади разворачиваются автобусы, а подобные Насиму, отчаявшиеся во всем люди ложатся наземь, головой прямо им под колеса в надежде, что их задавят. Насима от попытки самоубийства спасает сын. В конце концов его нанимает хозяин чего-то вроде передвижного цирка, чтобы он объезжал площадь на велосипеде в течение целой недели, не останавливаясь, и стал бы ставкой для желающих заключить пари. Ему находят старый велик-развалюху, и круговая езда начинается. Медленно он огибает фонтанчик в центре площади. Сначала на него мало кто обращает внимание. Зеваки, старые бездельники, посмеивающаяся ребятня. Потом, мало-помалу, с каждым часом, с каждым днем, ползут и ширятся слухи о нем. Камера, если так можно сказать, не расстается с велосипедистом, давая рассмотреть его то совсем близко — лицо пророка, на котором застыло страдание, — то издалека — едва различимый силуэт, вихляющийся в толпе. Среди площадного гама он остается безмолвным, не произносит ни слова, ни о чем не просит, не сетует. Его голос — то заунывная мелодия, льющаяся из громкоговорителя, то зазывные крики режиссера этого действа, старающегося привлечь тех, кто захочет сделать ставки. Его голос — скорее беспрестанный скрежет велосипедной цепи, пока сам он в это время все едет и едет, безразличный ко всему вокруг, погруженный в какой-то вдохновенный экстаз. Круг следует за кругом, и вот что-то меняется на этой площади. Бессмысленное пари превращается в некий обет, жертвоприношение. Алчность к деньгам уступает место борьбе за человеческое достоинство. Теперь уже Насим едет не просто ради денег, которые могут помочь его жене, он едет, дабы защитить честь афганского народа, ради торжества униженных и оскорбленных над властью богатеев, над продажностью политиков. Проходят дни, ночи, а Насим все крутит педали велосипеда. Теперь вокруг него вырос неумолкающий базар, здесь торгуют едой, сувенирами, всяким хламом. Семьи ставят здесь палатки, вешают плакаты, поблизости дежурит машина «скорой помощи», врач обязан следить за состоянием здоровья велосипедиста при помощи тонометра, который медсестра прилаживает, потихоньку труся рядом с ним. Все это принимает то драматичную, то комическую окраску, вплоть до изумления, а Насим в это время все едет и едет. У него на лице застывает то удовольствие, то страдание. Полузакрыв глаза, он, точно сомнамбула, жмет на педали, не замечая ничего, что происходит вокруг. Вот он уже готов упасть, но тут его болельщики хлещут его по щекам, выплескивают жбаны воды ему прямо в лицо, чтобы разбудить. Он превратился в героя, стал символом. Городские власти — сделавшие ставку на то, что ему не дойти до конца, — пытаются остановить его, сыплют гвозди под колеса, угрожают похитить его сына. Насим по-прежнему едет, и, когда ярость все-таки одолевает его, он просто хватает палку и, не переставая крутить педали, размахивает ею, как делали афганские конники, сражаясь против английских или советских войск. Конечная победа Насима — это победа всех обездоленных. Она еще и символ возрождения политически ангажированного кино после провалов реализма, пропагандистского фильма или после зашедшего в тупик синема-верите. Немаловажно то, что все происходит в Иране. Иранское кино никак не могло состязаться с баснословной кинопродукцией Индии или Египта. Но объективные условия — политические события, культурное наследие, значительные экономические трудности, пережитые Ираном после падения шахской диктатуры и с переходом к закрытому обществу при царстве аятолл, — способствовали развитию новой формы реализма, в которой поэзия и юмор соединяются с социальной проблематикой. Все фильмы Махмалбафа (речь о Мохсене, но все сказанное, по сути, верно и для фильмов, снятых его дочерью) отличаются такой особенной близостью к реальной жизни, которая и делает их произведениями настоящего искусства. Сюжет фильма — не просто то, что в нем показано, это еще и манера рассказывать историю, отношения режиссера с актерами и связь актеров с персонажами, которых они играют.
В «Миге невинности» Махмалбаф возвращается к одному эпизоду из собственной юности шахских времен, когда он, еще студентом, пытался ударить полицейского ножом. Персонажи фильма ищут свою собственную историю. Махмалбафу и полицейскому предстоит выбрать своих дублеров, тех, что сыграют их самих в юности. Неустанно персонажи и их двойники повторяют и повторяют одни и те же жесты, разговаривают, прохаживаются по пустому городу — ранним утром, когда галереи крытого рынка, в которых и было совершено покушение, еще совершенно безлюдны, — и стараются снова пережить тот миг, которого теперь уже не понимают. Они приводят воспоминания в согласие, стараются преодолеть собственный страх, свое злопамятство. Это очень забавно и в то же время пафосно. И финал не дает никакого решения. Махмалбафу так и не удалось отыскать логику, заставившую его совершить такое, а у полицейского так не прошла боль от той раны, изменившей его жизнь, расстроившей его женитьбу.
Гуманизм Мохсена Махмалбафа оказал очень заметное влияние на творчество Аббаса Кьяростами, который тоже является одним из самых изобретательных режиссеров современного кино. В фильме «Через оливы» по примеру «Мига невинности» воссоздается конструкция кинематографического повествования, которое и составляет подлинный сюжет фильма. Мы так и не узнаем, чем кончатся съемки. Все, что мы видим, — это как два непрофессиональных актера, Хусейн и Тэхерэ, пытаются сыграть одну и ту же сцену — парень должен подняться по лестнице и сказать пару слов девушке, сидящей на крыше дома. Понемногу мы осознаем, что в действительности Хусейн влюблен в Тэхерэ, что он хочет жениться на ней, но родители девушки отвергают его, потому что он всего лишь безграмотный рабочий. Таким образом, та любовная история, что легла в основу фильма, оказывается повторена и трансформирована подлинной любовной историей. С чувством тревожной неопределенности мы следим то за игрой, то за реальной жизнью (которая тоже сыграна). И на самом деле мы так ничего больше и не узнаем: в финальной сцене Хусейн бежит за Тэхерэ через оливковую рощу, догоняет ее, они идут рядом, вот уже видны лишь два неясных силуэта, растворяющихся в пейзаже. Она разрешила парню догнать себя, и счастливый исход мы можем лишь воображать.
Эти переходы от реального к воображаемому Кьяростами доводит до совершенства в фильме «Close Up» («Крупный план»), где выводит на экран образ человека, присвоившего чужую личность — Сабзян выдавал себя за кинорежиссера Махмалбафа. Разоблаченный, арестованный полицией, он прямо под камерой Кьяростами препровожден в суд. Своеобразие фильма в том, что все действие происходит в замкнутом пространстве, в зале суда. Мы видим только лица основных участников — семьи, одураченной узурпатором чужого имени, судьи и Сабзяна. Это не только суд над потенциальным мошенником. Главное тут — суд над кинематографом, не над классовым искусством согласно определению Грамши и не над ловушкой для грез по примеру голливудского кино — но по иску о правомочности художника. У кого больше прав — у того, кто представляется режиссером, или у того, кому общество выдало разрешение представляться режиссером? Кто признает настоящим одного, называя узурпатором другого? Что, разве он перестает быть настоящим только потому, что живет своей мечтой? Фильм Кьяростами и сам — нечто вроде обманной приманки, нашпигованной цитатами, намеками, отсылами к истории кино. Чтобы защитить себя, Сабзян вспоминает «Велосипедиста» Махмалбафа, делает для судьи и заседателей критический разбор фильма. То воодушевление, с каким он воспринимает этот фильм, превращает его в зрителя исключительного, некоего священнослужителя от кинематографа, жертвы собственной страсти. Разве кинематограф не является местом для узурпации чужого — ведь актеры стремятся быть не теми, кто они есть, а зрители проецируют то, что видят, на самих себя? Метафорическая суть Насима, который, кружа по площади, превращается в выразителя чаяний всех афганских иммигрантов, вполне подошла бы и Сабзяну, желающему стать другим, раствориться в любви к искусству. Постепенно, понемногу, подобно тому, как на маленькой площади, где Насим исполняет свой абсурдный и отчаянный обет, все прибывает толпа, так и судебное разбирательство по делу Сабзяна вскрывает глубокие чувства этого человека, который хотел измениться. «В глубине души, — не без юмора заключает судья, — все, чего вы хотите, — это быть актером». Финальная сцена, в которой мы видим, как настоящий Махмалбаф усаживает лжедвойника на сиденье своего мотоцикла, чтобы тот съездил и преподнес цветы обманутой им семье, — вершина черного юмора. Это заставляет вспомнить Любича или даже игры с зеркалами и маскарадными переодеваниями, столь органичные в комических лентах самых ранних лет кинематографа.
Такой способ снимать кино, образы этах лент можно было бы осудить как мелкотемье. Конечно, если сравнивать с грандиозными техническими эффектами сфотографированного театра или экранизированного романа, — задушевные и чуть насмешливые рассказы Махмалбафа и Кьяростами кажутся обращенными к публике более узкой. И все-таки при этом наше внимание задерживают эмоциональность, сила видения, точность, трезвость содержания. Нарастание ритма в «Велосипедисте», залитый светом кадр в «Через оливы», кислая усмешка — все это совсем не эстетские, оторванные от действительности изыски. Иранское общество еще только выбирается из долгой эпохи политического гнета, цензуры, но возможности у него многообещающи. Его неотложные нужды вовсе не те, какими они представляются геополитикам — последователям школы Хантингтона. Разумеется, первым делом ему надо снова залатать прорехи в разодравшейся ткани своего старого гуманизма, больше связанного с древними традициями ислама, чем с предвыборными программами кандидатов. Легкость интонации, забавные шутки, скептицизм Аббаса Кьяростами — тут нет никаких политических предубеждений. Это, скорее, та склонность критически отнестись к самим себе, та насмешливость, какие бывают свойственны людям, прожившим жизнь в сомнениях, — от чеха Кафки и до палестинца Эмиля Хабиби. Наследники опыта прошлых лет, впитавшие всю культуру западного кино, от Чаплина до Годара или Кассаветеса, Мохсен Махмалбаф и Аббас Кьяростами изобретают свободу, легкость, которые могут послужить образцом для всего мира.
Интермедия предпоследняя
Кинотеатры,
о которых так хорошо говорил Ролан Барт, эти безликие залы, где можно удобно развалиться в кресле, ощутив зернистый бархат обивки, твердое дерево подлокотников, куда приходят поспать или помечтать, а иногда и совершить акт эротического самоудовлетворения, задравши ноги на спинку кресла предыдущего ряда. Темнота кинозала умеет быть прибежищем от городской жизни, и мерцающий световой конус, выходящий из крохотной дырочки над головами зрителей, отбрасывает на экран изобилие света, увлекающее нас и дарующее нам утешение. Это что-то вроде безмолвного соглашения — собраться здесь вместе с людьми, которых знать не знаешь и никогда больше не увидишь, — разве что когда сеанс только что окончен и вы в толкотне пробираетесь к узенькой двери на выход, за которой уже ослепительная, ошеломляющая своей суетой улица. Для Барта кино было однозначным антиподом телевидению — одно доступное, безымянное, вбирающее в себя одиночества и чаяния, другое — предназначенное для рамок (для него ненавистных, недоступных) Семьи (с заглавной буквы слово написал он сам) — в своей бесцветной пошлости сливающееся с предметами кухонной утвари и комнатной мебелью.
Что до меня, в те поры, когда я открыл для себя кино — то есть кинотеатры, я и не знал, что такое телевидение. Оно существовало, но у нас его не было. Отец считал, что это слишком дорого. Он не очень интересовался всем тем, что называется медиа. Информацию он черпал из английских газет, которые покупал раз в неделю («Дэйли телеграф», «Нью стейтсмен») и каждый вечер слушая выпуск новостей по радио (всегда Би-би-си). Позже мне в жизни нередко приходилось оказываться в достаточно шатком положении, чтобы я угодил в ловушку «заболеть» телевизором. Не было ни средств, ни возможностей, да и желания тоже не было. Помню, как, всматриваясь в экран телевизора (в те годы еще черно-белого) у друзей или во время бэбиситтинга, я нестерпимо скучал, глядя футбольные матчи или нескончаемые вестерны с актером Клинтом Уолкером.
Когда я, шестнадцати- или семнадцатилетним, начал захаживать в кинотеатры, я вошел в жизненный цикл, доставивший мне большое удовольствие и обогативший меня эмоционально. Это было в Ницце, которая в ту пору славилась тем, что имеет пятьдесят кинотеатров. Их тут хватало на любой вкус, за любую цену, в любом квартале. Бывало, я ходил в кино два или три раза в день. Мне возразят, что для этого надо было иметь средства. То была другая эпоха. Некоторые кинозалы (о них речь впереди) походили на настоящие театры, там показывали только что выпущенные фильмы, голливудские, производства «Синемаскоп» и «Истменколор», и привлекали самых состоятельных зрителей этого города, приходивших в праздничных костюмах, как в театр. При этом первые шесть рядов на утренние сеансы обычно распродавались по смехотворно низкой цене. Вот там я и посмотрел множество пеплумов, свежие вестерны, «Унесенных ветром», «Хлеб, любовь и фантазию», «Дьяволиц». Любители кино без гроша в кармане шумно высказывали все, что они думают о маленьких кинотеатрах квартала. У каждого зала была своя публика: цыгане — их в ту пору было очень много в Ницце — ходили в «Политеаму», или в кино «Дю Пен», или «Де ла Тур», что в Старом городе. Там показывали фильмы, пользовавшиеся успехом у народа, про Мациста, военные (Оди Мерфи), а в зале творилось черт знает что. Световой конус, о котором говорит Барт, чаще всего пересекал сигаретный дым, подымавшийся с первых рядов и почти заслонявший экран. Мне случалось смотреть целые эпизоды из некоторых фильмов сквозь этот клубящийся дым, придававший изображению фантасмагорический, даже дьявольский характер. Вспыхивали потасовки, сеанс прерывался, снова зажигался свет — это заявлялась полиция. В «Синеаке» — кинотеатре, куда захаживал Жиль Жакоб, — можно было за символическую цену посмотреть фильмы, уже с успехом прошедшие до этого. Там я в первый раз увидел Орсона Уэллса в «Печати зла» (1958), еще перед тем, как посмотреть в киноклубе его шедевры — «Великолепных Амберсонов», «Гражданина Кейна», «Процесс». Но там же шла и вся серия фильмов про Лемми Кошена — за исключением «Альфавилля», его последнего приключения, снятого Жан-Люком Годаром. И куда же деться от кино французского: «Убийца живет в доме 21» Клузо, «Набережная туманов» Марселя Карне, «Пепе Ле Моко» Жюльена Дювивье…
Были и кинотеатры, специализировавшиеся на чем-либо: «Эдуард VII» показывал исключительно фильмы ужасов, потом, когда на них схлынула мода, — фильмы, называвшиеся «эротическими». Кинозал «Барла» — фильмы, в которых потрясали мускулами, преимущественно итальянские — кроме уже упомянутого Мациста («Мацист против чудовищ»), был еще и Геракл («Геракл разбушевался»). В «Мондьяль» (там был большой зал и низкие цены) в системе нон-стоп показывали фильмы великих американцев — Джона Форда, Хьюстона, Элиа Казана, Пекинпа, Олдрича, Кьюкора, Капры, Миннелли, Хичкока. В «Ле Маньяне», располагавшемся уже почти за чертой города, можно было увидеть старые фильмы, имевшие коммерческий успех два или три года назад и сейчас уже напрочь забытые, тем, кто не успел их тогда посмотреть. Но я чаще всего заходил в кинотеатр «Святой Маврикий», забравшийся на высокие городские холмы, — ведь там раз в неделю собирался
Там я и посмотрел большинство классических фильмов. В те годы киноклуб был настоящей общественной организацией. Это был храм кинематографического искусства, а прихожанами были синефилы с самой широкой кинокультурой, выходцы из самых разных социальных слоев. Тут можно было встретить таких адвокатов, как Левами, преподавателей лицеев уровня Веффеля или Сальветти, они как раз составляли ядро клуба; люди зачастую непримиримые, полемически настроенные, они самоотверженно служили делу образования юношества, которое однажды сможет прийти им на смену и продолжить их борьбу. Адепты рекрутировались главным образом из лицеев и коллежей — было много и уже закончивших, на пороге университета. Стояла задача внушить этим молодым людям, что кино не просто зрелище, что фильмы создаются не актерами, а теми, кто владеет техническими возможностями камеры, кто стоит за спиной артистов. Открытие этих базовых принципов оказывало поистине опьяняющее действие и совпадало с моментом, когда студенты знакомились с критикой и основами эстетики, то есть с категориями философскими. В обиход входили новые слова: сценарий, раскадровка, планы, эпизоды, иногда план-эпизоды. Движения камеры, съемка с высоты, трэвеллинг. Комбинированные съемки, спецэффекты, наплывы. Глубина кадра. Потом пришли и имена, необходимые в любой культуре. Имена великих режиссеров — французских и заграничных. Имена техработников, кинооператора, ассистента. Киношколы и их история. И конечно, критика: журналы о кино, их главные редакторы, основная тенденция того или иного печатного органа. Авторы «Позитиф», «Синема 60», «Кайе дю синема» — самые взыскательные, самые радикальные. Были такие фанатичные приверженцы, что со временем, насмотревшись кино, начитавшись критиков или просто поварившись в этой узкой прослойке, обретали с годами память энциклопедическую. Стоило спросить их о любом фильме любой эпохи (правда, за исключением уж совсем откровенного барахла) — и они могли назвать имена всех, кто принимал участие в его создании, определить его место в хронологической или тематической фильмографии и наизусть шпарили биографии режиссера и актеров. Как во всех культурах замкнутой среды, эти познания не имели других целей, кроме подпитывания того пламени, что горело у них внутри. Посвященные объединялись на собраниях на основе таких имен и таких ссылок. Язык их общения подчас становился столь герметичным, что они вполне могли бы заменять имена режиссеров и названия фильмов обычными номерами. В те времена (мне было около двадцати лет) я чувствовал, что прикоснулся и даже одной ногой вступил в мир абсолютно чужой, самодостаточный и построенный с безупречной логикой. Только мои слабая память и понятная леность или, быть может, иные интересы помешали мне войти в этот ареопаг глубже. Но, как и в любых других человеческих объединениях, я и тут мало-помалу улавливал колебания, образы мышления, исключения, соперничества. Ядро группировки состояло из основателей, людей уже в годах, для которых все кино вращалось вокруг нескольких великих имен — Клера, Карне, Ренуара, Дювивье, итальянцев — Росселини, Феллини, Латтуады, немцев — Пабста, Ланга, Офюльса, американцев — Джона Форда, Делмера Дэйвса, Элиа Казана, Орсона Уэллса, русских — Эйзенштейна, Донского, Вертова. Их аналитический разбор был классичен, корректен, всегда технически грамотен. Все определялось известным понятием о хорошем вкусе. Полагаю, что обнаружил именно такой подход в «Истории мирового кино» Жоржа Садуля. Я сам видел, как постепенно откалывалась группка диссидентов. Это были люди помоложе, посмелее, иногда склонные к крайностям, благотворительность для них не значила ничего — они предпочитали ей энтузиазм борьбы. Их влекло эстетство особого рода. Кино классическому, тяжеловесно осаждавшему темы гуманизма, они предпочитали кино интеллектуальное, смеющее быть пристрастным и субъективным, рассчитывающее на «возможность интерпретации». Наряду с великими экспериментальными фильмами синема-верите, такими, как «Взлетная полоса» Маркера, «Человеческая пирамида» Руша или «Знак льва» Ромера, они вполне могли любить и массовое кино, восторгаясь «Франкенштейном» Джеймса Уэйла из-за того, как сыграли в этом фильме Борис Карлофф и Мэй Кларк, или громогласно превознося фильмы про вампиров из любви к актрисе Барбаре Стил (незабываемой в «Маске демонов» Марио Бава). Тогда еще не было в ходу словечка андеграунд, еще не придумали и другого — индэ.[9] Однако мне представляется, что тут уже угадываются первые шаги этих движений. Это были времена иллюзорной легкости жизни. Вернуться из киноклуба впятером или вшестером в салоне роскошной «американки», в четыре утра прокатиться прямо по кромке морской волны и провести остаток ночи в «Стори-вилле» — это вселяло уверенность в принадлежности к когорте немногих счастливцев, к элите, а может быть, к золотой молодежи.
Несмотря на все изъяны и критические замечания, какие можно было бы высказать в адрес киноклуба «Жан Виго», — для тех, кто его знавал, он остается местом поистине блистательным, где процветала лихорадка киномании, от которой по спине шли мурашки, и где можно было познакомиться с живейшими образцами этого вида искусства. Сейчас я рассказываю об этом и, кажется, еще чувствую то нетерпение, какое снедало нас перед началом просмотра, пока лектор, поглядывая в зажатую в руке бумажку, делал исторический обзор всего, что вдохновило этот фильм и помогло ему появиться на свет. Когда сеанс заканчивался, мы оставались одни посреди ночи, на вершине холма. Автобус уже не ходил, и мало кто из нас располагал транспортным средством. Тогда начиналось долгое нисхождение в город, и все это время мы пылко, а зачастую и проницательно обсуждали то, что мы посмотрели, и то, как мы жили. Между девчонками и мальчишками, бывало, завязывался легкий флирт, крепла и дружба. Споры продолжались и на пустых городских улицах, у стен домов, на площади. Иногда нас останавливали полицейские (то было неспокойное время войны в Алжире, тайных марксистских кружков). Вспоминаю странные случаи, нежданные знакомства. Кино уверенно вторгалось в нашу жизнь, меняло нас. Это было переходное время, пора приобщения к более обширной реальности, в которой мы ощущали рокот тех волн, что раскачивали мир. Миновали годы, и некоторые прошли этот путь и дальше, стали преподавателями, критиками. Мне кажется, были и такие, кто даже сам ставил фильмы. Поразительно, что стартовой площадкой для всего этого был тот самый маленький зал с обитыми красным молескином креслами, притаившийся на отшибе, старомодный, неудобный, с дурным запахом, раз в неделю менявший название, чтобы снова и снова назваться именем кого-нибудь из самых первых гениев мирового кинематографа.
Археология кино — для меня это отнюдь не та самая ранняя эпоха, когда прославились Макс Линдер, Чаплин, Китон, Мельес, такая плодовитая на новации, полная фантазии, такая дерзкая. Фильмы той поры — «Голубой ангел» фон Штернберга или сюрреалистический «Ноль за поведение» Жана Виго — и сегодня вполне можно смотреть в маленьком зале, на экране чуть большего диаметра, чем тот, что стоял в квартире у бабушки, где мы показывали «Замок с привидениями», — и с таким же удовольствием, как и в годы их первого появления.
Нет, археология кино — это та грандиозная, напыщенная продукция, немножечко чудовищная (оттого что чудовищно дорого стоила), что достигла своего апогея в послевоенные годы, — та самая, высшим воплощением которой была не менее чудовищная и дорогостоящая продукция голливудская.
Тем, кто не знал кино тех лет, трудно представить себе, что же это такое было. Чтобы окупить эти суперкиноколоссы, перед самой войной понастроили гигантские кинозалы, способные вмещать тысячи зрителей и называвшиеся по-американски: movie theaters. В одном из таких кинотеатров я был в Ницце на просмотрах больших пеплумов: «Десять заповедей», «Бен Гур», «Колосс Родосский», «Спартак». Особенно помню фильм «Плащаница», пеплум 50-х годов на христианскую тему. Зал именовался «Эскуриалом» — неплохое название для того, чтобы привлечь зрителей на зрелище подобного рода. Это был шедевр послемуссолиниевской архитектуры, с двенадцатиметровым потолком, необъятным балконом с пристроенными по бокам ложами и лоджиями, багровым бархатным занавесом, где боковые стены и холл при входе были декорированы фресками в неоклассическом стиле, изображавшими римских матрон и воинов-гоплитов на фоне бесконечных холмов.
Частью планируемой окупаемости фильма была и размашистая рекламная шумиха. Разумеется, я не мог позволить себе прийти на пышную премьеру (провинциальную), но вот прошли недели, и мне удалось разжиться билетиком по низкой цене в первые шесть рядов, на утренний сеанс, ради которого лицейской ребятне приходилось удирать со штудий греческого и латыни — хотя фильм уж наверно просветил бы их получше в области древней истории.
Сказать по правде, фильм-то я подзабыл. Только и стоит перед глазами та туника, переходившая из рук в руки и в конце концов ознаменовавшая торжество истинной веры над хитросплетениями языческого Рима. Сказать по правде, меня это ничуть не затронуло. А вот понравился мне антракт. Фильм длился довольно долго, наверное, больше двух часов, и чтобы развеять напряжение от зрелища — если не сказать «скуку», — был устроен довольно большой перерыв. На воздвигнутой перед экраном эстраде сыграли скетч, в котором актеры из массовки (так в те времена называли статистов), набранные со студии «Викторин», изобразили сцену из жизни античного Рима — юноши в белых тогах, обшитых пурпурной каймой, солдаты в одеждах центурионов, очень изящные молодые девицы в пастельного цвета платьях, оставлявших открытым одно плечо, так и сверкавшее под лучом прожекторов, и с завязанными в шиньон волосами, заколотыми диадемой с искусственным камнем. Насчет серьезной публики не помню — возможно, она проигнорировала представление, предпочтя покурить в холле. Зато знаю не понаслышке, что лицеисты, сидевшие на шести первых рядах, уж точно внакладе не остались. На сей раз дешевизна билетов их и осчастливила — ведь они могли аплодировать такой красоте из самого первого яруса. Еще помню, как девушки-служительницы кинотеатра в антракте переодевались в древнеримские платья и разносили по рядам корзинки с мороженым «эскимо» и карамелью. Что ж к этому добавить — да, вот таким оно было, кино!
Закрыть глаза,
выдумать кино для слепых.
Абсурд, скажете вы? А вот я иногда мечтаю о таком. В темноте зала, удобно вжавшись в покровительственную впадину кресла (они в наше время становятся все комфортней) в этом пространстве, ограниченном моими коленями, упершимися в спинку предыдущего ряда, опустив затылок на это подобие деревянной японской подушки, которое образует верхнюю линию того ряда, на котором сижу я сам, я закрываю глаза и отдаюсь на волю волн того фильма, который теперь воспринимаю одним только слухом, через вибрацию воздуха, и тем кинестезическим чувством, которое откликается на общий шумовой фон, похожий на уличный гам, шум толпы на площади, в общественном месте, всюду, где очень много людей.
Я закрываю глаза. Я фантазирую. Вот, все происходит здесь, совсем рядом, и при этом непостижимо. Светящийся конус, дрожащий над моей головою, жемчужно переливающийся экран. Да знаю я всю эту механику, знаю и ее участие в визуальной реальности. Но когда я закрываю глаза, происходит что-то совсем другое. Всего на миг. Это такая игра. Нам всем когда-то приходилось играть в нее: передвигаться по квартире, где погашен свет, ощупью идти по знакомой улице, вытянув руки вперед. Жестокая игра. Прикинуться слепым, как прикидываются дураком, как прикидываются мертвым. И все же. Кино существует и для тех, кто ничего не видит. И для них существуют книги, театральные пьесы, музеи скульптуры, выставки живописи. Да-да, и живописи: помню, моя тетя с Маврикия, в конце жизни ослепшая, не выходившая из своей маленькой квартирки в Ницце, рассказывала мне, как у нее на коже переливаются разные цвета, и убеждала, что чувствует, когда на небе восходит луна. Опять я сравниваю этот свет, льющийся из беспредельного, тусклый и жемчужный, с лучом кинопроектора. Вот о таком кино я и хотел бы сказать. В этом нет ничего ни парадоксального, ни невероятного, ведь это существует. Звуки. Слишком громкий рев скотины в «Слове», песня, которую, раскачиваясь взад-вперед и работая веслом, напевает Охама в «Угэцу моногатари», шум воды вокруг корпуса катера, в котором, обнявшись, спят любовники из «Моники», ревущие позывные шаланд, когда по реке проплывает «Аталанта», жужжание насекомых и шелест деревьев в саду, где играют дети, в «Реке» Ренуара, ярость бури, обрушившейся на чернеющий риф, гда Клаудиа всю ночь ждет Анну, в «Приключении» Антониони, шум океана в «Рассекая волны» Ларса фон Триера, в «Когда-то были воинами» Ли Тамахори, звуки клаксонов и городской гул с крыши «Дома Якобяна» Марвана Хамеда.
Иногда фильмы разговаривают на другом языке, не на языке визуальных образов. В «Персидском ковре» Махмалбафа это язык рассказчика, взвивающийся из-за горизонта волчьим зовом влюбленного всадника и снова превращающийся в жалкий, плачущий вой старика, неисцелимо влюбленного в химеру. В «Хиросима, моя любовь» — голос Маргерит Дюрас, его прилив и отлив рассказывают о любовной сцене в самом трагическом городе мира, и именно он, этот голос, и уносит нас в иное время.
Надежно укрывшись в раковине кресла, опустив затылок на спинку сиденья, в тепле и уюте, обдуваемый свежим ветерком из кондиционеров, вдали от городского гомона, в одиночестве, но с мыслью о братском единении с другими зрителями, он (она) смотрит на экран. Это фильм, выбранный, чтобы навеять сладкую дрему. Нет, он не то чтобы скучный. Наоборот, это любимый фильм, хорошо знакомый, почти выученный наизусть, как слышанный с детства ритурнель, альбом со старыми почтовыми открытками. Каждая на привычном месте. Вот, например, «Встречай меня в Сент-Луисе» Винсента Миннелли. Джуди Гарланд, ее обволакивающе теплый, мощный голос, и полное отсутствие интриги, только разматывающийся ролик легких песенок, в которых смысла ни на грош, образов без силы воздействия, любовь как комедия, любовь как мечтательные бредни двоих. Киношка для сомнамбул, вроде вечно голубеющего неба, по которому все плывут и плывут облака, и вы следуете их движению, просто глядя на них…
Сменяются планы, эпизоды, и веки тяжелеют. Вы чувствуете, как изнутри вас поднимается волна. Она начинается от верхней части вашего чрева и проникает в сердце, в горло, легкие, но вы не тонете. Скорее это хмель, проникающий в ваши вены и капилляры, медленно окутывающий ваш мозг. Звуки музыки, пение голоса человеческого, разговоры, смех. Чьи-то шаги, хлопанье закрывающихся и открывающихся дверей.
Несмолкающее биение, то ли вашего сердца, то ли — скорее — качание маятника главных часов мироздания? Вы чувствуете, что сейчас уснете, но это очень мягкое, приятное ощущение. Кино — это вообще ваш дом, ваша колыбель. Вы плавно скользите, падаете, потом парите в воздухе. В стародавние времена говаривали, что сновидец покидал свое тело, чтобы улететь в края иные. Он всегда возвращался немного усталым, зато счастливым. Он ничего не приносил оттуда, даже горсти трав или пучка волос. Он просто засыпал.
Будь кино всего лишь местом встречи изображения и звука — разве могло бы оно пленять нас так сильно? Будь оно всего лишь умением построить диалог, разве любили бы мы фильмы Бергмана так самозабвенно? Было бы вполне достаточно прочесть их или посмотреть, как их играют на театральных подмостках. Узнаем ли мы наши сны, стоит нам только лишь открыть глаза?
Музыка —
вот что, быть может, останется, когда все, что называлось кино, окажется позабытым. Не иссякнут вовеки проклятия в адрес Голливуда, этой механики для воспроизводства звонкой монеты, всего выпущенного ею барахла, бессмысленного, неисчислимого. Но надо с благодарностью признать — именно он выдумал, сотворил и выпестовал прекрасный жанр. Между 1940 и 1960 годом американское кино произведет все самое главное в этом жанре, в котором окажется удачливее всего остального, — музыкальной комедии. Кьюкор, Говард Хоукс, Миннелли, Билли Уайлдер, Капра, все они попробовали себя в нем с большим или меньшим успехом. Были и те, кто достиг самых вершин. Жанр ослепителен, головокружителен: тут и вправду не нужен сценарий, а одни только песни, и музыка, и главное — актеры. Это разновидность цирка, где столь хрупкая и разнородная архитектоника удерживает равновесие потому, что умно сбалансирована. Хватит сущей малости, неверного шага в танце, лишнего слова, слишком слащавого взгляда, чересчур пошлой песенки — и пиши пропало. У музыкальной комедии нет иной цели, кроме развлечения. Но когда она добивается своего — все великолепно. Забавно. Сногсшибательно. Это наполнено мечтой и реальностью, пикантностью, злостью, любовной интрижкой, а подчас искренним чувством. Незабываемые фильмы — «Волшебник из страны Оз», «Великий Зигфельд», «Звезда родилась» с Джуди Гарланд (ах, слова Гершвина, когда Джеймс Мэйсон говорит Гарланд: «В вас есть изюминка, и это все меняет»), «Звуки музыки» с Джули Эндрюс или чудесный фильм «Ты никогда не была восхитительней» («О моя милашка») 1942 года с Ритой Хейворт и Фредом Астером.
Для меня музыкальная комедия — это «Пасхальный парад» (Чарльза Уолтерса, музыка Ирвинга Берлина, 1948) с Джуди Гарланд (вечно она и навечно она!), Фредом Астером и чудом чечетки — Энн Миллер. Ничего такого сверхобычного не происходит в этом фильме: Джуди Гарланд, сиречь Ханна Браун, — танцовщица из кабаре, бедненькая, наивная, слишком благородная. Она без всякой подготовки заменяет звезду той минуты Надин Хэйл и оказывается лучше нее. Она становится знаменитой актрисой и наконец-то дефилирует по улицам Нью-Йорка во время Пасхального парада — она, мечтавшая о том дне, когда сможет поприсутствовать на нем, увидеть все из первых рядов. Но сколько же тут всего — и в акробатической хореографии Фреда Астера, и в неловкости Джуди Гарланд, в ее детском личике. Музыка, пиршество разноцветья — все это создает какой-то фейерверк, где нет ни начала, ни конца, ни цели, ни смысла. Впечатление, будто вас уносит в вихре молодости, безразличной ко всем бедам мира, в вихре цветов и звуков, заставляющем мгновение длиться вечно. Это берет за душу, и поневоле вспоминается еще и судьба Джуди Гарланд, ее трагическая смерть в номере отеля, печальное предвестие конца Мэрилин.
Это еще один Голливуд (в Мумбаи, столице индийского кинематографа). Если мне хочется о нем поговорить в этих моих вольных прогулках по кино, так это потому, что говорят о нем мало и отзываются плохо. Киноманы вскипают от одного только слова «Болливуд». Есть те, кто ненавидит его, и те, кто любит совсем не за то, за что следует. Первые призывают выражать презрение к Голливуду третьего мира, изобилие продукции которого обратно пропорционально качеству выпускаемых фильмов. Не стану с этим спорить, оставив подобный отзыв на их совести — хороших ли, плохих оценок кинематографической критики. Другие, посмевшие полюбить подобное кино, говорят о торжестве кича, о своеобразии и даже о баснословности этой кинопродукции, которой можно вдоволь наесться, при этом зная, что это товар второго (понимай третьего, десятого) сорта.
Правда в том, что индийское кино ничем не отличается от любого другого, то есть производит очень малое количество совсем никудышных фильмов, такое же малое количество лент блистательных, а большинство их продукции — фильмы очень средние. Еще одна правда в том, что тут действуют совершенно другие критерии. Идея всемирного искусства — это изобретение современного общества. Фильтр хорошего вкуса в западном мире не годится для Востока или Африки. Это особенно верно для фильмов музыкальных, как раз и являющихся коньком болливудской продукции. На взгляд французского или американского киномана, тут ничто не выдерживает критики: в индийском фильме, по его мнению, сценарий до смешного сентиментален, актеры нарочито переигрывают, музыка сиропная, манера съемки слишком яркая. Если он и решит, что, несмотря на все это, такое кино ему нравится, то лишь потому, что любит парадоксы и подобные излишества для него — возможность состроить рожу искусству классическому, ведь они погружают его в тот мир, который и нравится ему прежде всего чрезмерной пышностью, и воплощает для него известную свободу чувств, непосредственность комикования, экзотический способ жизни. По своей сути индийское кино — часть той коллекции предметов и сувениров, которую турист привозит в чемоданах домой, лубочных открыток, значков, храмовых табличек, плакатов, безделушек и прочих вещиц на память. Это станет его личным музеем для забавы, его альбомом, напоминающим об идеально проведенном отпуске. По мне, лучше уж непоколебимое неприятие.
Болливуд — мир, замкнутый на самом себе (я говорю не только о студиях). Его продукция охватывает половину населения планеты, для многих людей только он и есть настоящее кино, только это и есть их доступ в мир образов. Индийские фильмы можно увидеть в Афганистане, Иране, Египте, на Маврикии, в Черной Африке, вплоть до Китая и Индонезии. Внутри такого обрамления возможны любые темы: семейные драмы, отношения внутри пары, конфликт поколений или общин, противостояние религий, политическое честолюбие, экология, урбанизация, страх перед глобализацией, то есть все условия человеческого существования. Есть тут и комедии, такие же успешные, как и продукция голливудская. Легкие, забавные, что греха таить, часто слишком легковесные, как, например, «Фанаа» Кунала Кохли с Кариной Капур в роли девушки по имени Алия, или «Таал» (1999) Субхаша Гхая с актрисой Айшварьей Рай, прославившейся на весь мир своими зелеными глазами и рекламными проспектами косметической фирмы. Это история бедной девушки, полюбившей юношу, для нее слишком богатого, но она добивается успеха в исполнении народных песен и наконец может быть принята семьей жениха.
Есть и драматические истории, например фильм «Бахбан» (2003) Равви Чопра с Амитабхом Баччаном — семейная пара жертвует всем ради образования детей, которые, вырастая, выгоняют родителей на улицу, и те находят приют у приемного сына. «Веер-Заара» (2004) — тут блистает звезда, знаменитый актер Шах Рух Хан, он играет полицейского-индуса, влюбившегося в мусульманку из Пакистана и пожертвовавшего собой, чтобы не бесчестить женщину, которую он полюбил.
Выпускаются ленты и исторические, политические: «Лагаан» Ашутоша Говарикера — несомненно, самый знаменитый из всех болливудских фильмов в мире, — он, рассказывая об одной партии в крикет, изображает противостояние индусов и оккупационной английской армии. Или «Дэв» (2004) — любовная история на фоне пакистанского терроризма.
Наконец, попадаются и романтические ленты, снятые в очень медленном ритме, прослоенные подлинной хореографией и подлинной музыкой: чудесный «Кабхи Кхуши Кабхи Гхан» (2001) Карана Джохара, или детективный музыкальный фильм — жанр специфически индийский — «Квила» с очень красивой Мамтой Кулькарни, звездой Махараштры.[10]
Все это касается лишь продукции, созданной недавно и демонстрирующей немалое разнообразие, пышность и юность этого кинематографа. И что же — полюбить подобные фильмы можно только тогда, когда вы выставите за дверь свои вкусы, культуру, образование? Да ничуть не бывало. Достаточно просто дать волю чувствам, чтобы снова открыть для себя те универсальные моральные ценности, которые скептицизм современного мира предал забвению: любовь детей к родителям, роль семьи в матримониальных делах, уважение к старшим, а возможно, и тот самый женский взгляд, который так силится выразить западное кино, а тут он очень явно просматривается (я имею в виду не только «Салам, Бомбей» Миры Наир, но и «Чибыро» Ли Чонг Хянг, и прелестный «Трудности перевода» Софии Копполы). Кроме того, стоит отдаться обаянию музыки, позабыть о времени — три часа плюс антракт, это все равно что побывать в большом классическом театре на «Рамаяне» в сказочные времена Аютии. Разумеется, мы все запрограммированы на пару часов зрелища, на краткий экскурс в мечту. Чтобы понять Болливуд, нам пришлось бы снова прочувствовать, как долго тянулось время в пору нашего отрочества, пойти в кино в послеполуденные часы (а вечером — на танцульки!), когда солнце еще палит нещадно, а темнота кинозалов напоена ароматами и нежной истомой. Можно и задремать. Грезить, прыгая с облака на облако под прихотливо сменяющиеся картинки, среди молний…
Завтрашнее кино будет корейским?
Вопрос тенденциозный и, надо полагать, немного праздный. Так и хочется ответить, что кино будет всемирным или его вовсе не будет. Если, говоря о Ренуаре или Эйзенштейне, уточнять, что один был француз, а другой — русский, смысла в этом будет не больше, чем в напоминании, что Шекспир — автор английский, а Дон Кихот — герой испанский.
И все-таки с течением времени история этого искусства учит нас, что кино в период и до, и после Второй мировой войны было японским, что музыкальная комедия — изобретение американского кино 1950-х и что в пору «новой волны» смелые шаги, обновившие кинематограф, сделают французы.
Сегодняшнее корейское кино связано с историей города, который называется Сеулом, с его стремительным ростом, с трансформацией его патриархального общества. Оно связано с пристрастием корейцев к литературе, с тем фактом, что Корея, это действительно так, одна из тех стран мира, где выходит в свет больше всего переводов со всех языков. Наконец, оно связано с недавними событиями истории этой страны, с памятью об одной из самых кровопролитных и несправедливых войн нашего времени, после которой народ, прежде однородный, оказался разделен надвое границей.
На такой вот почве и родилась своеобычная культура, в которой насилие смешано с политикой. После литературных произведений — «Приглашенного» Хванг Сок Ёнга или «Мечтательной жизни растений» Ли Сынг У — и корейское кино тоже обращается к тому реалистическому наследию, какое оставили итальянцы и японцы. Насилие, пропитывающее и кино, и литературу, отнюдь не беспочвенно, оно есть интериоризация бунта против мира, материалистичного и в то же время закосневшего в своих интеллектуальных схемах. В «Острове» Ким Ки Дука, «Мести» Пак Чан Ука или том же «Оазисе» Ли Чанг Донга есть сцены чрезвычайно жестокие, если не сказать кошмарные. Герои этих лент — правонарушители, отбросы общества или калеки, они живут на обочине общепринятой морали.
Но сегодняшнее корейское кино — не только это. Помимо насилия оно демонстрирует и поразительную способность к обновлению жанров. Исключительный успех тут у триллера и фильма ужасов. Еще одно исключительное достижение — это кинематограф интимистский, далекий от изображения какого бы то ни было насилия, своей чистотой очень напоминающий раннее скандинавское кино или духовность Брессона, — как тут не вспомнить «Чибыро» (или «Возвращение домой») кинорежиссера Ли Чонг Хянг.
Интермедия уж совсем последняя
Три беседы
Пак Чан Уку около сорока, и одет он совсем просто, как американский студент. У него красивое лицо с правильными чертами — увидев его, я подумал, что он мог бы сыграть роль благородного воина в тех исторических сагах, до которых корейцы весьма охочи, — почему бы и не в знаменитом «Драгоценном камне во дворце», где сыграла его актриса, очень красивая Ли Ёнг Э.
Я захотел встретиться с Пак Чан Уком потому, что он один из своеобразных режиссеров того молодого корейского кинематографа, который настойчиво стремится к мировому признанию. Три его основных фильма — «Сочувствие господину Месть», «Олдбой», «Милая госпожа Кым Джа» (или «Сочувствие госпоже Месть») с энтузиазмом были встречены молодой частью публики и вызвали скепсис у профессиональных критиков, упрекавших эти ленты в чрезмерном пристрастии к насилию.
Его работа, надо отдать ей должное, связана единством темы: помимо главного мотива мщения в ней есть и очень точно проработанная композиция, придающая его фильмам черты повествования романтического.
— В «Олдбое» «чудовище»-маньяка заключают в тюрьму на полтора десятка лет, и, выйдя из нее, он не узнает абсолютно ничего вокруг себя, поскольку его дом снесен. Так вы изображаете изменения, которые современная жизнь претерпевает в Сеуле?
— Фильм «Олдбой» развивается в контексте, отличном от оригинальной японской традиции манга — национальных японских комиксов. Японские манга ни словом не упоминают ни об изменениях, произошедших за то время, пока Олдбой сидел в тюрьме, ни о той реальности, которую он видит вокруг, когда выходит на свободу. Но полагаю, что любой корейский режиссер снял бы все это точно так же. Пятнадцать лет спустя ни один житель Сеула не мог бы рассчитывать найти собственный дом в целости. На земле нет другого места, которое за пятнадцать лет пережило бы столь драматичные перемены.
— Когда я смотрел «Олдбой», мое внимание привлек один эпизод. Олдбой, томясь в застенке, связан с внешним миром исключительно через экран телевизора. Он долгие годы подряд смотрит нескончаемые хроники происшествий, политические выступления, выпуски новостей и даже атаку на Всемирный торговый центр. И вдруг, как будто из подсознания, на экране мелькает лицо Бориса Карлоффа из «Франкенштейна» Джеймса Уэйла.
— Ха-ха, а ведь правда, я и забыл! Да, фильмы Джеймса Уэйла и «Олдбой» имеют нечто общее. В обоих случаях речь идет о мести, о чудовище, жаждущем отомстить своему создателю. Это похоже на отношения между творцом и его творением. А потом и в «Невесте Франкенштейна» доктор живет в высокой башне, и его творение гибнет в огне. В «Олдбое» Ю Джи Тхэ, злой персонаж, говорит своему узнику: «Эй ты, чудовище, а ведь это я тебя создал». И там тоже все происходит в верхней части башни и заканчивается всепожирающим огнем.
— В «Госпоже Месть» (хотя мне больше нравится корейское название — «Милая госпожа Кым Джа») звучит та же тема отмщения, но мне кажется, что этот персонаж — ваша героиня — выказывает недюжинную нравственную силу. Такой ли смысл вы хотели вложить?
— Мой фильм делится на две половинки, и разделительная линия — тот момент, когда Кым Джа, глядя на мобильник убийцы, увешанный детскими игрушками, понимает, что это игрушки детей, которых он убил. Вот тогда Кым Джа и уступает свое место родителям других похищенных детей, словно бы отходит в сторону и довольствуется ролью зрительницы — то есть становится подобной и зрителю фильма, — когда родители идут мстить. Я действительно полагаю, что только женщина могла сохранить хладнокровие в такой ситуации и уступить место родителям.
— Ставя эту сцену коллективного умерщвления, вспоминали ли вы о фильме «Убийство в Восточном экспрессе» по роману Агаты Кристи?
— Поначалу я об этом фильме совсем не думал, однако потом, работая над сценарием, осознал, что у них есть общие точки, и тогда сказал себе: уф, да ладно, я уже решил оставить все как есть, не собирался я красть идею у Агаты Кристи, потому что, в конце концов, в «Убийстве в Восточном экспрессе» важнее всего полицейская интрига, когда ищут убийцу. История же Кым Джа скорее противоположного свойства, ведь тут убийца известен заранее и мы видим, как его убивает каждый из родителей.
— Вы ставите нравственный вопрос, который можно было бы сформулировать так: если вам предоставят возможность убить вашего врага — вы возьмете нож и убьете его?
— Трудно сказать, как бы я поступил, случись мне оказаться на месте Кым Джа. Очень сложно ответить правдиво, представив себе такую ситуацию. Но, зная свой характер, не думаю, что смог бы убить своего врага, скорее передал бы его правосудию. Кстати, в рассматриваемой сцене один из родителей, отец одной из жертв, идет на попятный и отказывается убивать.
— Существует ли в Корее смертная казнь?
— Да, и вполне законно существует, но идут споры о том, стоит ли применять ее. Напоминают об одном процессе 1960-х годов, когда человека приговорили и казнили, а потом выяснилось, что он был невиновен. Но совсем недавно был еще случай терроризма, одного корейца похитили в Афганистане и там перерезали ему горло. Когда эту новость узнали корейцы, они объединились в пчелиный рой, чтобы прорваться туда и отомстить за смерть соотечественника. Этот случай очень взволновал меня. В «Милой госпоже Кым Джа» родители жертв собираются и, плача вместе, смотрят кассеты, на которых записано, как убивали их детей, именно в этот момент они и решают отомстить. Однако убить человека, привязанного к стулу, — дело не из легких.
Я встретился с режиссером Ли Чанг Донгом в старом корейском доме — такие еще есть в Верхнем Сеуле. Странное впечатление — после того как вместе с Пак Чан Уком вообразили себе город будущего: тут — ателье старинных одежд, сшитых вручную, при случае может послужить и рестораном. Ли Чанг Донг тоже вполне мог бы быть актером: высокий, с правильными чертами лица, очень черноволос. Он пришел с женой, прелестной и изящной. Все то время, что мы с ним беседуем, она старается держаться в сторонке и только наливает в наши чашки зеленого чаю.
Ли Чанг Донг еще и писатель, и проблема выбора профессий для него располагается совсем в иной плоскости. Он писал романы, сделал несколько полнометражных фильмов, среди которых «Оазис» — очень сильная и жесткая история бурной любви между придурковатым маргиналом и преступником и девушкой-инвалидом, разбитой параличом.
Ли Чанг Донг рассказывает, как он пришел в кинематограф. Сначала преподавал литературу в провинциальном лицее, потом работал ассистентом, в Киноакадемии не учился. Когда я спрашиваю его об определенной публицистической ангажированности фильма «Оазис», его реакция полна понятного скепсиса:
— Кинематограф не сможет изменить отношение корейского общества к неполноценным членам. Все, на что я могу надеяться, — это на мимолетное сочувствие. Это все равно что разделить со свечой ее пламя, зажигая поблизости от нее все новые и новые свечи.
В сущности, «Оазис» — довольно мрачный фильм. Мало эпизодов, снятых на натуре, тона преобладают синие, зеленые, фиолетовые. При этом, несмотря на наличие отдельных жестоких сцен — например, когда юный преступник насилует девушку, которую сам называет «принцессой», — общее впечатление скорее — ощущение текучести быта, обыденности жизни.
— Феминистская критика упрекала меня за эту чрезмерно натуралистичную сцену с девушкой-калекой, изнасилованной слабоумным придурком. Только вот ведь поистине никому не пришло в голову задаться вопросом: а в мире нормальных людей влюбился бы кто-нибуць в такую женщину?
Я напоминаю ему о другой сцене насилия, когда парня приводят в полицейский участок. Его семья обсуждает, какую компенсацию ей предстоит выплатить семье жертвы. Пустое длинное помещение, и вдруг на крупном плане — девушку охватывает приступ конвульсий, и она, катясь в инвалидной коляске прямо на стену, бьется об нее головой.
— Больше всего я стремился к тому, — говорит Ли Чанг Донг, — чтобы показать настоящую жизнь. Снятые кадры — это образ реальности, но при этом в большинстве случаев, едва лишь в кинозале гаснет свет, зритель видит все что угодно, только не реальную действительность.
Наш разговор касается коммерческого кино, и я напоминаю ему рассуждение Аббаса Кьяростами о фильмах, снятых в Голливуде, — его они «утомляют». Ли Чанг Донг выражается еще радикальнее:
— Когда я выхожу из зала, посмотрев какой-нибудь такой фильм, у меня всегда чувство, будто меня нагло одурачили.
Мы идем по улице под ледяными порывами ветра. Я замечаю, что прохожие оборачиваются, чтобы посмотреть на Ли Чанг Донга и его жену, быть может думая, что узнали супругов-актеров. Ли Чанг Донг — один из редких современных режиссеров, крепко связавших свое творчество с жизнью. Каждый миг бытия он вышивает узор своего воображения нитями реальности.
Я очень хотел встретиться с женщиной-режиссером Ли Чонг Хянг с тех самых пор, как посмотрел ее фильм «Чибыро» («Возвращение домой») — полутрагичное, полуозорное размышление о старости, предельно простым языком рассказывающее о вынужденном пребывании маленького мальчика в деревне у бабушки. Наша встреча состоялась в сеульском квартале Синчхон — в большом кафе с поэтичным названием «Минтуле Ёнг То», что означает «Территория одуванчиков» — тут можно зарезервировать маленькие приватные зальчики для неофициальных переговоров, это аналог «кабинетов» в парижских ресторанах бель эпок. Местечко забавное, шумное и оживленное, как зал ожидания, оно может лучше любого другого порассказать о настоящей жизни в этой столице, где древность смешивается с модерном.
Мадемуазель Ли Чонг Хянг поразила меня своей молодостью и юмором. Кажется, она еще не вышла из возраста студентки университета — именно там она изучала киноискусство и французскую литературу. Она ходит с ранцем, в котором носит документы, книги, а главное — там коробка с дюжиной карандашей. Мы беседуем, а перед нами — чашки с зеленым чаем, амброзией Кореи.
— Кто же обратил вас к кинорежиссуре?
— Когда мне было пятнадцать лет, я посмотрела фильм Джона Гиллермина «Вздымающийся ад». В тот же самый миг я влюбилась в Пола Ньюмена! В те времена в Корее женщине и представить было невозможно стать кинорежиссером. У меня была такая смутная мечта, я хотела делать фильмы, но даже представления не имела, как мне этого добиться. В феврале 1979 года знаменитый режиссер Хак Ил Джонг умер, и тут я решила, что стану режиссером, у меня было такое чувство, что сменить его должна именно я.
— Вы встречались с Хак Ил Джонгом?
— Я никогда не была знакома с ним лично. Но горжусь тем, что родилась с ним в один день.
— Какое занятное совпадение, а может ли оно стать сюжетом для фильма?
— А что уж совсем поразительно — это что и с вами мы тоже родились в один день! Я изучала французскую литературу в сеульском университете Соганг. А потом — киноискусство в Академии в Мёнгдонге и училась в той же академии, что и Пак Чан Ук. Господин Пак начал с изучения философии. Разве не необычно, что и господин Хак Ил Джонг, и вы, и я — мы все родились в один день?
— Должно быть, именно это на корейском называют «инён»!
Мне очень нравится то понятие, которое корейский язык выражает словом «инён», оно означает одновременно и родственную симпатию, и предопределение. Мне кажется, именно этого я и жду от корейского кино — достоверной свободы, иного способа видеть мир. Чего-то такого, о чем женщина сумела бы сказать лучше, чем мужчины. Ли Чонг Хянг рассказывает о своих годах учения в Киноакадемии, о постановке своего первого короткометражного фильма и о долгих годах ожидания.
— Побеседуем о «Чибыро», если не возражаете, поскольку это единственный ваш фильм, который я смог найти.
У мадемуазель Ли вырывается смешок, в котором нет никакой претенциозности.
— Тогда вы видели почти все! Я сняла только два фильма — «Art Museum by the Zoo» и «Чибыро».
— В «Чибыро» оригинальный сюжет, это отношения бабушки с внуком. Почему была выбрана такая необычная тема?
— Я написала сценарий еще до того, как стала режиссером. Моя бабушка поселилась здесь задолго до моего рождения, и мы жили вместе с ней до самой ее смерти. Она умерла еще до того, как я успела завершить этот фильм. Я обещала себе, что мой первый фильм расскажет историю моей бабушки.
— Почему вы предпочли, чтобы бабушка жила в деревне, а не в городе?
— Знаете, причина, подтолкнувшая меня сделать такой фильм, была в том, что я никогда больше так и не встречала той большой любви, какая жила в моей бабушке. В своем фильме я хотела показать такую любовь. Моя собственная бабушка жила с нами в Сеуле. Но свою героиню мне захотелось поселить на горе, потому что, пожив с бабушкой, я поняла, что моя бабушка, да и все бабушки в этом мире — это есть природа. Я хотела показать их силу, хотела сказать, что они — часть природы, и это гораздо нагляднее звучало, если показать ее среди этой природы. Люди часто спрашивали меня, почему эта бабушка немая, не вследствие ли того, что она сумасшедшая? Но тут дело в том, что природа тоже не разговаривает человеческим языком. Я хотела доказать, что любовь можно показать и без единого слова.
— В вашем фильме нет сцен насилия. Это фильм очень мягкий, даже при том, что малыш частенько плохо ведет себя с бабушкой. Вы выбрали для себя кино без насилия?
— Не люблю я ни насилия, ни крови, ни сигарет! (Чуть посмеивается.) Я хотела бы сказать, что возможно заинтересовать публику и историей, в которой нет сцен насилия.
Я вспоминаю в разговоре фильм Имамуры «Легенда о Нараяме», в котором есть сцены очень жестокие — стариков связывают, чтобы потом увести в горы, или когда бабушка разбивает себе зубы о камень, чтобы казаться постарше. В чем разница с японской культурой?
— Тут скорей уж разница полов — Имамура ведь мужчина!
— Именно, вот об этом я и хотел поговорить, но не осмеливался спросить вас — что вы думаете о феминизме?
— Мне часто задают этот вопрос. Я отвечаю, что предпочитаю феминизму гуманизм.
— И все-таки вы говорите, что разница с «Нараямой» — это разница полов режиссеров. Какие качества могла бы привнести в эту работу женщина?
Ли Чонг Хянг не попадается на удочку феминизма.
— В моих фильмах главные героини — это женщины. Я хочу донести свою точку зрения на мир. Не могу говорить за всех женщин-постановщиц фильмов, но то, к чему, будучи женщиной, стремлюсь я сама, — это отобразить то, что видит, что чувствует женщина.
— Раз уж мы заговорили о насилии, вспомните — ведь в мировом кинематографе доминирует мужская точка зрения, которая любит показывать главным образом войну, кровь, грубую сексуальность и так далее?
— Мне бы очень хотелось поломать такой стереотип.
Ли Чонг Хянг с юмором и скромностью посвятила свой фильм «всем бабушкам мира». И действительно — смотря ее ленту, говоря с ней самой, я думал о своей бабушке, которая буквально сражалась за то, чтобы ее внуки смогли пережить испытание войной.
Мы немножко прошлись вместе по улицам Синчхона. Когда смотришь на Сеул под впечатлением всего, что уже знаешь, он кажется самым молодым, деловым, суетливым городом мира, полным мерцающих неоновых огней и дешевой мишуры. В этой толпе бесплотный и хрупкий силуэт Ли Чонг Хянг кажется символом того критического, придирчивого и неравнодушного взгляда, каким всматривается в действительность сегодняшнее корейское кино…
Конец —
поистине, во всем кино это самое нелепое слово. Отчего она возникла, такая необходимость писать это слово, которое еще совсем недавно медленно перечеркивало изображение на экране, возвещая, что этот кадр — последний, и еще долго маячило, все никак не желая исчезать, пока лампы зажигались одна за другой, дабы не слишком резко вырывать вас из состояния сомнамбулизма? Зачем оно, это особое напоминание вам, что все кончено, что пора вставать, опять одеваться, собирать манатки, снова возвращаться в реальность, выходя гуськом, точно толпа наказанных, чтобы увидеть, что обочина тротуара в точности такая же, какой была, когда вы входили, а может быть, выглядит теперь еще более реальной, еще грязнее, чем раньше, а то и того хуже — вылезти под дождь или в лютый мороз, словом — в ту имитацию деятельной жизни, в которой Селин подозревал заговор деловых людей с целью подогревать чувство вины у тех, кому больше нечем заняться, только ходить в кино?
Конец царству иллюзий, фабрике грез, конец ирреальному, конец образу — дабы обрести снова все то, что не обманывает и не прикидывается, что наполнено смыслом, что питает нашу жизнь. Конец эластичности времени, конец страстям, великому восстанию чувств, потокам слез, благотворной тряске от хохота, конец драме, конец романсу. А может быть, все гораздо проще — «конец» потому, что романы-фельетоны в газетах печатались частями, с продолжением, и потому-то слово «Конец» внизу страницы «Утраченных иллюзий» или «Дневника горничной» знаменовало целый этап в жизни читателей, да и авторов тоже. А бывало и так, что — как в романе-фельетоне Ирен Немировски «Лестницы Леванта», изданном «Гренгуаром», — слово «Конец» следовало за невыносимой тишиной.
Никогда еще слово так мало не соответствовало своему смыслу. Конец, или «расчеты по кредитам» (как говорят о кино по-английски), — эти титры появляются и держатся на экране, уже почти растаяв, точно краски восходящей зари, а ничего ведь не завершено. Вспоминаю, как, выйдя с фильма, подолгу бродил по улицам в каком-то состоянии экстаза пополам с опьянением, точно под действием наркотика. И не только потому, что отождествил себя с сюжетом, тем или другим героем или меня до такой степени воодушевил общий смысл увиденного. Я испытывал странное чувство, будто меня расщепили надвое, будто за эти два часа я стал кем-то другим, на себя непохожим, и теперь мне нужно заново склеить сегменты своей личности, снова стать единым целым, опять обрести себя. Нет, я не чувствовал себя сумасшедшим. Фильм погрузил меня в состояние неопределенности, лишил внутреннего равновесия. Я вышел за пределы собственной сущности, я вырос и расширился, я превзошел собственное «я». Я не вкладываю в эти слова никакого нравственного смысла. Насквозь прогнивший полицейский Хэнк Кинлэн, сыгранный Орсоном Уэллсом в «Печати зла», антигерои Кассаветеса («Тени», «Мужья») или «милая госпожа Кым Джа» из фильма Пак Чан Ука уж точно никак не могут послужить образцами добродетели. Но при этом их частое появление на экране создает во мне ощущение, что я становлюсь лучше. Эти фильмы прибавляют не столько знания, сколько понимания — в том смысле, как говорят, допустим, о «понимании противника». Тут приходится сталкиваться с иным видением мира, адаптироваться к нему, брать его в расчет. Несправедливо и часто кинематограф упрекают в том, что он — самое пассивное из искусств. Может быть, это и так, если речь идет о каких-то совсем плохих фильмах, как верно это и для литературных опусов средней руки, произведений заурядных, примитивных. Но когда кино выполняет свою задачу, то есть когда оно выражает взгляд, мысль, фантазию, — результат захватывающ и взыскателен так же, как результат работы в театре, поэзии, романе.
История продолжается и на улице, после того как растаяло слово «Конец» и зал кинотеатра вернулся к своей яви, то есть погрузился в тишину и мрак, и между рядами сложенных кресел теперь снуют лишь несколько мышей, рыщущих в поисках крошек. История продолжается — персонажи, слова, музыка, чувства, споры. Дети еще копируют приемы, которые применяли в драках киногерои, взрослые беседуют, обсуждают, критикуют. Будто на бледном, полупогасшем экране, который время от времени озаряется светом, проносятся куски эпизодов перед сомкнутыми глазами спящих. Сплетаются в объятиях любовники, мечтая, быть может, о совсем другой любви. На мгновение замирает мгновение, и нет больше понятия времени. Если оно и возвращается, то изломанным, прерывистым, иногда резко давая задний ход. Сбивается с пути память, вплетая в себя ничьи воспоминания, ни выдуманные, ни подлинные. В «Пурпурной розе Каира» Вуди Аллена, в «Через оливы» Аббаса Кьяростами фильм, однажды остановившись, продолжает свой путь по другую сторону экрана, в мире виртуальном, не зависящем от желаний ни режиссеров, ни зрителей. Я часто спрашивал себя, куда исчезают улетевшие слова, где обретают прибежище отправленные и недошедшие послания. Как и утраченные книги, оборванные кинообразы упрямо цепляются за жизнь уже после того, как камера перестала снимать. Они живут вокруг нас, немного призрачно, но так близко, в тех лимбах, где пребывает невоплощенное. Так вот же он, экран нереально голубого цвета, сейчас он пустой, и можно воспарить к облакам.
Автор благодарит:
YUNNIIMDBCOMWALTERPUTNAMRHEESOUEWONLEEJEONGHYANGWOELFFELALPHAVILLEALBANCJEMIAZIEGFELD 2000RBRESSONGILLESJACOBANTOINEGALLIMARDANNALECLEZ
Viva киномания!
Пропустить всю столетнюю с лишним историю кино — от первых люмьеровских крохоток до нынешних модных южнокорейских мастеров — через себя, через историю своей личности, не забыв включить ее и в историю мировую, и уместить все это на двух сотнях страниц — это трудно.
Тут не избежать ошибок — всем известно, какие шутки порой шутит неравнодушная человеческая память. А что уж говорить о субъективности выбора!.. Любой киновед, и даже отнюдь не педант, прочитав эту книгу, наверняка скажет: ох, сколько ж тут дискуссионного!
Но Жан-Мари Гюстав Леклезио не киновед и даже не кинематографист. Он — писатель, поэт, проживший большую жизнь — через которую, как и через жизнь любого из нас, прошло молодое и постаревшее на наших глазах искусство экрана. Его книга — очень личная. Это повесть о жизни. О жизни зрителя. О жизни киномана, причастившегося всеобщего увлечения кинематографом еще в 50-е годы, в Южной Европе — в Ницце.
Да ведь и назвал свою книгу Леклезио непереводимым на русский неологизмом: «ballaciner» — сочетание двух многозначных корней: можно легкомысленно понять как «прогуливаться по кино, сбегать в киношку и на танцы», а можно, вспомнив о старофранцузском значении глагола «ballar», и — как «воспеть хвалу киноискусству», «создать балладу о кинематографе».
«Киноклуб, — пишет Леклезио, — был храмом киноискусства, а прихожанами были синефилы с самой широкой кинокультурой, выходцы из разных социальных слоев. Адепты рекрутировались из лицеев и коллежей. Было много и уже закончивших, на пороге университета. Были и такие фанатичные приверженцы, что со временем, начитавшись критиков или просто поварившись в этой прослойке, обретали с годами память энциклопедическую. Стоило спросить их о любом фильме любой эпохи — и они могли назвать имена всех, кто его создавал, и наизусть шпарили биографии режиссера и актеров…»
Вот, пожалуй, портрет адресата книги, которую держит в руках читатель. Едва ли можно сказать, что она написана для профессионалов, — больше того, историки кино наверняка отнесутся к ней скептически. Зато киноманское сообщество — это вечное вихрастое студенчество, независимо от реального возраста, — обнаружит в ней себя и свои пристрастия несомненно. И не станет спрашивать — а почему, собственно, так много места в книге занимают Мидзогути и Одзу и почти нет Куросавы, почему Феллини отсутствует вовсе, зато большие главы посвящены не самым знаменитым работам Пазолини и Бергмана, почему из американского кино автор признает разве что мюзиклы, а самым значительным из всего послевоенного периода считает кино иранское? И не только в субъективности здесь дело. Есть еще один урок, который, думается, извлекут одолевшие эту книгу кинофанаты. Он — в том, что и во времена «железного занавеса», и сейчас киноманы всего мира, это «странное племя» (Леклезио), почти ничем не отличаются друг от друга на Западе и на Востоке. Они самозабвенно любят одни и те же фильмы, которые подчас не так уж нравятся ученым критикам и историкам, они одинаково думают о многих событиях трагического двадцатого века, они так же готовы ходить на политические митинги в защиту свободы, любить которую их научил тот же самый кинематограф. Научивший их еще и благородной наивности, и прекрасной фантазии, и великому чувству бескорыстной сопричастности единственному искусству, которому — как убедительно показывает Леклезио — все-таки удалось хоть чуть-чуть изменить мир к лучшему.
Дмитрий Савосин