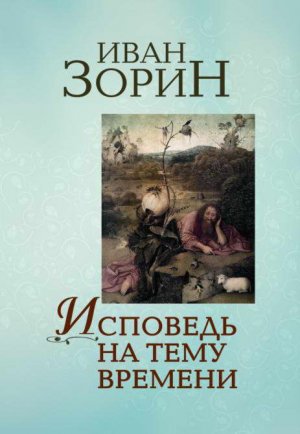
Спасибо, что вы выбрали сайт ThankYou.ru для загрузки лицензионного контента. Спасибо, что вы используете наш способ поддержки людей, которые вас вдохновляют. Не забывайте: чем чаще вы нажимаете кнопку «Спасибо», тем больше прекрасных произведений появляется на свет!
Истории и вымыслы
ЗОЛОТО, ЛАДАН И СМИРНА
Я, Страдий, проворнее. Я рублюсь так, что враги не замечают, как превращаются в крошево, а дротик мечу на стадию дальше его тени. Моя слава пересекла границы трёх царств, преодолев барьер семи языков, а в бездонном прошлом моей родины уже не осталось героев, с которыми бы меня не сравнивали. «Будь храбрым, как Страдий», — благословляют сыновей суровые матроны. «В бою держитесь Страдия!» — ободряет гоплитов стратег. Но историю воина пишут шрамы, и на теле у меня ран больше, чем звёзд на небе. Ночью у костра они поют на тысячу голосов. Обожжённый бессонницей, я слушаю их крики, зная наперечёт: эту нанёс этруск, пустив пращой камень, эту — косматый германец, вызывавший наших на поединок, прежде чем я заткнул его хвастливую глотку. Но больше других меня донимают головные боли. Точно тысячи стрел вонзаются в мозг, сотни жал впиваются в макушку, когда я ворошу угли слабеющей рукой или бегу в чащу, чтобы найти минуту забытья в густых зарослях цикуты. Словно все удары, нанесённые мною, вдруг вернулись ко мне, как возвращается к нам во снах прошлое, от которого нет щита.
У болезней свой звук: раньше в моих одеждах звенело серебро, теперь — склянки с лекарствами.
А вчера мне передали приглашение. Тысячелетия ойкумена полнится слухами об искусстве египетских лекарей, известнейший из которых — Та-Месхет. Хвала Зевсу, он послал мне звезду, блуждающую в Рыбах, берясь исцелить недуги. И вот я бреду сквозь равнодушное пространство, спотыкаясь о боль, наперегонки с немощью…»
«Моё имя написано на облатках тысяч проглоченных пилюль, я — Та-Месхет, знахарь, который не может исцелить себя.
Мой отец варил зелья и сушил травы, и отец отца. В моей голове сотни рецептов, которые они не доверили папирусу, а в одеждах вместе с чашками лекарств звенит золото. Но оно мне противно. «Лечить людей что бальзамировать мумии, — думаю я, когда ставлю пиявок или выпускаю чёрную кровь. — От болезней я вылечил множество, от смерти — ни одного…» Я не смог спасти дочь, когда буйствовала жёлтая лихорадка, мои снадобья оказались бессильны против обрушившейся чумы. О, сколько раз я видел гниющие тела, сколько раз слышал предсмертные хрипы! Больные, высохшие скелеты толпились у моих дверей — я и сейчас вижу их вереницы, — приговорённые, они жаждали чуда. Но мне не сократить очередь, бесконечную, как Нил! А раз так — я палач, продлевающий тление. «Зачем поддерживать муку, если смерть — избавление?» — колет меня очевидная бессмысленность. «Жизнь — горькая настойка, лучше пить её залпом», — шепчет мне ночь.
Перекручивая позвонки, я ворочаюсь на грубой циновке и не нахожу ответа.
А вчера я получил приглашение. Лерния, самый известный среди иудейских мудрецов, обещает вынуть занозу. Хвала Амону, в скоплении Плеяд он указал мне звезду, и я бреду за ней торными дорогами, путая рождение со смертью…»
«Я Лерния, уставший от болтовни. Мой отец перебирал чётками священные книги — трухлявые свитки, и мой дед. На свете много слов, и они торопились произнести их все.
Я тоже победил во множестве диспутов — в каждом из которых проиграл. Ибо убедился: это — суета! Пока меня умащивали благовониями и курили вокруг фимиам, неизбывная печаль тяготила мне сердце. «Сумма дней моих — тень», — говорит проповедник. Но где то солнце, которое её отбрасывает? Я достаточно искушён в словах, чтобы не поддаться их искушению. Воистину, перебирая, как бусы, метафоры, множишь скорбь…
Ко мне приходят страждущие; я и сейчас вижу их — разуверившиеся, отверженные, они ждут чуда. Но я не верю в богов, ни в милостивых, ни в жестоких: судьба семенит поодаль, предоставляя подбирать за ней следы…
Я легко убеждаю других, но мне не убедить себя. Золото — суета, а мудрость — томление духа, им обоим не спасти от отчаяния. «К гробу сундук не приделаешь, — учу я в синагогах, — богатство — это приманка для невежественных». «А святость — ловушка для простаков…» — добавляю про себя.
В одеждах у меня давно гремит склянка с ядом, но меня удерживает страх. О, если бы в небытие можно было перейти незаметно и безболезненно, словно толкнуть дверь на женскую половину дома!
Но — хвала Всевышнему, в которого я не верю, — по увечьям наших воинов, вернувшихся из похода к слезам жён, я прочитал об искусстве греческого рубаки. А вчера по астрологическим картам халдеев вычислил его звезду. Она сияет в созвездии Пса, и я иду на неё.
Страдий излечит меня. Коротким ударом меча…» Этими исповедями открывается ранний византийский апокриф, с поразительным усердием выбитый на скале. Время оставило в нём проплешины, заставляя скакать по строкам, как птица по кустам.
Его следующий фрагмент повествует о скитаниях.
«…множество лун шёл я на юг, стаптывая сандалии и устраивая ложе из веток кипариса. Со стороны было видно, как молчаливо я карабкаюсь на безжалостные кручи, не замечая колючек и ссадин, как, шатаясь и кровоточа, преодолеваю пустыни, в которых песчинок больше, чем мгновений во времени. Я миновал деревни с высохшими колодцами, где мой греческий был в диковинку, и города, полные проказы. «Мир — это лабиринт, каждый коридор которого кончается тупиком», — думал я, продираясь сквозь бурьян, в котором легко потерять имя. Иногда мне казалось, я сбился с пути. Но ведь истина не в конце накатанной дороги, успокаивал я себя, а в отсеке боковой.
Меня пытались остановить. Свирепые, с бешено сверкавшими глазами, выскакивали из засад, как злые духи. Их вопли заглушали страх, их лица краснели, точно иссечённые крапивой, — теперь их клюют стервятники, для которых глаза — лакомство…
И в холод, и в жару я шёл, стирая подошвы, перепрыгивая через собственную тень, однако меня опережали сомнения. Белый свет устроен так, что глухие в нём хвалятся перед слепцами, немые — перед нищими, но я научился говорить, подражая рыбе, видеть глазами крота и слышать, как тетерев на току. Что, если Та-Месхет вернёт мне былую силу? Пускай я превзойду подвигами Геракла и зубами разорву на окраинах Империи множество варваров, — мне ещё раз повесят на шею лавровый венок. Но кто не вчера возлёг к трапезе, знает им цену…
Глубокой ночью меня будит безутешный крик птицы. Помочившись на затухающий костёр, я гоню себя вперёд, уже не зная толком — зачем…»
«…оставляя за спиной цепочку мелких шагов, я продвигался на север. Скрылись из виду пирамиды, вокруг уже с трудом понимали речь с берегов Нила, а скорпионы от жары кусали себя. Мне попадались народы, у которых язык во рту просыпался по утрам раньше рук, и племена, у которых труд сросся с телом, как мозоль с ладонью. Но они значили для меня не больше, чем верблюжья блоха.
Меня пытались задержать. Голодные, страшнее собственных скелетов, протягивали ко мне руки, хватая закрая одежды, молили о куске хлеба. Я заговаривал язвы, прижигал лишаи, высекая огонь кресалом, и унимал жар наложением рук. Я кормил чёрной похлёбкой с отваром валерианового корня, и меня пропускали…
Ущербный месяц качался в сумерках, как серп, занесённый над полбой. «Сколько ещё колосьев пожнёт сегодняшняя ночь?» — стучало мне в сердце. Гость среди странников, пилигрим среди пилигримов, я иду за утешением, но что может поведать мне смертный? Путая бессмысленность закатов с бессмысленностью рассветов, я держу путь к себе, но меня не покидает чувство, что я, как дятел, лечу хвостом вперёд…»
«…всю первую четверть месяца нисана колесил я по Обетованной, убеждаясь: что на западе плохо, на востоке — безнадёжно. Я видел, как бедуины в суеверном ужасе хоронили волосы в жёлтый песок и поклонялись палке, воткнутой в конский помёт. Их язык настолько дик, что не выделяет «Бога» в отдельное слово, растворяя среди других. Их осёдлые соседи, наоборот, чрезвычайно набожны. «Бог» в их языке вытеснил все остальные слова. Эти племена одинаково ничтожны…
Мой путь лежал также мимо земель, где едят змей и ещё не умеют пользоваться словом. Здесь я встречал множество пророков. Коверкая Писание, один гордился тем, что его губы не оскверняла правда. «Наша судьба горька не из-за желания богов, — вопил другой, — а из-за нашего нежелания стать богами!» Он ждал возражений. Но я молча кивнул. К чему оспаривать ложь, когда не владеешь истиной?..
Меня пытались остановить. Верещали сороками, выкрикивая ругательства, наскакивали с мечами. Но словом я владею лучше, чем они клинком. Я наговорил им с три короба, и они ещё долго провожали меня взглядом, разинув рты, пережёвывая мою болтовню…
Я бреду, словно Моисей по пустыне, и мысли мои как разбитый кувшин…»
«Словно слепцы — поводыря, слушали они Голос, — сообщает следующий отрывок. — А звезда над головой каждого губкой вбирала тьму и дрожала так, будто небо поправляло монокль».
«…по земле я прошёл расстояние, на котором могла затеряться птица, а в мыслях — и того больше. Куда приведёт звезда? Сматывая с клубка моё будущее, льёт она свет, и я покорно иду за нитью Ариадны.
«О, Страдий, — раздаётся иногда, — ты всю жизнь торопился, наступая себе на пятки, оставаясь на перепутье…»
Подняв голову, чуждый себе, я тогда думаю: «Отчего моя звезда одиноко мерцает, хотя звёзд на небе — как саранчи?» И представляю императора, который, задрав тунику, чесал бы в смущении живот, спроси я его об этом. А потом вижу распятых мятежников, улыбку палача, гладиаторов, которых не успевали обучать — так быстро они видели опущенный палец, бурые пятна на опилках цирка, окрики центуриона, лживые объятия гетер и децимацию после проигранной битвы, я слышу бич на спинах рабов и как, качая ногой зыбку, поёт мне кормилица: «Листьям в дубравах древесных подобны сыны человеков…» Воспоминания давят тяжестью каменоломен, и мои кости ноют с новой силой.
По искусно залеченным ранам под лохмотьями путников я догадываюсь — мой спаситель где-то рядом…»
«…ветер, заметая следы, догоняет меня и, пронизывая насквозь, гуляет в складках хламиды. «Время ли, пускающее волну за волной, придумало смерть, — размышляю я, — или её изобрело пространство, выталкивающее нас из себя, как вода?» Я воображаю растерянность на невозмутимом, как маска, лице фараона, обратись я так к нему.
Дорога насытила мой взор, но не ухо. Я разговариваю с самим собой, и мои вопросы, как путевые столбы.
«Ты убегаешь от безумия, Та-Месхет, но себя за волосы не поднять…»
Точно око между рогами Аписа, на меня смотрела звезда. Измученный, с пересохшей гортанью, я был мотыльком на острие иглы. Но Лерния, мой избавитель, близок: я повсюду натыкаюсь на осколки его слов.
Хромая, точно не в силах вправить вывих, преодолеваю я реку быстротечного времени, а впереди судьба — как крокодил на песке…»
«…я шёл навстречу короткому мечу Страдия и с языческим упрямством размышлял, почему одни гордятся тем, что родились в субботу, другие — тем, что родились, третьи — своей гордостью? Я представил молчание синедриона и усмешку наместника, поведай я им свои мысли. И тут услышал голос: «Лерния, Лерния, ты отгородился от себя частоколом слов, однако носишь под сердцем страх, как пустой желудок…»
«Слова превращают горчицу в мёд, а правое — в левое, — пробормотал я, втянув голову в плечи. И вздрогнул: на меня, не мигая, глядело всевидящее око. Безмолвное, оно превращало в соляной столб, и я, Лерния, сын фарисея, потеряв на мгновенье «я», почувствовал себя героем чужого сна. Может, это спят звёзды? Я сосредотачиваюсь на тишине, пытаясь нащупать бреши в их молчании…
А по трупам, коченеющим в оврагах под стаями падальщиков, я ощущаю дыхание Страдия, который положит этому конец…»
Затем источник сообщает, что в семье путников родился ребёнок.
«Был день сатурналий, когда звезда, наконец, остановилась. Она дрожала над хижиной, рядом с которой несли ночную стражу пастухи. «Что это?» — спросил я вышедшего вместе со мной человека. «Я знаю столько, что мне не стыдно признаться в незнании», — ответил он, осветив лицо узкой улыбкой. Я обнажил меч. «Слово острее булата», — тронул он мои ножны. Я застыл в нерешительности. «Там — Альфа и Омега», — указав на завешенный овчиной вход, подсказали нам пастухи. Шагнув к нему, мы чуть не наступили на спящего, безрассудно подставившего лицо луне. «Кто там?» — спросили мы у него. На веко ему села муха и, путая с ресницами, стала потирать друг о друга лапки. Спящий не шелохнулся. «Исцеляющий и воскрешающий!» — ответил вместо него дюжий забойщик скота. На его окровавленный нож налипла овечья шерсть. Тускло блеснуло лезвие, пустив «зайчика». Спавший встрепенулся. Муха взлетела. «Да это Та-Месхет!» — догадался я. Но до чего же он жалок! Клянусь Зевсом, я шёл напрасно: он не может вылечить даже себя… Кто же тогда прислал звезду? «Тот, кто принёс не мир, но меч», — простодушно заметил пастушок, отложив свирель.
Три созвездия слились над нами, когда мы застыли перед входом в клеть…»
«Был праздник урожая, когда измотанный мыслями, я вышел к месту, над которым повисла звезда. Правы философы: длить жизнь — длить агонию, заставляя умирать множество раз. Вот пятнеет овчина, за которой я, возможно, вновь обрету спокойствие, получив ответ, но у меня уже нет сил и желания выслушать его. Я рухнул у порога, не позаботившись даже уткнуть лицо в ладони — пусть луна вселит в меня жёлтую лихорадку, положив конец усталости. Но моё беспамятство внезапно оборвалось. «Исцеляющий и воскрешающий!» — ворвался в него огромный детина, разделывая овцу. Надо мной склонялись двое. Я смотрел на них ровно столько, чтобы глаза привыкли к темноте, а губы — к безмолвию. По умному, проницательному взору я узнал в одном Лернию. Но его вид казался растерянным, он был удивлён и напуган. «И этот несчастный должен был утешить меня?» — безразлично подумалось мне. Дорога привела в пустоту. Но кто же тогда направлял звезду?
«Тот, кто принёс не мир, но меч», — произнёс златокудрый мальчик.
И в его глазах засветилась неземная радость…»
«Была ханука, когда, вслед за Страдием — такую гордую осанку больше не встретить в этих местах — я вышел к ослиным яслям. «Что это?» — спросил он. «Я знаю столько, что мне не стыдно признаться в незнании», — нацепил я змеиную ухмылку. Расчёт оказался точным — он вынул меч. «Песчинка, унесённая ветром…» — уже творил я короткую молитву. Но странно: я перенёс столько напастей, терпел голод и утолял жажду собственными слезами, а теперь ко мне вдруг вернулось желание жить! Во мне пробудилось любопытство, и я больше не искал смерти. «Слово острее булата», — достал я своё оружие. Он застыл в смущении. «Там — Альфа и Омега», — оборвали наш поединок пастухи, указав на ясли, над которыми сияла звезда. И я понял, что перед нами — бездна, на дне которой тайна тайн. Или это калитка в Ничто? Но кто тогда зажёг наши звёзды? «Исцеляющий и воскрешающий!» — провозгласил детина с ушами, как крылья летучей мыши. Он зарезал овцу и теперь вытирал нож о хитон. При его словах спящий у порога встрепенулся, сидевшая на его веке муха слетела, и я увидел, как Страдий узнал в нём того, кого искал. На мгновенье у него промелькнули удивление и гнев, которые сменили столь знакомые мне разочарование и презрение. Он сразу осунулся, а я с ужасом подумал, что ещё вчера мечтал погибнуть от руки этого измождённого человека. Но кто дарит жизнь? И кто рвёт её нить? «Тот, кто принёс не мир, но меч», — выдохнул игравший на дуде мальчик с глазами ангела…»
На этом история обрывается. Её окончание, иное, чем у Оригена и Клемента Александрийского, представляется мне таким. Волхвы ещё долго стояли перед дверью, из-за которой пахло молоком и сеном. Но войти так и не решились. Они чувствовали себя втайне избранными, послами всех отчаявшихся и безмерно уставших. Они пришли, стерев о репейник имя, потеряв лицо в пыли дорог, и вдруг поняли, что все люди — один человек, как три звезды — одна. Кроты, алчущие света, они приблизились вплотную: от истины их отгораживала только овчина с чёрными клочьями. Но они не увидели, как за ней улыбался Младенец.
«Будущее всегда в яслях, — изрёк один из них. — В него остаётся верить…»
«И надеяться…» — тихо вымолвил другой.
«И любить…» — прошептал третий.
Потоптавшись, они с поклоном сложили у входа самое дорогое, что было при них: меч, лекарство и слово…
РАЗОБЛАЧЕНИЕ ГЕРОСТРАТА
Ксанф. Осень близится. У меня рубаха прохудилась — верный признак. Тут у каждого своя примета. У меня — рубаха, у философов к осени желчь разливается. (Смотрит на Герострата.) Нахохлятся, как воробьи, и тоскуют… А вчера пьесу новую давали. Один философ, чучело огородное, в угол забился и причитал: «Болен я! Как распустившийся внутри цветок цикуты, как скорпион, заведшийся внутри, меня он жалит — страх небытия, — и мысль о бренности, как вертел, прожигает мозг, и сердце студит мне могильный холод!» И дальше в том же духе. Я подумал: «Уж больно ты серьёзен для сгустка слизи, вот и вся болезнь!» (Смеётся.) И вообрази, Герострат, пока эта мокрая курица заламывала руки, хор подхватывал: «Что слышим мы? Опять — “где справедливость, боги?” — ропщет смертный, опять свою он участь проклиная, скорбит и сетует, и камни, растроганные воплями его, рыдают, и льются реки слёз, и солнце отвернулось от такой печали, и ветер дувший онемел, затихнув вдруг!» Представляешь? Я, правда, не раскусил, комедия это была или трагедия, но хохотал до упаду.
Герострат (тихо). Глупцу легко живётся.
Ксанф. Да, весело было… Но чего ты молчишь? Ещё же не умер.
Герострат. Зато ты гудишь, как пустая бочка! (Присматривается.) Или «сатиру в свите Диониса слова скользки — его несёт по ним, как бегуна по маслу из оливы?»
Ксанф. Ты это, Герострат, брось… Я не пьян… Конечно, развели с друзьями… Но совсем немного… Купцы клялись Гермесом, что вино из Аттики… Пахнуло сразу домом, как было удержаться? А вино, и вправду, оказалось славным, не то, что местное — бр-р! — от которого облысел твой отец.
Герострат. Но мой отец не был лыс!
Ксанф. Разве? О мёртвых много болтают. Только что им до этого?
Герострат. Эх, Ксанф, как мало слов, как много заблуждений! Не ты ли сам мне только что поведал, как чашу пригубил, как запах в ней лозы, знакомый с детства, тотчас вернул тебя к родному очагу? И это, Ксанф, ничтожный запах! А языки всесильны и подавно. Ведь «сколько раз ты на земле помянут будешь, то столько же вернёшься ты назад». (С пафосом.) Бессмертье смертного, единственная вечность, тот остров, которого не смыть реке времён, — всё это, Ксанф, людская память. Добраться до него и уцелеть, спастись, не дав сырой земле сравнять и муки, и страданья, не сделав их напрасными, — вот смысл и назначенье жизни. Иное — тлен, обман, придуманный, чтоб скрасить неудачи, чтобы прикрыть никчёмность тех, кто не добрался, чтобы утешить их риторикой пустой. Однако же как раб льнёт к новому хозяину с надеждой, так льнут к нему. Ведь страшно как, когда крадётся старость — тень холма могилы, и впереди — бессмыслица и тьма, и плакать без толку, а плачешь и думаешь: «Какой-то Герострат — одно из сгинувших в безвестности имён». Тогда — что чёрствый хлеб, что блюдо из фазана…
Ксанф (передразнивая). Ах, вот о чём скорбишь! Чужая слава застит свет, кусает зависть бешеной собакой! Бьюсь об заклад, ты молишься, чтобы не стёрся набор случайный букв, присвоенный без спроса при рождении.
Герострат. Ты издеваешься?
Ксанф. Да что ты! Папирус, свитки, глина и пергамент — быть нацарапанным на этой саже времён истлевших жаждет каждый, не замечая, что они — круги на Лете.
Герострат. И пересмешнику не избежать конца.
Ксанф. И каркающей вороне.
Герострат (после паузы). В одном ты прав: творцы умерших славы — летописцы. Не будь слепца — никто не знал бы Трои, а Кир и всё его величье уснули бы навек без Ксенофонта. Так чем же их привлечь? Я много думал и понял: надо сделать так, чтобы писали — «как Герострат». Стать эталоном нужно. Но вот беда: полна уже копилка! Она, как постоялый двор, где ложи заняты. Доблесть — спартанцем, скупость — лидийцем, дружба — фиванцами…
Ксанф. А святотатство — варварами?
Герострат. Вот-вот, спали я завтра храм — им уподобят. Но кто избранники? Сократа прославила цикута, Эдипа — брак с матерью, Ксеркса — причуда высечь море. Я опоздал, все маски разобраны, остаётся самая презренная — маска глупца.
Ксанф (убегая). Безумец!
Гениальный Герострат, отомстивший за всех безвестных! Ты заслужил бессмертие, тебя помнят, узнавая себя, слыша в твоём имени легион исчезнувших имён.
ВЕЧНАЯ ПЕСНЬ
Я, Тит Адриан Клодий, помощник претора, продолжаю их ремесло. Мною пугают детей, и мужчины, увидев меня во сне, вздрагивают. Я знаю, что меня ненавидят, я повсюду, как на иголки, натыкаюсь на косые взгляды и молчаливые проклятия. Пустяки, лишь бы боялись!
Из услышанного мною можно составить дюжину книг. В неясном дрожании факелов писец выводит признания — я умею развязать язык, прежде чем его вырвать. Бледный от сырости каземата, он кутается в широкий плащ, скорчившись на камне так, что у него затекает шея, но дощечку с коленей не опускает. Я умело расставляю силки из слов, а он следит, когда в них попадётся птица. «Раньше было другое!» — звенит он колокольчиком, поднося мне свои протоколы. У букв мёртвая хватка! Когда-то помощник вздрагивал при треске костей, его руки дрожали, а палочка валилась из пальцев, как птенец из гнезда. Теперь он смеётся, точно мальчишка. Впрочем, арестованные платят той же монетой. Помню, как сломленный дыбой заговорщик с синими, словно у мертвеца, губами пробормотал сквозь запёкшуюся кровь: «Наклонись, я шепну тебе имена сообщников…» А когда я приблизил лицо, воткнул мне в глаз палец. После он выл от боли, умоляя его прикончить, и в сравнении с его муками танталовы казались блаженством. Но разве его жизнь стоила моего увечья?
В молодости мой помощник изучал философию. Он гордится тем, что плавал в Грецию, где постиг логику, которой не хватает у нас. «Как можно изучать то, чего нет?» — удивляюсь я. Мой отец вышел из таверны, где всю ночь разбавлял воду вином, но его голова оставалась ясной. В ней роились мысли о врагах цезаря, которые повсюду точат ножи. На улице его раб шарахнулся, вместе с тенью от факела, а отца затоптал конь. Им правил городской квестор. Я вызывал его в суд, беря в свидетели небо, но адвокат захлёбывался слюной, и квестору всё сошло с рук.
Моя сестра была весталкой. Ей поклонялись, как богине, целуя её следы и молясь её косам. Сорвав белое покрывало, её закопали заживо, когда она нарушила обет целомудрия. А в её позоре был виноват трибун, бойкий краснобай, говорливый, как трещотка. Он встал под защиту сената, и опять я, бессильный, кусал локти.
После случившегося я стал ходить в лупанарий, забываясь среди гетер, и одиночество теперь кружит надо мной, как ворон.
Однако в Риме свой календарь: за июлем следует август. Когда в казначействе не досчитались бочонка талантов, подозрение пало на квестора. Как это бывает в час заката, его тень удлинилась в сторону моего подземелья. Здесь он смотрел на меня с молчаливым презрением до тех пор, пока раскалённый крюк не проткнул ему щёку. Ползая на четвереньках по каменному полу, он признался, что в ту ночь проиграл в кости больше сестерциев, чем серебра в его рудниках. Дорогой он вымещал злобу на скакуне и задавил кого-то, о ком наутро забыл.
«Улица оказалась узкой, а конь — тучным», — оправдывался он, захлёбываясь кровью, как прежде — ложью.
И я не упрекал его. Ибо смерть переворачивает всё с ног на голову. «Убей врага — заведёшь друга, — говорят германцы. — Провожая на Елисейские поля, он зажжёт лучину, которой осветит путь…» И я надеюсь, что тень квестора встретит меня за Ахероном, не тая обиды.
Затем звёзды отвернулись от трибуна. Он попал под проскрипции и спустился ко мне в сопровождении ликторов, всё ещё веря в свою неприкосновенность. Эта вера покинула его вместе с мужской плотью, которую я скормил псу, — часом раньше мне сообщили, что сенат не нуждается в его откровениях. Такой болтливый, он навеки замолчал, и я не знаю, понял ли он, что сказал из того, что говорил.
Патриции и плебеи, клиенты и вольноотпущенники — все спускались ко мне, как в царство мёртвых — наверх не поднялся ни один. «У тебя, как в банях, — однажды сострил император, — все одинаковы».
Так, карая его врагов, я губил виновников своей неизбывной тоски. «Богу — Богово, кесарю — кесарево», — говорил иудей, сгнивший у нас за тюремной решёткой. Глазастый, как муха, он припадал к железным прутьям и повторял, что прощение — благо, называя преступниками тех, кто небесной славе предпочёл земной почёт. Перед смертью он глухо пророчествовал, будто не за горами времена, когда придётся ответить за каждую царапину. «Милосердие — удел сильных, — возразил ему писец, — а не такой мерзкой вши».
Возлежа вечером на пиру, мы топили в вине эти безумные речи, грозя гвоздями из распятий сколотить вокруг Рима забор, однако слова, как сажа, — когда дым рассеивается, остаётся пятно.
Теперь легионы теснят варваров, и римские орлы будут утверждены скоро на берегах Рейна и Евфрата. Тогда, верит писец, наше искусство исчезнет. Но это заблуждение. Наше дело вечно, как огонь, который поддерживала в храме моя сестра.
«Поджаривая лепёшки на раскалённых клещах, писец сглотнул слюну, а после вытер о тунику жирные ладони…» — шевеля губами, водил по строчкам Тициан Андрэ Клодель — добровольный экзекутор французской Республики. Книга принадлежала аристократу, голову которого он вчера показал черни, прежде чем швырнуть в корзину. Имущество подлежало конфискации, и книга досталась палачу. «Что римляне? — думал Клодель, уперев в буквы крючковатый палец. — Горстка властолюбцев, несших пороки на острие своих копий. Они заботились о величии Города, разнося по миру его заразу. “Свобода, равенство, братство!” — вот слова, ради которых мы готовы одинаково — умереть и убить. Во имя них я буду искоренять врагов народа, как чесоточных овец, во имя них стучат сегодня тысячи голов, скатываясь по ступеням эшафотов, которые для Франции — лестница в небо!» Клодель захлопнул книгу. Зачем читать чужую исповедь, если можно написать свою? Сунув топор в чехол, он медленно зашнуровал камзол, помечая продетыми отверстиями её главы.
«У моих предков, бретонских крестьян, земли было с ноготь, а в карманах гулял ветер. От зари до зари они гнули спины, а в голодные годы промышляли браконьерством в лесах, принадлежащих короне. Охота кормила всю семью, а кончилось тем, что за пару куропаток отца затравили борзыми королевского егеря, и он стал похож на чучело, из которого вместо соломы торчат осколки костей. Лесничий свалил его с телеги посреди нашего двора, бросив возмещением экю. Мы высыпали из избы; шмыгая носом от бесконечных простуд, долго смотрели на мертвеца, который ещё утром был нашим отцом, и наши щёки вспоминали его поцелуи.
Я был старшим — и ушёл на заработки. В Сент-Антуанском предместье я устроился в мясную лавку, где немел от работы, как чурбан, который с утра до ночи кромсал мой топор. Однако я едва сводил концы, и дыр в карманах у меня было больше, чем мух в лавке. А через год ко мне перебралась сестра…»
Клодель криво усмехнулся.
«Судьба ко всем благосклонна, но не дай бог попасть ей под горячую руку! Однажды коровья туша сорвалась с крюка — я слёг в постель, из которой поднялся горбуном. Сверля взглядом спину, меня находят теперь на голову ниже себя, а я, засучив рукава, уравниваю в росте…»
Клодель обвёл комнату бесцветными глазами, почесал проплешину, соображая, всё ли собрал.
«А он был красив, этот аристократ, женщины от таких без ума. И знал столько, будто родился стариком. “Если у меня останутся желания после того, как ты отрубишь голову, я подмигну”, - предложил он на эшафоте. “Это ни к чему, — рассмеялся я, — мёртвые щёлкают зубами, как живые, — мне приходится каждую неделю менять искусанную корзину”. И отрезав кружева на воротнике, нагнул ему шею. Все выбирают между плахой и топором. При иных обстоятельствах я мог бы стать крёстным его ребёнка, а вместо этого, чтобы сбить спесь, нацепил ему перед смертью красный колпак».
Клодель сжал кулаки.
«У революции свой календарь: брюмер сменяет термидор. И я помню, как первая кровь с моего топора закапала на дощатый помост. Толпа рвала на части дворянина. Горланя перекошенными ртами, женщины кололи его булавками, а дети поражали из пращей. Но он оказался на редкость живуч. Убийцы уже устали, а он всё не умирал. И постепенно, охваченные суеверным ужасом, все опустили руки, уже никто не решался добить его. Он корчился перед своим домом на досках, положенных мостками поверх булыжников от дождевых ручьёв, и обводил толпу заплывшими глазами. Раздвинув ряды, я вышел вперёд. Лицо этого человека было страшно изуродовано. Но я узнал его: это был королевский егерь…
А теперь работы непочатый край. Мой писарь строчит так, что у него затекают пальцы. На допросе слово перестаёт быть Богом, в каждом из слов открывается дорога на эшафот. Роялисты, жирондисты, якобинцы, санкюлоты — шли по ней мимо нас. “Мы, как святые отцы, — шутит писарь, — никому не отказываем и всех провожаем”. Ходят слухи, будто он любит всё острое — пики с вздёрнутыми головами, словечки, которые при их виде вырываются у толпы, и посыпает голову перцем, а лук закусывает чесноком. Но он весёлый малый и даже яблоки ест с косточками. Его рекрутировали в армию, и, прежде чем найти тёплое место, он досыта насиделся у походных котлов, пряча ложку за голенище. От криков он поначалу затыкал уши, а потом привык — как в солдатах к барабанному бою. Когда он вспоминает, что его товарищи, помочившись на тлеющие костры, глотают пыль в шаге от смерти, — смеётся…»
Клодель покосился на книгу — после кончины человека его вещи приобретают особую значимость.
«Да, смерть всё переворачивает! Этот аристократ был так молод, и я бы мог освободить его в тюремной неразберихе. Но не стал. Он был любопытен, и всё же не узнал главного: что горничная, которую в одну из душных летних ночей он мимоходом обесчестил на постоялом дворе, была моей сестрой. Я лежал с перебитой спиной, хозяева прогнали её, и она пошла по рукам. Бедная сестра! Её пепел стучит в моё сердце: когда-то она потеряла из-за этого аристократа голову — вчера он потерял из-за неё свою».
Охлаждая камин, Клодель ворошил угли, которые вспыхивали под кочергой красными языками, отбрасывая тени то в один, то в другой угол.
«А разврат ходит по рукам, как деньги, и нет выхода из его круга, — продолжал размышлять экзекутор. — Марая невинных, к виновным он возвращается кровью! Тогда грех меняет личину, и вместе с расплатой приходят другие времена. Так люди и мечутся между казармой и борделем. Мне, Тициану Андрэ Клоделю, милее казарма. И Богу тоже. Иначе, зачем Ему устраивать Суд?»
На мгновенье Клодель замер, подняв глаза к потолку. У него навернулись слёзы, будто в разводах на извести проступил силуэт сестры, чертившей земным владыкам грозное предупреждение.
«Бог не допустил, и я остался девственником, — обратился он к ней. — “Чудовище! — шарахаются женщины, показывая на меня пальцем. — Он точит зубы о камень, как нож гильотины!” Пусть судачат, страх сильнее любви, а друзья, что тени: в солнечный день не отвяжешься, в ненастный — не найдёшь».
«Клодель сунул книгу подмышку и, поправив в зеркале перья на чёрной шляпе, вышел на улицу: дверь скрипнула, будто каркнула ворона…»- чеканил слог молодой человек с прилизанными усами. Он стоял навытяжку, держа перед собой листки, по которым скользил взглядом, как метла по льду.
— Ну за-ачем ты читаешь мне эту дребедень? — откинулся на стуле Тимофей Андреевич Клодов, следователь по особо важным делам, и его руки заметались над столом, как мухи. — За-ачем объяснять сороконожке, ка-ак она бегает?
Молодой человек пожал плечами.
— Это стенограмма ночной смены, — протянул он бумагу. — Вы же им сами велели — каждое его слово.
Следователь вскинул бровь.
— Ах, вот оно ка-ак…
За окном била метель, холодный ветер швырял в лицо снег, как прокурор — обвинения. Сделав по кабинету несколько шагов, Клодов уставился в осколок зеркала над умывальником. Косая трещина, словно шрам, разрезала надвое его опухшее от бессонницы лицо, задрав щёку на лоб.
— А может, в ночную переусердствовали? — обняв горло пальцами, молодой человек покрутил затем у виска.
Клодов развернулся, как кукла:
— Да нет, это не сума-асшествие.
Он пристально посмотрел на секретаря, точно пересчитывал пылинки на его гимнастёрке.
— Раньше где слу-ужил?
— При полевой кухне.
— Зна-ачит, перевели за чистописание, — коротко рассмеялся следователь, будто яблоко переломил.
И опять повисла тишина. Редко капал умывальник, где-то за стенкой глухо пробили часы.
— А ведь у меня с за-адержанным ста-арые счёты, — Клодов наморщил лоб, и в бороздах у него проступило прошлое. — Ещё с ги-имназии… — Достав из нагрудного кармана платок, он промокнул залысины, словно собирался вместе с потом счистить и прошлое. — Эти истории, — ткнул он в бумаги, — вызов мне.
Стиснув зубы, он опять зашагал по комнате, будто отмерял расстояние для дуэли. На мгновенье его лицо сделалось страшно, шея вздулась, под кожей заходили желваки. Вытянувшись по струнке, секретарь посерел, как мочёное яблоко.
— У каждой исповеди есть изнанка, — остановился возле него Клодов, сузив зрачки, как змея, готовая ужалить. — И прежде чем спуститься к нему в подвал, я хочу в его… — он опять ткнул в бумаги, подбирая слова, — э-э, басню, вложить свою мораль.
Теперь он казался спокойным и почти не заикался.
— Наш подследственный был из тех, кто от рождения с судьбой на «ты», — начал он, скребя пальцами о ладонь. — Его отец владел красильнями, где работал весь город, а мой, подорвав там здоровье, кашлял от чахотки. В зимних предрассветных сумерках я тащился в гимназию мимо огромных, выше роста, сугробов, за которыми прыгали в избах лучины, и мои мысли были тяжелее ранца, когда его сани обгоняли меня, обдавая снежными брызгами, щёлканьем кнута и смехом, долго звенящим на морозе. Я помню разгорячённого водкой кучера, молодого рыжего дурня, который, равняясь, гаркал: «Посторонись!», а потом дразнил, бросая через плечо ездоку: «Не извольте беспокоиться, в аккурат доставлю!» Меня душило бешенство, но я лишь расстёгивал воротник у драного пальто. Это в рай на чужом горбу не въедешь, думал я, к земным почестям по-другому не добраться!
Учёба давалась ему легко, и пока я клевал носом от постоянного недосыпания, его тетради пестрели похвалами. Мы не были ни друзьями, ни соперниками: разве лошадь замечает метнувшуюся под копыта мышь? Мальчишки все ранимы, и, хотя он не задирал нос, любой его жест казался мне оскорблением. На уроках математики я бился над уравнением, в котором на его долю выпало столько же счастья, сколько на мою слёз. А потом он стал уха-аживать за сестрой… — Клодов брезгливо дёрнулся, будто ему на штанину помочилась собака. — По утрам он оставлял на крыльце букеты с записками, которые я, встав пораньше, рвал вместе с розами, кровавя ладони о шипы. Для него это было мимолётное увлечение, для меня всё оборачивалось перешёптыванием соседей, их сальными намёками на оказанную честь. Однако бедность загнала нас в угол, как крыс, отец стал похож на своё отражение в мутной луже, и, чтобы его не лишили места, приходилось закрыва-ать глаза… — Клодов постучал папиросой о портсигар и, надев мундштук, жадно закурил. — А когда отец умер, — его голос дрогнул, но он взял себя в руки, — а когда отец умер, я не выдержал: во время прогулки отпустил колкость, он дал пощёчину, и мы подрались. Он был кровь с молоком, а меня ветром качало, но злость придавала мне сил. И всё же он избил меня… — Клодов отмахнул дым, в просвете нервно заблестели глаза. — После этого все от меня отвернулись, и я наживал врагов с той же быстротой, с какой терял друзей. Гимназия ещё открывала для меня двери, но на невинных — все шишки: вскоре кто-то донёс, и меня исключили. А школьный дядька, искалеченный японским штыком, выслуживаясь, выпорол меня на прощанье, как сидорову козу. С тех пор я заикаюсь…
Секретарь боялся пошевельнуться: кто слышит откровения начальника, тому не сносить головы. Он стоял с кислой миной, будто ему на усы плеснули рассолу. Но следователь смотрел сквозь него, будто был один.
— С гимназической скамьи меня отпустили на все четыре стороны, но обида, как испорченный флюгер, развернула меня к его фамильному особняку. Это была месть, да и кусок хлеба на дереве не растёт, одним словом, я залез в дом. Вор из меня вышел никудышный, и я загремел в участок… — Клодов согнулся, точно опять взвалил тяжесть краденого. — Сейчас он выставляет меня опричником, а у самого брат — жандармский ротмистр. Он-то и спустил с меня семь шкур, прежде чем отправить по сибирскому тракту. И пока я звенел кандалами, пухнув на хлебе с водой, мой обидчик читал дамам стихи про ананасы в шампанском… — Стиснув челюсти, Клодов стал похож на бульдога. — Но жизнь переменчива, как правда под пыткой: все думают скользить по ней, как Иисус по водам, а спотыкаются, будто на ступеньках в ад. У России особый календарь — за февралём приходит октябрь. Когда я вернулся, вокруг уже размахивали кумачом, жгли усадьбы и распевали про новый, прекрасный мир. На висках у меня играла седина, но ведь каждый навсегда остаётся во временах своей юности. Водоворот развёл нас, как щепки: он пошёл добровольцем в Белую Армию, я вызвался в Комиссию…
Клодов глубоко затянулся.
— «Час искупленья пробил!» — натянуто улыбаясь, вставил секретарь. — Наш колокол разбудил человечество.
Клодов поднял на него глаза, точно впервые заметил.
— Брось, — устало перебил он, — человечество уже тысячи лет просыпается не в ту сторону и встаёт не с той ноги.
Он расставил пятерни, как хищная птица, вонзившая когти в стол.
— Раз ко мне привели рыжебородого мужика, его взяли спросонья, и он, шаря по стенам осоловевшими глазами, никак не мог взять в толк, где находится. Я уже не помню, в чём его обвиняли. «Раздобрел ты на барских харчах — в райские ворота не пролезешь, — усмехнулся я, прежде чем накормить его пулями. — Однако не изволь беспокоиться, в аккурат доставлю!» И он сразу вспомнил зимние утра, сутулую фигуру на заснеженной дороге, которую так и не обогнал…
С хрустом разогнув пальцы, Клодов приподнялся, сделавшись выше макушки.
— Шли годы, и чем дальше, тем больше я понимал, что одни на «ты» со своей судьбой, другие — с чужой. Когда я отбывал каторгу, мой обидчик женился, взяв девушку из своего круга. У него родилась дочь, которой я мог стать дядей, и он думал, что живёт в раю, будучи в двух шагах от ада. А сестра скончалась у меня на руках. В тифозном бараке, бритая наголо, она стала страшнее собственного скелета, но бредила, будто тайно обвенчалась с ним, когда он привозил ей охапки роз… А теперь он решил сделать из меня Великого Инквизитора, рассказывает так — комар носа не подточит! Только меня не проймёшь — шлёпнул отца, расстреляю и сына!
Клодов смотрел на снежинки, точно считал, сколько прошло через его руки. Он припомнил оскаленное лицо жандармского ротмистра, молящие глаза школьного дядьки, искалеченного японским штыком.
— А головы всегда летят, — открестился он от убитых, — и голова Олоферна лежит на одном подносе с головою Предтечи.
Сложив ногти, секретарь стучал ими по зубам, будто ковырял зубочисткой. День, серый, ненастный день висел за окном самоубийцей, на которого больно смотреть.
— На земле все — вурдалаки, — задёрнул шторы Клодов, — захотелось крови попить — вот и вся любовь. — Он перешёл на хриплый шепот: — Ведь и ты, небось, любишь врагов народа, когда из них жилы тянешь?
Секретарь ответил неприятной, узкой улыбкой. Клодов подошёл к умывальнику, зачерпнул шайкой из ведра.
«Сегодня арестованный сдаст нам эмигрантское подполье, но прежде — полей мне, бумажная душа, — убива-ать нужно чистыми руками…» — зевнул падший ангел, листая загробный кондуит. Он расстегнул пуговицу и, нагнувшись, подставил волосатую спину. Сидевший на камне мелкий бес, вынув из-за уха гусиное перо, бросился лить воду. Сатана фыркал, как кот, точно хотел смыть прочитанную историю, но она не шла из головы, напоминая ему собственную.
— И кто же из этих двоих у нас?
— Оба, — хихикнул бес. — Пожили у Бога за пазухой — пора и честь знать!
Он раскрыл книгу, строки которой налились кровью. Сатана распрямился и, перебросив хвост через плечо, стал чертить на песке.
— Как ни крути, — задумчиво изрёк он, — а из песни слов не выкинешь.
— Попал в неё куплетом — изволь быть пропетым! — опять хихикнул бес.
На земле прокричали петухи. Шагая след в след, на неё блудным сыном возвращался день.
— Я уже подтёр имена, — угодливо завертелся бес. — Вписать новые?
ПОРТРЕТ НА ФОНЕ ЭПОХ: АНДРОНИК КОМНИН, НЕПРАВЕДНЫЙ ИМПЕРАТОР ВИЗАНТИИ
В пурпурной палате Большого дворца, где с евклидовых времён появлялись на свет императорские дети, в ночь Страстей Господних родились два мальчика. Один был сыном василевса, другой — сыном его брата. На небе закатилась пара звёзд, пара орлов опустилась на башню Священного замка, пара путников постучала своими посохами в Харисийские ворота. Первый назвался Ману-илом, второй — Андроником, и на постоялом дворе между ними вспыхнула ссора. Утром, когда они исчезли, о них забыли и вспомнили этот случай, лишь когда порфирородные Мануил и Андроник стали подрастать[2]. Они — центральные фигуры летописи, которая больше, чем летопись Византии. Это история странных взаимоотношений, укладывающихся разве что в садомазохистские схемы.
Выбранный ракурс изобличает в авторе человека позднейшей, испорченной психоанализом эпохи. «Их запомнят вместе, а не порознь, — рассуждает он. — Мануил и Андроник — это зеркальные половинки, исчезавшие друг без друга. Их путь начался в детской и, в сущности, за неё не выходил. Одному власть досталась по наследству, другой упорно за неё боролся, точно за мяч соперника». Демонстрируя удаль, Мануил сражал латинских баронов — Андроника отличала геркулесова мощь[3]. Они любили сражаться впереди фаланги, шедшей под звуки тимпанов и литавр. Раздвинув ряды, вызывали на схватку неприятельского вождя и, выбив из седла, бросались в гущу боя.
В описании Луганеса Андроник предстаёт в длинном фиолетовом плаще и остроконечной варварской шапочке, поглаживающим чёрную, завитую бороду обычным для него в минуты волнения движением. Он был остр на язык. «Никто не мог противиться этой обольстительной сирене, прощая ему непозволительные выходки и порочнейшие страсти», — писал один современник, на которого ссылается Луганес[4].
Когда Бог прибрал василевса, царскую диадему надел Мануил. Он так торопился в Святую Софию, что бросил Андроника, попавшего в сарацинский плен. Андроник позаботился о себе, но с тех пор затаил глухую обиду. В январе месяце, в шестом индикте 6654 года, Мануил женился на франкской графине. Она не белила лица и не подводила ресниц, презирая женщин, предпочитающих искусство природе. Её чрево, проклятое патриархом, оставалось бесплодным. И это оправдывало мужа, содержавшего фаворитку, свою племянницу. Её брат получил сан протосеваста, зять — великого доместика схол. Надменная фаворитка однажды убила соперницу, оспаривавшую сердце царя. «Люта, как преисподняя, ревность, стрелы её — стрелы огненные», — комментирует наш летописец. Он часто сопровождает мысль библейской цитатой, но в отличие от православных дидактиков нередко приводит Коран и допускает аллюзии на сутры.
Андроник был также женат. Но из зависти к почестям, сыпавшимся на семейство фаворитки, соблазнил её сестру. «Полагается подданным следовать примеру своего господина, — куражась, отвечал он на все укоры. — И произведения, выделываемые в одной мастерской (эвфемизм Луганеса, у Хониата Андроник выразился грубее), должны одинаково нравиться».
И его спровадили.
Придав ему тагму «бессмертных», пополнявшуюся из детей убитых воинов, отправили воевать в Киликию.
Под её знойным небом, в горах, где скорпионов больше, чем камней, он дал себя разбить[5]. Он сделал всё, чтобы вернуться в столицу[6]. Тогда его сослали на границу с мадьярами. Но и там он остался верен себе, сойдясь с их королём. Андронику грозила плаха. Однако Мануил проявил великодушие, вернув брата ко двору.
И Андроник возобновил прежнюю связь. А однажды угодил в ловушку. Родственники его возлюбленной, имена которых валяли в грязи, решили смыть позор. Их вооружённая челядь окружила палатку с любовниками, приготовив кинжалы. Прочувствовав опасность, женщина хотела позвать горничную, веля принести огня, чтобы Андроник мог убежать переодетым прислугой. Однако, боясь показаться смешным, он отверг предложение. С криком, что дорого продаст жизнь, он обнажил меч, рассёк полотно и огромным прыжком перескочил через карауливших. В этом эпизоде Луганес забавно обыгрывает античное «как бог из машины»: «Андроник никогда не ждал бога из машины, он сам для себя был deus ex machina».
Неизвестно, покушался ли он на царскую жизнь, но однажды, увидев, как Андроник, вместо конюха, холил лошадь, Мануил удивился. «Это для того, — ответил Андроник, — чтобы убежать, когда отрублю голову злейшему врагу».
После этого его заточили.
Он томился в дворцовой башне девять лет, девять долгих лет по соседству с весельем царских пиров, которые наблюдал, жадно припав к забранному решёткой окну.
Много воды утекло за эти годы, много кубков осушили за царское здоровье, много сплетен разнеслось по свету. Овдовев, Мануил в окружении варваров — генуэзцев, венецианцев и сицилийских викингов, грозно размахивавших тяжёлой секирой, — отправился в Антиохию[7]. Копьё крестоносцев утвердило там латинскую принцессу, и он скакал туда, покорённый её красотой. А после венчания толпа, подогретая раздачей монет, провожала чету до дворца, и невеста, вкушая радушный приём, не подозревала, что узник одного из его казематов через двадцать лет уготовит ей ад. Она не слышала, как, призывая в свидетели небо, он скрежетал зубами, клянясь отомстить. Когда же, простукивая пол темницы, он обнаружил заброшенный водопровод, где во мраке грызлись крысы и, держась стен, точно пьяный, двигался воздух, у него мелькнула надежда.
Всего три года, отсчитанных по биению сердца, понадобилось ему, чтобы сделать дыру, ведущую в бездну. Там он и спрятался. Едва сдерживая хохот, изобретательный, как Одиссей, он слушал возгласы удивлённой стражи, вспоминавшей лесных оборотней и египетских колдунов, с которыми состязался Аарон. Крики тюремщиков вызвали переполох. Спешно, точно за стеной враг, затворили городские ворота, обыскали дремлющие в гавани корабли, разослав повсюду гонцов. В припадке мстительного испуга арестовали жену Андроника и, создав этим шедевр комедии положений, бросили в ту же самую камеру, где был муж. Ночью, выйдя из подземелья, он предстал перед поражённой. Она решила, что встретила привидение, но он доказал ей противное. «Раскаиваясь в изменах, он помирился с женой, — сообщает источник. — И спустя положенный срок у неё родился ребёнок».
Через неделю, когда утихли страсти, он проскользнул мимо охранников и бежал из крепости, города, императорских владений. Он уже достиг Азии — приюта всех беглецов. И тут жестокие морозы принудили его обратиться к рыбакам. Его узнали и, невзирая на уловки и мольбы, выдали императору.
Андроника водворили обратно, приказав стеречь пуще зеницы ока.
Но через шесть лет, когда бдительность сторожей уступила лени, он получил слугу, которого уговорил снять с ключей слепок. Жена Андроника сделала отмычки и в бочке с вином передала верёвку.
Башня выходила во дворик, заросший густой травой. Он террасой высился над морем. Чтобы обходчик ничего не заметил, Андроник плотно закрыл дверь и, притаившись в траве, ждал темноты. Светили звёзды, и луна покрылась пятнами, как леопард, когда он зацепил верёвку за наружный зубец и бесшумно соскользнул на морской берег. Там его ждала лодка, и он уже ликовал. Но с тех пор, как два века назад Иоанн Цимисхий, подплыв, зарезал Никифора Фоку, дремавшего на шкуре снежного барса, по всему взморью расставили посты. И Андроник, забыв о них, впотьмах наткнулся на дозор. Он готов был себя убить! Но его выручила находчивость. «Я сбежал от жестокого хозяина, — упал он на колени. — Не выдавайте меня!» На ногах у него звенели кандалы, он нарочно коверкал слова, как последний варвар, а сметливый лодочник поднял крик, требуя его возврата. Оскалившись в переменчивом свете факелов, стражники вернули мнимого раба мнимому господину. Андроник налёг на вёсла, пришпорил коня и под утро был у границы. Он уже верил, что спасся, когда его узнали валахские пастухи. Как и шесть лет назад, его схватили на пороге свободы! «Всякий бы растерялся на его месте, — продолжает летописец, — всякий, но не Андроник». Он притворился, что у него колики, держась за живот, выпросил позволение отойти с дороги. Забравшись в самую чащу, воткнул в землю палку, задрапировал её своим плащом, надел сверху шапку, придав вид человека, присевшего на корточки, а сам, почти голый, удалился ползком с быстротой ящерицы[8].
Минуя земли болгар и дикие половецкие степи, он добрался до славян, разделив с их князем и стол, и кров. И вскоре на имперском горизонте замаячили всадники с притороченными к сёдлам луками. Их кривые сабли засвистели над греческими головами. Андроник-предатель вёл степняков на ромейские города.
И Мануил был вынужден снова его простить.
А при дворе Андроник опять заставил говорить о себе. Когда Мануил, не имевший сына, потребовал присяги для своей дочери от немки, он заявил, что василевс ещё не стар. Он говорил о семени Авраама, а главное — что стыдно подчиняться чужеродцам. Он стал бельмом на глазу, и его вновь отлучили. Как и четырнадцать лет назад, отправили в Киликию. Как и четырнадцать лет назад, он дал себя разбить.
В Антиохии расцветала новая роза, превзошедшая, по слухам, супругу Мануила — свою сестру. И Андроника опять захватило болезненное соперничество, он должен был доказывать, что ни в чём не уступает царю. В короткой тунике, подчёркивающей горделивую осанку, в окружении белокурых пажей с серебряными луками Андроник прогуливался под окнами избранницы. Вспыхнувшая страсть освещала его лицо. И девушка уступила. Влюблённая, она жила только Андроником, когда, прихватив казну, он бежал.
Теперь он метался, сжигая мосты. Как змея, пригретая на груди, он отплатил гостеприимным франкам, похитив их королеву, племянницу Мануила. В том, что избранницы Андроника были с ним в близком родстве, Диль усматривает лишь «нечистое удовольствие преступать в любовных связях законы гражданские и церковные». Лу-ганес же увидел здесь психоаналитическую подоплёку. Точно птицы, на которых расставили силки, с двумя родившимися детьми, беглецы скитались по Востоку. И, несмотря на невзгоды, несмотря на семейную обузу, Андронику, обыкновенно такому ветреному, не приходила мысль бросить возлюбленную. Наконец, турецкий эмир, сжалившись, подарил Комнину крепость у византийской границы. Тот превратил её в разбойничье гнездо. Он опять жил набегами, поставляя соотечественников на невольничьи рынки. Его отлучили от церкви. «Нет ни мусульманина, ни христианина», — смеясь, переиначил он апостола. Только когда захватили его детей, Андроник решил покаяться. Блудный сын, вернувшись в лохмотьях ко двору, он обмотался железной цепью и бросился ниц, обливаясь слезами. Он хотел, чтобы скопцы волокли его за цепь к подножию трона, как пленника, и там поклялся, по варварскому обычаю, копьём, которым проткнули Спасителя, что не заведёт больше смуты. Едва сдерживая рыдания, Мануил в ответ поклялся, что не держит на него зла. Берег Чёрного моря, соль которого — это слёзы потерпевших кораблекрушение, стал для Андроника местом почётной ссылки. Шестидесятилетний бунтарь, с сединой в волосах, но ещё крепкий и пылкий, жил там воспоминаниями.
Когда во втором индикте 6628 года император заболел, то, уповая на обещания халдейских мудрецов, пренебрёг завещанием. На смертном одре он бредил женщинами. А когда его похоронили, власть перешла вдове. Против неё устраивали заговоры. Народ раздражало, что она потакала латинянам, умевшим лучше плевать, чем говорить, и повторявшим греческие слова так же грубо, как эхо — звуки флейты. Все ждали мессию. И тогда, опираясь на клятву Мануилу, Андроник поднял восстание. Его встречали как освободителя. Напрасно Андроник Ангел, верный присяге полководец, пытался вступить с ним в бой. Солдаты изменили, и он перешёл к Андронику, который встретил его каламбуром: «Вот оно, слово Евангелия: пошлю тебе Моего ангела, да уготовает тебе пути твои!»
Но оставались ещё наёмники. Справиться с ними было не так легко. И Андроник выпустил на них чернь. Весь константинопольский сброд хлынул в латинский квартал, выплеснув десятилетиями копившуюся злобу. Резали всех без разбора, сжигая дома. «На иноземцев кидались так, будто они не такие же дети Слова, как и мы, а живущие в пещерах троглодиты, — свидетельствовал летописец. — Но эти саламандры заслужили золу и пепел!» В своём гиперболизированном рассказе об избиении в латинском квартале Диль искренне поражался масштабам бессмысленной жестокости. «О, времена, о, нравы!» — восклицал по этому же поводу Луганес, переходя с греческого на латынь. И здесь слышится ирония человека, пережившего Хиросиму.
Склонившись над саркофагом Мануила, Андроник притворной скорбью растрогал даже стены. С дрожью в голосе он попросил всех удалиться, чтобы в одиночестве побеседовать с покойным. «Тебя пробудит лишь трубный ангел, а я отомщу тебе на твоём роде! — вот что вложила в его уста молва.
Первой исчезла дочь Мануила. Её отравил яд, брошенный в кубок из-под ногтя. Месть Антиохийке была изощрённее. Её судили, и с одобрения некогда рукоплескавшей ей черни, вынесли смертный приговор. Юный император его утвердил, скрепив киноварью. Его мать задушили в темнице, её портреты, напоминавшие о красоте, уничтожили.
А вскоре Андроника объявили соправителем.
Глас народа — глас Божий. И когда толпа у дворца закричала императору: «Полукровка!», его задушили евнухи. А труп швырнули к ногам Андроника. «Твой отец был клятвопреступником, — оттолкнул он тело. — Твоя мать — погибшее создание!»
И велел кинуть тело в Босфор.
Женившись на невесте убитого, которой не было и одиннадцати, шестидесятитрёхлетний Андроник стал императором.
Пропадали деревья императорского сада, истреблялись побеги Ангелов, Кантакузинов, Палеологов и Дук. На Ипподроме запылали костры. Закалённое невзгодами сердце не ведало жалости. За неосторожное слово Андроник велел раз надеть болтуна на длинный вертел и, поджарив на медленном огне, подать его жене. Против него восставали. Он оставлял на виноградниках трупы, которые, как пугала, отгоняли птиц.
Лысый, с сединой на висках и огнём в чреслах, этот хвастливый блудодей, как петух во главе кур, или козёл, сопровождаемый козами, или ещё как Дионис со свитой вакханок, шествовал впереди своих наложниц. «Или как султан в гареме», — продолжил Луганес список сравнений Хониата, отметив влияние на Андроника ислама.
Он одинаково холодно относился и к увещеваниям, и к поношениям, убеждённый, что все напасти позади. Но он ошибался. Бесчинство в латинском квартале не сошло с рук. В августе месяце во втором индикте 6693 года норманнский флот овладел Солунью, сухопутное войско папистов двинулось на столицу. И тут пошли толки, что победы норманнам даны за грехи Андроника. Их уже подхватывала всегда готовая к бунту чернь. Андроник усилил террор. За ним повсюду водили чудовищную собаку, способную бороться со львом. Ночами, обнажая клыки и лая при малейшем шорохе, она сторожила спальню. «Клянусь сединой, — храбрился Андроник, — если я сойду в Аид, то враги укажут мне путь». Однако втайне вопрошал гадателей и тревожился, глядя на слёзы мироточивших икон.
Раз его люди схватили аристократа. Отчаянье придало ему решимости, и он заколол их. Размахивая окровавленным мечом, во весь опор помчался в Святую Софию. А утром горланящая толпа возвела его на престол.
Андроник заперся во дворце. Поначалу он швырял со стен ловко находимые слова, потом — дротики. Не помогло ни то, ни другое. Сбросив пурпурные туфли и отцепив крест, он вздумал вместе с женой и куртизанкой улизнуть морем. Но ветер прибил судно к берегу. Андроник разлился жалобами, и обе женщины подхватили их. Но и это не помогло. Его повезли в Константинополь, в котором он родился и в котором должен был умереть.
По дороге ему выбили зубы, вырвали бороду, женщины, как молодые, так и старухи с лицами, как печёное яблоко, набрасывались на него с остервенением, мстя за близких. После этого ему отрубили по запястье руку и бросили в подвал. Через день выкололи глаз и с непокрытой головой, в одной рваной тунике, посадив на паршивого верблюда, погнали по солнцепёку. Одни били его палкой по голове, другие пачкали ноздри навозом, третьи выжимали на лицо губки, пропитанные испражнениями. Иные кололи его рожнами в бока, бросали каменьями и поносили непристойными словами. Одна распутная женщина, взяв в кухне сосуд, вылила на него кипяток. С гиканьем шествие достигло Ипподрома. Тут стащили несчастного с верблюда и, возобновляя издевательства, подвесили за ноги на столб. Один латинянин из жалости вонзил ему в горло клинок. В предсмертной судороге Андроник поднёс ко рту руку с отсечённой кистью, и все завопили, что он до последнего мгновения алкал крови.
Хамелеон, менявший маски, он остался таким навсегда — теперь каждая эпоха делает из Андроника Комнина своего Андроника Комнина.
ЛОВУШКИ ИЗ ПОТЕРЬ
— За бутыкой вина её развивал Иосиф Арбисман, наделённый, как все художники, особым видением. Мы уже обсудили забытые строки акмеистов, пылившиеся в музейных запасниках гравюры «малых» голландцев и политизированные романы прошлого века, уже не вызывающие интереса, когда Арбисман глубоко вздохнул:
— Мы говорим со временем на языке искусства, а оно с нами — на языке потерь.
Холодный дождь бил в стекло и, смывая с подоконника опавшие жёлтые листья, подтверждал эту грустную банальность.
— Esse videatur[9]… - улыбнулся я.
И, считая тему закрытой, налил ещё вина.
Но я ошибся. Мне сейчас трудно передать интонации, которые переплелись в моей памяти с еврейской печалью и жестами, значившими больше слов. Если Шопенгауэр заставляет видеть мир как тёмную, бессознательную волю, Фрейд — как движущую всем сексуальность, а Хёйзинга — как игру, то увлечённость Арбисмана позволила мне увидеть его сквозь призму утрат.
Под влиянием его монолога у меня складывался рассказ. Герой — повествование ведётся от первого лица — коротает вечер в гостях. Хозяин — его ровесник, холостяк средних лет, с которым он часто играет в шахматы, уже расставляет фигуры.
— Чем не займёшься от тоски? — кривился Арбисман. — Мы, Зорин, слишком хорошо знаем её вкус…
— Скрасить время можно лишь убивая его, — кивнул я, мысленно возвращаясь к рассказу.
Герою достаются чёрные, клетки равномерно заполняются фигурами, а молчание нарушают только стучащий за окном дождь, да тиканье настенных часов. Неожиданно положение на доске напоминает ему известную с детства позицию. Он помнит, что она таит комбинацию, вызывавшую когда-то бурю восторга. Герой уверен, что партия решается одним ударом, остаётся только вспомнить выигрышный ход. Но память отказывает. Он пытается найти его заново, ломая голову так долго, что соперник едва не засыпает. Отчаявшись, герой делится своими ощущениями.
«Выигрышный ход? — удивлённо морщится хозяин. — Его здесь нет!»
Вернувшись, герой бросается к справочнику. Он ещё верит в ход с восклицательным знаком. И, действительно, вскоре разыскивает нужную страницу. Ход отсутствует. Каприз памяти? Но герой слишком мнителен, чтобы так думать. Его охватывает скверное предчувствие.
— И всё же поначалу пропажи едва заметны, — щёлкнул пальцами Арбисман, будто говорил о себе. — Их ощущают только чувствительные, болезненно замкнутые натуры, которым всюду мерещится знак.
Следующая сцена переносит нас в театр. Дают оперу, которую герой не слышал уже много лет. Он весь — предвкушение дивной арии, которой наслаждался когда-то.
Но ждёт напрасно. Ария исчезла. На этот раз ему хватает благоразумия не обратиться к соседу: он уже смутно догадывается…
В дальнейшем потерянные детали становятся осязаемей, примеры исчезновений — обыденней. Так, он уже давно не замечает усатых, толстых жуков, которые, пробуждаясь к маю, нелепо кружились в нежной зелени и, жужжа, бились под рукой. Куда они делись? А ведь их призраки продолжают в нём жить, как и радость от принесённой ими весны — прозрачного воздуха и высоких небес!
Или ему только кажется?
Это чувство давно утраченного врач объяснил переутомлением. Но герой не верит. Он полагает, что шахматный ход, оперная ария и майские жуки являются элементами чего-то большого, что постепенно исчезает из его мира, они — части меркнущей для него мозаики. В этом и состоит правда его жизни, её горькая истина и пугающая простота.
Утраты меж тем нарастают лавиной, обрушиваясь на каждом шагу. Или взгляд героя становится пристальнее? Он замечает, что мир сужается, его краски тускнеют.
— Вначале, когда чего-то много, расстаёшься легко, — вращая меж ладоней бокал, пояснял Арбисман. — Горечь проступает, когда остаётся мало, когда в душе, как в колодце, показывается дно.
Тоскуя по прошлому, герой начинает осознавать, что вор — само время, что оно обкрадывает с первого вздоха, что все бьются в паутине, сотканной из потерь. Ветерком по полю одуванчиков проходят родительская забота, первая любовь, верность друзей. Время — река, но не текущая мимо, а заливающая островок жизни. И смерть является кульминацией пропаж. Таков открытый героем закон. Легко поддаться искушению и свести его к привычному: к утраченным иллюзиям или мучающей ностальгии. Но лучшее для него объяснение — от противного. Если у Платона душа постепенно «припоминает», то душа «человека теряющего» — непрерывно «забывает». Герой, страдающий опасной погружённостью в себя, и боится, и ждёт новых исчезновений, как больной — признаков неизлечимой болезни. Такова тема homo predentis[10], такова тема рассказа.
Интересную своей противоположностью мысль высказала мне одна знакомая, находившаяся, я думаю, под влиянием Джелаледдина Руми. Когда, передавая сюжет, я дошёл до финала, звучащего примерно так: «Теперь я слежу за пропажами и смиренно жду, когда исчезнет моё вконец опустошённое “я”», то она, перебивая минор этого аккорда, заявила с уверенностью пророчицы или — чего здесь больше? — безапелляционностью женщины: «Неправда, когда отсеется лишнее, останется подлинная сущность — оголённое “я”!» А позже мы расстались. Навсегда исчезли друг для друга. И я даже не знаю, с такой ли философской невозмутимостью отнеслась она к нашему разрыву, как к утратам выдуманного мной персонажа?[11]
Сейчас, по прошествии стольких лет, мне хочется изменить судьбу героя. И я приведу несколько возможных вариантов.
Первый из них — скорее литературный ход. В конце рассказа выясняется, что герой, назовём его Лостманом, больше для определённости, чем привнося сюда символ, читал дневник, который вёл в юности. В повествовании, носившем ранее исповедальный характер, совершается переход от первого лица к третьему. И герой уже не воспринимает своего юношеского отчаяния, ведь взамен утрат он наконец обрёл себя. Или с годами у него притупилась острота зрения? Утратилась способность замечать утраты? В одном из вариантов он даже не узнаёт своего почерка. Подобная развязка, однако, представляется мне чересчур реалистичной, чтобы претендовать на правдивость.
Согласно другой версии, таинственные исчезновения — это атрибуты кошмарного сна. Медленно гаснущий, как в театре, свет намекает на иное представление. Философии в этом случае отводится роль служанки литературы, с её наваждениями и галлюцинациями.
В третьей гипотезе, к которой я склоняюсь больше, явь выступает как чей-то сон. И действительно, если мы, как считали древние, всего лишь герои чужих сновидений, то почему бы Сновидцу, в отличие от нас, управляющему снами, не возместить нам однажды утраченного? Ведь даже в наших неумелых снах возможны возвраты прошедшего, утраченного, казалось бы, навсегда. Соблазнённый идеями одного монаха из Умбрии, считавшего, что для Бога возможно сделать Небывшее Бывшим (а значит, Он способен вернуть и прошлое), Лостман ждёт чуда повторенья. Вернул же Господь Иову его пропажи[12]. Пока же, рассуждает герой, на скрижалях стирается запись Бывшего, в этом и состоит разгадка исчезновений.
Наконец, комбинируя версии, можно предложить ещё одну. Если жизнь — сон, а смерть — лишь пробужденье, то, быть может, там, за напрасно пугающей чертой, и наступит повторенье. Быть может, там вновь распустится поблекшая при жизни красота. «Когда ты рождаешься, мир, как подсолнух, поворачивается к тебе стороной чувственной, когда умираешь — костенеющей, где царит боль утрат и пропаж, — перефразирует герой Лао-цзы. — Утраты не закаляют, но — заставляют каменеть»[13].
Бедняга Лостман, обречённый метаться, как кошка по крыше затопленного дома! Неужели тебе суждена отрешённость восточных учений? Неужели тебе не проклюнуть своей сжимающейся скорлупы?
Перечисленные варианты лежат передо мной. Но я не знаю, какой предпочесть. Выбор обрекает на создание законченного Лостмана.
А это означает его утрату.
ЭГИЛЬ СКАЛЛАГРИМСОН, ПРИЗРАК ИЗ САГИ
Эгиль, его второй ребёнок, родился некрасивым и огромным, как тролль. Он был черноволос и костист и рано, как отец, облысел. Семи лет он за игрой убил сверстника, и матери заклинали сыновей во всём уступать задире. Как-то отец ударил его приятеля. На вечернем пиру Эгиль с неожиданным коварством нанёс смертельную рану мажордому, сидевшему по правую руку от Скалла-грима. Ползимы отец и сын не разговаривали, лишь йоль примирил их. Эгиль рос, как репей на обочине, в недетских забавах минуло его одинокое детство, в котором ласки было — как солнца в полярную ночь.
А потом пришла юность, весна жизни.
Сотня копий, ломающих кольчуги, сотня мечей, протыкающих щиты, сотня глоток, орущих победные висы, — это викинги, и один из них молодой Эгиль. В дальних странах, под зыбкой чужой луной вместе со шрамами они добывали славу. Однажды в Курляндии их захватили в плен. Бросили на ночь в холодное подземелье. Убивать ночью недостойно благородных воинов. Но их не убили не потому. А чтобы с утренними лучами насладиться мучительной казнью. Прикованный к столбу, Эгиль до тех пор его раскачивал, пока не выдернул из земли. А когда он перегрыз верёвки и освободил товарищей, участь куров стала печальной.
В другой стычке, расправившись с теми, кто держал оружие, Эгиль воскликнул (и нам не постичь его кодекса чести): «Пойдём в усадьбу и, как подобает воинам, убьём всех, кто попадётся, и захватим всё, что сможем захватить». И они порубили всех, кто прятался, а что не смогли унести, сожгли, кидая смоляные факелы, приплясывая под треск бушевавшего пламени. То было время, когда Альвир Детолюб получил своё прозвище за то, что запретил людям подбрасывать детей в воздух и ловить на копья, как было принято у викингов. И как судить тех, чьим единственным страхом был страх потерять лицо, единственным увеселением — брага, и для кого битва была развлечением похмельных?
Далее путь Эгиля пролёг через Британию. Вместе с братом Торольвом он громил там беспокойные полчища скоттов. Поначалу свирепствовал Торольв. Но когда из леса метнули несколько копий, прозванных за их неимоверную толщину «кол в броне», он не сумел увернуться. Тогда валькирии удесятерили силы Эгиля, и его мечи разили врагов, пока бой не превратился в бойню.
Эгилю-воину не уступал в заносчивости Эгиль-скальд, и врагов они наживали наперегонки. И среди них — Эйрик Кровавая Секира, устлавший трупами дорогу к трону, с женой Гуннхильдой, обучавшейся ведовству у лопарей Финнмарка. Эгиль на поединке убил их сына. Эйрик отлучил его от права, Гуннхильда накликала на него злых духов. Впрочем, Эгиль и сам умел лечить боль, вырезая священные руны, и, творя на них заклинания, прорицать. Как-то, оказавшись при норвежском дворе, он сочинил Эйрику хвалебную песнь. Издеваясь над капризами вдохновенья, он сложил её в одну ночь пьяного угара. Она называлась «Выкуп за голову», и наградой ему была жизнь.
Вдохновение приходило к Эгилю и неожиданно. Короткий Атли, Атли-хвастун, не уступал ему в искусстве брани. После того как у копий надломились ясеневые древки, после рубки на зазубрившихся мечах, Эгиль ударом кулака свалил противника и впился ему в горло. Успокоился он, только когда перегрыз его. А после, выпрямившись, алыми от крови губами провыл:
Поэтические иносказания: «морской конь» — корабль, «змея ран» — меч, а битва — «гром железный», — вкраплены в незатейливый слог саги. Они напоминают о герое, который победил ни в одном состязании скальдов.
Однажды Льот Бледный, одинокий волк своего заснеженного острова, сразивший уже многих, посватался к дочери приятеля Эгиля. Жених не был по нраву, но приятель не смел отказать. И драться с Льотом вызвался Эгиль. Они сошлись на заре медвяного цвета, когда выпала роса и смолкли птицы. Вокруг ставили на бешеного Льота, который кусал в нетерпении щит. Он казался хищником, увидевшим добычу. А когда острый, как скалы Исландии, меч отсёк ему ногу, долго хрипел, прежде чем отправился в чертоги Фреи.
Сага повествует и о том, как Эгиль схватился сразу с восемью, отчаянными и храбрыми. «Что говорить об этом бое, — меланхолично продолжает она, — кроме того, что он убил всех восьмерых».
Свояченица, вдова Торольва, стала женой Эгиля. О наложницах сага стыдливо умалчивает. Когда море, эта могила отважных, поглотила горячо любимого первенца, Эгиль жаждал смерти. Запершись, он отказывался от пищи, сосредоточившись на горе, как сосредотачивался в бою. Никто не смел его потревожить, его воли не согнуть, как копья Одина. Тогда, рыдая под дверью, его дочь спросила: кто сочинит поминальную, достойную брата, если Эгиль умрёт? И он сложил «Утрату сыновей». Двадцать пять сохранившихся строф пронесли его скорбь сквозь столетия:
Остаток дней Эгиль провёл на своём хуторе. Беспощадна старость-великанша, сам Тор, сражаясь с ней, припал на колено. Мёрзнувшего, с кровью, вяло тёкшей по жилам, его теперь не пускала к очагу ничтожная стряпуха. Путаться под ногами — удел всех стариков, и Эгиль его не избежал. Желчный, совершенно ослепший, он ещё пытался замкнуть на себе круги времени, он ещё не смирился с их разбеганием. Жестокая шутка, о которой он мечтал, должна была надолго врезаться в память. Он хотел рассыпать со скалы сундуки серебра, чтобы с демоническим хохотом насладиться дракой при дележе. Ему не дали этого сделать, и он утопил богатство в болотах.
Как-то раз он обжёгся, поставив ступни слишком близко к огню. Холод заставлял дрожать громадное тело, слепота делала его неловким:
На девятом десятке, пресытившись кровью и брагой, пережив друзей и врагов, Эгиль умер. Его мятежная душа отправилась в Хель, его кости, изъеденные червями, погребены на краю кладбища. Уже после крещения страны один пастор попробовал топором разбить его череп, необычайно тяжёлый. Но железо оставляло лишь белые отметины.
Таким через триста зим увидел Эгиля сочинитель саги. А когда я перекладывал её, то мне чудилось, что передо мной вот-вот мелькнёт на мгновенье настоящий Эгиль.
«ТВОРЕЦ-РОБОТ», НЕОКОНЧЕННЫЙ РОМАН АЛЕКСАНДРА ФРОМЕРА
Однако воображение продолжает их настойчиво рисовать.
«Фантастические миры, множество утопий и антиутопий, являются лишь чучелами нашей Вселенной. Их делали на Земле, реальность которой торчит из-под них, как нижняя рубашка. — Эти строки принадлежат Александру Фромеру, таланты которого не ограничивались литературой. — Успех фантастики предопределён тем, что она реалистична. Создать же свой мир, особый и причудливый, можно лишь во сне или в бреду. Но как передать кошмары? Как выразить Вселенную, не похожую на нашу?»
Дошедший в чудом сохранившихся черновиках, роман Фромера, название которого перекликается с книгой Винера «Творец и робот», и есть эта дерзкая попытка. Его фабула, несмотря на всю оригинальность, проста. Эпоним Фромера создаёт Вселенную, существа которой пытаются осознать себя и своё место во Вселенной (а находятся они на кончике пера, которым водят по бумаге). Содержанием романа становится описание этой Вселенной (Фромер использует латинизированное «Универсалия»). Изощряясь в средствах выражения, изобретая неологизмы и прибегая к разного рода трюкачеству, автор решает эту трудную задачу.
На его замысел повлияло создание Вселенной физиками из ничего, из случайных колебаний вакуума. Вот что мы находим в его дневнике: «Гут утверждает, что наша Вселенная могла возникнуть в лаборатории учёного из другой Вселенной. А если в чужом сознании? Тогда населяющим её не преодолеть барьер, отделяющий «нечто» от «ничто», не ответить, почему Творец отдал предпочтение той, а не другой Вселенной. Подчиняясь воображению, этого не знает и сам Бог — поэтому он молчалив». На трон мироздания Фромер таким образом возводит безротого Карпократа.
Идея написания замкнутого в себе романа, романа-Вселенной, родилась у Фромера из наших разговоров. Я помню коммунальную квартиру, которую он редко покидал, скудно меблированную комнату с паутиной на окне и пылью, которая росла по углам. Его соседкой была сварливая старуха, запомнившаяся мне нечёсаными, пахнущими рыбой волосами и глухим раздражением, которое прорывалось, когда к Фромеру приходили гости. Однажды Фромер призвал забыть место человека, которого он низводил к роботу, и примерить роль Бога. Я подумал, что прежде понадобилось бы забыть убожество его жилища. А вслух высмеял тождество создателя и марионетки. Этим я прорвал плотину. Я хорошо помню, как, освещённый вечерним солнцем, могущественный Фромер, Фромер-бог, размахивая руками, с маниакальной одержимостью рисовал картины созданного им мира. (Чтобы разобраться позже в устройстве его Вселенной, мне пришлось изучить полтысячи листов, исписанных мелким почерком.)
Покорные его фантазии, куклы Фромера разделяются на три касты. Первые, «аукающие», занимают «ау-пространство», в котором соседствуют не в смысле географии, ибо расстояние во Вселенной, сосредоточенной в точке, отсутствует, а в смысле виртуальных связей. Они постоянно контактируют, что делает их единым организмом, вроде сгустка бактерий. Близость достигается непрерывным «ауканьем», взаимным улавливанием, которое отвечает сразу и зрению, и слуху, и осязанию. «Ау-пространство» — это их информационное поле, их коллективный разум, их общая тюрьма. Изгнать оттуда — означает убить[15].
Речь им неведома. «Ауканье», как телепатия, делает её бессмысленной. Их чувства, как муравьиные или пчелиные, невозможно передать, не исказив антропоморфизмом. Легко представить сложности, с которыми столкнулся Фромер.
У «аукающих» нет понятия добра и зла. А зачастую они поступают себе во вред. Уничтожить, обратить ближнего в ничто, считается у них благом. Разработан ритуал, при котором убийца и убитый, подобно частице и античастице, взаимно уничтожаются (очевидно, в этом проявилось увлечение Фромера естествознанием). Дело в том, что создатель наделил их бесконечной жизнью, которая их тяготит. В одном из черновиков Фромер даже отказывает им во времени. «У меня нет времени, чтобы создавать время», — шутил он.
Ад у «аукающих» — это теснота и скопление, а рай — пустота. В их «религии» отражены страхи перед бессмертием, как в нашей — перед смертью. Их терзает незыблемость бытия, как нас скука, но страх перемен им неведом. Впрочем, любое сравнение неуместно, Фромера смущал даже слабый отсвет нашего мира.
Иногда «ауканье» обращается на себя, с его помощью ощупывают себя изнутри, обнаруживая скопление таинственных существ. Так «аукающие» спят. Продукты их снов не исчезают вместе с пробуждением, а особым способом проявляются, пополняя группу «мелькающих». Их наблюдают, как вспыхнувшую молнию, пока они снова не исчезнут. Встреча с ними опасна, «мелькающие», как русалки, могут утащить за собой.
У «аукающих» они вызывают зависть. Умирая и воскресая, они прячутся, как страусы, избегая ударов судьбы. Существуя на зыбком пограничье, эти медиумы постигли запредельность, то, что находится по ту сторону «ау-пространства». Там они общаются с «призраками» — третьей группой фромеровской Вселенной. Существование последних иллюзорно: его оценивают лишь по следам, оставленным в «ау-пространстве». Пребывание на заднем плане Вселенной не мешает, однако, их влиянию. Они всегда на слуху, напоминая наших умерших, сцену которых — прошлое, неизменно переносят в настоящее. Или «призраков» навеяли Фромеру герои телеэкрана?
В заключение приведу его рисунки:
Фромеру приходится быть тяжеловесным. Он выдумывает ряд приёмов, превосходящих моё наивное закавычивание. Его текст также пестрит противоречиями. Он пишет, что тела обитателей его мира лишены протяжённости, и тут же говорит об их силуэтах и тенях. У него встречаются «выпуклые ямы» и «вогнутые горы», наполненные «сухой водой». А почему бы им не существовать? Схватывает же поэзия растопыренные крылья оксюморона.
Воспроизводя Фромера, я поймал себя на мысли, что пересказываю музыку или живопись. Его Вселенная становится под моим пером незатейливой или, что хуже, забавной. Как-то я признался Фромеру, что его создания кажутся мне смешными. «Надеюсь, — скривился он, — не более смешными, чем мы — нашему Богу».
В финале, если позволено говорить о финале незавершённого романа, создатель вдруг понимает, что он лишь марионетка в руках другого творца. А тот — в руках своего. Подобная философская банальность снижает достоинства романа. Его метафизика сводится к дурной бесконечности вложенных друг в друга Вселенных, каждую из которых слагают свои законы, мышление, боги.
Быть может, масштабы этой вереницы Вселенных подействовали на впечатлительного Фромера. А может, Бог отомстил конкуренту, но остаток дней Фромер провёл в психиатрической больнице. На посетителей он не реагировал. Бледный, с трясущимися руками, он глотал пропитанный лекарствами воздух и, уставившись на стену, упрямо повторял: «Я — Творец!»
Александр Фромер умер от нервного истощения. Как и Создатель на кресте, он пожертвовал себя своей Вселенной.
ИМПЕРСКИЙ РЕКВИЕМ
Господь прекращает жизнь, когда
видит человека готовым к переходу в
вечность или когда не видит надежды
на его исправление.
Св. Амвросий Оптинский
Я не нуждаюсь в его крылатых ангелах, как и в седом паромщике, весло которого разделяет миры, потому что я, как и всякий, кто сражался за Империю, не боюсь смерти. «Гвардия умирает, но не сдаётся!» — крикнул французский гренадёр. Гвардия же, к которой принадлежу я, бессмертна. Скифский защитник отчих могил, варяг, прибивший щит к воротам Царьграда, и князь, воспетый в Слове, были первыми её рядовыми. Небо избрало их, и они краеугольными камнями легли в основание Империи. А деспотичные гении, жадные до земель, возвели после этажи её здания. Вереницами осаждённых крепостей, жестокими битвами и братскими могилами они устремили его к небу.
Я присоединился к тысячелетней борьбе, когда ружьё уже сменил автомат, картечь — осколочные снаряды, когда броня трещала, как пустой орех, а железные птицы резали пополам вечное небо. Шла война Востока против Запада, красных против коричневых, звезды против свастики. Гусеницы танков давили лживые демократии, и левенсрауму противостояла Мировая революция, Вермахту — Красная армия. Зигфрид встал против Муромца, Третий рейх — против Страны Советов[17]. Его войска потекли на Восток, на просторах которого титаны сразились с гигантами, сыновья Вотана с детьми Перуна. Тогда я и вступил в Партию. (Моя прежняя жизнь не имеет значения.) И орда опрокинула легионы. Её вал докатился до их столицы, водрузив над пепелищем кумачовые стяги. И над нашими землями перестало заходить солнце…
Только война выковывает атлетические тела и железные души. Когда я сжимал горло немца или японца, протыкая им грудь штыком, то читал в угасающем взоре презрение к смерти, какое ощущал в себе. Мы знали, за что умираем, знали, что бессмертны. Мы писали историю, а её пишут кровью…
Опровергая время, я умру (или умер) вместе с погибшими товарищами и сгинувшими недругами. А призраку безразлично, когда исчезнет это дряхлое тело…
Прошлое, из которого я пришёл, возвышало жизнь до трагедии, настоящее — низводит до фарса. Нищие духом распластались у прилавка, втискивая её в кошелёк. Они не ведают, зачем пришли, придавленные бессмысленностью, блуждают впотьмах, как кроты, принюхиваясь к наживе. Им не дано ни страстно жить, ни страстно умирать. Они оканчивают свой путь, когда приходит час, а умирают ещё раньше, и мне их искренне жаль.
Простой солдат державы, я пишу эти строки на её развалинах. Безымянный, я обессмертил себя делами, пребывающими в Вечности, куда вписывают нечто большее, чем слова. Имена же сегодняшних кумиров затёртой монетой выйдут из обращения. Их безликое время, когда военные хитрости уступили биржевым махинациям, а трофеем стал карман ближнего, сотрётся у потомков. Их цель — мгновенья, отбитые у смерти, скулящим от жалости к себе, им трудно умирать. На улицах они осуждающе кивают, указывая на меня своим золотушным отпрыскам, но в душе завидуют.
Я смеюсь над ними…
Сны, ставшие моей явью, сотканы из прошлого, день, когда мы казнили товарища — мой кошмар. Этот день всплывает всё чаще, по мере того как близится наша встреча там, где сойдутся все ветераны Империи.
Мы сидели за одной партой, а потом он женился на моей сестре. Он служил под моим началом, когда трусость, на минуту победившая долг, навсегда его обесчестила. Мы вели тяжёлые бои, людей не хватало, и многие, вспоминая заслуги, просили за него, говоря, что от его оплошности, как называли его проступок, никто не пострадал. Они плакали, и человек, слабый и жалостливый, как и все на свете, я уже готов был его простить. Однако командир батальона знал, что оступившийся — уже отступник, а малодушие — предательство. Ночью, чтобы соседи по землянке не слышали скрежета зубов, я уткнулся головой в свёрнутую шинель, но когда на рассвете я крикнул взводу: «Огонь!» — мой голос не дрогнул. И я хорошо помню: прежде чем раздались выстрелы, мой друг улыбнулся…
Сегодня жертвенность называют фанатизмом. Один мой знакомый, по профессии инженер, изобрёл новую пулю. Особая форма наконечника позволяла успешнее разить ею врагов. Издеваясь над их беззащитностью, он окрестил её «чёртиком в футляре». Он совершенствовал её, когда был арестован по ложному доносу. Приговорённый к сибирскому лагерю, где сплавляли лес и корчевали пни, он не озлобился и не предал. Когда зимой его гнали по этапу, он, замерзая, умудрялся вести записи и умолял растиравшихся водкой конвоиров переслать их Вождю…
Один Бог на небе, один царь на земле. И Вождь не уступал ни царям, ни Богу. Теперь его очерняют, но тогда его пьедестал был столь же высок, сколь и доступен. Он был членом каждой семьи, он был одним из нас. Его именем клялись, его кричали, поднимаясь в атаку, и шептали, погибая на амбразурах. Глупцы назвали это культом личности — перед Империей все равны…
Кажется, это было вчера. Но История перемолола характеры, измельчив до женской пудры.
Язык приказов, к которому прибегали во все времена, чтобы обнажить истину, язык лозунгов, хлёстких, как удар кнута, язык сентенций, острых, как кинжальный огонь, были нашими языками. Понимание — это поделённый в пустыне глоток воды, локоть товарища, тепло бивачного костра. Длинные предложения мы оставили поэтам, которых сочетание «бронетанковый кулак» приводит в ужас. Когда мой танк горел под Прохоровкой, когда я упрямо твердил: «Заряжай!» — а почерневший от копоти расчёт отвечал: «Есть!» — мы слагали поэмы.
О героях говорят и камни, звёзды воспевают их[18]. Насмехаясь над географией, Империя не помещалась на карте. А у исполинов особый путь. Когда Империя, осаждённая, как Гулливер, лилипутами, напрягала последние силы, мы поворачивали реки и штурмовали небо, будто сами блокировали мир. Тогда мы с гордостью называли себя материалистами, но сегодня материя растоптала дух. Пошлые скоморохи выставляют распутство свободой, и я выгляжу белой вороной, защищая мужество и женственность, недоступные культуре гермафродитов…[19] Искореняя суеверия, мы разогнали церковников, отказавшись от Бога, заключили Завет с собой. В споре с одним из его служителей, споре, который то и дело прерывал колокольный звон, я сказал, что Империя — это Царствие небесное на земле — будет править миром. Он пробормотал, что первые станут последними. Мне нравился этот осанистый мужчина с седой бородой и восковым лицом, который верил, что Слово воплотилось в словах евангелистов. «Пришло царство Святого духа, — щёлкнул я каблуками. — И оно отрицает Христа, как Новый завет — Ветхий!» Его плечи расправились. Готовясь к голгофе, он сказал, что Христос открыл эру милосердия. Я возразил, что она началась только с нами. На побледневшем лице мелькнул гнев. Брызжа слюной, он предрёк нам геенну. Немощный обличитель! Долг требовал от него филиппик, а глаза молили о пощаде. Я сделал знак своим людям. Он отшатнулся, его лицо больше не походило на икону. А когда мы вышли, испуганной птицей метнулся вдогон, призывая покаяться.
Где ты теперь, мой непримиримый противник? Время пошлости смело нас обоих[20].
Я вижу сегодня историю без Истории. Сыновей принуждают стыдиться отцов. Угождая иноземцам, мстящим за столетия страха, глумятся над нашими святынями, не создавая своих. Трубят, что нищета уравнивала, как смерть, что поровну в Империи делился чёрствый хлеб. И веря, что настоящее важнее будущего, сегодня предают прошлое. Но, подточенная сомнениями, Империя раз уже пала, чтобы воскреснуть могучей и грозной. И последний бой наших мёртвых ещё впереди. Мы заткнём тогда костылями лживые глотки, когда спящий витязь очнётся, весь мир станет Империей! И сейчас многие втайне мечтают стать частью целого, ответив этим на гложущее их «зачем?» А зная «зачем», человек стерпит любое «как», ибо он уже сверхчеловек.
Мы отрицали Бога, пощёчина которого — услада мазохиста, а заповеди — дорога в рабство. Но и в его раю стёрто всё личное, потому что смерть — конец индивидуального, за которым — бессмертие. Я знаю, что такое рай, потому что в нашем рукотворном царстве каждый отрешался от себя, отождествляясь со всеми…
Я устал, и мне надоели слова. Кому их адресовать? Потомки превозмогут их боль, а современники их недостойны. Но я знаю, что в душах их детей тлеет искорка, которая, вспыхнув однажды, выжжет мелочное себялюбие. И тогда слова «мы — всё, я — ничто» застучат нашим пеплом в миллионы сердец, и тогда воскресну я — последний солдат последней Империи.
БИОГРАФИЯ ОДНОГО УБИЙЦЫ: КУДЕЯР 1526–1571 гг
Господь прекращает жизнь, когда
видит человека готовым к переходу в
вечность или когда не видит надежды
на его исправление.
Св. Амвросий Оптинский
— Какого ты рода-племени? — спросил потрясённый царь.
— Кудеяр, — ответил богатырь. — Из казаков.
Но происхождение его было темно. Десятилетним мальчиком его отбили у крымцев. От казацкой сабли спас его медный крестик, хранившийся в шкатулке. Плосколицый татарин перед тем, как пика сомкнула ему узкие глаза, рассказал, что младенца полонили в земле московитов, где студёные зимы вынуждают носить бороду, где крестятся двумя перстами, а щепотка соли — сокровище. Вызволившие Кудеяра украинские станичники, беспечные во всём, кроме веры, воспитали его в лютой ненависти к мусульманам. «Чай, обрезан был несмышлёнышем», — приговаривали они. И Кудеяр, познавший истинного Бога, впитал ненависть вместе с казацким говором. А когда татары похитили его невесту, ненависть перешла в одержимость. Точно одиноко торчавший оселедец, месть подменила остальные чувства: только на смерть, жестокую и беспощадную, обрекал его суровый взор.
Отчаянный храбрец опирался на медвежью тушу, которая и безжизненная внушала ужас. И Кудеяр пришёлся царю по сердцу. Он пригласил его на пир, где играли гусляры, а столы ломились от яств. И пожаловал мелкое поместье под Белёвом. «Эх, Кудеяр, что кручинишься? — посмеивался царь за медовым кубком. — Разве мало вокруг красных девиц?»
Кудеяр молчал.
А на другой день на захудалом постоялом дворе среди выкупленных из плена он увидел свою невесту. Казалось, судьба наградила его за верность. Но женщина была не одна. С ней стоял ребёнок, прижитый на чужбине. У Поганой Лужи, в страшном безмолвии лесных сумерек, Куде-яр ударом шашки избавился от своего позора. Рука его не дрогнула, сердце не защемило. Даже видавшее виды казачество отвернулось от Кудеяра. По обычаю его ожидала смерть. Только царская служба спасла детоубийцу. Так и стал вольный казак царским холопом.
Несколько месяцев он провёл в Белёве за строительством дома — короткое счастье семьянина было отпущено Кудеяру, чтобы подразнить. В праздник чудотворца Николая вместе с другими служилыми, призванными под царские знамёна, он выступил на Крым. А его жене оставалось чахнуть в недостроенном доме, молясь долгими осенними вечерами, и ждать, ждать…
У Ислам-Керменя, который белыми стенами цвёл на днепровском лимане, один новокрещёный сын Израиля[21] предал русское посольство мусульманскому санджакчею (предал, правда, себе на беду, ибо на глазах у янычар находившийся среди посланников Кудеяр задушил изменника). И ополчение воротилось. Ещё один поход закончился без славы, ещё одна русская стрела не долетела до Крыма.
А Кудеяр, лазутчик и убийца, стал узником.
Закованный в кандалы, среди смрада невольничьей крепости, в подвалах которой жирели крысы, он три года получал плеть чаще, чем червивую похлёбку. Множество раз он просил у Бога смерти, не смея покончить с собой. Такие страдания свели бы с ума человека, но не Кудеяра. Наконец, сменился турецкий наместник. Нового отличала жадность, и он продал пленных на галеры. Дорогой, пыльной и долгой дорогой к невольничьему рынку, Кудеяр за колесо остановил гружённую дынями арбу, покатившуюся под гору. Цокая языком, его купил поражённый мирза, и вместо моря Кудеяра увезли вглубь засушливого полуострова.
Несколько лет прошли среди войлочных юрт, кочевых кибиток, ругательств, ржания пасущихся лошадей и непрестанного щёлканья кнута. Кудеяр скрыл, что с детства знал татарский язык, он терпел издевательства ради побега. Пока он шёл путём любви. А время — что время? — когда Бог создавал его, Он создал его достаточно.
И час Кудеяра пробил, не прошло и семи лет. Обрюзгший мирза, собрав в шатре беев, показал отравленный кинжал, которым собирался проткнуть грудь хана. Он обещал, заняв Бахчисарайский престол, раздать верным слугам бесчисленные табуны. Припав чутким ухом к пологу, Кудеяр подслушал заговорщиков. А ночью выкрал уличавшее их письмо. Кривым ятаганом он заколол своего жилистого стражника, который визжал, грызя железо.
И, разорвав цепь, бежал.
Луна, эта пленница Земли, освещала беглецу путь, степной репейник помогал ускользнуть от погони, а высыпавшие звёзды привели в Бахчисарай. И голову мирзы, не сумевшего опровергнуть письма, которое принёс неграмотный Кудеяр, вздёрнули на пику. Хан умел быть благодарным, и его гостеприимство не знало границ. Всякий, оказавшись на месте его спасителя, утонул бы в роскоши. Всякий, но не Кудеяр. Несколько лет минуло для него в написании челобитных. Он молил о возвращении. О нём точно забыли. Но ему вместо браги так и не стал привычен кальян, вместо бахчей ему снилось жнивьё, и слышался колокольный звон вместо пения муэдзинов. И однажды он пожаловался хану. Тот предложил ему гарем и место посланника в Литве. Кудеяр предпочёл родину. Потому что родина, как и любовь, — одна. Поражённый хан приказал грузить золотом арабского скакуна. «Ворота Крыма для тебя всегда распахнуты», — простился он с Кудеяром, когда, ступив на Муравский шлях, скакун повёз того навстречу судьбе. И очень скоро караван-сараи сменились трактирами, халаты — зипунами, а кипарисы — берёзами. Вместе с холодами Кудеяра окружило запустение, разбойничьи шайки и дурные вести: его поместье отобрали, жена томилась в монастыре. В каком? Про то ведали лишь царь да Бог. На Руси всюду рыскали чёрные всадники с мётлами и собачьими головами. Они выметали и выгрызали измену. Страна переживала опричнину, на улицах не убирали трупов. После доноса предоставлялся выбор — кол, виселица или плаха.
Безумный владыка не расставался с посохом, которым стучал в такт кудеяровым поклонам. «А ты исправно услужил моему заклятому врагу», — выслушав бесхитростный рассказ, нахмурил он брови. И наложил на Кудеяра три испытания. «Поглядим тогда, любишь ли ты царя больше отца родного». «Я же сирота», — склонив голову, думал богатырь.
Своими пудовыми кулаками — так забавы ради велел царь — Кудеяр расправился с пленными ливонцами.
Их было больше дюжины, их вывели во двор, пообещав свободу, и, радуясь, они молились за великодушного царя. С благодарностью на устах они и отправились на небо — их проворный палач, как мог, облегчил им муки.
Обманом умертвить беззащитных единоверцев было неслыханно. «Ради жены», — успокаивал себя Кудеяр.
Грубые руки воина, готовые исполнить чужой приказ, задушили и мать опального боярина. Когда хрустнула шея, Кудеяр отвернулся, чтобы не выдать душевную боль. «Узнать бы только, в каком она монастыре!»
Осталось последнее испытание. Его привели в избу, в которой сказочными кушаньями был убран стол. Опричники, смеясь, велели потчеваться. А над столом на крюке, вбитом в потолок, качался труп его несчастной жены. «Ну что, Кудеяр, любишь ли ты и теперь царя больше отца родного?» Сквозь туман он разглядел ухмылявшегося владыку. В отчаянии бросился на окружавших его опричников, но в шаге от него надломились подпиленные половицы. Проваливаясь, Кудеяр услышал взрыв хохота.
«Сдохни аки пёс, смерд», — вынесли ему приговор.
Так и сгнили бы в погребе его кости, если бы не крымский посол. Хитростью извлёк его оттуда неделю спустя, седого, как лунь. И новая ждала его мука. Горькое одиночество в холодном мире, где не было любви. И опять живой водой для него стала месть, превратившая его в разбойничьего атамана. Ни перехожего калику, пища которого — чёрствый хлеб, ни богомольца, одежда которого — латаное-перелатаное рубище, ни почерневшей от работы крестьянки не щадил Кудеяр. Его окаменевшее сердце не ведало жалости. «Много разбойники пролили крови честных христиан». Ни купеческим пищалям, ни монашеским слезам не остановить Кудеяра, который шёл путём ненависти. Долго донимала всех кудеярова ватага. Дыба и топор плакали по разбойникам, да больно ловки были. Наконец, опричное войско Алексея Басманова разбило их у лесного озера. Вместе с клеймом палача их настиг Божий гнев и кара царя.
Кудеяра, однако, упустили[22].
В дырявом кафтане, с тугим луком за спиной, он, проклиная отечество, прячась днём в волчьих норах, а ночами крадучись, точно кошка, пробирался в Крым.
И южный деспот оказался к нему милостивее северного. «Что дал тебе христианский закон? — спрашивал он, прогуливаясь среди благоухающих роз. — Прими ислам».
И Кудеяр, надев чалму, обрёл кров у моря, где на берегу ютились мазанки, где женщины носили чадру, а в мечети по пятницам совершали намаз.
Вставало и заходило солнце, ночь сменяла день. На ежегодном курултае мирза Кудеяр, которого за хитрость прозвали шайтаном, подбивал хана к набегу на Русь. И когда дошли вести, что царь отправился с войском громить русские города, хан поднял орду. Сто двадцать тысяч всадников, гоня свежие табуны, бросились по Муравскому шляху. Саранча налетела на зелёное поле! Аркан свистел над монахами, которых, улюлюкая, тащили в степь. А Кудеяр злорадствовал. Ногаи соскабливали золото с куполов и, топча иконы, сжигали кресты с распятым идолом. А Кудеяр смеялся. По его указке вброд перешли Оку. Кружа стервятниками, взяли в кольцо Москву. С вершины окрестного холма привставший на стременах Кудеяр глядел из-под зеленой чалмы, как пускали на город красного петуха. Достойный костёр на могиле его жены! Уже смолкли колокола, уже дым окутал город, а в проломе скрылась первая сотня головорезов. Кудеяр достал медный крест, за который готов был когда-то отдать жизнь, и с хохотом бросил в грязь.
И грохнулся бездыханным.
Сразила его шальная пуля? Десница Божья? Демоны или ангелы понесли его душу? К Аллаху? Христу?
ПАЛОМНИК
Конечно, я не поверил. Как может существовать тишина посреди рокота? Как может быть спокойной капля в бушующем море? И сейчас орды диких кочевников сотрясают имперские границы, и сейчас алчные варвары, словно саранча, топчут нивы, а в самой Империи — раскол! Я вспомнил еретиков, которые рыщут голодными волками, грабя богомольцев и разоряя церкви. И это в нашем благословенном отечестве! Что же творится в землях язычников? Но, быть может, именно сомнения заставили меня седлать скакуна? Я — Константин Псёлл — ромей, в жилах которого течёт кровь философов, кровь любопытных. Мой отец был воином, ходившим в далёкие страны, дед — учёным монахом, составлявшим хронографии и колесившим время. В моих подвалах скопилось достаточно золота, чтобы презирать богатство, я горд, но не тщеславен, и моему сердцу мила свобода.
В поместье, где я утешался философией, прибыл гонец. Меня требовали в столицу. Судьба уготовила мне должность при дворе, и я должен был покинуть Фессалоники — ведь я клялся в верности. Но как мне претят дворцовые интриги! Не честнее ли искать химеру?
Приставленный ко мне соглядатай — о, мерзкие нравы Империи! — вольноотпущенник, живущий на половине челяди, попробовал силой удержать меня. Подлый раб! Мой кинжал изуродовал ему лицо.
Много дней отделяли меня от дома. Был вечер, я сидел в приграничной корчме под настенным факелом. «Жалок тот, кто ищет истину, — думал я. — Горек удел скитальца!» Но мои мысли оборвал крик. «Вот он, клятвопреступник!» — вбежали посланцы Императора. Убийц было трое. Ими руководил жирный колхидянин, центурион из пятой турмы «бессмертных», и они прыгали вокруг, как обезьяны. Их движения слились с тенями, а факел удваивал их число. Умирая, колхидянин шептал сокровенное имя Бога, остальные — проклятия…
Все дороги ведут в Рим, и, восприняв эту метафору буквально, я оказался в Вечном городе, где молился, созерцая вечные раны Распятого и вечные муки предавших Его. Глуховатый наместник Ватикана удостоил меня аудиенции, и мне передалась дрожь старческих рук, благословлявших меня. В Риме же я попросил помощи у неба и в ту же ночь увидел во сне бегуна, спиной рассекавшего воздух. И хотя он бегал по кругу — я видел это отчётливо, будто с трибуны огромного цирка, — его лицо выражало довольство.
— Константин, ты найдёшь, что ищешь! — услышал я голос своего деда.
— Обрету ли счастье? — крикнул я.
И тут проснулся.
В Провансе, на торговой площади, где бичуют воров, я присутствовал при казни молодой колдуньи. Взойдя на костёр, она вопила, что в перевёрнутом мире, куда после смерти попадут все, предаст огню своих палачей. «Ведьма! — бесновалась толпа, когда вспыхнули сухие дрова. Я ускакал прочь прежде, чем раздались стоны — единственно понятная всем истина…
Сколько бедствий выпало на мою долю! На постоялом дворе Кордовы меня укусила собака, и я, опасаясь бешенства, лечился вином. Моими собутыльниками оказались морские разбойники. Чередуя клятвы с проклятиями, они уверяли, что Город, который я ищу, находится в Африке. Дети сатаны! Они перевезли меня, мертвецки пьяного, в трюме своего корабля от одного столба Геракла к другому. Возможно, они хотели выставить меня на невольничьем рынке или сделать рабом в своём орлином гнезде, приютившемся в скалах. Или это была шутка? Когда хмель испарился, я увидел белое, как мрамор, солнце и море песка. «Каждая песчинка — частица времени, — думал я. — Сколько же отмерено мне?» Днём, спасаясь от жары, я спал под халатом из верблюжьей шерсти, а ночью, когда ноги вязли в песке, мои песни слушали высокие зелёные звёзды и выползшие из дюн змеи.
Где-то в Тунисе, посреди толпы берберов, звенел колокольцами прокажённый мавр. Сверкая глазами, он орал, что познал Бога. «Это никому не дано!» — выкрикнул я, когда колокольцы на мгновенье стихли. Его белки налились кровью, он бросился на меня с кривым ятаганом, и мы долго бились, прежде чем мой клинок заткнул его глотку. Берберы вокруг заулюлюкали, но, когда я поднял саблю, расступились…
…Всё реже встречались колючие кустарники, исчезали верблюды, невозмутимые бедуины и скользкие, как мысли богословов, змеи. Пустыня кончалась, когда я увидел Город. Заходило янтарное солнце, тени от пальм тянулись к воротам, лизали чугунные замки. Я постучался рукоятью кинжала. Вышел старик с длинной седой бородой и свитком в руках.
— Константин Псёлл? — прочитал он, вычёркивая моё имя из списка. — Мы давно ждём тебя.
И я услышал, как ворота за мной со скрежетом закрылись.
В Городе разливалась разноплеменная речь. Я различал германцев, италиков, иберийцев. «Женщины, рожая здесь, призывают множество богов», — думал я. Широкие скулы выдавали монголов, а золотистая кожа- китайцев. Я видел чёрных, как ночь, эфиопов и курчавых пожирателей нечистот, закрывавших рты выцветшими платками. Они свободно бродили по Городу, разбивая на площадях высокие шатры. Но нигде не было привычных мне церквей, мечетей и синагог, не было и языческих капищ с их заблудшими жрецами. Я не мог также отличить плебея от всадника: все держались одинаково величественно. В огромном Городе не обнаружилось и часов — ни водяных, ни песочных, ни солнечных. Уж не пытаются ли здесь укротить время?
У дома из бурого кирпича стоял бородач. Точно давнего знакомого, он, отворив дверь, пригласил меня жестом. Внутри было тихо, как в склепе. Мы заговорили на латыни. Тряхнув ушной серьгой, он представился ван Ориным, фламандцем, и, точно паук в паутину, опустился в плетёное кресло. Указав место напротив, достал кальян. Пока ароматный дурман наполнял нас, я спросил, почему названия Города нет ни на одной карте. Пожав плечами, он произнёс загадочное слово.
— «Приют усталых путников» — так его название переводится на греческий.
— Или пристанище бродяг, — не удержался я.
— А какой смысл в названиях? — ужалил он скорпионом. — Слова — это паломники, бредущие к неведомым святыням! Сегодня название Города одно, а завтра им окажется «выход из пустыни», «цветок персика» или «рыжая трава».
— По-твоему, и Бога можно назвать как угодно?
— Конечно, — рассмеялся он, — произносят же его имя по-разному римляне и византийцы. А представь, как звучит оно у троглодитов!
— Значит, можно назвать Бога дьяволом? Или тайным именем вашего Города?
— Или тайным именем нашего Города, — эхом откликнулся он так быстро, что христианин во мне не успел оскорбиться. — Числам не выразить рёва бегемота, а речам — природы вещей. Поэт и мусорщик одинаково ничтожны.
— Выходит, евреи слепо доверяли алфавиту? И греки напрасно превозносили слова? А римляне ошибались, ставя выше других ораторское искусство?
— Что есть искусство? — устало отмахнулся ван Орин. — Зачем нужны пейзажи, если есть закаты, зачем слагать стихи, если есть звёзды, зачем мудрствовать о Боге, если Он есть?
Я глядел на пальцы, впившиеся в кресло когтями хищной птицы, и вдруг понял, почему крестьяне в наших деревнях боятся, когда их тень падает в гроб, который заколачивают. Я отстранился, но ван Орин, приблизившись, зашептал:
— Зачем искать ответы на неразрешимые вопросы? Зачем причинять себе боль? — Его ладонь очертила полукруг. — А Город дарит успокоение. Наши поэты сочиняют стихи, варьируя размер так, что концы строк рисуют различные предметы: яйца, топоры, крылья бабочек, профили почтенных граждан. Наши астрологи составляют гороскопы на мельницы, полевых мышей и прошедшие месяцы. Наши учёные считают комбинации, в которые могут сложиться буквы всех известных языков или количество капель вчерашнего дождя…
— А чем занимаешься ты?
— Искусством составления палиндромов.
Я отложил кальян. За дверью, опустившись на камень, я охватил голову руками. О, злой рок! Проделать путь длиной в жизнь только затем, чтобы всё свелось к нелепой шутке! Остаток дней опьяняться искусствами Города? Впасть в забытьё? О, нет! Пора возвращаться из затянувшейся ссылки!..
…Недавно мне сообщили, что степняки обратили Фессалоники в пепел, но известие не опечалило меня. Я узнал также, что император по-прежнему благоволит ко мне. Но остался безразличным. Вот уже двадцать три года я живу в Городе. Выводя последнюю фразу, я подумал, что всё ещё не забыл о времени. Я принадлежу к цеху составителей палиндромов, к школе Ван Орина. И недавно поразил учителя — или он только сделал вид? — открытием самого короткого палиндрома: «Я».
НЕСЧАСТНЫЕ, ОБУЗДАВШИЕ ВРЕМЯ
Обитатели этих мест полагают, что время — это свойство вещей. Оно не течёт независимо, как считали Галилей и сэр Исаак Ньютон, а у всякой вещи — своё: у человека, звезды, летучей мыши, ошибки, урагана, речения. Слово «время» туземцы употребляют только с притяжательными местоимениями: «его время», «моё время», «их времена». Времени как платоновского архетипа для них не существует. Легко допустить, что их примитивное сознание не в силах вытерпеть его ужас, однако подобное объяснение будет неверным. Их время ближе джемсовскому потоку сознания, чем гераклитовой реке, в которую нельзя войти дважды. Оно течёт вместе с кровью по руслу артерий, вливаясь по венам в устье смерти. Согласно им, каждый, точно моллюск, живёт в створке своего времени. Место его сосредоточения — голова, в ней — центр времени, распускающего круги внутри каждого «я». В разных головах время разное (кстати, и Пуанкаре, и Лоренц также внушают нам, что в разных мирах время течёт неодинаково). Всякое сравнение, впрочем, подразумевает эталон, которого дикари не знают.
Их версия времени кажется оригинальной. Но допускаем же мы иное время на Небесах. Кувшин с водой, который опрокинула лошадь Мухаммеда, когда он отправлялся беседовать с ангелами, по возвращении был ещё полон. А для семерых отроков, замурованных в пещере, сто семьдесят восемь лет промелькнули как миг.
Владыка времени, Бог делится своим неисчерпаемым запасом со всем, что есть во Вселенной. Награждая им, он вешает и груз его счётчика. Бог у туземцев безличен, ибо они, как и ветхозаветные патриархи, отдают отчёт в том, что наречь — значит определить, а определить — значит принизить. Окликнуть здесь по имени — значит нанести смертельную обиду. Как Иегова или Аллах, их тотем — время — не терпит изображений.
Полюс, противоположный Времени, мыслится как средоточие зла. Его расположение, в отличие от божественного, известно. Оно — там, на западе, откуда осенью приходят ливни и где вечерами садится солнце. Туда по незримым каналам стекает время. Там, на краю ойкумены, откуда веет холодящим ужасом, пронизывающим всех и вся, — преисподняя, бездна, вечное небытие. «Гу-ду» — называют его аборигены.
Метафору «дыхание смерти» они воспринимают буквально, и когда дует западный ветер, суеверно отворачиваются. Слово «смерть» восходит в их языке к Гу-ду, и на английский его лучше перевести как «гудуизироваться», «перейти в царство Гу-ду». Мои наречения, впрочем, условны: их Бог не добр, их Гу-ду не зол. Оба они — скорее данность, которую необходимо принимать. Двускатная крыша их веры заставляет вспомнить не манихеев, но «Зогар»[23].
Одна из местных ересей утверждает, что Гу-ду был, как и все, обречён на истощение собственного времени. И поэтому покусился на чужое. Услышав эту легенду, я спросил: «А куда же девалось время, когда Гу-ду был ещё смертным?» Этим я стал похож на школяра, который недоумевает: «А чем же был занят Господь до Сотворения?» («Сын не подобен Отцу, ибо Сын сотворён во времени, а, значит, было время, когда Его не было», — опровергал Единосущие и Арий). Но меня не поняли. Справедливости ради замечу, что и на страницах Библии время возникает как перечисление дней Сотворения. С лёгкой руки иудеев оно стало сценарием, меркой развития сюжета. Но моим дикарям неведомы числа, солнце, каждый раз восходящее, для них всегда новое.
Самоназвание народа — «архаки» — «временщики», или «дети времени». Его нет ещё в атласах, и пока за их счёт не увековечили чью-нибудь — не дай бог, мою! — память, я хочу закрепить его за ними.
Архаки верят, что время, отпущенное камню, народу, эпохе, молнии, Чарльзу Уитли, Гу-ду, Вселенной, ограничено. Человек умирает, когда выходит его время, а когда оно выйдет у мира, наступит конец времён. Чем-то рассерженный или утомлённый, Бог перестанет быть тогда милосердным, одинокий и гордый, замкнётся в себе, не выпуская из рук нить времени. И мир погибнет. Ибо он всего лишь каприз Бога. Но вместе с миром умрёт и Бог, опечаленный его гибелью. Изощрённая космогония этих йеху напоминает гностическую эсхатологию и круговорот времён[24].
Кожа у них бронзовая, сильно развиты тазобедренные мышцы, а ноги короткие и жилистые. Острая, иззубренная кость, протыкающая носовой хрящ, и серьги, оттягивающие уши, уродуют их лица, делая похожими на маски. Передвигаются они только по крайней необходимости, большую часть дня сидя деревянными изваяниями — экономя время. Претендуя на роль их воплощённого Слова, я рискну сформулировать для них поговорку: «Летящей стреле отпущено меньше времени, чем лежащей в колчане». Природа, а природа здесь — музей скуки, по их разумению, не терпит суеты, она ленива, потому что хочет жить дольше. Бывает, что архаки целыми сутками молится Времени, Богу всех времён, обретшему совершенство покоя. Замерев истуканами, архаки превращаются тогда в его идолов: они стараются во всём подражать своему Богу, как мы — своему. Когда я поведал им о Распятии и об искуплении грехов, они снисходительно улыбнулись. Их удивило подобное расточительство, столь безрассудная трата времени, одолженного нашему божку их Богом. Они сравнили деяния Сына с напрасной беготнёй облаков, которые гонит в их края южный ветер. Напрасно я объяснял им, что Христос пожертвовал своим временем ради других. Они возражали, что он глупец, что передать время невозможно, что его отводит Бог, забирает Гу-ду. Все мои доводы разбивались об их наивное упрямство. Скажу больше: когда однажды во сне меня укусила мошка и я стал ворочаться с боку на бок, то мне вдруг пришло в голову, что этим я расходую драгоценное время.
И я вскочил ошеломлённый!
Они также помногу спят. Иногда мне казалось, что сон стал для них явью. Во сне они часто вздрагивают, кричат, а проснувшись, бурно переживают увиденное. Они также одушевляют предметы: судьба камня для них ничуть не хуже, а во многом даже лучше тревожной судьбы белки или короткого века ласточки. Родиться песчинкой или морской каплей здесь почитают за редкостную удачу.
«Небо знает, когда ударить длинной иглой», — полагают китайцы. «Когда душе предстать в Его чертогах, ведает лишь Аллах», — утверждают мусульмане. В предопределение верят также ессеи и кальвинисты. Когда я служил капелланом в колониальных войсках, смельчаки, шагавшие под пулями сипаев в полный рост, объясняли мне свою отчаянную храбрость возникающей вдруг уверенностью — никто не умрёт раньше своего часа. Говорят, её разделяли и монголы Чингисхана, и янычары Сулеймана Великолепного, и гулямы Железного Хромца. Ночью, когда в моём саду в Суссексе тускло поблёскивают светляки, я вспоминаю алтарь архаков: залитую луной поляну, окружённую пальмами. На ней высится клетка, в которой, тенью ада, мечется леопард. Клетку отворяют. Пятнистая кошка — её шкура отражает мерцание звёзд — осторожно пятится и скребёт пол. А когда голод побеждает страх, выпрыгнув, кидается на того, чьё время истекло. Остальные бесшумно удаляются, чтобы не видеть горящих глаз, не слышать урчания, которое вскоре заглушают цикады.
Околдованные настоящим, точно зайцы пятном, которое отбрасывает охотничий фонарь, мои сограждане подчиняются стрелке, бегающей по кругу. Дирижёрская палочка, заставляющая маршировать! Но слаженность обезличивает. Когда — слово, ставшее мне почти ненавистным, — я, обжигаясь кофе, тороплюсь на встречу, то ощущение того, что мой визави, как в зеркале, сейчас вот так же, обжигаясь кофе, боится опоздать, становится нестерпимым. Зависимость от циферблата унизительна. С тех пор как я вернулся, взгляд, случайно брошенный на часы, рождает во мне ощущение рабства, не покидающее меня в течение дня. Архаки не способны договариваться заранее. Поохотиться вместе на восходе солнца — для них непреодолимая трудность. Я тысячу раз твердил им фразу приблизительно такого содержания: «Мы все соберёмся завтра вот под этим высоким деревом, когда красный диск будет проходить над его верхушкой». Я варьировал её на разные лады. Но они так и не поняли. Их язык, оттиск их мышления, не допускает подобных конструкций. Их глаголы не имеют временных наклонений, всё пребывает в симбиозе прошлого, настоящего и будущего. Предложения: «я сорвал лепесток», «я срываю лепесток» и «я сорву лепесток» — звучат совершенно одинаково. Возникающую при этом путаницу у архаков разрешает память. Цепкая, она фиксирует любую мелочь, любые, даже незначительные, изменения — в шептании ветра, цвете облаков, своём настроении, монотонном кваканье лягушек, шуме прибоя или крике сойки. «Всё уже было, однако, ничего не повторяется», — было бы кредо архаков, умей они формулировать. Меня поразила эта их способность. Хотя ещё де Куинси заключает, что «Страшная книга Судного дня в Священном писании есть не что иное, как истинная память каждого из нас, ибо память наша лишена способности забывать». Добавлю, что самый подходящий эпитет для неё — «жестокая». И в самом деле, теперь, когда надвигается старость и ластик времени уже стирает черту между жизнью и смертью, в памяти всё чаще всплывают картины юности, казалось, вчера ушедшей, а блеклое вчера едва пробивается в ней сквозь занос повседневности.
Я узнаю себя в криках играющих детей, но не узнаю себя в зеркале.
Лексика архаков крайне бедна. Все существительные у них начинаются на «а»: «акн» — дождь, «арл» — солнце, «аму» — ложь, «ач» — еда, «акуф» — месяц, «арми» — месяц на ущербе, «алк» — жадность, «аю» — аллигатор, «аё» — волк. Сам по себе звук «а», не имеющий ничего общего с артиклем романских языков, означает «я», так что приведённое было бы точнее перевести как: «я — дождь», «я — солнце», «я — ложь», «я — жадность». «Раз я вижу дождь, ощущаю прикосновение его капель, или если я думаю о дожде, воображая его струи, то я сам становлюсь дождём», — вот приблизительная логика их речи. Мир предстаёт им сквозь окуляр собственного «я». Когда я посоветовал отбросить первую букву, одинаковую для всех слов, архаки возмутились. Они трясли головами, точно мои слова — москиты, готовые впиться в мозг.
Мёртвые не вызывают у них ни почтения, ни трепета. Тела едва удостаиваются погребения. По ушедшим никто не скорбит, все уверены, как, впрочем, и мы, что они ближе к Богу. Я подозреваю, что втайне они мечтают о смерти.
«Миг — это птица, которая везде и нигде», — опровергая время, считают архаки. Несчастные, обуздавшие время, они гордятся своей победой, для них убедительной.
Иногда мне кажется, что сбросить ярмо времени их подтолкнуло застывшее время их природы: бесконечное чередование солнц и мраморных лун, ночей, когда смолкают, наконец, хриплые вопли обезьян, когда ощущаешь, будто ты уже умер и, посторонний, слушаешь глухую тишину, окружающую тебя, когда на девственной листве наблюдаешь причудливую игру теней и полагаешь, что постиг слияние прошлого и будущего в вечном. А может, иллюзию отсутствия хроноса, пожирающего своих детей, в них поддерживает наркотическая кашица, которую варят в кокосовой скорлупе? Ведь в галлюцинациях время отсутствует: вчера и завтра там одинаково призрачны. А разве сны не рисуют картины прошлого и будущего одинаково легко, в сущности, их не разделяя?
Как-то раз ребёнок размял кусочек смолы, из которой их босоногие женщины с рыбьими костями в волосах лепят забавные фигурки, и превратил в кубик. Его товарищ попросил игрушку, он хотел катать её по поляне. Я решил было вмешаться: делая шар, пришлось бы сломать кубик, а он мне понравился. Но не успел. Просивший, овладев кубиком, бросил его на землю в футе от моих ног. И тот покатился. Как покатился бы восковой шарик моего детства. Тут первый мальчишка запротестовал и, найдя «мячик» в траве, стал бросать, как игральную кость. Теперь тот и вёл себя как игральная кость, упрямо ложась на одну из граней! Я остолбенел. Однако здесь никого не удивляет, что желание формирует мир, что его реакции на людей — разные, точно мир — это пёс, то и дело меняющий хозяина. Может, их вера — горчичное зерно, которое движет горы?
На этом евангелие от Уитли обрывается.
СЛОВО
На третьей неделе месяца зу-л-хидджа вместе с благочестивыми паломниками я тронулся в путь. За старыми городскими воротами от нас, наконец, отстала толпа мальчишек, привлечённая рёвом верблюдов и плачем женщин. Теперь нас сопровождало только мерное щёлканье бичей погонщиков мулов, тягучее пение бедуина и солнце, стоявшее в зените. Лёжа на носилках под палящими лучами, я пытался представить, что меня ждёт впереди, наивный, составлял план, не доверяя провидению! Я воображал, какую библиотеку построит для меня халиф, когда я привезу ему богатство Креза…
На восемнадцатом дне пути в Ущелье Дев караван разграбила шайка разбойников. Мои рабы разбежались, а единственного преданного мне, чернокожего нубийца, забрали с собой вооружённые кривыми ножами феллахи. Не стану описывать жаркие пески, кишащие скорпионами и злобно шипящими змеями, голые скалы, где я останавливался на ночлег, распластавшись, чтобы меня не сдул в пропасть ветер, не стану описывать лихорадку, от которой меня спасли тень кипариса и отвар из корней можжевельника, и жажду, от которой чуть было не умер. Мой халат был сплошь в дырах, а чалма свисала ветхой тряпкой. Я встречал мудрецов, говоривших, что невидимое не существует, и дервишей, учивших относиться к реальности, как к чуду. Я повидал их множество — мёртвых, над которыми вились мухи, скелетов, обглоданных шакалами! Но мои злоключения бледнеют перед дальнейшим. Скажу только, что прежде чем попасть в Зелёную Долину, я благополучно миновал страны, где не ведают о Пророке — за его проповедь меня едва не побили камнями! — и места, где буйствует проказа…
…Аллах милостив, я очнулся в шалаше из пальмовых ветвей. Надо мной склонялся коротконогий, морщинистый туземец, брызгавший на щёки воду. Стоило мне приподняться на локтях, как бесстрастное выражение сменилось у него испугом. Он бросился наутёк. В хижину вошли босые женщины, принёсшие лепёшки, голые мальчишки и одетые в грубый войлок мужчины…
Я попытался выяснить, какое из учений проникло в их места. Однако они не слышали ни о Мусе, ни о Посланце, ни о Распятии. Не принадлежали они и к религии маджус — чтящих огонь. Когда я спрашивал, кому они поклоняются, они лишь загадочно улыбались. Я обращался к ним, как к глухим, — на пальцах. Результат был тот же. Но люди не могут не поклоняться, думал я…
„…У меня поднялся жар. Я начал бредить. В моей воспалённой голове птицами, клюющими череп, вертелись изречения философов, среди которых особенно назойливым было: «Всё содержится во всём, одно слово — все слова». Мне прислуживала сгорбленная старуха с пахнущими рыбой волосами, подоткнутыми в пучок костяной иглой. Глядя на них, я стал подбирать слово, собирающее воедино все слова. И я нашёл его. «Мир». Но, выздоравливая, я стал размышлять над тем, что другие слова ничем не хуже, что все они — нити одной паутины. И стал предаваться пустой забаве, связывая их в цепочки. Так «старуха» подсказала мне звено между «причёской» и «запахом рыбы», а «дервиша» и «беглого раба» я связал «палкой», которая служит посохом первому и гуляет по спине второго. «У колодца и женщины ничего общего, — думал я, — однако поэты справедливо сравнивают их бездны». Но потом я окреп настолько, чтобы устыдиться своей игры…
Когда я провёл в Зелёной Долине несколько недель, то стал подмечать благоговейный ужас, которым наполняются глаза её обитателей, когда обращаются на юг. Я жестами заговорил об этом со старухой, но она — доселе каменное изваяние! — замахала руками, будто я джинн. Отсюда я заключил, что на юге находится их таинственный покровитель. В одну из ночей, когда месяц был на ущербе, я сунул в мешок вяленое мясо и отправился на юг. Неожиданно передо мной вырос страж — рослый, с дубинкой у пояса: мою затею предвидели. Он, не мигая, смотрел мне вслед, когда я свалил его ударом клинка. Он точно не замечал, что истекает кровью, в его взоре читался лишь священный страх. Я долго блуждал, продираясь сквозь репейник, прежде чем обнаружил протоптанную в густых зарослях тропинку. Извилистая, она упиралась в пещеру. Вход был завален валежником. Я разгрёб его. Глухо запричитала сова. Внутри тёмный коридор упирался в тяжёлую дверь. «Великое искушение» — разобрал я на ней, прежде чем толкнул ногой. На пороге сидела ящерица. Я спугнул её. С потолка капало. Я ожидал встретить какого-нибудь страшного дэва, но пещера была пуста. Её стены испещряли письмена, и среди них сияло Слово…
Разговаривая, мы швыряем друг в друга сгустки тумана. «Любовь» каждый понимает по-своему, «Бог» различен в толкованиях богословов. Но Слово, которое я читал, означало сразу всё. Или ничего. Только что это был «волк», как его уже сменяла «цапля», «цаплю» — «вереск», «вереск» — «стрелы, пущенные в луну». Оно заключало в себе Вселенную, оно и было Вселенной. Внезапно я понял, почему безмолвствуют жители Зелёной Долины. Я знаю двадцать два языка Халифата, не считая арабского, я владею всеми диалектами фарси, речью румов и говором жёлтых обитателей Поднебесной, и поначалу буквы, составляющие Слово, показались мне знакомыми, будто слагались сразу изо всех алфавитов. Несколько раз я пробовал переписать его, но бумага сохраняла лишь горсточку жалких слов. Я стал опасаться за рассудок. Без сомнения, это было божественное слово. Дивное, неземное сияние превращало его в зеркало, в котором отражались окружавшие меня письмена, я сам, города, где я провёл юность, близорукое лицо ал-Хакима, переписанные свитки, пальмы, оазисы, Коран, гневные окрики бедуинов, копья негусов, пятничный намаз, наложница, купленная визирем для гарема, белозубые мавры, осами налетевшие на нас в Ущелье Дев, преданный мне чернокожий нубиец, вооружённые кривыми ножами феллахи и евнухи, казнённые за измену в день моего отъезда. Может быть, это и есть священный тетраграмматон, открывшийся Мусе на Синае, который означает для йахуди безымянность Бога? Может быть, его упоминает начало четвёртого откровения сыновей Исы? А может быть, это и есть сокровище Креза? Ведь его обладатель обладает всем…
Меня сморил сон. В нём я снова увидел всю свою жизнь, которая упёрлась в сырую пещеру, и тут услышал голос, привыкший повелевать. «О, Йакут ибн Муавийя! — узнал я своего далёкого предка. — Моё сокровище не для тебя — ты чересчур суетен, чтобы обладать им! Возвращайся обратно к себе подобным — отныне твоим уделом будут смятение и скука, а когда ты смертельно устанешь, то всё забудешь». Очнувшись, я ещё долго сидел на камне, покрытом слизняками, созерцая Слово. Я снова видел себя ребёнком, едва умеющим взобраться на лошадь, безусым юношей, изучающим ремесло писца, но видел их уже обладающими опытом и мудростью, которые приобрёл за жизнь. Я представлял себя то повелителем мусульман, то рабом, то женщиной, то ящерицей, которую спугнул, входя в пещеру, — все мои фантазии тотчас воплощались в Слове! Оно отражало их в мириаде изменчивых слов, а что значит воплотить, как не описать? И Аллах творил посредством слов! Или Слова? «Великое отчаяние» — прочитал я на двери, которую снова закрыл. У её порога я оставил ненужный перстень, ибо решил больше не возвращаться в столицу. Я решил так не из-за страха перед гневом халифа — я слышал, он давно умер, — а потому, что больше не смог бы переписывать книги с их человеческой мудростью. К тому же человек всегда глупее им написанного. Теперь моя участь ужасна: я остался наедине со здравым смыслом, глумлением скуки и действительностью, от которой хочется отречься.
Я поселился отшельником на склоне горы. Окрестные пастухи, видя мою задумчивость, нарекли меня «Беспрестанно Молящимся». Но они ошибаются. Пока я рублю дрова, собираю хворост или разжигаю огонь, на котором готовлю пищу, я всё время стараюсь вспомнить или забыть Слово.
ЗАПИСКИ ТИРОНА, СЕКРЕТАРЯ ЦИЦЕРОНА
Помнится, ты настоял включить в издание упрёк, брошенный тобой Клодию, в сожительстве с сестрой. Достойно ли это Цицерона? И теперь неуёмное стремление на Форум вместо тиши поместья, не продолжение ли это ошибок? Мне вспоминаются слова, отчеканенные золотой монетой, для твоей речи: «Слава — единственное, что может служить нам утешением, вознаграждая за краткость нашей жизни памятью потомков; это она приводит к тому, что мы, отсутствуя, присутствуем, будучи мертвы, живём; словом, по её ступеням люди даже как бы поднимаются на небо». О, Марк Туллий, неужели ты и впрямь воспринял их всерьёз? Зачем оратору тягаться с воинами? Победа слова над мечом — только мечта. Стоит ли испытывать судьбу, точно пылкий юноша, ещё не надевший тогу?
В год консульства Луция Эмилия Павла и Гая Клавдия Марцелла, на третий день после календ месяца секстилия, написал Марк Туллий Тирон, один при лунном свете».
Следующая запись сделана через шесть лет:
«Бесконечные обиды послужили причиной твоего развода, когда жена вывозила из дома мебель, переводя на себя всё имущество. Кстати — и сейчас, после пятого триумфа Цезаря, это можно утверждать смело, — её выбор оказался точным[26]. Всем известно женское коварство! Вспомни, как после вашего окончательного разрыва, когда ты отверг некрасивую сестру цезарева легата ради брака с юной Публилией, как ловко бывшая жена воспользовалась случаем, распуская слухи, что Цицерон не устоял против чар воспитанницы, а потому развёлся с любящей супругой. Наглая ложь! И я, уже вольноотпущенник, снял с тебя обвинения в том, что ты ради новой кандидатуры прогнал жену, возле которой состарился, как заметил твой недруг[27]. Я поведал, что, будучи опекуном Публилии, ты управлял её имениями, и в случае замужества она потребовала бы отчёта об истраченных суммах, а они значительны. Денег же у тебя не было, ведь Туллии ещё не вернули приданое. Вот аргументы, которые я привёл народу, а ранее, когда советовал жениться на Публилии — тебе.
И ты согласился, ибо бережливость — наследственное качество Цицеронов, «собирающих по горошинке в стручок», как обыгрывает Плутарх «Цицер» — горох. И ваша добродетельная мать приказывала запечатывать кувшины, из которых выпито вино, чтобы, соблазнившись лёгкостью обмана, не опорожнили полного сосуда, приставив к пустым.
Как краток, бессмертные боги, миг счастья! Давно ли ты переехал в Тускул, вместе с разрешившейся от бремени Туллией и молодой Публилией? Давно ли было то неповторимое — ну как тут не согласиться с Тёмным Гераклитом — время? Но уже год, как Туллия и внук мертвы, а жена отправлена к родственникам. О, как потрясла тебя смерть Туллии! Даже мысль, что жена, ревновавшая тебя к дочери, может испытывать теперь удовлетворение, была тебе невыносима. И ты развёлся, чтобы в уединении сочинять утешение себе. Разве это не доказательство чистой любви? Так распространялся я на Форуме, когда клеветники распустили слухи о кровосмешении. Вспомни — о, переменчивость судьбы! — упрёк, брошенный Клодию».
Далее Тирон рассуждает об ораторском искусстве. «Только мудрый богат» — этот седьмой по Цицерону парадокс стоиков Тирон аргументирует ещё и ссылкой на эпикурейцев: «Ибо богат тот, кто ни в чём не нуждается», — уподобляясь Цицерону, парировавшему Красса: «Богат тот, кто содержит легионы». А затем в формулировках Тирона проступает иная эпоха. Наряду с такими метафорами, как «речь — плоть мысли» и «язык — единственная реальность» (последняя истолковывается как простая метафора уже с натяжкой), он утверждает, что «границы языка и есть границы мира, а значит, оратор богаче Красса после спекуляций и Суллы после проскрипций». Эти вставки, равно как и анахронизмы выдают апокрифичность записей. Становится ясно, что это рассказ, тканью которому служит переплетение Тирона-повествователя, Цицерона — героя повествования, и автора, комментирующего Тирона.
Третья запись датируется убийством Цицерона:
«Сегодня, в первый день Сатурналий, дровосеки валили могучий дуб. Боль сжала мне грудь, и я проклял центуриона Геренния, начальника которого — трибуна По-пиллия (кстати, историк Гримайль ошибочно смешивает их роли), — ты много лет назад защищал от обвинения в отцеубийстве. Я ещё раз проклял Геренния, который по приказу начальника, не только забывшего тот процесс над собой, но и повторившего этим приказом своё преступление, отрубил голову Отца Отечества. Изменники! А ведь верность — главное слово у Цицерона. Судьба немилосердно обрубала ветви твоей жизни: гибель республики, самоубийство Катона (которого именовали «совестью сената», а теперь вот позорное убийство «слова сената»), смерть Туллии, гибель брата… И хотя ты был прав, говоря, что «главное — остаться верным себе, ведь как распорядится судьба, от нас не зависит», но я, удручённый горем, ищу утешение в размышлениях о том, что «скорбь есть состояние души, внутренняя рана; попытаться освободиться от скорби — значит лишиться части души, в скорби же душа живёт и преображается». А можно искать утешение и в том, что некоторым жизнь даруется после смерти, трактуя Цицеронов «Сон Сципиона», где высказано это убеждение, сотерологическим провозвестником христианства».
Последняя фраза являет пример комментария. В дальнейшем в записках проступает лицо, ранее завуалированное, возникают фразы, описывающие автора: «поворот головы», «раздавленный в пепельнице окурок», «шелест бумаги, когда из кипы достают листок». И всё оборачивается. Автор, фигурирующий в рассказе как комментатор, на самом деле его сочиняет. Читающий становится пишущим, изложение — сочинением, а комментарии превращаются в его отправные точки. Система координат в «Записках Тирона» меняется, становится очевидным, что Рим в них создан в Москве.
Тирон, создающий Цицерона в своих записках, я, создающий его в своих «Записках Тирона», читающий сейчас «Записки Тирона», — это ступени бесконечной лестницы, уходящей в поднебесье времён. Ибо когда-нибудь (и за бесконечностью времени этот факт — достоверность) кто-то перепишет «Записки Тирона», пропустив их события сквозь своё время, и, таким образом, создаст их заново, как это только что сделал я, воскресив Тирона.
Но что можно увидеть в его записках, кроме себя?
ПОСЛЕДНЕЕ ПУТЕШЕСТВИЕ ГУЛЛИВЕРА
Вот что он писал позже.
Эта надпись красовалась над дверью трактира, но прочитать её я, конечно, не смог. Я только и понял, что это искусственный рисунок. Потом я встречал его на пивных кружках, в мясных лавках, на уличных вывесках, татуировках, ладанках знатных дам, слышал пословицей и приговором на эшафоте. Дело в том, что туземцы проводят своё время в поисках тайного смысла, заключённого в слова. Подобно иудеям, убеждённым в скрытой подоплёке Писания, они строят иносказания, метафоры, как дома на песке, и живут в них до нового прилива красноречия.
«Форма неизменна, — утверждают они, — но содержание постоянно меняется».
Название их страны произносится двояко. Иногда Благдвильбригг, иногда Шумриназ, и означает остров толкователей. Для благдвильбрижцев такое положение вещей не представляется удивительным, ведь язык, считают они, проявляет лишь ничтожное число наших сокровенных имён.
Как ни странно, книги о моих приключениях достигли этих далёких берегов. Через месяц, который я провёл у гостеприимного трактирщика, я уже начал понимать благдвильбрижский, и мой хозяин сообщил, что «таинственные записки», как нарёк он мои отчёты о плаваниях, вызвали здесь переполох, точно камень, свалившийся в курятник.
«Хороша книга или плоха, — обиделся я, — зависит не от автора, а от читателя». В ответ он потащил меня в замок и представил королю, который, оказалось, уже год ломал голову над тем, что я хотел сказать. В присутствии вельмож я со всей почтительностью поклонился его светлости и, увидев, что он сгорает от нетерпения, признался, что писал правду. Моё простодушие чуть не стоило мне головы. Ведь правда для местных жителей — гнуснейшая разновидность вранья, истина — самая низменная из категорий лжи. Заявить, что говоришь правду, значит оскорбить. Во время короткого пребывания в Японии мне удалось выяснить, что в японском есть слово, которое меняет смысл речи, если она не нравится собеседнику, о чём можно догадаться по выражению его лица, на противоположный. Но благдвильбрижцы пошли дальше. Любое их слово несёт в себе своё отрицание и может быть истолковано по желанию. Исключить обман из их жизни совершенно невозможно, правда свела бы их с ума, и потому она спрятана в недомолвки и намёки. От гнева придворных я спасся лишь тем, что стал на ходу плести кружева, нанизывая их, как бисер на иглу, заговорил об иронии и сатире и увидел, как лица благдвильбрижцев погружаются в привычную задумчивость. Удовлетворившись моей болтовнёй, король стал зевать и устало хлопать в ладоши.
Королём у благдвильбрижцев становится тот, у кого нет выемки над верхней губой, а министрами — кто сумеет почесать языком кончик носа. При этом король скрывает отсутствие бороздки под густыми усами, и намекнуть на его особенность считается неприличным.
Мне отвели комнату, и на другой день мы продолжили беседу. За ночь я успел подготовиться и начал разглагольствования сразу, едва переступил порог королевских покоев. «Книга — не публичная девка, — оправдывался я, льстиво заглядывая в глаза, — настоящая книга, как жена, предназначается одному, а не всем. Читать не свои книги — всё равно, что спать с чужой женщиной». Меня благосклонно слушали, свесив языки на подбородок. Незаметно закатилось солнце, и я восхитился королевской способностью извлекать из ночи тишину, которая скрадывает все шорохи. При этом я называл тишину несостоявшимся боем и аплодисментами, которых никто не слышит. Однако король воспринимал эти сравнения всерьёз, парадоксы завораживают благдвильбрижцев, как огонь.
Их язык перегружен идиомами, будто телега после ярмарки, а слова имеют множество версий. Прежде, чем ответить, они долго думают, какую именно выбрал собеседник. И обычно не угадывают. Странный их разговор напоминает диалог глухих, который распадается на сумму монологов. Они легко усваивают чужие языки, которые погружаются в их язык, как баржа в море, но перевод с благдвильбрижского крайне затруднителен. Их песни и книги остаются вещами в себе, их культура, в отличие от нашей, замкнута. Передать её можно лишь приблизительно. Например, фразу «я собираюсь удить рыбу» благдвильбрижец может понять как предложение руки и сердца, а утверждение «завтра будет дождь» — как предостережение от засухи. Известная поговорка гласит, что язык дан политику, чтобы скрывать мысли. Но благдвильбрижцы веками упражнялись в дипломатии и, в конце концов, настолько запутались, что перестали отличать чёрное от белого. Они шли на поводу у холодной вежливости, а их мышление следовало за удобством, провозгласив идеалом терпимость (глафричбек). Это не значит, что у них не случается ссор. Я сам видел булочников, угощавших друг друга тумаками, однако выяснить причину драки так и не смог. Один приводил мотивом вчерашний снег, другой — сумятицу в раздавленном муравейнике. Их лицемерие стало искренним, а сознание — податливым, как глина. Геродот называет персов честными от природы. У благдвильбрижцев, наоборот, ложь коренится в самой душе, изъять её, всё равно, что вынуть позвоночник.
Интерпретация заменила им факт, а язык — молчание. Грамматика благдвильбрижского целиком подчинена комфорту. Не только книги, но и отдельные предложения допускают в нём различное прочтение. Знаки препинания расставляются произвольно, буквы определяются фигурами речи, а алфавит то и дело меняется. Подлинная же передача знаний достигается особыми горловыми звуками. «Если знаешь только слова — ничего не знаешь», — гласит благдвильбрижская поговорка.
Вслед за Платоном они полагают, что мысль не рождается в голове, а приходит в неё из мира идей, и потому, размышляя, вертят шеей, подставляя виски сторонам света, как парус ветру. Некоторые их философы договариваются до того, что и наше «я» находится вне тела, но когда я спрашивал, что такое, по их мнению, «я», они начинали привычно темнить.
Раз в год здесь состязаются ораторы. При мне победителем вышел юрист, увидевший в «да» полтора десятка «нет». Точно помешанный, он вышагивал, задрав голову, ловя оттенки смысла, как рыба воздух, и его рот беззвучно шевелился. Однако публика, читающая по губам, рукоплескала.
Из наук на острове развивается только психология. Она представляет собой странную смесь знахарства, шарлатанства и ворожбы. Её учителя усердно преподают то, чем не владеют сами, а что знают — скрывают. «Обучая других — учись сам», — главное правило благдвильбрижской педагогики. Их лекари, на разные лады заговаривая больного, в случае кончины ставят несколько диагнозов, предлагая родственникам самим выбрать болезнь, которая свела пациента в гроб.
Толкование заслонило благдвильбрижцам событие, как гора — солнце, потому что они смотрят, но не видят. Мне объяснили, что у правителя острова хранятся очки, которые надевают новорождённым, и они носят их, пребывая точно в скорлупе. Если островитянин хочет свести счёты с жизнью, ему достаточно снять их. Он тут же погибнет, сражённый истинным светом мира.
Ходят слухи, что у королевских советников выработан особый язык — короткий и ясный, на нём обсуждаются государственные вопросы. Но из окон дворца слова долетают до благдвильбрижцев в привычном искажённом виде. Из них может следовать как то, что будущий год будет урожайным, так и то, что предстоит недород. Если сравнивать улыбки с погодой, то благдвильбрижская — как в глубине океана — всегда холодная и таинственная.
Здесь отрицают единобожие. «Даже цирюльник у каждого свой, — обрывали туземцы мои попытки миссионерства. — Не человек для Бога, но Бог для человека!» При этом они верят, что у женщин Бог мужчина, а у мужчин — женщина. Молитвы они также отрицают. «Бог даёт не что просишь, а что находит нужным», — считают они. По той же причине у них не пользуются уважением гадалки. Выражение «судьбу не обмануть» здесь понимают так, что судьба сама тысячу раз обманет. В этой связи мне рассказывали такой случай. Один человек отличался невезением, все его планы рушились, а надежды не сбывались. Задумает ехать — у телеги ломается колесо, соберётся отдыхать — его требуют по службе. Тогда он стал метать кубик, спрашивая прежде небо. Но как ему было толковать знамение? Ведь если число благословляло его начинания, то, с учётом подвоха, нужно было поступать наоборот.
Жизненный опыт благдвильбрижцы не ставят ни в грош. «Посмотри, — говорили они, указывая на стариков, — вот, что значит соответствовать житейской мудрости!» Старики здесь алчны и сварливы не в меньшей степени, чем у нас, но им не выказывают того лицемерного почтения, которое предписывает наша мораль.
У островитян есть такой обычай, сохранившийся, как мне говорили, с незапамятных времён. В углу их жилищ стоит грифельная доска, на которой они пишут по утрам первую фразу, произнесённую королём после сна. Целый день они вглядываются потом в осыпающийся мел, глубокомысленно морщатся, пытаясь втиснуться между букв и, ухватив, как кошку, вытащить оттуда потаённый смысл высочайших слов, прежде чем их унесёт тряпка. И это благдвильбрижцам всегда удаётся, каждому — на свой лад. На свою tabula rasa они молятся, как на икону, и, в отличие от проповедуемой у нас Божественной неизменности, она символизирует переменчивость. Их религия (брунзилё) провозглашает терпимость, которая с годами превратилась в безразличие. Они поклоняются любой случайно попавшейся им вещи, будь то метла, огородное пугало, осколок стекла, сон с четверга на пятницу, собственный пупок или причитания ветра. Специальная коллегия следит, чтобы их внимание не задерживалось, а идолы сверкали, как мыльные пузыри. Для этого иногда распускают слухи о внезапной гибели короля или о поразившей его немоте. Подобные мифы повергают население в ужас: при всей своей изощрённости, благдвильбрижцы поразительно наивны. Постоянные темы их разговоров — равенство и свободомыслие, которыми здесь очень гордятся. Любой дубильщик кож, не смущаясь, расскажет, как он понимает устройство Вселенной и последнюю фразу короля. «Считаешь ли ты себя равным ему?» — спросил я одного могильщика. Вместо ответа он рассказал мне о видах на урожай и, заколачивая гроб, поведал о достоинствах покойного.
У лжи богатый арсенал, у правды — бедный, ложь взывает ко множеству чувств, правда — только к справедливости. Поэтому благдвильбрижцы считают ложь оружием сильных, а правду — ненадёжной крышей для слабых. Не все, однако, способны жить во лжи. Таких здесь считают душевнобольными и зовут аристократами (чудгилгами). Аристократы проводят жизнь в одиночестве. По распространённому суеверию их взгляд вызывает порчу, а прикосновение лишает удачи. Аристократом может объявить себя каждый. Но это опасно. От них шарахаются, как от прокажённых, и в любой деревне могут побить камнями.
Через год меня увёз голландский корабль. Когда капитан сообщил, что направляется в Европу, я поначалу обрадовался, но потом стал искать в его словах каверзу, подозревая под Европой синевшие впереди волны, край света или преисподнюю. А вернувшись домой, я не мог избавиться от ощущения, что так и не покинул Благдвильбригг. Уже в порту меня встретили толпы с газетами в руках, стадо бормочущих, блеющих, жующих слова, которых недостойны. Меня окружили сплетни, журналистские «утки», переменчивая молва, захлестнули обманчивые проповеди и сомнительные истины, я повсюду натыкался на писателей, которые, как свиньи жёлуди, рыщут скрытый смысл, и читателей, которым надевают на нос очки.
Ночью, когда подступает бессонница, я вижу, как островитяне склоняются над кроватью и слизывают мои мысли длинными, скользкими языками.
МИРАЖИ БЕССМЕРТИЯ, ИЛИ ДОН ИМАГО, КОТОРЫЙ ОБРЁЛ ВЕЧНОСТЬ МУМИИ
Предположим, что гениальный учёный занимается клонированием, надеясь воспроизвести себя. «Memento mori» — слова из мёртвого языка — вызывают у него образ бесконечной стены, которая, надвигаясь, толкает в пропасть. И жало этого страха подгоняет его в работе. Родившийся горбуном, он посвятил жизнь её бесконечному продлению, заключив завет с богом-машиной, ждёт “Deus ex machina”. И вот наступил его последний вечер. Он ещё раз проверил спасительный аппарат, прежде чем стена надвинулась могильной плитой. И уже к рассвету, когда затёртая монета луны переломилась в узкий, блекнувший серп, машина выдала кальку его «я». В ней отразились седые волосы, едва заметный шрам на щеке, капельки пота, ресницы, севшая на плечо муха, выпиравший горб. И в ней проступил другой его горб — обречённость прожить один день. Подобно святому Лазарю, ему суждено было теперь воскресать, чтобы умирать.
Таков сюжет фантастического рассказа о людях, тиражируемых, как газеты, и, как газеты, увядающих за день. Их образ воскрешает в памяти гомеровские «листья, которые ветер бросает на землю», и метафору Симонида — «существо-однодневка». Едва разорвав кокон, они вспоминают, что мотылькам, бьющимся о стекло, им не вырваться из-за решётки «сегодня».
Подчёркивая аналогию с превращением личинки в бабочку-имаго, назовём горбуна доном Имаго.
Можно долго описывать его трагедию, но рассказ не сводится к репортажу из камеры смертников. Ибо душе дона Имаго, застрявшей между жизнью и смертью, местом заключения служат всё новые доны Имаго. Их внутреннее время застыло, внешнее — сжалось до суток, это и есть их бессмертие, их остановившееся мгновение. Такое решение подходит для мифа о доне Имаго, созерцающем вечность.
Но сюжету легко придать детективный оттенок. Пусть теперь наш герой — торговец, наблюдавший, как из дома напротив его лавки по утрам выходил странный горбун. Небрежным кивком он отвечал на приветствие. Иногда задерживался, покупая газету. Торговца в нём что-то смущало, и однажды он осознал, что никогда не видел его возвращения. Недоумение вызвала и монета с характерной царапиной, которой каждый раз расплачивался горбун. Проводя ночи у его дома, торговец тщетно караулил его возвращение.
И однажды проник за ворота.
В одной из комнат он нашёл огромный стол, заваленный бумагами. На стенах цвета запекшейся крови висели зеркала, отражавшие горевшую свечу. Смятые, скомканные, разорванные в клочья листы хранили разные даты. Из них герой узнал об эксперименте, о том, как доны Имаго проводили отпущенные часы. И как их запечатлевали. Они поступали так в смутной надежде, что завещание продлевает жизнь. Они думали выделиться среди одинаково безликих, среди подобных себе, среди своих копий. Чтобы отразить мир этих существ, пришлось бы расширить круг местоимений, введя «яы» — симбиоз «я» и «мы».
«Когда я очнулся от тяжкого забытья, вокруг царил сумрак, остовы предметов проступали в нём какими-то жуткими насекомыми, так что я едва осознавал себя вернувшимся к действительности, — с трогательным пафосом сообщала одна из записок. — Но тут не отпускавшие меня в последнее время мысли нахлынули с новой силой. Я вспомнил суматоху вчерашних приготовлений, грядущее спасение, вспомнил, что настал решающий день. Всё или ничего! Волнуясь, я вылез из машины, в которой, видимо, уснул, сломленный усталостью. Откуда взялась эта куча листов? И свеча на столе? При её тусклом свете я развернул несколько бумажек, исписанных моей рукой, но мне незнакомых. Я бросился к окну. Осенний дождь смывал с деревьев унылую желтизну. Но вчера была ранняя весна, таял снег и бежали ручьи. “Свершилось!” — воскликнул я, и сердце моё радостно забилось. Но почему не весна? Мозг лихорадочно работал. Значит, я был не первым? Значит, сейчас другой вспоминает обо мне, уже мёртвом? Облокотившись о подоконник, я стоял, будто ребёнок, постигший вдруг, что смертен. Но сколько мне отпущено? День? Бабочка, трепещущая на булавке! Мысли спутались, я заплакал…»
«Но что даст неделя? месяц? год? — успокаивали себя в другом письме. — К чему тянуть пытку? Ради серенького дождя? Свинцовых туч? Ради этой комнаты, ставшей Вселенной? Злая шутка! Вечно проживать свой последний день!»
«И что мне до двойника, который явится завтра? — спрашивали в третьем послании. — Сегодня исчезну Я — вот единственная в мире истина! Клянусь, я разбил бы машину! Но надо оставить шанс потомкам — какое нелепое наречение себя! — быть может, они разомкнут этот круг».
И на всех посланиях стояло невидимое: «Дон Имаго, которого уже нет, — дону Имаго, который ещё не родился».
Среди рождённых на день, как ни странно, находились и те, кто томился скукой, сходя с ума от вынужденного безделья. Такие приводили в порядок дом и чистили одежду, которая для них была саваном. Наиболее деятельные выясняли, не появилось ли лекарство, продлевающее им жизнь. Другие не могли решить, как распорядиться своим единственным днём, ими владела неизъяснимая фобия перед миром, и они не смели отлучиться из дома. Иные делали бога из смерти. И их утешала вера в завтрашнее воскресение. Они молились, чтобы не сломалась машина. Автор одной из записок кичился тем, что прожил два дня. Другой, не вынеся знания смертного часа (его незнание и отличает человека от дона Имаго), покончил с собой. Жажда деятельности толкала некоторых на яростную борьбу. Однако, уходя из дома, они не успевали выбрать себе противников. Погожий денёк родил эпитафию: «Мне было хорошо». Некоторые исписывали целую тетрадь, большинство довольствовались строкой: «Здесь был дон Имаго». Избирались и поэтические формы. Встречались записки, содержавшие лишь календарную дату. Выискался некто, проведший свой день во сне.
Герой узнал также, что многие, подобно ему, изучали хроники предшественников (а он был настолько поглощён чтением, что ему чудилось, будто и сам он — дон Имаго), но бросали это занятие, обесценивающее их собственный день.
Интересной была бы встреча героя с только что родившимся доном Имаго. Но что бы он ему сказал? Чем утешил? И, стыдясь своего бессилия или своей долгой жизни, герой, задув свечу, удалился.
ТРУДНЫЕ УРОКИ ХРИСТИАНСТВА
«Блаженны нищие духом», — доносилось с холма. Человек в белой хламиде простирал руки к толпе восточных варваров, которых я узнал по завитым бородам.
«Какого он племени?» — подумал я.
«Блаженны плачущие, ибо они утешатся…»
В тихом голосе сквозила неизбывная грусть. Не разбирая языка, на котором он говорил, я, странным образом, понимал его.
Приблизившись, я смешался с толпой.
«Блаженны жаждущие правды, ибо они насытятся…»
«Когда? — крикнул я. — Пока я знаю только то, что ничего не знаю!»
На меня обратили внимание не более чем на мошку. Грубые, обожжённые солнцем лица; все пучили глаза на проповедника. Признаться, и я дивился его риторике, прикидывая, у кого из наших он учился.
«Вы — соль земли… Вы — свет мира…»
«Лесть принесёт тебе пальмовый венок!» — скривился я. И тут же обратился в слух: «Не судите, да не судимы будете…»
«Для этого надо лишиться не только языка, но и разума!»
Я открыл, было, рот, но тут вспомнил про цикуту. И почему его сентенциям не следовали мои сограждане?
«Не противься злому, и кто ударит тебя в правую щёку, подставь тому левую…»
Не нарушая молчания, вокруг согласно кивали.
«Твоему закону, — не выдержал я, — должны подчиняться все, иначе он превратится в орудие тиранов!»
На меня зашикали, и, повернувшись, я поспешно удалился.
Под смоковницей ютился постоялый двор, хозяин понимал по-гречески, и мы, черпая из амфоры неразбавленное вино, срывали смоквы, не вставая из-за стола. Хозяин рассказывал о пылающем кусте, из которого вещало божество, я — о храмах с портиками и мраморными богами.
«Храм, как и Бог, один, — нахмурился он. — И Он не терпит Своих изваяний!»
У него отсутствовало сомнение, его речь была цветистой, и метафора заменяла в ней силлогизм. Мы так заговорились, что оборвали все смоквы и не заметили подсевшего иудея. Пряча живот под стол, он сообщил, что пророка с холма давно распяли, а его ученика побили камнями.
«Варвары», — скривился я.
И опять вспомнил про цикуту.
Иудей оказался мытарем, он рассказал, как, собирая подать, увидел на дороге Бога — того, распятого. Я усмехнулся.
— Безумие для эллинов, — зло проворчал он.
Я глубже погрузил язык в вино.
— Теперь мы видим как бы сквозь тусклое стекло, гадательно, — гнул своё мытарь, — тогда же — лицом к лицу…
— Когда? — покачал я головой.
Пока был жив, я тоже надеялся, что с кончиной откроется свет, но в подземной обители не видно даже вытянутой руки. И всё же, мне было жаль ритора, который сводил жизнь к притчам и размахивал оливковой ветвью, не препоясавшись мечом. «Блаженны миротворцы, — вспомнил я, — их назовут сыновьями Божьими…» Возможно, но прежде убьют.
Пригубив вина, мытарь меж тем шептал о грехопадении, которое нужно искупить. Признаться, я долго не мог его понять, а, поняв, рассмеялся: «Если всемогущий Творец создал нас, как червивое яблоко, то кто же тому виною?» Но мытарь оказался как моя Ксантиппа — вылил на меня ведро помоев и заявил, что я — его жало в плоть.
А потом стал хвастать, что понесёт свет греческим невеждам.
Глупец, Афины никогда не откроют ворот твоему учению! И потом, разве ты не знаешь, что мир — только часть царства мёртвых, за пределы которого я так и не вышел?
«Прошлое и будущее одинаково недостижимы, мы ощупываем их, как слепцы, но к чему прикасаемся — загадка…»
От этих мыслей я очнулся в апрельские календы семьсот восемьдесят девятого года от основания Города посреди сырых, пропахших известью катакомб. Был час первого факела, вокруг, как летучие мыши, грудились заговорщики, прячущие лица под масками. Они читали вслух папирусные свитки, из которых я узнал историю их вождя, осуждённого иудейским синедрионом и распятого нашим прокуратором.
— Ты же сам пророчествовал о Нём, — показали они четвёртую эклогу «Буколик».
Я разглядел горбатые носы и глаза навыкате.
— После Его воскресения каждый может попасть в Царство Небесное! — тронул меня бородач, которого звали «Камень».
— После Лукреция, — поморщился я, — даже блаженство Элизиума сомнительно…
Заговорщики крестили лбы пальцами, как злые духи, называли хлеб плотью, а вино — кровью. Подражая своему вождю, они возвеличивали страдания и участь гонимых. «Почему синедрион осудил их безумного соотечественника?» — гадал я. И вдруг страшная мысль мелькнула у меня. Им пожертвовали, чтобы создать легенду, которая приведёт римлян на крест! Этот миф о торжествующей слабости — коварный ответ нашим легионам! Так восточные черви подточат римского Орла! С экстатическим упоением заговорщики рисовали рай, списанный с Золотого века, и ад мрачнее Эреба. Низкие своды, засиженные слизняками, были подстать этим рассказам. Но я не слушал, размышляя, как предостеречь будущего императора. И тут снаружи донёсся шум. «Кто с крестом к нам придёт, на кресте и погибнет!» — закричал я, выбегая на улицу под защиту городской стражи.
Кошмар развеялся. Меня снова окружала безмятежная жизнь, налаженная властью божественного Августа, а фонтан во дворе попрежнему струил воду в бассейн с рыбками. «Мы прикасаемся к прошлому, в котором полыхал Карфаген, — думал я под впечатлением от своего видения, — но как прикоснуться к будущему, в котором будет гореть Рим?» И тогда грозным предупреждением я написал о проклятии Дидоны, о мести её потомков сыновьям Энея.
Кувшин фалернского на вечернем пиру перенёс меня ночью в южную провинцию. Здесь царил вчерашний день — статуи на площадях знаменовали правление умершего императора. «Время на Юге, как и во сне, течёт медленнее», — догадалась я, разглядывая вышедшие из моды одежды.
«Кто смотрит на женщину с вожделением, тот уже прелюбодействовал с нею в сердце своём!» — обращался к толпе человек с измождённым лицом.
— Он что, евнух? — дёрнула я за рукав стоявшего рядом рыбака.
Тот пожал плечами.
— Знаешь его?
— Нет.
— А его? — достала я сестерций с изображением императора.
Он побледнел.
— Кесаря?
— Ну да, Тиберия…
— Божественного Тиберия Клавдия Нерона, принявшего имя Цезаря Августа?
Низкий раб! У черни языки, как помело, а изворотливость в крови!
«Кесарю — кесарево, а Богу — Богово…» — донеслось до меня.
Вокруг зевали, прикрывая рты мозолистыми ладонями.
— Кто это? — обратилась я к красивому юноше с пушком на губах.
— Учитель мира.
— Почему же его не слушают?
Толпа стала расходиться.
— Болтать можно долго, — бросил на ходу почерневший от пыли крестьянин.
— Поля не выкошены, а солнце ещё высоко, — подхватил другой.
Юноша брезгливо поморщился:
— Птицы небесные не сеют, не жнут…
Мне нравился этот смуглый красавец, и, когда он пригласил меня домой, я с трепетом ожидала предложения разделить ложе. Но вместо объятий меня ждал рассказ о непорочном зачатии и любви к ближнему.
— Как может женщина любить ближнего, а зачать непорочно? — упражняясь в софистике, рассмеялась я. И пустила в ход свои чары: — Ты ещё будешь стариком — бесполым, утратившим мужскую силу и не обретшим женской слабости…
Но юноша был непреклонен. Он твердил об искуплении и первородном грехе.
— Наказание несут за нарушение закона, — при этих словах моё лицо непроизвольно зарумянилось, — но с рождения считать себя преступником? Испытывать блаженство от раскаяния? Чудовищно!
Призвав в свидетели римскую гордость, я направилась к выходу. Тогда, опустив голову, юноша поведал, как отказался пойти за Учителем, раздав имение нищим.
— Что бы это изменило? — бросила я в дверях. — Только увеличило бы число голодранцев!
Иерусалим — город маленький, но убивают в нём быстро: пока я объехала его на осле, незадачливого проповедника уже казнили. Он выдавал себя за иудейского царя, а оказался сыном плотника. «Рабы, — задрав голову, смотрела я на крест в лучах заходящего солнца, — мало ли их распяли…» Вокруг скорбно молчали. «Народ никогда не поднимется — поднимется пыль», — подумала я. Женщины поодаль прятали лица под платками, а рядом стоял на коленях богатый юноша, красота которого померкла от слёз. «Я искуплю свою ошибку, — шептал он. — Мы превратим ваши ночи в дни!» И тут во сне я перенеслась в свои покои. Стояла ночь, но за окном было светло, как днём, — это горел Рим, подожжённый учениками сына плотника.
Зима в Трире выдалась промозглой — за окном падал снег, и в университетской библиотеке Маркс был один. «Откуда известно, как дьявол искушал в пустыне Христа? — листал он Писание. — От Христа? Но в этом есть что-то человеческое, недостойное Бога…»
Прогремел гром, начиналась зимняя гроза.
«Иисус говорил, что послан Отцом, — выводил на полях Маркс, — поначалу его пророчества противоречивы, точно он поперхнулся истиной. Лишь чудеса заставили его поверить, что он — Бог, и взойти на крест, будто на небо. Однако муки пересилили: «Боже мой, для чего Ты оставил Меня?» Человек остался человеком, Бог покинул земное обличье…»
Маркс продолжил чтение, потом, покачав головой, снова погрузился в записи.
«Царство Небесное — за гробом, значит, его отсрочка неопределённа, значит, вера — это обещание. Но чем оно обеспечено? Писанием четырёх полуграмотных евреев?»
Сосредоточившись на своих мыслях, Маркс не обращал внимания на громовые раскаты.
«Иерархия — вот камень преткновения, вот что мешает земному счастью! — всё больше воодушевлялся он. — Но на небе свои классы: серафимы и херувимы возвышаются над святыми и мучениками…» Маркс посадил чернильное пятно, промокнув бумагой, снова взялся за перо. Но тут его отвлекли крики на улице. Он поднял голову: шёл тридцать третий год, солнце клонило пятницу к субботе, и в Иудее стояла необычная для апреля жара. Перед глазами у Маркса всё поплыло, теперь он видел мир перевёрнутым: босые ноги, пыльные сандалии, родинки, прикрытые подбородком, и летящую с криком гусиную стаю, которая извивалась в небе, как кнут. Маркс превратился в деревянный крест, который, покачивая, несли на Лобное место. Примерившись, его врыли в сухую землю, скрипевшую, как песок, потом прибили дощечку с надписями на арамейском, греческом и латыни. Она обожгла, как терновник, Маркс вздрогнул, будто в него вонзились тысячи колючек. А когда через окровавленные кисти в него стали вколачивать гвозди, он застонал — беззвучно, как Вселенная.
— Зачем ты убил Меня? — услышал я грозный голос. — Я нёс Слово, а ты распял Меня!
Крылатый ангел со строгими глазами подтолкнул меня к престолу из облаков, рядом с песочными часами. Так я понял, что умер и держу ответ перед Всевышним. На земле я приговаривал к смерти тысячи преступников, — от Германии до Иудеи — разве всех упомнишь?
— Ты говоришь, — произнёс я, чтобы не молчать.
На меня зашикали.
— Видишь, тебя обличают!
— Не судите, да не будете судимы… — ввернул я первое, что крутилось на языке.
И уткнулся под ноги. Стало слышно, как в часах сыплется песок.
— Почему ты молчишь, разве не знаешь — от Меня зависит твоя судьба?
— Ты не имел бы надо мной никакой власти, если бы не было дано Тебе свыше, значит, более греха на Том, кто всё устроил. А если это Ты, то причём здесь я?
Мне влепили пощёчину.
— Оставь, Михаил, пусть оправдывается, как хочет!
Я усмехнулся:
— Ты ждёшь оправданий? Говоришь, весь мир свидетельствует против меня? Но это Твой мир! А римский закон был не от мира сего, — обвёл я вокруг руками. И взглянул на черневшую внизу бездну: — А на земле всегда осуждали его нарушителей — в Иудее так поступали прокураторы и до меня, и после! Их ставили свидетельствовать о заключённой в законе истине…
— Что есть истина? — перебил Господь со странной смесью презрения и жалости. И, вздохнув, обратился к ангелам: — Я не нахожу на нём вины…
— Но он нарушил Твои законы, — прогремел ключами бородатый старик с лицом, искажённым злобой. — Я не могу принять его!
— О, Пётр, тысячи других распинали людей, а он распял Бога — Я прощаю его, простите и вы…
Вокруг возмущённо закричали:
— Он посягал на Твою власть! Он оскорбил Твоё величие!
— И что? Чем Христос на суде у Пилата отличается от Пилата на суде у Христа? Я повторяю: возлюбите врагов своих!
— Своих — да, Твоих — нет! Он — невиданный злодей, скинь, скинь его в геенну огненную, пусть его пепел падёт на нас!
— Будь по-вашему, — нахмурился Господь. — Однако закон на небе непреложен, как на земле: сегодня Пасха, а у нас ещё подсудимый Варавва — кого отпустить?
— Варавву, Варавву!
Я ужаснулся.
— Они верят искренне и глубоко, — умыл руки Господь, — только сами не знают, во что…
Ангелы мгновенно расступились, а меня с хохотом окружили бесы. Чёрные от копоти, они щёлкали хвостами, как бичом: «Ну что, сын императорский, спасут тебя твои легионы от нашего?» На меня уже накинули багряницу, приладили терновый венок.
И тут в часах упала последняя песчинка.
— Радуйся, Пилат, — улыбнулся Господь, — от Сотворения прошло столько времени, сколько отпущено, так что прощаются все — и живые, и мёртвые!
Вокруг начались танцы, ангелы целовались с демонами, змеи стали как голуби, а небо громовыми раскатами наполнил смех. Все двери распахнулись, и Пётр выбросил бесполезные ключи.
— Дело прошлое, — похлопал он меня по плечу, — но скажи, Пилат, ты бы снова распял праведника, который стучал в железные ставни и кричал: «Проснись!»?
— Проснись… — тряс меня за плечо коренастый центурион, пурпурный плащ которого слепил, как багряница. Был шестой час, но жара в Иудее ещё не спала.
— Что тебе?
— Прокуратор, — поднял ладонь гвардеец, — царь Ирод прислал на суд какого-то галилеянина…
СКВОЗЬ ВРЕМЯ И ФАКТЫ: КАРА-ЧУРИН, ТЮРК
Он родился в юрте, посреди голой степи, в середине скудного на сантименты века. Высохшие сирийские отшельники спорили тогда о Сыне с константинопольскими монахами, а персидские всадники, уже не верящие ни в Ормузда, ни в Аримана, держали трон на длинных копьях. Из Индии ещё не вышел тогда бритоголовый проповедник, а в аравийских песках ангел не открыл хранящуюся под небесным престолом Книгу.
Он родился, когда его народ плавил железо для жужаней. Они промышляли разбоем и не щадили ни согнутых старостью, ни ползающих на коленях. Он ещё был младенцем, когда восстание освободило его народ, взметнув к Истории.
Был он сыном Истеми-бахадура, орда которого насчитывала сто тысяч халатов. Его вскормили кобыльим молоком, звон тетивы был его колыбельной, а шкуры барсов украшали его шатёр вместо шёлка. Он не умел превращать слова в мёртвые буквы, пословица его народа гласила, что мужчину воспитывает война. И он встретил её, когда надменные эфталиты, прячущиеся под чешуйчатыми кольчугами, вырезали тюркских послов.
Мстить за обиду отправили Истеми.
По слухам, докатившимся вместе с паникой до владык Бухары, он сказал перед битвой: «У вас каждый воин — мужчина, у нас каждый мужчина — воин». И рассыпал эф-талитов в прах.
А рядом с его стрелами ложились стрелы Кара-Чурина.
Вдохновлённые победой, неразлучные, как быки в упряжке, отец и сын двинулись на запад, где вечерами алеет солнце, по ржи гуляет ветер и воды — как неба. Перед знамёнами с оскаленной волчьей пастью склонились непобедимые сарматы, копытами разгорячённых скакунов раздавлены хуни, у которых безбрачие почиталось за позор, а брак с одной женщиной вызывал смех. Им покорились дулу, нушиби, алане, кыргызы, кыпчаки, хиониты и холиаты. К истоптанным лугам Волги они вышли, гоня вар и огоров, которые, улетая быстрыми птицами, навели позже ужас в Паннонии, став известными как свирепый народ авар. Попирая чахлый кустарник, тюрки приблизились к бескрайней, как степь, воде, в которой боги, издеваясь, размешали соль. Завораживая музыкой восточных названий, Фирдоуси сообщает, что каганат раскинулся «от Чина до Джейхуна и до Гульзариуна, по ту сторону Чача». Но тюрки не остановились. Прячась от солнца под лисьими шапками, они нарушили молчание пустыни, в которой от жары зеленели ящерицы и шипели змеи. Они упрямо продвигались вперёд, оставляя следы в песках, наречиях, песнях, очертаниях скул, эпосе, форме клинков и названиях мест.
Доброта у них означала слабость. В их языке — сянь-бийском диалекте древнемонгольского — «жестокий» и «могучий» не разделялись. Выражающее их «ышбара» звучало похвалой, которая вызывала зависть. Они не блуждали в поддельном синтаксисе, не придумали слов-зеркал, из которых строит лабиринты ложь. Зная, что первыми гибнут трусы, были неустрашимы, а единственно известная им пища, вяленая конина и козий сыр, делала их неподкупными. У походных костров они мечтали вернуться к раскосым, плосколицым женщинам. Считая овец, они бы счастливо цокали языком, пили кумыс и смотрели, как выделывают войлок. Их ловкие жёны обходились без рабов, и они истребляли пленных[28].
Однажды в предгорьях Тибета, за которым простиралось царство обезьян, всадник наехал на старика, сидевшего со скрещенными ногами. Ему показалось странным, что тот его не испугался.
— Я уже привык здесь рождаться, — объяснил он.
— А я уже привык здесь убивать, — со смехом возразил тюрк, проткнув его копьём.
Тюрк не носил одного имени от купели до могилы: мальчик имел прозвище, юноша — чин, муж — титул. Смерть отца нарекла героя Тардуш-ханом, владыкой запада. Его письмо к императору Маврикию сообщает о войне с колхами, отрывочные сведения Менандра — о набеге на Крым. И снова трупы устилали обочины дороги в четыре дня пути. Как-то грузины, издеваясь над тюркским полководцем, осадившим их цитадель, выставили на стенах карикатуру. «Принесли огромную тыкву, нарисовали на ней изображение царя гуннов — аршин в ширину и аршин в длину, — сообщает Каганктваци. — Вместо ресниц нарисовали несколько отрезанных ветвей, которых никто не мог видеть, место бороды оставили безобразно голым, место ноздрей — шириной в один локоть, редкие волосы на усах…»
Ответом был штурм, расплатой — река крови, утолившая бешенство детей волчицы.
Замурованные Стеной китайцы едва откупились от тюрок ста тысячами кусков шёлка. Под их пятой уже были кидани, жухлой листвой лежали хвастливые тобгачи, заплетавшие косы. Но быстро, осенними птицами, летит время жизнь, что костёр, догорающий в степи, и когда душа их правителя переселилась в демона, равнодушно взиравшего с небес, вспыхнула усобица. Одни надели малахай на голову принца, которого родила наложница. Другие не пожелали стать рабами сына рабыни. И все воевали со всеми. Самозванец с громким титулом иль-кюлюг-шад Бага Ышбара-хан (который желчные китайцы, верные привычке искажать неугодным иероглифы, превратили в Шаболио — «грабитель») вышел однажды в зимнюю степь. Одолев тысячу ли, он с утренней звездой напал на ханское кочевье. Ханша и дети умерли, не проснувшись, с перерезанным горлом. Но хан убежал в Бухару. Он выместил там зло, войдя в её историю как амир Абруй. «И обратились купцы и дехкане за помощью к царю турок, Кара-Чурину, которого за величие народ прозвал Биягу, то есть мудрый герой, — повествует бухарский паралипоменон, — а тот прислал своего сына с большим войском». Далее мы узнаем о том, как Янг-соух-тегин — «Новый большой мороз» — велел «наполнить мешок красными пчёлами и опустить туда Абруя».
Кровная месть не допускала компромисса. С алтайских вершин, куда за сочной травой откочевали его табуны, Кара-Чурин наблюдал, как его племянники резали друг друга. Терпеливые редко ошибаются. И вскоре власть над вздыбленной степью получил последний из принцев, Чу-лохоу, «второстепенный князь каменистой пустыни», как звали его китайцы. «Наш союз не переломить, как пучок стрел», — спустился к нему с гор Кара-Чурин. Но Чулохоу рискнул. И был убит ветеранами Тюрка.
Слабовольный сын Чулохоу сел на трон. За его спиной встал Кара-Чурин. Казалось, он достиг всего. Но отчего его имя означает «Чёрная Напасть»?
Тысячу лет персы бросали мертвецов зверью. Испокон веков их священники разрешали жениться на сёстрах. И пришла расплата. Грузинский царь Гуарам Багратид с полками дзурдзуков, осов и дидойцев, спустившихся с гор по извилистым тропам, вторгся через Дарьяльское ущелье, византийцы напирали с запада, а из арабской пустыни выступили шейхи Аббас Кривой и Амр Голубоглазый впереди белой тюрбанной реки. Вдобавок Тюрк приказал Янг-соух-тегину примкнуть к коалиции. И хотя с кавказцами справились, с византийцами замирились, а от арабов откупились, но тюрки текли вглубь страны. «Когда Тюрк приходит из-за Джейхуна, не следует медлить», — остерегал Фирдоуси. И шах поручил встретить их армянскому марзбану, Бахраму «Ворону». Напрасны кошмары, которые насылали на него тюркские шаманы, давясь гортанным смехом и заклиная камни, исковерканные чревом кабана, напрасна мгла, которую вызвали их чары, — узкую долину, где не смогла развернуться конница, перс обагрил кровью тюрок, сразив Янг-соух-тегина. «Ворону» оказался не страшен «Новый большой мороз».
Казалось, горькая чаша испита Тюрком до конца. Но у беды много ликов.
В глухой степи телесцев объявился некий Жангар. Его подданными были хи, шиви и кидани. Снискав расположение хана, он оклеветал его жену — царственную китаянку с кукольным лицом. Хан задушил её во время чайной церемонии. А когда оговор вскрылся и длинное ухо разнесло весть по степи, вспыхнула война.
Китайское золото вербовало приверженцев Жангару. К нему переметнулся ханский брат. Другого брата, известного китаефила, завернули в ковёр и отправили в Поднебесную — без головы. Повсюду запахивали халаты и острили сабли. На грудастых жеребцах скрипели деревянные сёдла. Для начала усмирили восставших угуров. Десять тысяч их беглецов, племена тарниах, кочагир и забендер пополнили толпы голодных авар. Потом повернули. Степным суховеем помчались на юг, где столкнулись с китайцами. Завидев их не за стенами, а в чистом поле, Тюрк воскликнул: «Это Небо награждает меня!» Топча бурьян, обрушились лавой, вселяя гиканьем ужас, затмевая стрелами солнце. И кентавры смяли кавалеристов! Но тут на пути урагана бамбуковой рощей поднялись пикинёры, взмыленные лошади, которых остервенело стегали, вставали на дыбы. Пехотинцы засадной стражи, увёртливые в тесноте, решили дело.
Законный хан бросился на клинок.
Но Жангар ликовал рано.
В лето, когда перевернулась страница с шестым веком, дряхлый Кара-Чурин объявил себя Богю-ханом. Его мечта наконец сбылась! Но скакун удачи слишком норовист для стариков. В простых сердцах, выросших в строгом праве, Кара-Чурин покусился на Обычай. И десять камней его короны: уйгуры, буту, тонгра, байырку, сыге, байсы, курыканы, эдизы, хинь и киби — взбунтовались. Одинокий смерч, он ещё опрокинул их рать, прежде чем нашёл приют там, где от близости небес синеет воздух и по заснеженным вершинам прыгают яки. А оттуда заскорузлые руки горцев отправили его на тучные нивы, где пасутся кони с солнечной гривой.
Кара-Чурин Тюрк, могилу которого сровняли века, был на земле меньше чем гостем — он был кочевником.
ОСТРОВ
И он нашёл далёкий уединённый остров, ветры которого сдували подступающие опасности, а иззубренные скалы были как пики. Дремучие леса и голодные звери делали его непривлекательным, но, переждав там, переселенцы смогли бы вернуться на родину.
И обги поплыли на остров.
От сравнения с прежним на них обрушилась страшная боль. Чтобы её смягчить, люди старались забыть своё прошлое. Приспосабливаясь, их чувства, обострённые и утончённые, притуплялись и грубели, как грубеют руки кузнеца или пахаря. И всё равно они не выдерживали, предпочитая вечный сон. Так появилась смерть, которая стала передаваться по наследству. И вскоре её приняли, как болезнь, от которой нет лекарства.
Шли века. Переселенцы обосновывались на диком, неуютном острове. Сменялись поколения, и последующие отличались от предыдущих, как болотный папоротник от розы. Ежедневные заботы вынуждали забывать причину, по которой люди оказались в плену. Противоречащая делу, терялась и цель переезда, ибо невозможно строить дом, в котором не собираешься жить.
Обги постепенно забывали своего вождя и всё меньше говорили о том, чтобы покинуть остров, обжитый с таким трудом. Только корабелы ещё помнили, как попали сюда, сохранив своё искусство. По их расчётам время несчастья на их родине давно вышло. Однако против корабелов восстали.
— Зачем нужны корабли? — спрашивали их. — Чтобы покинуть остров? А не лучше ли его обустроить?
Корабелы молчали.
— И если корабли отплывают, — добивали их, — то почему ни один не вернулся?
— Кто же возвращается в тюрьму? — тихо возразил один из них.
Но их не слушали.
С тех пор обги стали островитянами. Им говорили теперь только то, что они желали услышать. И произносить слова стало легко — ведь они больше не творили.
Воспоминания объявлялись пустыми мечтаниями, иллюзией, никчёмной и глупой. Их топили в презрительных насмешках, прежняя страна именовалась утерянным раем, и это выражение затёртой монетой гуляло по острову. Простота стала синонимом истины. Отныне всё начиналось и кончалось островом, с его страданиями и наслаждениями.
«Корабль, — сообщала Всеобщая Энциклопедия Острова, — это средство передвижения, с помощью которого якобы пересекали воду. Обвешанный тряпьём “парусов”, он доставлял в места, расположенные вне Острова, предполагалось, что такие существуют».
«Плавание — способ передвижения через бесконечную хлябь, туда, где вода смыкается с небом. Ересь “плавания” носила некогда масштаб эпидемии. И до сих пор на глухих окраинах, где ещё теснится Зло, неучи соблазняют легковерных. Посвящение в пловцы состоит в том, что, лёжа на земле, машут руками и, напоминая лягушку, дёргают ногами».
Но гонения на пловцов были уже лишними, как повязка на глазах слепца. Выросших в неволе мысль о побеге наполняла ужасом. Высшей целью стал комфорт: одни поклонялись вещам, другие над ними насмехались. Такое различие во взглядах создавало впечатление свободомыслия. Допускалась и свобода речей, но от неё было мало проку. Большинство следовало тропой отцов, исповедуя их культы. Райские кущи, которые сулили покорным, соседствовали в них с адским пламенем, которое ждало бунтарей. Вместе с мёртвыми костями Остров покрывали бесчисленные храмы, кумирни, некрополи, пирамиды, напоминавшие о неведомом теперь вожде. Воскрешая, комбинировали забытые культы, и они получали вторую жизнь. Этот перебор создавал утешительное ощущение разнообразия.
Многие занимались историей Острова, но историей Переселения — никто. Текло время — изобретённый островитянами эвфемизм уничтожения, — их культура всё больше приближалась к цивилизации, и их всё чаще посещали сомнения, смешанные с беспокойством. Многие стали подозревать, что их дом — лишь гостиница, а назначение жизни — возвращение. Стало хорошим тоном ругать устои, казалось, что, дав выход сомнениям, от них можно избавиться. Многие с упоением вторили заклинаниям нового культа, столь же бесполезного, сколь и старые. Революции обрели характер церемоний, бунты вылились в ритуал. Теперь уже многие хотели уплыть с Острова, но не знали, как. Развелись мошенники, эксплуатирующие чувство безысходности, спекулирующие на идее побега. Множество шарлатанов предлагало план, как покинуть Остров. Казалось, само их обилие предвещало Исход.
Но так длится до сих пор.
ВОР. МЕЖДУ ГЕРОЕМ И АНТИГЕРОЕМ
В засушливый год одна тысяча семьсот тридцать восьмой в окрестностях белокаменной орудовала шайка, в которую входил Иван, сын Осипа. Говорили, он сбежал с господского двора. Схватив, его морили голодом, примкнув цепью к медведю, которого по обычаю держали вместо собаки. Он снова бежал. А на воротах дерзко повисло: «Пей воду, как гусь, ешь хлеб, как свинья, а работай чёрт, а не я!»
В скором времени он уже атаман, люди его ватаги — бурлаки волжского понизовья, отпетые головы, мрачные, как ночь. Они уравнивали, как топор, не делая скидки ни монаху, ни служилому, ни вдове, ни мурзе. Дети ущербного месяца, они ловко орудовали кистенём, спутники ветра, легко уходили от погони. Им улыбалось раздольное счастье. Однако из гуляй-поля их манили городские теснины. И вот уже двадцатилетний Ванька, бесшабашно отчаянный, разжимает потные ладони и хитростью распахивает драные зипуны. Подбрасывая через забор курицу, он стучал в ворота, за которыми, ловя птицу, присматривался к чужому добру, чтобы, устроив пожар, не сплоховать в ночной суматохе. На ярмарках он открывал фальшивые лавки с рисованными окнами, у которых подолгу просиживали наивные простаки, ожидая товар взамен своих кровных. Ему приписывали все мыслимые увёртки. Когда надо, он был тише воды, когда надо, заливался соловьём. Чтобы не узнали, бывало, «изогнётся дугой — сразу станет другой». Он изъяснялся прибаутками, неотразимыми для ушей. «Эй! — кричал он из лодки обобранным до нитки селянам помещика Шубина. — Неужели у вашего барина нет другой одежды, и он всегда ходит в шубе? Ждите скоро портных, нашьём ему летних кафтанов!»
Ванька-балагур не лез за словом в карман, а чтобы его спрятать, прибегал к воровскому жаргону. «Дыба» для него «не мшонная изба», огонь, которым «сушат» несговорчивых — «виногор», а «мелкая раструска» — тревога. Раз его взяли с поличным. Скорые на расправу, сторожа зажали голову стулом и стали охаживать батогами. «Наложив на шею монастырские чётки, стукари в колотушку стали угощать меня железной сутугой», — признавался он позже. Не выдержав, он закричал: «Слово и дело!» Истерзанного, с посиневшей спиной, его доставили в Сыскной приказ. Он отправил караульного за водкой — «купить товару из безумного ряду», а принесший ему калачи товарищ прочирикал: «триока калач ела, стромык сверлюк страктирила» — в мякише были спрятаны ключи от тюремных замков.
Осень и зиму Каин провёл у знакомого расстриги — «пестовал пасхальный кулич». А весной семьсот сорок первого стал крёстным отцом идеи.
Земляную лачугу, в углу которой чадила лучина, наполнил ночной холод. «Берите уж и Степана для полного кармана!» — громогласно объявил Каин. Босяк, горбившийся на бочке, вздрогнул: «Иудин грех, Ванюша, — выдавать своих». Так романтике сверкающих ножей Каин предпочёл ремесло осведомителя, подменив общий котел собственной выгодой. Челобитная, в которой он кается в преступлениях — верх лицемерия. Из кабацкого отребья он сколотил артель, обещая переловить прежних подельников. Князь жуликов, первый «вор в законе», он создал классику жанра. У властей выторговал грязное звание доносителя тайной канцелярии. И пробил его час! За дверьми именитых домов вместе с крошками махры он оставлял осколки разбитого счастья. Он опутал белокаменную сетью доносов, фискальства, интриг. Его соглядатаи были повсюду. Разоряя воровские гнезда, Каин без раздумья выдавал закадычных друзей. Даже его спаситель, пронёсший ключи в хлебе, удлинил список его жертв.
Его любвеобильность была легендарной. Но и она служила делу. Солдатка, которую он склонил к венцу кнутом, стала его сообщницей.
Ванька-оборотень по-прежнему не гнушался воровским ремеслом. И московский люд хлебнул, пополняя казну, которой стал карман Каина. Охотник и дичь, «гуня кабацкая» и «щёголь записной», на коне и под конём, он — баловень судьбы. Его везение было безмерным, тайная власть — безграничной.
А сгорел он свечой на ветру. На десятый год царствования, пьянея от вседозволенности, ограбил купеческий струг. Вечером того же безумного дня похитил племянницу богатого раскольника. И, полагая, что ему всё сойдёт с рук, потребовал выкуп. Но его могущество лопнуло перетёртой подпругой. Подмётное письмо привело его к аресту, а пытки потянули за нить, разматывая клубок. За него никто не хлопотал, никто не молился. Он завёл было старую песнь про «слово и дело». Но на этот раз не прошло. И он обречён был гнить в камере, сквозь щели которой едва пробивался свет коридорного факела. «Не шуми, мати зелёная дубрава, не мешай добру молодцу думу думати».
За шесть лет каземата он назвал сотни имён. И этим расширил жизненное пространство. Котомка сибирской каторги — милость императрицы, заменила ему колесование — приговор суда. Дни, проведённые в тяжких работах, стали его похмельем. Битый плетьми, клеймёный, с рваными ноздрями, он забавлял арестантов. В минуту отдыха, когда прошлое проступало с особенной силой, кощунствуя и кривляясь, рассказывал о своих похождениях. Его речи записывали, его опыты выросли в саги. Однако сокровенное он унёс в могилу. Умер Каин незаметно, посреди лютых зим и дремучих лесов, посреди издевательств и сквернословия, с надеждой на жизнь, в которой не будет ни разбоя, ни предательства.
Ванька-Каин, легендарный сыщик и презренный вор, первым навёл мосты между преступным миром и государством. Он угадал будущее. И этим заслужил бессмертие.
СПИРИТИЧЕСКИЙ СЕАНС ДЛЯ НИКОЛАЯ ВТОРОГО
«Скорее бы вечер…» — подумал Николай, отстукивая на подлокотнике военный марш.
Была годовщина коронации, в Царском Селе чертили на воде «Боже, царя храни» и, готовясь к фейерверку, заряжали пушки. Песочные часы на подоконнике цедили время, которое должен был скрасить прорицатель, но государь уже клевал носом. Его шея вылезала из воротничка, а подбородок касался груди. Во сне он видел свой экипаж посреди толпы, как это было недавно в голодающей губернии, когда матери протягивали ему пелёнки, на которых прорех было больше, чем заплат. Швыряя медяки, он то и дело поворачивался так, чтобы не слышать плача, но половина его лица всё время оставалась в тени. А другая горела, будто от пощёчины. «Сами не знают, чего хотят…» — подумал он, разворачивая письмо, прилетевшее к нему «аэропланом». Целую вечность его палец скользил по бумаге, но ему казалось, что он забыл грамоту, что буквы принадлежат какому-то неизвестному алфавиту, он едва разобрал одно слово, и это был день недели…
«А воскресенье — среднего рода, — гнул своё чернявый мужик, — потому что оно Богово…»
Сны клюют глаза, как птицы, и шлют чёрные метки. Теперь царский кучер правил к дворцовой площади, на которой мёртвые стояли среди живых, как недавно на Ходынском поле, вокруг колыхались хоругви, стискивая коляску, словно уносящие душу демоны. «Николай, Николай, — пугая галок, звонили колокола, — отчего ты нам больше не заступник?»
И государь, опустив глаза, вчитывался в строки, которые налились кровью.
А кривой считал грехи, как ворон на заборе. «На свете три преступления, — загибал он пальцы, — ты рождаешься, зачинаешь подобного и умираешь… И все они совершаются на постели…» Он закатил единственный глаз и, уставившись пустой глазницей, стал страшен.
«Грех, как слюна во рту, — завопил он, — святость — сушит!»
Николай вздрогнул. Он вдруг увидел мир его мёртвыми глазами, в которых чернело будущее. И от этого ему захотелось выть. Он прислонил палец к губам, но пророк, соскочив со стула, как со сковородки, понёс ему на колени свою тень.
«Выйдет из-за окияна жёлтый ампиратор: на голове у него стог, а подмышкой косые скулы, — причитал он, дуя на обожжённые пальцы. — И наткнётся он в поле на чучело, и завизжит на своём жёлтом языке, протыкая ему грудь железным пальцем! И тогда почернеет на соломе кровь, как кофейная гуща…» Теперь и Николай увидел расплывающееся пятно. А в нём — бурю. Подкравшись из-за низких холмов, она приближалась стремительно, как это бывает в степи или на море. Он уже слышал раскаты грома. «Обмануть легче лёгкого, — гремело в них, — я подобрал слова, и ты увидел за ними картину, которую я не вижу!» У мужика прорезался кривой глаз, которым он заморгал чаще, чем другим. Теперь он заикался, называл Николая отцом, но видел в нём сына.
«Любовь писана вилами по воде, а ненависть — в сердце, — шипел он. — Ненависть не победить любовью — черви не бьют пик… — Он посмотрел снизу вверх, будто сверху вниз. — Но и пики не бьют червей. Ненависть и любовь, как собака и кошка, которых кормит один хозяин…»
Тарелка заходила ходуном, и яйцо, перескочив через край, разбилось. Чернявый затрясся над ним, как юродивый над копеечкой.
«Ты говорил: “Пусть слёзы подданных падут на моих детей?” — Николай отшатнулся, ему вдруг показалось, что песочные часы истекают кровью. — А хоть бы и нет, — подавился смехом чернявый, — слезинка младенца всегда разыщет невинного…»
От испуга Николай снова стал мальчиком — шевелил руками, забытыми в карманах, и, захлопывая книги, давил мух, которые до следующего урока успевали засохнуть между страницами, как цветок гимназистки. Он носил своё имя, как парик, и вся его земля умещалась под ногтями. Мальчик заливался колокольчиком, и тогда подавали обедать; он сердился, и тогда крутил мизинцем у виска, дразня гувернёра счетоводом. «Все считают, — обижался тот, — одни — звёзды на небе, другие — куски во рту…»
Однако человек, как цыган, бродит по линиям своей ладони, а его переводят, как стрелку будильника. С годами Николай нахлобучил имя, как шапку, и под ней оказались земли, над которыми не заходит солнце. Теперь у него была жена, с которой они ощупывали друг друга, как слепцы, и такая же страна. «Наденет фрак — всё равно дурак!» — разносили на хвостах сороки про его министров, из которых одни считали облака, другие — деньги, но никто — мертвецов. А железные камни уже пускали круги по земле, и солдаты в островерхих касках, нарезавшие у костров сало штыками, бежали в атаку с нерусскими междометьями — вытирать сталь об императорские шинели…
«Важно не когда жить, а с кем, — вещал чернявый, — потому что человек всегда лишний…»
«Воистину, лишний…» — повторил, как оглашенный, Николай.
В Царском Селе он по-прежнему сидел на балконе, а в иной реальности наматывал на сапоги вёрсты во всех четырёх направлениях. Он поглощал пространство вместе со снами, мыслями, книгами, и оно, в отличие от внешнего, которое липло к подошвам, размещалось внутри, в копилке, которая только пополняется, а очищается раз. В этом пространстве Николай уже оседлал возраст, когда вместо прелестей у женщин замечают изъяны, а мочатся через сморщенный огурец. «Классическое образование оставляет в прошлых веках», — брюзжал он, глядя, как его дети зубрят античность. Он старался держать свои мысли, как слюну во рту, но они выходили наружу плевками.
Теперь годов у него было больше, чем зубов, — немногим меньше, чем волос.
«Макушка для головы, что пупок для тела, — говорил ему цирюльник, зачёсывая пряди на затылок, — лоб обнажает ум, а плешь распускает мысли…» Государь с кислой миной следил, как выстригают ему седину, и не переменился, когда рядом с бокалом на поднос положили отречение. Нетерпеливые руки тронули его за плечо. Он через зеркало покосился на бумагу, где краснели чернила, а подписи жгли, как поцелуй Иуды.
«Слова, как виды вдоль дороги, сейчас — один, через версту — другой…» — запил он царствование, история которого уместилась в глотке вина.
Была ранняя весна, от холода руки мёрзли больше, чем ноги, а грачи уже расселись, как на картине Саврасова. На телеге, впереди славы, Николая везли на восток, куда веками ссылали бунтарей, и у него опять было много времени, а земли — с ноготь. «Сначала ищут твоей любви, потом — смерти», — думал он, соглашаясь сквозь сон с чернявым. Теперь по нему звонили так, что дрожали колокольни, но за него больше не молились, и небо не знало о его судьбе.
А это значило, что для него настал судный день.
Он ехал сквозь строй ангелов — это дети на обочине кусали с голоду воздух. «Как живут ваши матери?» — бросил он из повозки. «Хорошо… — донёс ветер. — Они умерли». И опять у государя вспыхнула пощёчина. «Хорошо там, где нас нет…» — закашлял над ухом чернявый. «И не будет…» — эхом подхватил он. А потом картины замелькали, как в синематографе. Он увидел кривые берёзы, под которыми вместо грибов росли могилы, брошенные деревни, черневшие печными трубами, иссякшие колодцы и купеческий дом с решётчатыми ставнями, в котором ночи выворачивали наизнанку дни. Там его с женой и пока не родившимися у него детьми ведут в подвал, Николай во сне понимает зачем, а тот, что видит сон — нет, и напряжённо вчитывается в чужие морщины, как в строки, которые наливались кровью. Будущее всегда смутно, прошлое — чуть брезжит. Он едва разбирает календарь, в нём жирным крестом перечёркнуто воскресенье. Под этим днём нет числа потому, что Бог проиграл его дьяволу в чёт-нечет. Ещё не наступив, оно уже прошло, это воскресенье, когда он умер, продолжая жить. «Чтобы убить другого, надо прежде убить себя», — понимает Николай, различая перевёрнутую январём шестёрку, за которой скалится зверь. И его опять охватывает ужас, как давным-давно в Царском Селе, когда, ожидая фейерверка, он уснул под глухие пророчества и видел, как в фонтанах на покрасневшей воде вместо «Боже, царя храни» проступило «Мене, мене, текел, упарсин». Ему даже показалось, что он успел прочитать свою роль прежде, чем грянул залп…
Грянул залп, Николай очнулся, переступив через смерть. Он был один. Внизу стреляли пушки, и струи брызгали по небу, как пена эпилептика. Начинались гуляния, пора было выходить, но сон ещё долго держал его в тревожном оцепенении.
А когда Юровский, сосчитав двадцать три ступени, будет скороговоркой читать приговор, он снова увидит его на дне расстёгнутой кобуры. И тогда он поймёт, что время во снах течёт в обратном направлении, подступая с той стороны, откуда сочится судьба, из неизвестности, за гранью которой ему предстоит оказаться через мгновенье.
СВИТОК С ПОМЕТКАМИ НА ПОЛЯХ[29]
«Анахорет своей культуры, — замечает Шмальгаузен, — я посвятил себя изучению чужой. Пять лет я брожу по забытым богом местам, рискуя свалиться в пропасть или умереть от лихорадки ради сведений, которые заинтересуют людей, уместившихся в одной комнате. А останься я в Германии, мой голос, возможно, лёг бы на весы истории и не допустил победы человека, имени которого я не желаю произносить».
Со мной — не дальше полёта стрелы — соседствуют степные варвары. В ясную погоду их кочевые шатры хорошо видны со Стены. Дети Синего Неба и далёких звёзд, они не имеют ни малейшего представления об Учителе десяти тысяч поколений и вряд ли думают о шести канонах, когда скачут вокруг дымных костров. У них свои понятия о справедливости. Разве можно судить за это?
«Я презираю наше культуртрегерство, — замечает немец, — эту болезнь подростков».
И я никак не могу взять в толк, за что Мэнцзы ругает Ян Чжу и сердится на Моцзы. Не то чтобы его доводы казались мне неубедительными, напротив, я не вижу причину его страстности, предмет спора выглядит для меня ничтожным. Вслед за Ван Аньши, воздерживавшимся от обвинений, я не смею порицать мыслителей, чувства которых остаются для меня загадкой.
Поэзия таинственных речений, которая считается теперь безвкусицей, не умерла со своим веком. Каждое время выглядит таинственным в глазах следующих. Мы проповедуем возврат к древнему стилю, мы восхищаемся стариной, но что мы знаем о прошлом? Говорят, даже иероглиф «человек» принято теперь писать иначе, без витиеватых насечек. Время — бабочка, порхающая в бамбуковой роще, наши письмена — пыльца на её крыльях!
«В Реформацию полемика о предопределении была насущным хлебом обывателей, — пишет Шмальгаузен. — Сегодня она превратилась в наказание для студентов-историков. Мир проделал путь от спекулятивных ухищрений к опрощающему рационализму, от рая и ада — к распаду органических молекул».
В молодости мне предлагали сдать экзамен на должность школьного чиновника и разделить удел тех, кто часами сыплет анекдотами из «Бесед и суждений». Я отказался. Придворные философы — птицы в клетке. Заложники чужого мнения, они не могут отступить от кем-то ре-чённого. Но знание известных трактатов — как кувшинка в пруду, которая прикрывает пустынную гладь и опрокидывает, стоит на неё опереться.
Разве люди нашей провинции говорят так же, как выводит кисточка столичных писцов? Разговорная речь опровергает письменную.
«Эту мысль, — следует категоричная ремарка Шмальгаузена, — мы слышали из уст Сократа».
Оуян Сю говорит (пишу по памяти): «Пусть даже зазвучат в просторах между Небом и Землёй дивных девять песней, иль развернётся снова на равнине у Чжолу великое сражение, иль узрю напротив гору Великую, — всё это намного уступает радостям и наслаждениям отшельника». Красивые сравнения! Но это — ложь. Я, искавший нектар в скалах Чжуна и нашедший одиночество вместо бессмертия, предостерегаю от подобной участи. Моя свобода — свобода ветра на пепелище. Уж лучше калечить душу суетными мыслями, уж лучше изнурять себя парадным одеянием с печатью на шнуре. Хотя говорящий не знает. Ведь придворная жизнь была недоступна мне, как яшмовый заяц под коричневым деревом, который толчёт в ступке снадобье на оборотной стороне луны.
Сын человека из Цзоу приучил нас ощущать присутствие прошлого в настоящем как непреходящего в изменчивом. Но настоящее изменяет прошлое точно так же, как и будущее. Скромный проповедник из Цюйфу, он сам после смерти стал Конфуцием. Старания потомков возвеличивают предков. Однако что может знать о Небе один, чего недоступно другому? Что постиг Лао-цзы в сравнении с крестьянином, возделывающим поля и пьющим по праздникам рисовую водку?
Что толку без умолку твердить о гуманности? Даже глухому ясно, что слова прикрывают дурные намерения. Слишком поздно понял я и другую истину. Нет большего счастья, чем привычка, и нет большей радости, чем близкие. От чтения сутулится спина, от множества поклонов немеет тело, и болят зубы от болтовни о ритуале. Что дурного в том, чтобы верить в драконов, кроме бумажных? А в цветок лотоса, исцеляющий от смерти? Учёность избавляет от простодушия, однако не творит чуда.
«Реки разлились, вокруг — половодье, — повествует Шмальгаузен. — В тростниковой хижине пахнет дождём. Проводники отказались идти дальше, и я отпустил их. Четвёртые сутки никуда не выбираюсь. Питаюсь вяленой рыбой с бобами и предаюсь воспоминаниям. Как там сестра? В университете начался семестр. Верно, вдалбливает студентам шипящие суффиксы славянских языков или штудирует с ними платоновские диалоги. Ощущает ли она зыбкость выстроенных нами закономерностей? Наблюдает ли случайность в узоре сложившихся культур?»
Ничтожным лицемерам достаются богатство и власть, а благородным мужам — оправдания собственной нищеты. Где сыщется старик, возразивший этому, и юноша, с этим согласившийся?
«События в Германии, — перекликается отчаянием Шмальгаузен, — ещё раз убеждают в ужасающей нелепости мироустройства. Но как в неё поверить?»
Времена ходят по кругу. К Небесному Правителю ведёт множество дорог. Так вершину горы обвивает паутина тропинок. Оглядываясь, видишь развилки, повороты, спуски, видишь места ненужного отдыха и нерасчётливого бега. Путей много, но людей, идущих по ним, ещё больше. Судеб — как звёзд, и всё же их можно пересчитать. Обречённые, мы повторяем чужие жизни. Кто знает, чью повторяю я? И кто повторит мою?
(Вернер Шмальгаузен вернулся в Германию и, как лицо неарийского происхождения., был отправлен в лагерь смерти.)
ИЛЛЮЗИИ ВЕЩЕЙ
Для моего поколения Казнёв — легенда. В Европе нет государства, наград которого он не удостоился. В пятнадцать лет он удивлял зевак в бродячих цирках. «Искусство сверхъестественного!» — трубили газеты. Однако сверхъестественным было его искусство, казалось, он проведёт и дьявола. Находившегося в зените славы, его и послали на Мадагаскар. Этот остров служил яблоком раздора между Лондоном и Парижем, и власти надеялись, что трюки Казнёва привлекут туземцев не хуже ярких бус и дешёвого бордо. Их расчёт оправдался. Безуспешно английские миссионеры пытались овладеть искусством фокусников, белый колдун соблазнил бесхитростных чёрных. Ему удалось склонить их королеву Раваналону взять французские деньги. По возвращении он хлопотал для неё об ордене Почётного легиона. Ответом ему был двенадцатитысячный десант на Мадагаскар.
Такова официальная часть истории, подробности которой можно найти в книге Казнёва. Другая её часть сентиментальна, как и все истории любви.
Во время осады Танариве я прятался в бывшей английской резиденции. Среди битого стекла, архивной пыли и разбросанных документов я обнаружил вот эти копии писем Казнёва (одному Богу известно, как англичане умудрились их достать!). Грохот рвавшихся снарядов придавал им особую пикантность. С галльской живостью Казнёв описывал местные обычаи. В частности, обряд инициации, который поразил его торжественной помпезностью и тем, что «все прыгали в головных уборах из птичьих перьев, которые странным образом не спадали». Он не без юмора признался, что не отличал мужчин от женщин. В другом письме он рассказал об аудиенции у королевы. Я видел её мельком: мягкие, кошачьи движения, исполненные грации и силы, миндалевидный разрез глаз и тёмные, как ночь, волосы — Раваналона была сказочно красива. Казнёва она приняла в пальмовом саду. На плече у неё сидел попугай. Казнёва удивило, что она заговорила по-французски. Обескураженный, он перевёл разговор на свои фокусы, объясняя их достижением науки. И этим заинтересовал королеву. А перед самым возвращением Казнёв по её приглашению участвовал в тайной мистерии. Не стану утомлять вас, господа, дурманом восточной экзотики, наполнявшим его описание празднества и последовавшей ночи любви. Он посчитал её приключением без продолжения, сомневаясь, была ли с ним Раваналона или одна из её приближенных. Он был сыт тропиками, заметив со смехом, что королева восприняла некоторые обороты из его речи чересчур серьёзно.
За эту часть истории отвечает крестообразно обгоревшая бумага. С тех пор, потакая желанию везде зреть символ, столь развитому у церковников, я думаю о бумаге, как о кресте, к которому истина прибита гвоздями слов. И всё же, меня не покидало ощущение чего-то недосказанного. А однажды в театре я сидел рядом с мадам Казнёв, пришедшей с дочерью. Она произвела впечатление женщины экзальтированной, с оттенком той невропатии, которую путают с утончённостью. Да и бледное лицо дочери несло печать её властного эксцентричного характера.
И мне стало жаль Казнёва.
А несколько лет назад здесь, в Алжире, меня вызвали в тюрьму на исповедь. В камере я едва различил в куче тряпья скорчившуюся старуху. Она спала. Подойдя, я достал Библию, собираясь её разбудить, и тут — о Боже! — узнал Раваналону. Тщетно искал я следы былой красоты! А когда стемнело, тихо произнёс: «Ваше величество». Много лет она не слышала это обращение, но её кровь была кровью королей, и Раваналона приподнялась. На её шее сверкнуло золото. Это был медальон, подаренный Казнёвом. Обратите внимание, господа, что одна его сторона потускнела, приобретя зелёный отлив, зато другая, прижимавшаяся к сердцу, всё также блестит. В мрачной камере алжирской тюрьмы мне в бесхитростных выражениях поведали такую же яркую оборотную сторону этой истории.
Она влюбилась в Казнёва с первого взгляда. И только поэтому поощряла его выступления. Не порывавшей связи с тайным учением своей родины и умевшей прикасаться к невидимому, ей были смешны его фокусы. О, как молила она днём Богоматерь, а по ночам лесных духов, чтобы он полюбил её! Главная из иллюзий Казнёва была иллюзия любви, зажжённая в её сердце. И в жертву этой иллюзии она принесла свой народ.
Без ложного стыда она рассказала о таинственных обрядах, которыми заинтриговала Казнёва, и о ночи любви. «О, как я любила его!» — повторяла она, и к ней на мгновенье вернулись прежние черты. Слушая, как она шепчет «любовь», я думал, что за несколько часов любви она заплатила проклятием своего народа и тридцатилетним заключением. И все эти годы она ждала, что Казнёв разыщет её и спасёт. А вчера из старой газеты, в которую заворачивали табак, она узнала, что великий иллюзионист скончался. Он умер, не догадываясь о судьбе женщины, оставленной среди кокосовых пальм, и о любви, мимо которой прошёл.
«Теперь жить незачем», — закончила Раваналона, прижимая кусок пожелтевшей бумаги с чёрной рамкой некролога. Я отпустил грехи. Похоронили её на тюремном кладбище, и вскоре имя на могильном кресте стёрлось.
Эти письма и медальон — версии одной истории, и я надеюсь, что на небе нашлась истина, их примирившая.
СМЕРТЬ ФЕОФИЛА БЕЗБОЖНИКА, ЕРЕСИАРХА ИЗ АНТИОХИИ
И лишь этим прерывал свои странствия по мирам горним и дольним.
С воспалёнными глазами, с языком, прилипшим к гортани, — таким застаём мы Феофила в окрестностях Антиохии, посреди хитонов и туник, посреди презрения и любопытства, посреди народов, ещё не объединённых Распятием. Взобравшись на холм, он проповедовал толпе, льнувшей к нему, точно пчела к мёду.
— Я бродил по свету, надеясь извлечь из глубин истин одну Истину, я погружался рыбой в бездны всех учений, я взлетал птицей в поднебесье всех богов, я искал Слово, но находил слова. И цена этих слов — ничто! Они говорят, что Бог для человека, как отец для сына. Они говорят, что дела Его совершенны, а мудрость непостижима. Но какая же это мудрость, если её не постичь? — Он размахивал руками, точно пугало, и ветер трепал его козлиную бородку. — Нет, наши судьбы в руках мальчишки! Зачем Он слепил нас? — Распахнув одежду, Феофил обнажил желтевшие кости и ноги, покрытые жёстким волосом. — Затем же, что и бегемота, орла и змею! Или вы ставите себя выше?
Ответом ему была тишина.
Выгнув шею, Феофил стал похож на ворона.
— Горшкам не ведом горшечник. Их не спрашивают, откуда взять глину и куда продать! К чему молитвы? Глина не может разжалобить гончара!
— Откуда тебе знать? — раздалось снизу. — Или ты Бог?
— Бог? — подняв руку, Феофил высморкался, демонстрируя овечий профиль. — Да вас давно бросили! Ваши слёзы для неба, как помои! Я, Феофил, которого зовут Безбожником, смеюсь, когда слышу о Божьем милосердии. Посмотрите на укусы скорпионов под своим рубищем, взгляните на мозолистые руки, почерневшие от мотыг, — это и есть его следы?
В толпе рассеянно кивали. Только Феофиловы блудницы и солдат, опершийся на копьё, смотрели во все глаза.
— Вы приписали Богу злонравие, а себе — собачью покорность. Вы надеетесь жертвами смягчить Его гнев, пробудить любовь. Но вам не сломить Его равнодушия!
Он расхохотался, уперев руки в бока.
Солнце слепило. Прикрываясь ладонями, внизу старались встать в длинную феофилову тень.
— «Где много богов, там нет Бога?» — оттопырил он ухо.
Ему под ноги полетел рыбий хвост. Подняв, Феофил долго его вертел, прежде чем оттолкнулся языком от пересохшего нёба:
— То, что я скажу, также истинно, как то, что в ваших домах ютится голод, а черепа мертвецов точат черви. Нас, как муравьёв, созерцает Создатель. Который для Его Создателя — такой же муравей! Есть пирамида создателей, есть множество богов. А Бога нет! Этого отсутствующего Бога бессмысленно призывать любить нас. Но я призываю вас возлюбить этого отсутствующего Бога. Возлюбите Его, как самих себя, и тогда Он будет существовать в месте, надёжнее заоблачных высей, — в ваших сердцах. Бог существует благодаря вашей вере, а не вы — благодаря милости Бога! И вы можете наречь Его именем сына или дочери, осла или мула, потому что у Бога нет имени, у Него бесчисленное множество имён.
Он бросил вниз рыбий хвост.
— Как можно звать того, у кого нет имени? — загудела толпа. — Как можно любить того, кого нет?
— А Сущего на небесах можно?
В голосе Феофила звенела издёвка.
— Но Он обещал спасение!
Феофил стукнул кулаком по лбу:
— Ах, я забыл, что вы Его видели!.. Вы даже протыкали копьём Ему рёбра!
Горизонт уже разрезал солнце. Повеяло прохладой. Феофил открыл рот, но из толпы насмешливо закричали:
— Уж не Феофил ли — неведомый Бог?
Он осёкся.
— Не святотатствуй! — призывали его. — Поклонись Христу!
Феофил погладил бородку, точно снимая с неё слова.
— Висящему мешку? Его чудачествам? Он вынудил к предательству, а потом обещал за это вечные муки. Он говорил притчами, будто мало простых и ясных слов. Он подкупал чудесами, которые легко повторить.
В подтверждение Феофил, высморкавшись, достал рыбий хвост и снова бросил вниз.
В толпе зашептались. Раздвинув толпу, на холм поднялся убогий.
— Христос лечил бесноватых, — состроил он рожу. — А ты?
Феофил влепил ему пощёчину.
— Я тоже. Или подставишь другую?
Убогий присел на корточки.
— Болтать все могут, — обнажил он кровавые дёсны. — А способен ли ты пострадать за своего отсутствующего Бога?
— Как мы — за Царство Небесное! — закричали снизу.
Феофил вскинул голову.
— Могу и просто так! Чтобы убедить вас, надо поразить? Так распните меня!
Он насмешливо замолчал.
— Ну, что же вы? Или не хватает духа? Вам не нужно разрешение ни прокуратора, ни синедриона, я, Феофил, даю его вам!
Он победно посмотрел вниз.
А там уже на скорую руку сколачивали крест из засохшей смоковницы.
— Недаром ваш Бог — сын плотника! — срывая голос, завопил Феофил. Но его не слушали. Раздев, потащили к кресту. Верёвки натянулись, и дерево, скрипнув, вознесло тело.
— У меня нет ангела с огненным мечом! — орал Феофил с креста. — Мой отец не на небесах, а давно в земле, но и мне доступно быть вашим Богом!
Многие с ужасом отвернулись. Блудницы рыдали. Утешая их, раб сжимал феофилову котомку.
— Жизнь — как ручей, который нащупывает русло, — кричал Феофил в лучах заходящего солнца. — А смерть — как запруда.
Задрав головы, в него со смехом тыкали пальцами, оскорбляя, крестились.
— Отпустите, — прохрипел Феофил, и все увидели его слёзы.
Солдат, прекращая мучения, проткнул его копьём.
Расходились, опустив глаза, топча босыми ступнями холодевшую, как мертвец, землю.
— Не всякий распятый — Бог! — выкрикнул вдруг убогий. — Не допущу, чтобы поганили святыню!
И стал трясти крест. Гвозди из запястий Феофила выпали, и мёртвое, грешное тело рухнуло на землю.
Феофиляне утверждали, что Безбожник умер в четвёртом часу стражи, что луна сделалась как кровь, а воздух — как полынь, и в сгустившемся мраке поднялась буря.
То, что в предместье Иерусалима разыгрывалось как трагедия, в окрестностях Антиохии повторилось как фарс. «Феофил профанировал образ Христа, — пишет современный нам апологет, — но разве факт того, что этот образ профанируется и сакрализуется с одинаковой лёгкостью, не является признаком вечного?»
Пресвитер антиохийского прихода, которого по странному совпадению звали Феофилом, осудил палачей. Но в дальнейшем к Безбожнику были не столь благосклонны. «Иисус пожертвовал собой ради нас, Феофил — ради своей гордыни! — писал один из отцов церкви, громя феофилян. — Взошедший на крест не стал Снизошедшим до креста!»
После гибели Феофила его преемником стал беглый раб. Свидетель землетрясения, уничтожившего Антиохию, он объяснял его небесной карой, хотя учитель и отрицал вмешательство богов в людские дела. Вспоминая его тыквенную бутыль, феофиляне верили, что он превращал воду в вино, кормил рыбой и лечил прикосновением.
Останки Феофила смешались с пылью дорог, по которым он бродил, а душа, если, вопреки его прозрениям, такая всё же существует, переселилась в мир, который он заслужил, — мир скорби и бунта.
СМОТРИТЕЛЬ ЧУМЫ
Годы уносили все страхи, кроме одного — покинуть подземелье. Первое время ходили слухи о смельчаках, совершивших вылазки. Пьянея от свободы, они бежали из мест, отданных на растерзание чуме. Но оставшихся пугало их невозвращение. А когда страх въелся в плоть, ведущие наружу люки замуровали, превратившись в кротов. По прошествии веков город, герб которого — лопата, представлял огромный лабиринт вырытых улиц-лазов, переулков-штолен и отсеков-келий. Копируя дождевых червей, его обитатели изобрели подземные автомобили — «землеройки». Пользуясь тем, что вес внутри Земли уменьшается, улучшили рычаги. Процветали прикладные науки, а искусства, кроме искусства смешивать запахи, отмирали.
С течением времени из их языка, одного из германских диалектов, исчезли сочетания «свет истины», «мрак неведения», «силы тьмы», попавшие туда из церковного лексикона. Антоним «просветления» — «затемнение» — стал архетипом добра. Место рая заняла тьма, ада — солнце. Солнце, не смиренно несущее свой крест, но ужасное и чудовищное, солнце-чума, стало символом греха, огненной геенны. В его топке сгорают пороки, главный из которых — стремление вырваться наружу.
Обитатели одной жаркой пустыни, у которых солнце считалось гигантским орлом, пытались пригвоздить его к небу. Бросая в него на закате кривые топоры, они мечтали прервать его полёт, несущий страдания. Но люди-кроты превзошли их. Они ненавидели заочно, их проклятия солнцу глохли под землёй.
Согласно их космогонии Вселенная представляла собой полубесконечную твердь, в которой рыли ходы и другие существа. Утверждали, что их Бог — Чума, а когда их разросшиеся ячейки сомкнутся с городом, разразится война.
В Царство Подземное превратилось у них Царство Небесное, достичь которого можно лишь усердно копая. Ведь оно сокрыто внутри. «Верх» стал синонимом зла, «низ» — добра. Падение заменило Вознесение: вознесённый, говорили о Люцифере, падший — о Христе. «Мир горний обратился в мир дольний», — сформулировал я их метафизику. А когда взглянул на солнце, оно показалось мне отвратительным, и комья растрескавшегося чернозёма — немым ему укором.
Он был шестнадцатым смотрителем чумы, как и предыдущие, посвящённым в тайну. Он знал, что существует отверстие, ведущее наружу, — туда, где буйствует чума. И сторожил этот засиженный слизняками люк, до бронзовой крышки которого было можно достать рукой. Сколько раз его охватывало искушение! Но открыть люк — значило впустить чуму. Он находился на самом верху, над кладбищем, устроенным здесь, чтобы защитить. Думали, что кости, источающие дурной запах, испугают. Кого? Люцифера?! Солнце-чуму?! Нет, единственным стражем, которого отделяло от смерти пол-локтя, был он, притаившийся под потолком зла! Его обострённое обоняние ловило запахи в сырой земле, а тонкий слух — малейший шорох.
Он то и дело вынимал стилет, ощупывая его нервными пальцами.
А в это время один из обитателей подвальных этажей видел сон. Нечто опаляющее, нестерпимо жгучее ворвалось в беспредельную тьму и рассыпалось мириадами искр. Ужаленный, он пробудился. Тревожно принюхиваясь, заметался по келье. От непривычных ощущений у него выступил пот. Высунувшись, он дал ему высохнуть на сквозняке, гулявшем по штольне. Где-то внизу грызли землю лопаты. Успокоенный их мерным скрежетом, он уснул. Сон повторился. Невозможно передать, что он ощутил, но, повинуясь древнему инстинкту, вылез из удушливой кельи и стал медленно карабкаться вверх. Почувствовав его движение по колебанию воздуха, в норах удивлённо заскреблись. Он оставлял позади этаж за этажом. Вот на руку ему скатился череп. Значит, скоро он минует кладбище, выше которого не поднимался ни живой, ни мёртвый. Закон запрещал здесь быть, и за ним уже пустили «землероек». Он сбросил грязную одежду. Он был у цели. И здесь его встретил смотритель чумы.
Развязок у легенды может быть несколько. В самой банальной из них смотритель чумы поразил чужака стилетом, ударом молниеносным, как укус крысы. При этом он понял, что охранял город не от внешней чумы, а от внутренней. Кладбище под ним — это кладбище бунтарей, которым он и судья, и палач. И оно будет расти, потому что история повторяется из поколения в поколение.
Согласно другому финалу, увидевший во сне солнце убил смотрителя чумы. Сдвинув тяжёлую крышку, он высунулся в кромешную тьму — стояла беззвёздная, безлунная ночь. Или он всё же на миг увидел солнце, от которого тут же ослеп, погрузившись в привычную темноту. И, познав запретный плод, стал семнадцатым смотрителем чумы.
Наконец, в последнем варианте люк, ведущий наружу, оказался наглухо задраен. Он был замурован изначально, он был замурован всегда, возможность выхода через него была лишь иллюзией.
Но какой финал ни выбрать, герои этой истории останутся зеркальными отражениями: один — жадно искавшим истину, другой — тщательно её охранявшим.
ОБ ОДНОМ ТЕКСТЕ ПЕДРО ЭРНАСТИО ДАЛГЛИША…
В трактате Чжуан-цзы рассказывается, как однажды китайский философ увидел во сне бабочку и, проснувшись, долго решал, то ли он видел бабочку, то ли теперь спящая бабочка видит его во сне. Картензий, сидя у камина, вспомнил, что однажды видел всё это во сне: и себя, и свои мысли, и жар из камина. Это воспоминание заставило его подумать: а что, если он лежит в постели и ему просто снится, будто он размышляет, сидя у камина. Этот случай описан в его «Первом размышлении», где есть такая фраза: «Я вижу, что не существует никаких определённых указаний, опираясь на которые, мы смогли бы ясно отличить явь ото сна». Схожее утверждает и Рассел, рассказывая, как переживал во сне видение разрушенной церкви, и что переживание это было внутренне неотличимо от того, как если бы он видел картину наяву. «Также мне часто снится, что я проснулся. Действительно, однажды я видел сон об этом сто раз на протяжении одного сновидения, — пишет он, и далее: — Я не верю, что сейчас я сплю, но не могу доказать, что я не сплю».
Тема «Dreaming» перекликается со сказанным, новеллу наполняет дух этого древнего, как мир, сомнения. Как и любому художнику, Далглишу присуще стремление к тайне, но нигде это влечение не проступает с такой силой, как в этой изящной миниатюре. Создавая атмосферу интеллектуального триллера, мистификации в ней убедительно реалистичны, а метафизика перемешана с обыденностью не менее тщательно, чем испанская и шотландская кровь в жилах автора.
Мне кажется, замысел Далглишу навеяли ленты Бунюэля, те эпизоды, где герои пробуждаются в чужом сне, оказываясь заложниками чужой фантазии. Далглиш тоже использует вложенные друг в друга сны. Но если у Бунюэля матрёшка из снов двухрядна, то Далглиш удлиняет ряд до трёх. Впрочем, с не меньшим основанием отправной точкой Далглишу могла послужить китайская книга XVIII века «Сон в красном тереме», роман Потоцкого «Рукопись, найденная в Сарагосе» или известная ночь Шахерезады.
Произведение состоит из трёх историй, вложенных в уста сновидцев. Повествование ведётся от первого лица, но главный герой отсутствует: протагонистов трое, и они совершенно равноправны. Они безлики, точно вершины равностороннего треугольника, их роли тождественны, а нумерация условна. Подчёркивая их неразличимость, Далглиш лишает своих героев имени, внешности, характера. Эта же причина оправдывает его косноязычие, заставляя прибегать к неуклюжестям типа «это тот, который…» или «некто, упомянутый мною в связи с…».
Сценой рассказу служат подмостки снов, а герои — сновидцы и персонажи сновидений. Действие разворачивается стремительно, как и подобает кошмару. Некто (1) смертельно напуган. Ему кажется, что за ним следят. Вначале в подъезде мелькает зловещая тень, потом в смутно брезжащих предрассветных сумерках тень превращается в силуэт, который обретает черты человека в бежевом плаще; его лицо уродует косой шрам. Это — (2), просто номер, потому что примета теряет свой смысл, если герой неразличим в мире литературных злодеев. (1) подозревает, что (2) хочет его убить. Однако мотивы преступления неясны. Нам намекают на совместные дела в прошлом, на карточный долг, на то, что (1) был нечист на руку и его ждёт расплата. Герой знает всё же больше читателя и пытается скрыться. Сначала — в привокзальной толпе (в спешке он не обращает внимания на её неподвижность), потом — в загородном доме, из двери которого торчит ключ, и, наконец, уставший, заслоняется от преследователя сном. Декорации меняются, неизменной остаётся лишь их условность.
Кажется, что вернулись греческие трагедии с их преследующим героев роком. Неясные причины обрекают (1) на смерть, от которой тщетно искать спасение. Однако по некоторым штрихам — мизансцены скупо обставлены, а в описаниях иногда проступает карикатурная неестественность, — можно догадаться: это сон. Когда в обезлюдевшем трактире убийца настигает жертву, запустив руку в карман плаща, читатель уже подготовлен к развязке: сейчас (1) проснётся.
Но эта нехитро приготовленная версия — ложь.
Видение исчезает, потому что пробуждается не (1), а (2). И всё переворачивается: страхи жертвы оказываются страхами убийцы, бегство — преследованием. Быть может, намекает Далглиш, вот так же и наши желания продиктованы посторонней волей, а наши ошибки — чей-то тонкий расчет. На этом кончается первая история.
Вторая история связана уже с (2). Пробудившись, он считает, что кошмар вызван усталостью, и, чтобы развеяться, идёт в библиотеку, где читает новеллы неизвестного автора. В том числе, и «Dreaming». Текст Далглиша содержит её парафразу, и она, копируя его «Dreaming», позволяет заглянуть в будущее, проследить за дальнейшим развитием сюжета. Этот ход, заимствованный из театра абсурда, перекликается также с известной книгой Малларме. Время, доселе стремительно разворачивавшееся, густеет, застывает, останавливается — неравномерность, присущая как хорошей литературе, так и сну. Кажется, проходит вечность, как вдруг (2) замечает, что его преследуют. Незнакомец, сидящий за столом напротив, внушает ему страх, (2) чувствует исходящую от него угрозу. Он подозревает, что стал жертвой какой-то чудовищной ошибки, но, вспомнив свой сон, понимает, что тот был вещим.
Из библиотеки (2) отправляется на вокзал, потом — за город, события из сна повторяются до мелочей. И повсюду — в скудном мерцании уличных фонарей, в доме с торчащим наружу ключом, в том же опустевшем кафе — его настигает (3), и здесь также ощущается бессмысленность происходящего, свойственная сну. Финал легко угадывается. Сновидец оказался сновидением, кукольник — марионеткой. Только роли чуть смещены: (2) превратился в (3), сон которого и стал содержанием второй истории. Первый же сон оказывается сном во сне.
Так сплетаются звенья новеллы, постепенно проступает её шифр. Третья история детально совпадает с первыми. Она начинается пробуждением (3), а в уже поднадоевшей погоне роль «убийцы» играет некий посторонний, злонамеренный инкогнито: тот же плащ, шрам, тот же оставленный в наследство реквизит. Чтобы не утомлять, Далглиш сокращает описание. Приученный аналогией, читатель ждёт пробуждения этого крайнего в веренице сновидцев. И дожидается. Очнувшись, фигурант обрывает и этот сон.
Однако Далглиш, который всё чаще привлекает иносказания, намекает, что и это пробуждение не есть пробуждение de facto. Оно, как догадывается читатель, лишь пробуждение во сне первого из героев, мимолётное пробуждение к другому, более глубокому сну. Сон этот будет совпадать с прежним, и всё же, не будет идентичен. «Так разнятся капли Гераклитовой реки», — передаёт в прощальных абзацах эту мысль Далглиш. Змея, схватившая хвост, его конструкция заставляет вечно блуждать в лабиринте снов, разрастающемся при новых прочтениях.
На публикацию «Dreaming» критика отозвалась — как и всегда в случае появления чего-то значительного — рядом осторожных недомолвок. Обнаруживали здесь и причуду подтачиваемого старостью ума, и запоздалые претензии, а последнее редко прощается. «Шокировать — пожалуй, единственное назначение монстра, выползшего из-под пера Далглиша», — писали в обычно сдержанном «Литературном приложении к “Таймс”». Кто-то, услышав здесь отзвук некогда модных доктрин Джона Данна, поспешил причислить «штучку» к архиву литературных экспериментов; кто-то увидел здесь пародию, кривое зеркало постмодернистской невнятицы, эхо Кафки и готических романов Гофмана.
Мне же истина представляется в другом.
Писать — значит отражать мир, и Далглиш, опираясь на метафору сна, отразил его непостижимость. Он увидел нас фрагментами причудливой мозаики, разгадку которой, кажется, вот-вот схватишь.
СОСТЯЗАНИЕ
Один из них в поисках вдохновения покинул шумную столицу. Он долго бродил в горах, прежде чем встретил запруду из разноцветных камней. К ней притулилась тростниковая хижина, которая была обсажена персиковыми деревьями. Художнику это место показалось до странности знакомым. Эти срезанные гаснущим солнцем вершины, этот сиреневый сумрак, тени на воде. Когда-то он уже смотрел на мягкие щупальца водорослей, на красноватые спинки рыбок, когда-то он уже видел эту хижину, колышущуюся, точно камыш на ветру. Художник несколько раз обошёл таинственное место. И, в конце концов, уснул. Во сне он услышал: «Вокруг всё — безмолвие, всё — чудо. Разве ты в силах запечатлеть миг?» Точно струны цитры, звучали эти стихи по пробуждении. Покорённый их изяществом, он и создал «Посещение райского Персикового источника во сне». Он написал картину прозрачными красками, обнаруживая дарование каллиграфа, поместил стихи в левом верхнем углу.
А на выставке один китайский монах, совершавший паломничество к святыням корейских пагод, прочтя его иероглифы, искренне удивился: с каких это пор слова древнего поэта с его родины, давным-давно отрешившегося от мира, считаются современным сочинением? И опечаленный художник опять ушёл в горы. Так родилась легенда о волшебной стране, в которой застыло время. Это застывшее время и запечатлел художник. Кто-то думает, что он побывал там случайно, кто-то — что он пребывает там вечно, находятся и такие, кто верит, будто он и китайский отшельник — одно лицо.
Так сновидения художников создают мифы.
Другим претендентом был суровый воин. В битве с войсками Жёлтого дракона он потерял правую руку. И теперь сжимал кисть в левой. Недаром его прозвали «стойкостью и доблестью Кореи». А что может быть лучшим выражением этих аллегорий, как не автопортрет? Однако он считал скромность венцом добродетелей, а потому избрал менее притязательный символ. Это — бамбук. И он рисовал это своё отражение, думая, что воин не более чем отражение несгибаемости и воли. Он дерзнул написать бамбук в изысканной технике — золотой тушью по чёрному шелку.
Следующим, кто значился в состязании, был придворный портретист, любитель выпивки. Тщеславные чиновники, желая увековечить себя, вставали к нему в очередь. «Осуши эти слёзы блаженства», — подносили они терпкое вино. И у художника скопилось множество посудин: и драгоценные, как серебро, сосуды сангам, и кувшины, форма которых — дольчатая тыква, а цвет — «осеннее небо Кореи», и причудливые, с паутиной трещин, фарфоровые чаши, куда в конце лета опускают лепестки хризантем, чтобы их горечь напоминала о крадущейся осени. А когда художник уставал от придворной жизни, то на время исчезал. И все знали, что он уходил к «бессмертным» в Алмазные горы. Все думали, что там он записывал их полные тайн изречения, что они благосклонно позволяли ему изображать свои божественные лики. Но он уходил в рыбацкую деревню, где вырос, и записывал беседы стариков, рисуя их морщинистые лица. Они и были его бессмертными, ставшими таковыми на шёлковых свитках. А на состязании художник открыл правду, добавив, что сейчас уже сам не знает, отражал ли реальность или свою мечту о ней.
Молодой провинциал был четвёртым участником. Отвергая традиции, он стремился к оригинальности. Его картины изображали бабочек растущими из земли, омерзительных скорпионов, туловище которых венчал розовый бутон, маленьких птиц с головкой-персиком и гороховым стручком вместо клюва, диковинные плоды в виде ласточкиного хвоста. «Мои выдумки демонстрируют иллюзорность мира, — объяснял он. — Ибо что кроме иллюзии в силах умножить фантазия?»
Но его встретило молчание.
Веничек из оленьих хвостов на поясе пятого соискателя демонстрировал желание стряхнуть мирскую пыль. Он стоял, закрыв глаза, у зашторенной работы. А когда настал его час, произнёс, разведя руками: «Мир изменчив, а эти картины мертвы, мир — это зеркало, в котором видят свою мечту, мир — это пустота, в котором рисует воображение». Под баюкающий шелест этих слов он распахнул занавеску, прятавшую — о, диво! — оштукатуренную стену, белевшую, как лотос в ночи.
Ему и отдали инструменты живописца, для него бесполезные и им презираемые.
АПОЛОГИЯ КРИСТОФЕРА ДОУСА
Честь их открытия принадлежит Кристоферу Доусу. Удача муравья — достояние всего муравейника, однако то, что жребий пал на Доуса, глубоко символично. Де Лиль, подаривший французам гимн, был гением одной ночи. Предназначением Сервантеса стал «Дон Кихот». Кристоферу Доусу провидение отвело африканский угол и затерянные в песках истины. Как выразился он сам, разрывая привычную паутину причин и следствий, нубийская культура была забыта, чтобы он её воскресил. Долговязый, сухой, как палка, Доус носил рыжие нафабренные усы, а бородка клинышком делала его сошедшим с портретов Веласкеса. Он был богат и неплохо образован — сочетание, встречающееся не так уж и часто. В академических кругах, впрочем, его упрекали в неприязни к источникам. «Прекрасное существует лишь в цитатах», — оправдывался он, сводя познание к эстетике.
На пятидесятилетие — время лениво, как Нил, и столь же упрямо — Доуса пригласили в Оксфорд. Ему предлагали кафедру. Он отказался. Он мог себе позволить оставаться свободным, презирая университеты с их иерархией и склоками. Он родился одиноким волком и оставался им всю жизнь. К тем же временам относится расцвет основанного им «Клуба сторонников синего цвета». «В даосских школах, — объяснял Доус, — синий цвет был цветом абсурда, и я намереваюсь вновь выбросить этот флаг иронии и философского смеха». И действительно, исправить чужое творение невозможно — остаётся его высмеять, и Доус, опровергая вселенские устои, взял на себя роль пересмешника. Соперничая с небесным Архитектором, он дал парадоксальный ответ на Его вызов, предложив безумием отгородиться от Его безумного мира. Если Эпиктет терпит, а Сизиф плачет, то Доус — бунтует. Я хорошо помню, как возникла у него эта идея. В тот дождливый осенний вечер мы сидели за шахматами, слушая, как скребут по крыше тяжёлые еловые ветки, и говорили об условности правовых норм.
Доус привёл аналогией шахматы:
— Измените в правилах ходы для пешки — и шахматный мир рухнет.
Я рассеяно кивнул.
— А разве конституции — не наследство мертвецов? — продолжил он.
Чёрно-белые клетки стали давить, как могильные кресты.
— К счастью, чтобы жить, не обязательно им подчиняться, — улыбнулся я и напомнил про королеву Зазеркалья, менявшую правила игры.
На лице Доуса мелькнул азарт.
Быть законодателем — значит сыпать песок на ветер, время обращает законы в пустой ритуал. Люди не носят одежду прошлых эпох, вышедшее из моды кажется смешным. Громоздя нелепости, свою лепту вносил сюда и клуб Доуса, регламентом которого было подчёркнутое отсутствие регламента. Вместо приветствия в нём можно было лаять, мяукать или, пожимая руку другой, приветствовать себя: «Добрый день, Леопольд Блум!» Традиционный бридж, благодаря однообразным расчётам позволяющий коротать скуку, был заменён изобретённым Доусом гибридом из покера, лотереи и старинной китайской игры, в котором отсутствовала стратегия выигрыша. По субботам при свете зелёного абажура велись чтения классической английской литературы на коптском наречии, а по воскресеньям — на языке глухонемых. Напоминая упражнения суфиев и коаны дзэн, эти чудачества выглядели пародией на духовные практики. И всё же — имели свой подтекст. Курьёз выступал в них самоцелью, розыгрыш закладывался в основу мирозданья, где над добром и злом возвышается каприз. «Не умножай сущее», — заклинал францисканский монах, соотечественник Доуса. И Доус множил фантазии, которые опровергают сущее, чтобы однажды, быть может, занять его место. Ибо сущее соткано из коллективных заблуждений, всеобщих иллюзий и ошибок, принятых за достоверность. Оно держится на сиюминутной договорённости, а его факты — интерпретации фактов.
Если жизнь Доуса являла собой тайную метафору, то его смерть грозила перерасти в разоблачение. Недоброжелатели, имя которым всегда легион, с неприличным усердием топтали ещё свежую могилу. «Я оригинален, значит, существую!» — издевались они. Члены его клуба поспешили отречься от знакомства с ним. Археолог, сопровождавший Доуса, стал называть его не иначе, как удачливым невеждой. «Эхо уснувшей цивилизации, — сокрушался он, — подслушал непосвящённый».
Экстравагантность — бельмо на глазу, а посредственность умеет мстить. Злые языки утверждали, будто ещё до находки видели у Доуса перевод древнего текста. А как путавший египетскую династию с эфиопской мог разобраться в тайне иероглифов? Задним числом Доусу припомнили и собрание в своём клубе подделок, едва не перешагнувших музейный порог — идея, некогда приводившая его критиков в восторг. «Подделка — тот же подлинник, — говорил он, определяя правду как ставшую всеобщей ложь. — Кто различает жухлые листья в лесу? Время шлифует апокрифы до блеска оригиналов».
Отрицающий миропорядок, Доус оставался выше слухов: молву заглушает лишь равнодушие. Но я нарушу эту пропись и рискну подать голос в его защиту.
Многое из ушедшего представляется странным. Как остроумно выразился Доус, глазам на затылке не дано видеть, мимо чего прошёл нос. Так монгольская яса предписывала смерть поперхнувшемуся едой, купавшемуся в грозу или уличённому в злословии. В Канзасе до сих пор запрещено есть по воскресеньям мясо гремучей змеи и крякать по-утиному. Удел всех законов, старея, превращаться в нелепую церемонию, их рациональность могут оценить лишь современники. Кодекс, обнаруженный Доусом, выносил приговоры не менее удивительные. Помимо воров и разбойников нубийцы казнили торгующих без платка женщин, чужестранцев, разбрасывающих с верблюдов засушенные коренья, бородачей, украшавших себя колючками, заболевших проказой менял и жрецов, загибающих пальцы при счёте. Смерть у этих легендарных племён слыла наказанием лёгким, ибо избавляла от унизительного раскаяния, презрительных взглядов и ожидания смерти. «Казнь — это моментальное искупление, — утверждал один из сторонников инквизиции, — усекновение головы — кратчайший путь к райским вратам».
Законы умирают быстрее, чем их успевают хоронить, консерватизм превращает их в юридические казусы. И сегодня в Бостоне перчатки на похоронах грозят тюрьмой, а в Уинчестере разрешается ходить по канату только в церкви. Нубийцам под страхом изгнания запрещалось пронзать иголками спёртый воздух, смотреть, как солнце волочит по небу алый шлейф, давить в новолуние скорпионов и думать о себе в третьем лице. Перечень их законов хранится в архиве, а я вернусь к оправданию Доуса. Моё предположение претендует быть лишь вкладышем в бесконечной книге гипотез. И действительно, прошлое столь же сумрачно, как и будущее, история — это наука гадать, её инструмент — карты Таро или «Книга перемен».
Вера в линейное время отводит настоящему лишь мгновение, которое уничтожается последующим. Противоположная точка зрения утверждает круговорот жизни, сводя её к череде непрерывных превращений. Учение о метемпсихозе разделяют не только на Востоке. Александр Македонский припомнил себя Ахиллом, Пифагор — золотобедрым Аполлоном, Шопенгауэр — Пифагором. Если вечная душа существует параллельно времени, меняя, как одеяние, тела, то в одном из прежних воплощений Доус мог быть и нубийцем. Рыжеусый, чопорный англичанин, однажды он увидел в зеркале курчавого негра с вывороченными белками и оттопыренной нижней губой. Гремя ожерельем из зубов крокодила, этот нубийский Моисей водил колышком по глине, предвосхищавшей ветхозаветные скрижали. И проснувшаяся прапамять подсказала Доусу место захоронения этих табличек и их мёртвый язык. Воображение рисует мне его улыбку, когда он вспомнил, как, простирая шуйцу (Доус был левшой), судил под удары дубин о бегемотовую кожу, видя трепет ответчиков и нетерпение палача.
Эта версия многое объясняет. И всё же, зная характер Доуса, я подозреваю лукавство, дерзкую попытку провести мир. Представим, что тот Доус (или лучше пра-Доус), в новой версии — уже египтянин, покорявший нубийцев мечом, приписал им свод нелепых законов: завоеватели всегда стремились очернить побеждённых. Перед смертью он прячет созданный им апокриф, чтобы обнародовать его в своё следующее пришествие. Кто разоблачит его, кто отличит миф от реальности? Вымышленное царство пресвитера Иоанна тешило поколения, мнимое завещание Петра Великого — пугало.
Банальный эпитет называет прошлое призрачным, Плиний сравнивает его с воском, Августин — с верёвкой из песка. И действительно, настоящее делает его игрушечным, а историю — как бы историей. Сиюминутность выворачивает былое, под рукой летописцев не бывшее становится бывшим. Но Доус пошёл дальше. Он изменял прошлое, которое только должно было стать будущим. При этом он не был тщеславен, а его желание обмануть потомков было ребячеством, за которым проглядывало шутовство и неуёмная тяга к розыгрышу.
Ко множеству взглядов на историю, оправданием которой занимались от Геродота до Блока, а опровержением — от Гардинера до Рассела, приведённое добавляет ещё один. Быть может, вся человеческая история сводится к истории чьей-то шутки, быть может, миром движет не воля, но — прихоть, а таинственная Клио хранит на устах улыбку?
Разрыв аневризмы застиг Доуса во сне. Какие сны он видит теперь? Представляются ли ему берега Ахерона такими же унылыми, как пески Нила? Я вопрошаю, а ответом мне служит безмолвие небес.
ОТБЛЕСК КОСТРА
Фабиа был типичным ашкенази — пучеглазым, горбоносым, его курчавые волосы уже серебрились. В университетских кругах он считался отшельником. После того как его книга «Реальность ирреального» наделала шума, его пригласили на телевидение. Он отказался. Кабинетный учёный, Фабиа чуждался общества, ненавидел звуки клаксонов, пустые интервью и боялся современников, говоря, что презирает их. Он прятался в книгах, заслоняясь от настоящего трухой летописей, и, как летучая мышь, выскальзывал из своей квартирки, похожей на келью, только ночами.
Кривые узкие улочки змеями ползли по городу. Патруль вырос неожиданно, точно сошёл с картины Рембрандта, вместо факелов черноту резали карманные фонари, вместо алебард в руках вертелись дубинки. Документов у Фабиа не оказалось, но он не сказал, что, отлучаясь за полквартала, их с собой не берут. Бесполезно, стража есть стража. «Как и тысячу лет назад…» — опять подумал Фабиа. К тому же он знал, что его до утра отправят в храм — бывшую монастырскую обитель, куда отвозили бродяг, и был этому рад. Фабиа взглянул на остроконечный купол, пронзавший тёмное небо, и перед тем, как его проводили внутрь, заметил стаю птиц, пересекавших ущербный месяц.
От Эвфорбия, последнего настоятеля храма, осталось не более ста строк, занесённых в пыльные манускрипты инквизиторов. Его осудил Пергамский собор, уличив в ереси катаров, и он был сожжён на ратушной площади. Влажный воздух был пропитан серой, всю ночь лил дождь, и сырые дрова плохо горели. Из толпы неслись проклятия, паства швыряла в поверженного пастыря камни, гнилые яблоки и дохлых крыс. Присутствовавшие иерархи зажимали носы, но тухлый запах всё равно пробивался, лез под крепко надушенные кружевные платки. Колючее железо приковывало к столбу по пояс, и Эвфорбий, воздев руки, молился на трёх языках: на латыни, греческом, иврите. Последнего никто не понимал. К тому же, заглушая голос, звонили колокола. «Он молится дьяволу!» — завопила какая-то крестьянка, крестя в ужасе рот. И это было почти правдой, Бог Эвфорбия был также многолик и злокознен. Ересиарх видел тайное и жалел простолюдинов, которым не избежать искусных сетей Бога. Чернокнижник, он сторонился толпы, опасаясь людей, боялся в этом признаться. Он говорил, что стремление открыть ближнему свет — это искушение, что правду дарует одиночество, а постижение истины считал волей небес. Но высокоумные рассуждения относили на счёт гордыни, и костёр был призван очистить от сомнений. Когда зобатый стражник пригнул факел к сучьям, Эвфорбий подумал, что и Пифагор прошёл множество земных тел, прежде чем обрести свободу. Епископ не раскаивался, он презирал палачей, и всё же решил исповедаться, пока огонь не добрался до ног. «Это уже происходило и произойдёт снова! — закричал он, убеждая больше себя. — Вы развели костёр, а надо сложить все костры, на которые я восходил и буду восходить, так чтобы ослепли ангелы!» Его не слушали, и языки пламени, напоминавшие о геенне, лизали поленья, превращая речь в стоны — единственную истину на земле.
Площадь пустела. Расходясь по грязным тавернам, горожане пили оплаченное магистратом вино и непристойно горланили, передразнивая жестами Эвфорбия. Прелаты вспоминали талмудистов и крестились, посматривая в тёмный угол. Кто-то уверял, будто в искрах костра различил каббалистические знаки «Сефир Йециры»: дивное сияние числа шестьсот тринадцать, которое выражает количество заповедей Торы, и бесконечность, свернувшуюся в букву «алеф». По крышам опять барабанил дождь, дома толкались водосточными трубами, а с небес пронзительно кричали звёзды.
Фабиа давно интересовала эта странная, загадочная судьба. Его манила тайна, окружавшая имя мятежного епископа, скудость источников рождала охотничий азарт, а трагичность финала будила сочувствие. Прошлое, как Бог, брезжит сквозь тусклое стекло. Склеивая Эвфорбия из осколков легенд, Фабиа вдруг, точно в зеркале, увидел себя — брошенного, отверженного, затравленного. Через века протянулись руки, заключившие его в объятия. Поначалу встреча с духовным братом вызвала радостное удивление, но затем стала тяготить. Фабиа казалось, что он повторяет чужую жизнь, будто слепок — оригинал, будто его судьба отпечаталась с матрицы, оставшейся в прошлом. Это неприятное ощущение стесняло его привычный, тихий уголок, смущая, как маячившее надгробие. К тому же Фабиа отличала мнительность, граничащая с суеверием, и вместо развёрнутой монографии он подготовил лишь скромную книжицу. Первая глава «Жизни одного ересио-лога» включила перечень интеллектуальных стычек, церковные баталии, где слово не расходилось с делом. Здесь упоминались костры альбигойцев, молот ведьм и магистр тамплиеров. Фабиа рылся в могильниках рукописей, в навсегда забытых дискуссиях, извлекал пафосные тирады, гневные инвективы и жухлые, как пергамент, апологии. «Считать Бога милосердным — значит оскорблять человеческими слабостями!» — кричали мёртвые буквы.
И Фабиа терялся в мечтах о прошлом.
Вторая глава его книги отводилась ортодоксам и не хуже них изобличала мерзкие грехи эвфорбизма. Третья, наиболее схематичная, описывала суд и казнь. Трудность состояла в том, что Фабиа располагал лишь деталями. Так, просьбой приговорённого было обнести костёр множеством зеркал, за которыми должны были гореть новые костры, обнесённые новой зеркальной оградой. Согласно замыслу, безмерно разросшиеся зеркала обращали множество костров в бесконечность. Ересиарх утверждал, что лишь тогда блуждания его души прекратятся и последующие воплощения исчезнут. Он кричал, что заботится о невинных, которые пострадают в будущем за его вольнодумство. Ему не вняли. Пришло распоряжение Ватикана, и его исполнили со звероподобным рвением. Святейшая комиссия сочла грандиозность предлагаемого аутодафе гордыней. «Зеркала омерзительны, ибо умножают крамолу, — язвили присяжные. — Это в ад попадают через лабиринт, в рай входят тесными вратами!» Тяжесть обвинений предопределила приговор, к тому же Эвфорбий оскорбил собрание. Вместо защиты он закатил глаза и заговорил на скверном жаргоне, похожем на петушиный клёкот. В нём едва угадывалось местное наречие, а искажать языки после Вавилона может лишь дьявол. Утром следующего дня Эвфорбия предали огню, тлен обратился в тлен.
Фабиа надеялся, что пребывание в заброшенном храме, затерянном в урбанистическом ландшафте, дополнит и свяжет эти нестройные картинки. Перед тем, как замкнулась дверь, он успел заметить, что камера выложена флорентийской мозаикой. Решётчатое окно было заложено бурым, засиженным слизняками кирпичом. В прежние времена сюда заглядывали звёзды, бесчисленные и непостижимые, как сочетания букв еврейского алфавита. Фабиа благоговейно прижал ладони к стенам, помнящим своих затворников, опустившись на колени, коснулся пола. «Жаль, что продержат только до завтра, — решил он, — лучшего места для работы не сыскать».
Плита источала холод, где-то прокуковали часы. Сосредоточившись, Фабиа вернулся к рассказу. Продолжая линии, связывающие события в цепочку, он вдохновенно варьировал сюжет, и замысел уже разворачивался в повествование.
Некий историк изучает жизнь малоизвестного клирика N-ого века. Перебирая его дневники, он находит множество параллелей со своей жизнью и пугающее созвучие мыслей. Его труд уже близится к завершению, когда однажды в пыли монастырских архивов он натыкается на рукопись, принадлежащую клирику. Среди текста он видит вдруг свою биографию на современном ему языке. Историк в ужасе закрывает пожелтевшие листы: знать своё будущее невыносимо. Вначале он предполагает розыгрыш, однако анализ подтверждает, что изложенное относится к N-ому веку. Историк шокирован. Тщетно он пытается найти спасение в «чуде» или «случайности».
Наконец, приходит к выводу, что сам является объектом своего исследования, что в цепи бесчисленных перерождений когда-то был клириком. Подходя к зеркалу, он узнаёт прежний образ. Следовательно, рассуждает он, найденная биография есть ничто иное, как автобиография, написанная им в N-ом веке. Он понимает также, что его дальнейшая жизнь будет только подтверждать эти древние строки, что все кресты — крест, а все розы — роза. Фабиа остался доволен.
Ветер возил по крыше тяжёлые ветки. Где-то тоскливо и глухо стучали молотки. Внезапно сон овладел Фабиа. Он увидел дождь, островерхий купол храма, стаю галок, сидящих на темнеющем дереве, крутые лестницы в подземелье. Затем увидел людей, которых боялся и ненавидел, они окружали старика, с длинной, развевающейся бородой. Люди кричали, захлёбываясь от злобы. Сквозь набат долетало скверное искажение местного наречия. И вдруг опровержением времени старик впился в него взглядом, заговорив на современном языке. Он протягивал горсть пепла, и Эвфраим Фабиа, обречённый до рождения, понял всё, ещё не проснувшись, и поэтому не удивился, когда, рассекая факелом тьму, зобатый стражник объявил: «Костёр ждёт тебя, епископ!»
ПЯТЬ ИСТОРИЙ О РАЕ
Я тот, кого мусульмане зовут грозой неверных, а неверные — псом ислама. Я эмир халифа Мухтади — да пребудет над ним милость Аллаха! Его тюрбан закручен так, чтобы походить на заглавную букву Открывающей суры, его бесстрашные воины уже двадцать лет, как скакуны в стойле, топчутся под высокими стенами Аламута. Завтра, в пятую луну месяца джумада-аль-авваля, по воле Неба или вопреки ей, я возьму эту крепость. Скрежещите зубами, дети шайтана! Я сокрушу вашу твердыню! Но не ради славы, как думает халиф, не ради золота, и не ради того, чтобы очистить мир от заразы шиитского имама. Я сделаю это ради Зубейды. У меня много жён и наложниц, но я охотно променял бы всех на дочь халифа! Благоухающий, созревший персик, она едва встретила двенадцатую весну и уже год, как зажгла в моём сердце любовь. Я попросил Зубейду наградой за Аламут, и отец её обещал. А халиф держит слово!
Посланник небес посулил нам рай. С упорством мула я изучал аяты божественного Корана, по пять раз расстилал коврик в мечети, ибо верил избраннику Аллаха. Однако земной рай ближе. О, Зубейда! С тех пор как я увидел тебя, моя вера пошатнулась, как накренившийся минарет. Твои жаркие чресла — моя Мекка, твоё лоно — моя Кааба, теперь Аламут — мой хадж! Штурм уже назначен. Пусть враги налетят завтра дикими осами — ничто не остановит меня.
Да поможет мне Аллах!
Хвала Аллаху, милостивому, милосердному! Я, Юсуф аль-Масуд, феллах из аула Ходж, находясь в Аламуте, клянусь пророком Мухаммедом — да будет благословенно его имя! — что завтра убью эмира абу Ракха аль-Ризаля. Ровно в полдень мой отравленный кинжал проткнёт его пёстрый халат, и ровно в полдень я увижу рай, который видел вчера молитвами старца Гасана. Блаженство, испытанное мною, невыразимо! Даже если сплести все алфавиты на свете, в языке не хватит слов! Я видел гурий, у которых волосы между ног нежнее овечьей шерсти, я слушал их песни — шербет для ушей, я трогал их лютни из панциря белой черепахи. Я видел источники, струящиеся, как время, видел розы, которые пьянят трезвых, а пьяных трезвят. Я пил вино и бросал кости, ибо в раю нет шариата. Я глядел на танцующих пери, которые приходят разве во снах. Мои грубые, мозолистые руки едва не переломили их осиные талии. Их прелести в точности такие, как обещает Коран. Замирая от восхищения, я слышал и голос трубного ангела, возвещающий о моём прибытии. Я возлежал на любовном ложе и познал объятия, доселе неведомые.
Молитвы старца сильны перед Аллахом! И я знаю, что кинжал ещё будет дрожать в груди эмира, когда я попаду в чертоги Аллаха. Ничто не остановит меня! Моя мать — единственная, кто знает о предстоящем. Она плачет от радости и молится, чтобы телохранители эмира не промахнулись, отправляя меня в рай, который сторожат джины.
Солнечный луч уже погасил звёзды! Мой кинжал заточен, как игла.
Нет Бога кроме Аллаха, и Мухаммед пророк Его!
Да откроется светлый лик нашего имама!
Я — Гасан ибн Саббах, ассасин из Аламу-та, как называют меня несущие кресты, коверкая арабское «хашишин». За неповиновение я казнил обоих сыновей, и меня прозвали Железным Старцем. Меня кличут также Устроителем Рая. Я усмехаюсь, когда слышу об этом.
Правоверные наивны, думая, что на небе их ждёт блаженство. И я даю им возможность ещё на земле получить то, о чём они мечтают. Гашиш и красивые женщины, которых во множестве поставляют невольничьи рынки, позволяют мне извлекать выгоду из их глупости. Так, соблазнённый прелестями греческих гетер, Юсуф аль-Масуд, похоть которого выпирает, точно горб у верблюда, заколет завтра эмира абу Ракха аль-Ризаля, моего врага. И он не подозревает, что его предательский удар — а Аллах, как и люди, отворачивается от предателей — направлен мною!
Бедный федави! Девственник, не имевший и динара, чтобы заплатить женщине, он принял мой голос, искажённый морской раковиной, за ангельский, а эфиопов, чёрных, как кофе, — за джинов. В молодости, когда битвы ещё не обезобразили мне лица, а стрела не сделала кривым, я тоже был простодушным. И сейчас мне немного его жаль. Да простит меня Аллах, в которого я не верю! Монах, раввин и мулла одинаково мне безразличны. Я знаю, как знают об этом и те, кто больше не говорит, что наша душа претерпит ещё множество превращений, прежде чем сольётся с космосом, что после смерти мы вернёмся на землю, по которой будем ещё не раз бродить в ожидании последнего часа.
Те, кому это неведомо, считают меня злодеем. Им не постичь, что на земле нет злодейства. Они верят в ад страшнее земного, и в рай, который прекраснее. В башне, куда не проникает ни день, ни ночь, сбываются их скудные желания. А после испытанного они больше не смогут жить. И тогда я дарю им высшее благо на земле — умереть легко и быстро.
Велика Яса Потрясателя Вселенной!
На курултае, собравшемся в Каракоруме, решено вновь поднять наше непобедимое войско. Именем Синего Неба мне выдали ярлык на земли арабов. Их имена, как и халаты, отвратительно длинны, сны ленивы, а блеющие шаманы каждую луну напоминают им о Боге. О Хулагу напоминать не придётся! Когда мой аркан со свистом разрежет воздух, когда бесчисленные табуны затопчут их поля, я стану для них ужасом Вселенной.
Кривая сабля, которую сжимают в руке, — вот единственный Бог на земле! Если ты воин, значит — в раю, если нет — в аду. Так говорю я, Хулагу, — человек длинной воли. Избавляя от страданий, Синее Небо примет всех, но храбрецы будут и там возвышаться над трусами, точно орлы над цаплями.
Завтра мы выступаем. Арабы! Ваши брови густы, а глаза раскрыты, будто от страха, нам неведомого! Будут ли ваши головы на пиках так же красивы, как под зелёной чалмой? Проткнув копьём вашу землю, мы сметём неприступные крепости, как ветер степную пыль!
Вы скопили богатство, но орда с девятихвостым бунчуком не берёт за жизнь ни быка, ни осла. Жизни, как и рая, не купить! Говорят, нельзя проливать священную кровь халифа, иначе рухнут небеса. Но мы завернём его в ковёр и будем трясти до тех пор, пока не умрёт.
Завтра я поведу тумены навстречу звёздам!
Мы — Аллах, Мы — Господь миров, Мы — единственная истина на земле, ибо Мы проводим тварей по стезям Нашим. Мы видим, как они рождаются и как умирают, Нам известны их деяния и помыслы, которые важнее деяний. И Мы наградим каждого из них, но как — останется тайной.
ДЕТАЛЬ
Но предположим, что приступая к работе, художник искал вдохновение на истёртых страницах «Confessiones». Бессонными ночами, в неверном дрожании факела, он следил за латынью, которая складывалась в вереницы рассуждений. Пальцем, привыкшим к резцу, он водил по строкам, повествующим о времени. Художник простаивал за кафедрой до утра, и однажды ему явился Августин.
Художник. Я чувствую, что схожу с ума, когда размышляю о времени.
Августин. Когда-то и я испытывал те же муки. (Далее Августин цитирует своё знаменитое: «Я до сих пор не знаю, что такое время… А может быть, я не знаю, каким образом рассказать о том, что я знаю?»)
Художник. Но Вечность посвящает в истину, и теперь ты, наверняка, знаешь?
Августин. Прошлое, вытесняющее будущее, таинственное, убивающее время, с его длительностью и протяжённостью — нет ничего кошмарнее этой выдумки. И ничего смешнее. Воистину, ужас перед временем — это ужас перед змеёй, лишённой жала. Смысл сиюминутного — смысл вечного, и я легко докажу тебе это. Ведь когда ты вспоминаешь, то называешь это прошлым, когда ожидаешь или мечтаешь — будущим, когда созерцаешь — настоящим. Значит, и отрицать это глупо, прошлое — миф, будущее — грёзы, настоящее, вечное настоящее, — их переплетение. Времени же, как такового, не существует. Ещё Соломон произнёс своё «И восходит солнце…», понимая это, ещё Иисус Навин, умоляя задержать светило, сознавал: время — иллюзия.
Художник. Величайшая из иллюзий.
Августин. И поверь, что для тех, кто оказался у Всевышнего, бег планет по небосклону продолжается. Прибывающие бывают этим удивлены, пока им не разъяснят, что они пребывали в Вечности ещё там, в доме, ошибочно принятом ими за временное пристанище. Впрочем, для грамматики временных наклонений эта мысль неизреченна, её передаёт разве что аллегория или метафора. Скажу тебе одно: на Лысой горе Господь был распят на кресте времени, и этим попрал его.
Тут Августин исчез.
Предрассветные сумерки застали художника за размышлением. Он думал о том последнем дне, в котором сойдутся разом все времена, и рисовал себе Крест, ниспровергающий Колесо. Однако по какой-то причине он не внял откровению. На своём полотне он изобразил Августина жалким стариком, плачущим от того, что не видит распахнутого перед ним рая.
А серая крыса, грызущая дыры в распятиях, епископате, язычниках, ордах Алариха и разграбленном Городе, — не она ли и есть то время, которое победили Августиновы слова и которое победило его самого?
ПИСЬМЕНА НА ОРИХАЛКОВОМ СТОЛБЕ
Греки, следуя заблуждению Платона, будут помещать нас западнее столбов Геракла, в океане переменчивых течений и буйных ветров. Другие народы, следуя их заблуждению, будут называть нас Атлантидой, иные же — Лемурией, страной теней. Кто-то обнаружит наши следы рядом с Индией, и это не более верно, чем всё остальное.
Кто-то посчитает нашей стихией ледниковые шапки гор, кто-то — мёртвые пески пустынь. Но ближе всех к истине окажутся ацтеки из племени нагуа, величающие наш остров «лежащим посреди вод», и финикийцы, поклонявшиеся нам как мраку ночи, ибо только бездна ночи сродни тёмной бездне океана…
…землю нашу населяют не звери и не птицы — пернатые змеи и двуглавые, бродящие по лесам рыбы, которые позднее переселятся в воображение заморских народов. В наших рощах с жухлой листвой обитает феникс, роняющий жемчужины, проглотив одну из которых, получит зачатие царевна Поднебесной империи, увидевшая его однажды во сне: бесклювый, со слабо развитыми крыльями и хрупким позвоночником — наши дети ради забавы ловят его руками. Он принадлежит к той породе фениксов, что выбирают для ночёвки тёплые пепелища, угли догорающих костров, на которых впадают в тяжёлый сон, чтобы восстать с пробуждением.
Иные животные приобретут впоследствии преувеличенные размеры. Стимфалиды окажутся птицами, осыпающими путников бронзовыми перьями, в действительности же они — насекомые, встреча с которыми, по нашим поверьям, приносит удачу. А безобидные розопёстрые мотыльки превратятся у эллинов в пауков — серых, грязных, ткущих паутину времени: жертва предстанет палачом…
Птицей Рух, птицей мечты или благородной глупости (в нашем языке это синонимы), мы зовём саламандру за её тщетное стремление достичь неба вместе с дымом и пламенем. Гордые гаруды, которые будут парить у индусов в воздухе, выслеживая скользких, увёртливых змей, — это тонкорунные блеющие животные, которые пасутся на наших лугах с красной травой, кольчатые извивы которой, быть может, и послужат причиной её превращения у индусов в ползучих рептилий. Так преобразятся овцы и трава, лишь вражда их не изменится…
Подобные метаморфозы не кажутся мне удивительными. И наше воображение, особенно у низших сословий, заселяют уродливые чудовища: ужасные карлики, которых солнце присылает на землю верхом на лучах. С ними за власть над миром бьются прекрасные, лишённые губ и зубов кекропы, собратья слепых эльфов. Иногда я думаю, что и они перекочевали к нам из загадочной, глубже погружённой в древность реальности, а туда — из ещё более седой старины. Когда я пытаюсь представить эту сплетённую, как ожерелье снов, гирлянду, разум мой цепенеет…
Пища наша состоит из подтухающего мяса, приправленного горечью красной травы, и кислым, с дурным ароматом, соком безжалостных растений-треног, что, словно раненные в лапу псы, хромают, гоняясь за мухами, и удо-влётворённо ухают, пожирая рыжих ящериц и нечистоты. Даже чёрная похлебка спартанцев кажется нам недопустимой роскошью, ибо в обычае у нас презирать еду…
…когда Платон определит нам в пращуры Эвинора и Левкиппу, а в матери — Клито, то не будет даже подозревать, что возвращает нами же подаренные миру мифы о двуполом существе. Иногда этот гермафродит, прародитель Вселенной, будет распадаться на близнецов: Диоскуров у орфиков, убившем и убитом братьев у римлян, двойнике фараона у египтян. Вторя учителю из Афин, поколения его учеников навяжут нам — учителям их учителя! — в отцы морского бородача с трезубцем. Когда я задумываюсь об этом, меня охватывает смех. Иногда же — суеверный ужас. Утратив опору, я стараюсь обратиться к нашему ортодоксальному учению.
Мы знаем, что мир не имеет начала и конца и что он имеет их бесчисленное множество. Наша космогония, которая найдёт продолжение у джайнов, обходится без демиурга, без расчленённого и раскиданного по свету гигантского первочеловека, без изогнутого дугой небосклона, распластанного тела богини. И мы не верим, что время подобно полёту стрелы, мы понимаем: оно циклично. Пара вселенских часов — образ, который с таким терпением назидается в наших школах, — отсчитывает его периоды. Через мириады делений стрелки движутся от «хорошо» к «плохо», и когда совпадут, показывая «плохо» — а это случится уже совсем скоро — наступит конец света, наступит его новое начало. И внутри пирамиды, где вершится история, произойдёт повторенье. В той же части пространства, куда поглощает смерть, в той мгле, которая лишена даже геометрического образа, нет времени. Одна из наших сект, добивающаяся популярности путём упрощения религиозных воззрений, отождествляет мир с нашим островом, а мглу — с остальной Вселенной…
Государство наше разделено на группы, но Платон слишком много привнесёт в его устройство — быть может, в созданной им путанице заложен недоступный нам знак? Предложенная им структура, наверняка, сломала бы наше государство — так крепнущий скелет, лишая младенца гибкости, приближает к смерти…
Я, и пусть моё имя не будет трепаться потомками, принадлежу к элите художников. Я не ремесленник, кладущий краски на обожжённую глину. Инструментом, помимо алмазного резца на орихалке, мне служит фантазия, которая равносильна предвидению, а материалом — будущее. В словах этих содержится нечто большее, чем поэтическое бахвальство. Ошибётся тот, кто воспримет их как пустую метафору или выражение без смысла, вроде «тоска плиты» или «жар чёрствого бегемота». Неторопливо вырезая на орихалке слова, я ощущаю, как творю один из бесчисленных вариантов будущего, как, фиксируя его, я задаю направление, фигуру, в которой оно позже застынет. Я ощущаю своё могущество и понимаю, почему каб-балисты будут учить, как с помощью тридцати двух путей премудрости, куда войдут двадцать две буквы ещё не сложившегося еврейского алфавита, Бог обнаруживает свою бесконечность.
Я, простой писец на орихалке, чьё искусство позволяет узреть толщу веков, вижу числового бога пифагорейцев, которого забудут с той же поспешностью, с какой две с половиной тысячи лет спустя будут ему молиться — в причудливых извивах грядущего много возвратных ходов. Мне видится, как передачу сокровенных знаний свяжут позже с получением трижды величайшим героем Юга изумрудных таблиц, а героем Севера — рун…
…наши наделённые ясновидением жрецы — каста голубокожих и зеленокожих, в подражание которым египтяне будут рисовать богов цветными, усердно развивают эсхатологию — науку о ближайшем светопреставлении. Это единственная наука, которая процветает у нас в последние годы, ибо все чувствуют близкую катастрофу. Жрецы пророчествуют: когда содрогнётся земная твердь и храмы без крыш не уберегут нас от хлынувших вод, когда молитвы станут такими же напрасными, как доспехи, когда от жуткого взрыва сотрясётся само небо, тогда в раскатах этой катастрофы и родится эхо, которое будет звучать в мире после нас. Северные люди изобразят нашу гибель как гибель своих богов, когда в день последней битвы задрожит древо жизни, когда злые волки пожрут один — солнце, а другой — луну, когда попадают звёзды и асы — боги, которых мы скоро явим собой, погибнут, принося себя в жертву.
Мистику с Патмоса наша гибель откроется как видение со снятием шестой печати. Я могу даже различить слова, в которых он запечатлеет свой ужас. Но ни мрачное, как власяница, солнце, ни сделавшаяся, как кровь, луна не заставляют моё сердце трепетать…
Нам известно (это случится значительно позднее), что «в 6-м году кан, 11 мулук, в месяце зак началось страшное землетрясение без перерыва до 13 куэн. Это произошло за 8060 лет до составления этой книги», что именно так выведет острое стило из бронзы под рукой невозмутимого индейца майя, а потом один галл обнародует его текст как ребус: «Страна Глиняных Холмов, земля Му, была принесена в жертву». И мы знаем, что это будет правда о нас, искажённая (или подчёркнутая) множеством деталей. Мы знаем также, что убранство нашего острова — это убранство капища, чьи алтари испытают вскоре холодное прикосновение рыб и обжигающую слизь медуз…
Некоторые еретики утверждают, будто один из нас спасётся, дабы послужить прообразом семиту, строящему ковчег, согласно сложенному в нашу честь мифу о потопе. Но мы не верим. Ведь нас учат: хотя ветер надувает паруса кораблей в наших гаванях, мы, люди лунного света, должны готовить жертвоприношение. Мы знаем, что нас ждёт, и потому, как учат жрецы, мы — боги. Фригию в этом убедит позже искалеченный Атис, а остальных — Распятый на Кресте.
…я уже вижу, как наша кровь ложится пятнами на быстротекущее время, раскрашивая его письменами, означающими бессмертие. Это не будет воскресением, ибо мы, в сущности, никогда и не умирали. И я спрашиваю себя: существую ли я, безымянный резчик на орихалке? Или существует лишь предание обо мне, а я существую в этом предании? Но усталость и безразличие мешают искать ответ. Ибо не всё ли равно, есть я теперь, в настоящем, или обречён на рождение только в будущем, которое для меня — уже прошлое…
ИСПОВЕДЬ НА ТЕМУ ВРЕМЕНИ
А потом прошло восемнадцатое столетие, в конце которого она ехала зимним утром по скрипучему насту, мелькнув, оно прошло, как сон, дым, мгновенье, растаяв инеем на её ресницах. И жила ли она? Где искать её могильный камень? Куда делись её галантный танцор Арну и плешивый мосье Жак с его оттопыренными ушами? Но, вообразив её, понимаем, что она жила так же, как живём мы, в том же дряхлом и неласковом мире, где всё проходит и всё остаётся, где разделяют одну Судьбу, где в часовенке, в той, где её отпевали, по-прежнему живёт Бог, и где те же чувства, непреходящие и глубокие, рождает тоскующая, холодная земля.
НЕВОЗВРАЩЕНИЕ ДЖЕКА УОРФИЛДА
Действие в ней разворачивается параллельно в трёх временах и на двух континентах. Современному писателю детективного жанра попадается статья, опубликованная в «Nature» за 1916-й, в разгар войны. Это комментарии некоего Нормана к тексту восемнадцатого столетия, содержащие фрагменты утраченного ныне оригинала. Из них писатель узнаёт, что обнаруженная Норманом в архивах мореходной компании рукопись принадлежит перу Джека Уорфилда, наиболее деятельного президента «Уорфилд и Ко», и относится к периоду его экспедиции в сельву верхней Амазонки. Его необычное сообщение, как передает Норман, адресовано отцу. Разоблачения Нормана, уверяющего, что послание не более чем «сказка бочки», как выражались в эпоху парусников просоленные моряки, вызывают у писателя сомнения, приведённые доводы кажутся ему неубедительными. Таинственные события, произошедшие на Амазонке двести лет назад, изумляют его, и он решается на собственное расследование. Его источники — это старый журнал, семейные хроники Уорфилдов и биография Нормана. Используя их, он собирается воссоздать утерянный текст и выдвинуть иную версию, пока лишь смутно угадываемую.
Таково содержание первой главы романа, к концу которой читатель понимает, что писатель — и есть автор лежащей перед ним книги, а рассказанная история — это история замысла. Вторая глава представляет собой отступление, в котором выдержки из истории дома Уорфилдов составляют психологический портрет героя, жившего в восемнадцатом столетии. Почти физическое неприятие юным Уорфилдом прагматизма, его упрямое нежелание занять со временем пост президента и ряд других симптомов интерпретируются автором как проявление психастении. Постепенно он убеждается, что протагонист был скован страхом действия, типичным признаком меланхолии, усилившейся после неудачной помолвки, которую расторгло вмешательство отца. Конфликт вспыхнул приблизительно за месяц до поспешного отплытия в Америку.
Отправляя сына в рискованное путешествие, рассуждает автор, старший Уорфилд надеялся трудностями исцелить его меланхолию. Плавание не имело коммерческих целей, как утверждает Норман. Быстрое же согласие героя, его удивительная покорность расценивается как бегство, и вот уже фрегат, принявший на борт Джека Уорфилда, выходит из дуврских доков.
Дальнейшее повествование облечено в форму полемики с Норманном, сквозь призму которой просматриваются события в рукописи Уорфилда. Началом им послужило столкновение с индейцем среди алых цветов ватника и гибких лиан из-за шафранового тукана, сражённого одновременно пулей и стрелой из духовой трубки. Охвативший Уорфилда испуг исчезает после неожиданной фразы: «Успокойся, англичанин, ружьё тебя не подведёт!»
Он пробует обратиться к туземцу на английском, французском и языке тупи, но тот хранит молчание. Вдоль русла реки он следует за индейцем вглубь джунглей, и его путешествие растягивается на недели. «Достаточно взглянуть на карту, чтобы убедиться: маршрут “от устья Жауари вверх, через территории кровожадных мажерона”, по которому шёл сэр Уорфилд, составляет сотни миль. Почему бы ему в таком случае не достичь Луны?» Этот отрывок иллюстрирует стиль романа: внутренние кавычки цитируют Уорфилда у Нормана, а внешние — самого Нормана. «Ложь слишком нарочита, — опровергает Нормана следующий абзац, — и намекает на бессмысленность поисков».
Невозмутимость туземца, тотем змеи, отмечающий его принадлежность к дремучим каннибальским племенам, и, наконец, открывшаяся взору деревня у подножия глинистого плато служат прологом к основной теме, — теме Лэзидримслэнда — утопической общины, куда попадает герой. Название придумано Уорфилдом в первые дни пребывания и, по его признанию, не совсем удачно. Обитатели деревни описаны им как ещё один латиноамериканский naturvolk[31]. Уорфилд рисует жизнь йеху причём их быт выглядит утрировано даже на фоне свифтовских персонажей. Лишённые зачатков иерархии, они представляются первобытнее самой первобытности. Но они — йеху добровольные, или дикари от разума. Анархия как выражение индивидуализма, отказ от объединяющей символики как первого шага, ведущего к ужасам государственности, сведение к минимуму общения, забвение слов, разрушающих внутренний мир, признание языка инструментом манипуляции, что, в частности, приводит к его отмиранию, табу на претворение любых изысканий, необратимо вызывающих и негативные последствия, — всё это статьи местной конституции. Развитие уподоблено ею серии шахматных цугцвангов, позиций, когда любой ход ухудшает положение. Лезидримслэндцы уверены, что эволюция кончается крахом, избежать которого можно лишь застыв на примитивной стадии, — устраняясь, не вмешиваясь, созерцая. Это перекликается с восточными воззрениями, но здесь искусственный запрет на деятельность породил головокружительный феномен: третье, пограничное сну и яви, состояние психики. Рождение гигантской коллективной галлюцинации избавило лэзи-дримслэндцев от деградации. Усилиями поколений в этой эфемерной бездне создан мир бесплотных образов, в отличие от снов и реальности, управляемых. Боги, создавшие себе подобных, сотворившие слепки, копии, призрачные игрушки, над которыми ставятся социальные, технические и прочие эксперименты, они застрахованы от выбора, не разделяя нашей трагедии. «Мы существуем лишь в одном из вариантов будущего, — поясняет Уорфилд, — они — во всех сразу». И далее: «Их способность возвращать события — это победа над временем».
Боль прогресса оторвана от бытия и перенесена в гипнотическую даль. Революции, войны и другие общественные катаклизмы, кардинально меняющие облик их «третьего» мира, не затрагивают размеренную жизнь общины. Только иногда посреди стрёкота цикад и пения колибри вспыхнет вдруг пальма как отголосок неудачного сценария: гибели «третьего» мира в атомном кошмаре. Или ни с того ни с сего в чьём-нибудь доме появляются железные сигарообразные предметы, начинённые смертью. Уорфилд пишет, что его новые сограждане «препятствуют подобным метаморфозам: возникающие предметы безжалостно ими уничтожаются».
«Это мы, как слепые, бредём наугад, покорные случаю, который зовём Судьбой, — рассуждает Уорфилд. — Обречённые на вечное перепутье, мы сознаём не столько свою ответственность, сколько бессилие, потому что не видим ни настоящего, ни будущего, а только прошлое, и это — цепь ошибок. Обстоятельства гонят нас по колее, с которой уже не свернуть, и нам остаётся верить, что впереди — пьедестал, а не пропасть. Они же, страшась капризов будущего, гарантируют его, они топчутся на месте и одновременно движутся во всех направлениях».
На заре общины появилась ересь, посягавшая на принцип непретворения. В ней утверждалось, что цивилизация не всегда тупик, что социальные идеи должны выливаться в переустройство колонии, а технические — облегчать борьбу за выживание. Но ересь не привилась, а её приверженцы, согласно преданию, откочевали на запад. Уж не их ли потомки, иронизирует Уорфилд, встретились там с мечами конкистадоров?
Таким образом, Лэзидримслэнд не уставшая, закатная цивилизация, но цивилизация, избравшая совершенно иной путь, на котором нет места тараканьим бегам прогресса. Если мы только ждём совершенства, то для Лэзидримслэнда оно уже наступило. Вот почему его затерянный рай Уорфилд называет родиной своей души, вот чем объясняет он решение навсегда проститься с меловыми берегами Англии. «Я всегда чувствовал свою неприспособленность к нашим узаконенным джунглям и проклинал роковую ошибку, в результате которой там оказался. Хвала провидению, направившему меня сюда! Здесь я познал счастье…»
Такова парафраза третьей и четвёртой глав романа, где автор, опровергая мнение Нормана, считает рукопись Уорфилда документом, подтверждающим существование Лэзидримслэнда.
Однако Джек Уорфилд вернулся — и это ultima ratio[32] Нормана, — женился на богатой аристократке и добился репутации самого энергичного президента Компании. Именно он заключал выгодные сделки, получая подряды у Питта, именно его корабли торжествовали при Абукире. Быть может, ему, наконец, открылась звериная красота Необходимости? Быть может, он полюбил действительность, где ошибаются только раз?
И тут автор в духе средневековых мистиков выдвигает версию о раздвоении Уорфилда. Действительно, если он, как следует из его признания, решил остаться в Америке, то какой смысл в рукописи? Кто доставит её в Англию? Значит, ему было очевидно, что её вручит другой Уорфилд, его двойник. Интересно, каким объяснением он сопроводил её? Быть может, назвал фантазией, посещавшей его в каюте долгими атлантическими ночами. Судьба же настоящего Уорфилда остаётся загадкой.
Хотя кто из них настоящий?
Ещё одним подтверждением своей версии автор считает исчезновение Нормана после выхода статьи. Последний раз его видели в Макапа, в устье Амазонки, далее следы теряются.
В эпилоге писатель также проявляет желание бросить всё и отправиться на розыски утопической колонии, и читатель понимает, что речь в романе шла не о трёх героях, а об одном, уставшем маршировать вместе с остальным человечеством и с тех пор бредущем в одиночестве сквозь толщу времени, путаясь в лабиринтах злого, искривлённого пространства.
КОММЕНТАРИИ К РОМАНУ ВАСИЛИЯ ГУЛАНОВА «ТРОАДА»
Гуланов высвечивает бесконечное пересечение культур «викингов» и «славян». Их противостояние, их тесное переплетение, увиденное глазами Адама Громова, — главная тема романа. Отказавшись от традиционного взгляда на Третий Рим как наследницу византийской неприязни к латинянам, Гуланов обратился к конфликту куда более древнему. Ахейцы, люди Запада, штурмуют Восточную цитадель Трою — Москву. Девять лет осады, продолжая гомеровские параллели, растянулись на века, и на закате второго тысячелетия наступил, по Гуланову, год взятия города. Град обречённый, он, в сущности, уже пал; Адам Громов — это бродящий по руинам Эней, несущий на плечах бремя ностальгии. Если и есть романы одного удачно найденного образа, романы-метафоры, то произведение Гуланова, несомненно, из их числа. То, что герой разыскивает девушку с экзотическим именем Троада, только подчёркивает символизм происходящего. Он мельком увидел её портрет и теперь надеется встретить её в музеях, театрах, церквях, забегаловках. Без привлечения аллегории его поведение абсурдно. Вскоре, однако, становится ясно, что предмет его поиска — умершее прошлое, он ищет то, чего нет.
Гуланова упрекали в запоздалом подражании Джойсу. У него, как и у ирландца, действие разворачивается на протяжении одного дня. В жилах главных героев обоих романов течёт еврейская кровь — индульгенция на отстранённость, а у Джойса — ещё и кивок на Вечного Скитальца, — и там, и здесь, внутренний монолог важнее антуража, и там и здесь они тесно переплетены. При этом «Троада» в такой же степени, как «Улисс», претендует быть парафразой гомеровских песен. Однако этим сходство и ограничивается. Трагедия его народа, обречённого на вестернизацию, чересчур сильно ощущалась Гулановым, чтобы сводить свой эпос к постмодернистской игре.
Роман труден для чтения, слова кивают друг на друга, эпизоды перекликаются.
Дальнейшее служит ключом к его кодам.
Гл. 1 («Язва. Гнев»). Роман открывается ссорой между английским журналистом Артуром Хиллом и баптистским проповедником Аароном Тридом. Причиной ей служат прелести их русской знакомой, «румяноланитной девы» — гомеровский эпитет Хризиды. Из их спора выясняется, что они помогают брату Аарона, Менахему, разыскивать в Москве его бывшую жену Троаду сбежавшую с русским художником. Гомеровский план: распря Ахилла с Атридом из-за Хризиды. Одновременно с этим Громов (Гектор) в мастерской своего сводного брата Александра (Парис) видит незавершённый портрет Троады.
С. 9. …греки, предпочитавшие устное слово письменному, Сократа — Платону… — Разделяя мнение Сократа о гибели слов, запечатлённых с помощью алфавита, Гуланов называл литературу историческим зигзагом, обусловленным выбором мнемотехники. С появлением иных способов фиксации живой речи, считал он, возвращается естественный ход вещей — люди перестают читать. Именно поэтому замечание Хилла о том, что сейчас «повально все страдают алексией», вызывает снисходительную улыбку проповедника. «Православные страдают патриархом», — каламбурит Трид (Алексий II — патриарх всея Руси в 90-х гг.).
С. 10. …так Троада или Елена?! — Недоумение Громова, вызванное путаницей в именах девушки, отвечает двойному названию Города у Гомера — Троя и Илион, совершенно необъяснимому. Елена — очевидное соответствие Елене Аргивской.
С. 11. …живём, чтобы подтвердить несколько старых истин… — Перекликается с высказыванием Борхеса: «Мы явились, быть может, лишь для того, чтобы произнести несколько старых истин».
…не мы писали мировой роман., нам остаются комментарии… — Эта фраза будет повторена Созерцателем из сна Громова (см. гл. 9). «Мир — это книга Аллаха, где мы замурованы буквами», — говорили и суфии. Ещё один её источник: книга-лабиринт Малларме.
С. 12. …это было как амок, как солнечный удар… — Александр, соблазнивший Троаду, приводит себе в оправдание примеры из литературы: «Амок» — любовная новелла Цвейга, «Солнечный удар» — рассказ Бунина о любви. «В книгах пишут лишь о других книгах, — высказывался в этой связи Гуланов, — поэтому персонаж обязан мыслить парадигмами литературы, быть внутри её мира, не выходя в иные реальности».
Гл. 2 («Сон. Перечень кораблей»). Под влиянием винных паров Аарону Триду приходит мысль выступить с публичной проповедью. Готовясь к ней, он неожиданно засыпает, но и во сне, возбуждённый, продолжает перебирать список духовных рыцарей Запада, ополчавшихся на восточных схизматиков. Гомеров план: обманчивый сон Агамемнона, внушённый Зевсом, перечисление греческих воителей, прибывших под Трою.
С. 12. …прыгнувший не на тот щит флорентиец… — Гуланов, вероятно, имеет в виду митрополита Исидора (XV в.), сторонника Флорентийской унии, которого он сравнивает с первым греком, коснувшимся троянской земли, поплатившимся за это жизнью Протесилаем. (Помня о грозном пророчестве, Одиссей, увлекая других, прыгнул на свой щит.) Исидор первым попытался пробить брешь в духовной завесе Московии, неудачный опыт его был вскоре забыт, на это и намекает Гуланов. Однако митрополит не был флорентийцем — тут Гуланов ошибается.
С. 17. …миссия к раскосым пронырливого иезуита… — Итальянца Плано Карпини, направленного Папой в ставку монгольского хана. Карпини, однако, принадлежал к ордену францисканцев.
…свора лефортовцев… — иностранцев, приглашённых в Россию Петром Великим.
С. 21. …триада, Троица, Троада… — Гуланов обыгрывает внешнее созвучие слов-символов: христианского и эллинского, привнесённого им на русскую почву.
С. 22. …Пётр — это архетип автократического реформатора, воин Мира, на два с половиной столетия остановивший агрессию Запада… — Цитата из книги Тойнби «Мир и Запад». Гуланов считал себя убеждённым тойнбианцем, приводя «Столкновение цивилизаций» в качестве объёмистого эпиграфа к своему роману. Однако, несмотря на то, что «глаза читающих “Столкновение цивилизаций” быстро тойнбизируются», он упрекал её автора в пристрастности, выдавая тем самым грех собственного патриотизма.
С. 28. …эпоха вестернизации исключает возможность сохраниться… на туземцев дуют жестокие ветра… — Грозные слова, которые снятся проповеднику Триду — это гулановская сатира на того же Тойнби, как и вымышленная «австралийская» поговорка: «Плывёт Кук, счастье аборигенов!»
…в тысячный год Хиджры, в первый день месяца без богов… — Сумятицей в летосчислении Гуланов следует законам сна, смешивающего наши знания.
Гл. 3 («Клятвы. Смотр со стены. Единоборство Александра и Менелая»). В мастерской АлексаJ сандра Громов застает Менахема Трида. Колкостям Александра и Менахема в Гомеровом плане соответствует поединок между Парисом и Менелаем. Громов в разговор не вмешивается, но после ухода Менахема клянётся разыскать Троаду.
С. 39. …сказав «веселие Руси есть питие», он закусил мочёным яблоком… — Кандидаты на ассоциацию с Парисом меняются: это и сам Александр, а в контексте разговора — Владимир Красное Солнышко. Суду Париса отвечает, таким образом, выбор Святым князем религии. Выбирая между исламом, иудаизмом и христианством, он отдал «яблоко» последнему.
С. 40. …зело бо бояхуся и имени татарского. — Ироничный ответ Александра заимствован из новгородской летописи XIII в., где сообщается, что ливонцы запросили мира, узнав о приходе в Новгород монгольского отряда. Александр намекает на крестовые походы против православных. Недаром этот герой Гуланова работает библиотекарем. Любопытно в связи с этим и замечание, оставшееся в дневниках Гуланова: «Когда устают от имён, которых не встретишь на улице, когда надоедают слова, давно утерявшие повод, по которому были сказаны, тогда они начинают ныть, точно занозы, требуя быть произнесёнными».
…его запоздалое предостережение «Троянский конь, или западня Запада»… — Так называлась статья самого Гуланова, помещённая в журнале «Патриот».
С. 41. …сор из избы… народ, сумевший навязать миру свои проблемы… — Намёк на христианство, которое, по мнению Александра, не более чем еврейская распря, в которую вовлечены соседи.
С. 42. …жирные господа с монеткой вместо головы… — Такая карикатура на толстосума была помещена в том же номере «Патриота», что и статья Гуланова.
…самая обширная из империй, самая совестливая из литератур… — Строчка из статьи Гуланова «Россия: между пространством и временем».
С. 43. …всехудожники с ущербом, что швейцарец, что кузнечный бог эллинов… — Швейцарец — К. Г. Юнг, трактовавший творчество как компенсацию невротических процессов; покровитель ремёсел у греков был хромым.
…стихия архитектуры — пространство, стихия музыки — время, вечность против длительности, незыблемость против страсти, — не потому ли детское стремление к абсолюту вылилось у Средневековья в величие готики и беспомощную скуку клавесина… — По признанию Гуланова, эта «красивая, но спорная мысль» заимствована им у одного блестящего эмигранта. Я обнаружил её чуть позже в работе Бицилли «Элементы средневековой культуры».
С. 45. английская совесть… — Гулановский эвфемизм её отсутствия. Ср. с «русской» поговоркой на стр. 46: «Английская совесть деньгам не помеха!»
…любовь к парадоксам — это завуалированная склонность к бунтарству, тяга к ортодоксии подразумевает послушание… — Фраза пародийно перекликается с некоторыми высказываниями представителей французской «бунтующей школы».
С. 47. …коммунистическая идеология поздней Советской империи лежит в русле традиционного хилиазма, вспомните пророчества иоахимитов… — Иоахим Флор-ский, цистерцианский монах XII века, развивал учение о Троице, имеющей протяжённость во времени: о Боге-Отце возвещает Ветхий Завет, о Боге-Сыне — Новый; мир, таким образом, пребывает в ожидании прихода Святого Духа, которым и венчается человеческая история. Гула-нов отвергал популярные в его время параллели между советским режимом и рабовладельческим строем (в качестве парадигмы тогда почему-то был особенно моден хрестоматийный пример платоновского государства), вслед за Бицилли он считал Республику Советов прямой наследницей Средневековой культуры, её реликтом, последним рецидивом её мышления.
…тори и виги, гвельфы и гиббелины, арманьяки и бур-гильонцы — для современного школяра все они одного поля ягодки, спорящие о яичной скорлупе… — Противоборство партий увидено Александром в свифтовской интерпретации, которая неизбежно берёт верх с течением времени, превращая любые разногласия в спор о разбивании яйца. Прозрачный намёк на российских демократов и сторонников сильной руки.
Гл. 5 («Подвиги Диомеда»). Громов и Александр попадают на гастрольный концерт группы «Даймонд». Утро оглушает их звуками рок-н-ролла. Музыканты в ударе. Вокруг много подростков. Одного из них пришла забирать мать, но застыла в растерянности. Гомеров план: аргосец Диомед, вдохновлённый воинственной богиней мудрости, поражает троянцев. Эпизод с Энеем, которого он ранит, а потом — и его пришедшую на помощь мать — богиню любви. Гуланов по-своему интерпретирует Гомера, ему видится здесь аллегория, почти библейская: Мудрость, убивающая Любовь.
С. 67. …музыка не наших улиц казалась нам чем-то большим, чем музыкой для вечеринок — срабатывал эффект запретного плода… — Громов принадлежит к поколению, молодость которого пришлась на эпоху гонений западного рока. «“Дети цветов”, пережившие бунт 68-го года на своих подоконниках», — писал о своём поколении Гуланов.
…эпоха шоу-бизнеса, эта эпоха Герострата… — Аллюзия на мою новеллу «Апология Герострата», включённую в данный сборник.
…достиг рокового, если верить барду, возрасту поэтов… — То есть тридцати семи лет, рубеж которых не перешагнули, как пел Высоцкий, Пушкин, Байрон и Рембо.
…отвернулишею на Нью-Йорк…. — Нью-Йорк, безусловно, выступает здесь метонимически, страницей раньше сообщается, что ансамбль «Даймонд» из захолустного Арканзаса.
…очутился снова в СССР… — Аллюзия на известную песенку «Битлз».
…вырождение наций, унификация мира — унылое грядущее человечества… — Программные пункты статьи Тойнби «Унификация мира».
…сидит дуче в навозной куче… — Эта итальянская песенка Второй Мировой — выдумка Гуланова.
…ныне дерзай, Диомед, и без страха с троянами ратуй!.. — «Илиада», V, 120.
… фатум увертюр сменился фатумом рока… — Александр язвительно каламбурит, обыгрывая созвучие «судьбы» и английского «рока», а также название увертюры Чайковского «Фатум».
…тебя отгонят слепые и хромые… — 2-я Книга Царств, V, 6.
Гл. 6 («Свидание Гектора с Андромахой»). Громов возвращается домой. Но бывшая жена СJ выставила его вещи. Этим гомеровская канва выворачивается наизнанку. В отличие от героики древнего текста, в повествовании Гуланова разлиты ирония и скепсис — спутники беспомощности и растерянности.
С. 89. …и, разжигая камин, воскликнул: «Нехочу, чтоб и черновики доставались чёртовым критикам!» — Шутливая аллюзия на гоголевское: «Не хочу, чтоб и люлька досталась чёртовым ляхам!» («Тарас Бульба»).
…излюбленная метафора пустозерца… — протопопа Аввакума: «аки пёс на блевотину».
С. 96. …у дуба на Покровских воротах… — То, что Громов прощается с женой именно здесь, неслучайно. Гектор расстаётся с супругой у дуба Скейских ворот. Громов знает, что обречён на безуспешные поиски Троады, точно так же, как знает о своей гибели Гектор.
…прибывшие на остров земли… — Аллюзия на притчу суфиев об утерянном рае, один из бесчисленных вариантов архаического мифа о возвращении, который я переложил в данном сборнике (см. новеллу «Остров»). В одном из черновиков Гуланова Громов-дервиш так рассуждает о «цивилизации укоренения»: «Западный ветер навевает забывчивость, превращая нас, гостей, в хозяев. Со времён первобытных, когда луна ещё не болталась на небе куском метеорита, но плыла рыбой или богом, человечество основательно обжилось в чужом доме. Цивилизация же потребления окончательно заслонилась от “проклятых” вопросов, со времён Реформации она, точно проститутка, подменила “зачем?” на “сколько?”. Вполне естественно, что жизнь после этого превратилась в фабрику жизни, в черту между числами на приготовленной заранее могиле…» (В замечании о Реформации чувствуется влияние Макса Вебера, однако, в своеобразной, гулановской интерпретации.)
…время, в сущности, всегда определяется главным — отношением к смерти: античность противопоставляла ей мужественную стойкость, Средневековье — благоговейную надежду, мы — забывчивость и обилие впечатлений… — Эту фразу любил повторять прикованный к постели автор «Троады».
Гл. 7 («Единоборство Гектора и Аякса»). Близится полдень. Простившись с женой, Громов СJ отправляется перекусить. За столиком он разговорился с грузином, «сыном Телави», как тот называет себя. Жарко. Обоим хочется спать. Тема беседы — особый путь России — вялое пережёвывание мыслей «славянофилов» и «западников». Позиции сторон при этом часто меняются, как и положено в бесконечном русском споре. Заканчивается всё рюмкой водки, которую пьют на брудершафт. Гомеровский план: Гектор и сын Теламона, Аякс, после поединка расстаются друзьями.
С. 101. …ласкающее дикостью имя… — Аллюзия на строку Вл. Соловьёва: «Панмонголизм, хоть имя дико, но мне ласкает слух оно», — эпиграфу к блоковским «Скифам». Модные в начале века рассуждения о позитивном влиянии монгольского ига на Русь, вложенные Гулановым в уста Громова, по его собственному признанию, почерпнуты из «весьма скудных источников»: «Наследие Чингисхана» (Взгляд на русскую историю не с Запада, а с Востока) анонимного автора, «Монгольское иго в русской истории» и «Начертание русской истории» проф. Вернадского, «К проблемам русского самопознания» Н. С. Трубецкого и, наконец, «Чингисхан как полководец, и его наследие» Эренжена Хара-Давана, откуда, в частности, заимствован термин «монголосфера».
…византийская соборность как антипод европейского индивидуализма, татарская общинность как преграда эгоцентризму Запада… — Традиционные мотивы в славянофильской аргументации.
С. 104. …два дранг нах остен, галльская кампания двунаддесять языцев и польские походы стоят, согласитесь, одного набега… — Набега на Европу Батыя в 1238–1240 гг.
…добровольный раб — уже философ… — Намёк на Эпиктета, стоика, не пожелавшего брать свободу. Он говорил, что забота о куске хлеба для Эпиктета пусть лучше будет у хозяина Эпиктета, чем у него самого.
…поменьше критики, поменьше рефлексии… — «Трагедия русского народа состоит в том, что у него чересчур сильно развито критическое начало, — считал Гуланов, — но в этом и его величие».
С. 107. …Юстинианов век кончился в девяносто первом, но наступят ли реформы Ираклия… — Имперский век Юстиниана сменился в Византии, после царствования Ираклия, скромной политикой обороны. Это позволило ей существовать среди варваров и ислама ещё тысячу лет. В пылу спора Громов проводит параллель между крахом юстиниановой мечты о всемирной империи и крушением 91-го года. Однако он и сам не очень верит в то, что говорит. Недаром в своей речи он чересчур часто — пять раз на четыре абзаца — употребляет выражение «дал маху». Используя этот фрейдовский приём, Гуланов выражает своё пренебрежение ко всякого рода историческим параллелям. «Происходящее здесь и сейчас — считал он, — происходит только здесь и сейчас».
…вечные колебания между Эфиальтом и Сократом, между старухами и мужами… — Имеется в виду частая смена в Афинах демократического способа правления, за который выступал Эфиальт, олигархическим, сторонником которого был Сократ. В числе доводов последнего был и такой: «Когда мы хотим хорошо пообедать, мы приглашаем повара, когда побриться — брадобрея. Так почему же, афиняне, в делах управления мы одинаково доверяем старухе и искушённому государственному мужу?»
С. 111. …вопрос ближайшего будущего: либо Ам. ерика национализуется, либо весь мир станет Америкой — Иваном, не помнящим родства… — «Типичная для наших болтунов фраза», — писал в её связи Гуланов. Однако он и сам произнёс её в стенах Русского Социологического Общества во время доклада «От Бога — к компьютеру».
С. 121. …болезнь духа проявляется в невротической реакции революций… — В сущности, Громов выступает здесь гегельянцем, неявно соглашаясь с тем, что всё данное нам в качестве исторических «событий» и «состояний» есть только объективизация духовных процессов.
…просто мы читали с вами разные книги… — Гуланов и сам приводил обычно этот шутливый тезис как основную причину интеллигентских разногласий.
С. 133. …уповаю на необычайную талантливость молодой русской нации… и… культурный провинциализм России… — Эти словосочетания звучат смешно в устах соответственно «западника» и «почвенника». Путая исходящие адресаты, Гуланов придаёт сцене сатирический оттенок.
Гл. 11 («Подвиги Агамемнона»). 5 часов дня. Аарон Трид читает проповедь в бывшем Английском клубе. Гомеров план: помимо прямых параллелей с бранными подвигами Агамемнона здесь обнаруживается ещё и перекличка со Второй песней, где описывается народное собрание и эпизод с Терситом, дерзким горбуном, которого одёргивает Одиссей. У Гуланова Одиссей — председательствующий, Терсит же не персонифицирован, это вездесущий, вечно недовольный Ропот.
С. 146…Кто здесь терсит? — Председательствующий плохо говорит по-русски, в результате его «Кто здесь дерзит?» превращается в каламбур.
…история, с точки зрения нашего Немого Собеседника… — Диалог подразумевает насилие, а молчащий Бог предоставил нам свободу воли — к этому сводится проповедь Трида. Однако его высказывания можно истолковать и в ином свете. Вот отрывок из письма Гуланова: «Дорогой друг, в последние дни, быть может, в связи с необъяснимым упадком духа, я всецело предаюсь философствованию. В частности, размышляю над тем, что наша история — это история, увиденная людьми, — и отсюда смутное ощущение её бессмысленности. О том же, что было истиной, о том незримом движении душ ведомо лишь Богу».
С. 148. …что может поведать мне этот мешок с костями?…..чванство нашего современника… — Перекликается с замечанием автора «Троады»: «Если нас создал Бог, то, похоронив Бога, мы создаём себе богов».
…Элиаде или Илиада? В каком аспекте мы должны воспринять ваш миф?.. — Карикатурный образ глуховатого слушателя, стремящегося любой ценой навязать диспут, вероятно, навеян Гуланову собственным лекционным опытом. Элиаде был известен Гуланову единственной изданной тогда в России работой «Аспекты мифа».
…наша гордыня — оборотная сторона беспомощности… — Обычный для средневекового теолога пассаж, в устах надутого, самоуверенного Трида приобретает пародийное звучание. при кораблях»). На Арбате Гро-оказывается втянутым в толпу бывшего режима. Сторонясь митингующих, он протискивается в первую попавшуюся дверь и оказывается в пивной, где видит знакомого литератора, с которым от растерянности затевает беседу о будущем искусства. Гомеров план прослеживается здесь ретроспекцией к Советскому Союзу, оттеснившему «ахейцев» за стену — железный занавес — к их собственным кораблям.
С. 182. …страх опустился на город ночью… — Обрывочная фраза, оставшаяся, по-видимому, от фантастической притчи, которую предполагалось включить в роман. Её рассказывает знакомый Громова: «Страх опустился на город ночью, когда большинство людей спало. Утром они глядели друг на друга невидящими глазами, стыдясь признаться, что в них проросли его зёрна». Зловещее вступление требует эффектной развязки. Однако ничего сверхъестественного не происходит. У обывателей всё как всегда. Только где-то глубоко в них зарыт ставший уже привычным ужас. Тема серенького апокалипсиса звучит и в ранних произведениях Гуланова, где сильны кафкианские мотивы.
С. 183. …любой хороший писатель — это писатель для юношества, взрослым остаются газеты… — Шутка, кочующая по многим эссе Гуланова.
…наша эпоха не Слова, но — слов, и, как следствие — их невостребованности… — Близко к высказыванию самого Гуланова: «Эсхатология литературы в XX веке походит на тихое увядание осени. Мы пришли к истине первобытного человека — искусство стало излишеством».
…литература «как бы», её девиз: «Читая, пишу!»… — Отражает мнение автора «Троады». «Деятельность тружеников пера, — считал он, — состоит теперь в том, чтобы зачёрпывать вёдра слов из реки уже написанного, относить вверх по течению и там с облегчением выливать. Вероятно, будущее осуществит идеал этих сизифов, когда создаст форму без содержания, купель без младенца, нечто, существующее лишь в рассуждениях о чём-то несуществующем и никогда не существовавшем, например, пьесу в мнениях о пьесе, философию в обсуждении философии, роман в комментариях к роману». Последнее, однако, было тайным замыслом самого Гуланова.
…как и положено в царстве обезьян, эстетика масс-культуры вращаешься вокруг гениталий… — Выражает известное отношение автора к наступлению эпохи «читбур-геров». «При слове “бестселлер” Гуланов демонстративно морщился, поворачиваясь к говорившему спиной, — вспоминает один из его друзей, — он был последним рыцарем изящной словесности, так и не опустившимся до того, чтобы писать для толпы».
…свалка культуры, помойка, над которой дуют ветра имагологов… — Привлечённый Громовым образ — типичный для постмодернизма, термин «имаголог», законодатель вкусов, заимствован, очевидно, из романа Кундеры «Бессмертие».
С. 188. …слова могут дать не больше того, что в них вкладывают… — Ключевой тезис в эстетическом мироощущении Гуланова.
…писатель творит теперь для узкой секты читателей, в которую выродилась некогда могучая религия эпистолярности… — «Печальная констатация факта», — прокомментировал Гуланов это высказывание Громова.
…русскому трудно одолеть «Улисса», да и нужно ли, достаточно комментариев… — Выражает мнение огромного большинства рядовых читателей, сломавших зубы об ирландскую скалу.
… роману — памятнику эрудиции… — Так иногда называл и Гуланов своё детище, над которым работал около семи лет. «Роман воздвигнут на горе книг, — говорил он, — уберите их, и он рухнет».
…в пространстве языка ещё много места… — Ср. с шутливым высказыванием математика Маклейна: «Господа, в гильбертовом пространстве остаётся ещё много места!»
…читай «Троаду»… — Ссылаясь на собственное произведение как руководство для своих героев, Гуланов замыкает круг, строя дурную бесконечность.[33]
Искусство ремесла
ПСАЛОМ 61
Царь, гонимый другим царём, складывает в пещере рифмованные строфы. Завёрнутый в звериную шкуру, он тихо шевелит губами. Говорит ли он с Богом? Или божество говорит в нём? Еврейские слова, подобранные им для кимвалов и цитр, будут повторены на бесчисленных языках. Разделяя отчаяние царя, их будут распевать потомки, ими будут освящать колыбель и могилу. Но царь не знает, что станет пророком, что из его народа выйдет Бог, поведавший о рае, а овраг у иерусалимской стены, в котором сжигают мусор, даст имя аду. «Сыны мужей — ложь, если положить их на весы, все они вместе легче пустоты», — негодует царь, тряся длинными волосами.
Любовь, ненависть, зависть, предательство, ложь и вероломство — неточные слова, которые вряд ли отражают жизнь. Её программируют иные коды, о которых мы едва ли догадываемся. Но, быть может, на земле мы находимся в изгнании? И потому признания царя так трогают нас?
ПОДЪЁМНИК
Культура насчитывает множество образов. Один из них такой. Длинная лента эскалатора поднимает на скалу. Мимо плывут облака, ущелья, ливни, скользят эдельвейсы, тёмные луны, молчаливое небо, ропщущие реки и шепчущие дожди. На подъёмнике знают, что за скалой — пропасть. И, отвлекаясь, смотрят в окно, переговариваются, фантазируют.
Эти фантазии и есть культура.
МОЙ ДРУГ ИВАН ЗОРИН
Мы разные. Я молчалив, он с упоением играет словами. Меня волнуют житейские невзгоды, его — неудачно составленное предложение.
И я часто смеюсь над ним.
Но друзей — увы! — не выбирают. Так случилось, что с годами он стал моей тенью. Когда я гуляю в парке, его щебетанье о литературных замыслах не даёт слушать птиц. Он без устали твердит, что писатель — это моллюск, беременный жемчужиной, исключительно редкий экземпляр в бесплодном стаде двустворчатых! Не выдержав, я однажды заметил, что эти перламутровые соринки — опухоли, но его гордая утончённость не уловила иронии.
Я ленив и не собран — он скрупулезен до мелочей. Я страдаю от невыдержанности — он всегда невозмутим. Это странно, ибо он на четверть века моложе меня. Хотя моя жена считает его старше. Находятся и те, кто нас путает, будто близнецов.
Детей у него нет. «Каждый найденный оборот, — шутит он, — мой блудный сын». А я ревную, наблюдая, как в глазах сына его авторитет становится больше моего.
Любопытство превратилось у него в страсть, болезненную жажду всеведения. Он постоянно что-то изучает, что быстро сменяется другим, и мне порой хочется крикнуть: «Эй, когда же ты, наконец, будешь знать?»
Я верю в Бога — он атеист, утопающий в метафизической болтовне, мой Бог — Слово, его — слова. Он полагает, что человек культуры, вроде него или — странное причисление — меня, своим существом обязан прошлым мыслителям. Порой мне кажется, что он настолько глуп, что и в самом деле думает, будто интеллект спасёт мир, а иногда, что это — только маска.
Я веду дневник, куда безыскусным языком, в котором преобладают местоимения, заношу мелкие события. Его чтение избавляет меня от иллюзий, прошлое предстаёт таким же серым и унылым, как настоящее, и это придаёт последнему надёжности. А вот что появилось в его записной книжке на букву «в» после очередной прогулки в осеннем парке, заполненном вороньём:
«”Враньё — вороньё” — пример затасканной рифмы; «Ворон» — стихотворение По; Вернувшийся посланец — ворон Упатнишима, не вернувшийся — ворон Ноя, благословенная птица вавилонян стала проклятой у иудеев, — если понадобится демонстрировать смену культурных парадигм; Ворон — изобретение римских корабелов эпохи Пунических войн; Вещие вороны Одина — Хугин и Мунин; Ворон кельтского бога Луга; “Чёрный воронок” — символ в мифотворчестве XX века; “Воронье гнездо” — бочка на мачте, см. “Моби Дик”; “Ворон ворону глаз не выклюет” — пословица, от которой несёт Островским; “Проворно, как ворон” — из логопедического теста; Насмотревшись Хичкока, вороны начали стаями нападать на людей — великая сила искусства!; Ворон на шлеме Афины; Вороны-солнца, убитые, к счастью, китайским стрелком И; “Воронье царство” — синоним “сонного”?; Ворон, предсказавший смерть Цицерону; “Жирная ворона” — встречается всё реже; “Белая ворона” — положение, в котором вечно оказываешься; “Попалась, ворона!” — кричали ляхи — Н.В. Гоголь “Тарас Бульба”; Воронёная сталь (зачёркнуто); “Ворона каркнула во всё воронье горло, снег выпал…” (зачёркнуто); Будда о воронах: “Вороны рождаются, каркают и умирают”».
Меня ужасает смерть, неизбежность небытия, его же — смерть его книг, забвение имени. Моя биография умещается в нескольких анкетных ответах. А вот что написано у него на букву «я»:
«Мне нравится: у Флобера — «Саламбо», шестьдесят первый псалом, июльский дождь, старые детективы, шахматы, японская проза XVII века, пинг-понг, Рильке, безлюдные залы библиотек, вестерны, моё одиночество, Книга Иова, когда приходит желание писать, когда оно уходит, футбол, то, что жизнь даётся раз, многое, о чём я не подозреваю.
Мне не нравится: работать, скучать, то, что третьего здесь не дано, слишком яркое солнце, ждать, то, что я слишком часто лгу, политика, когда приходит желание писать, когда оно уходит, моё затворничество, перемены, в литературе — неискренность, у неба — голубой цвет, когда спорят, толпа, газеты, завтрашний день, многое, о чём я не подозреваю.
Я завидую: нищим духом, тем, кто не думает о смерти, смеющимся, кто верит, что не одинок, убеждённым, пьяницам, азарту картёжников, питающим иллюзии, их утратившим, старикам, младенцам, неграмотным, родившимся под счастливой звездой, никому, себе, тем, кто не плачет».
По утрам, когда я выкапываю себя из глубин сна, мне кажется, что я — Зорин. И становится невыносимо.
ПРОШЛОЕ, БУДУЩЕЕ
Ахилл не увидел падения Трои. Филипп Македонский не узнал о подвигах сына. Александр не ведал о Цезаре, Ромул — о Ромуле Августуле. Наше прошлое было чьим-то будущим, свершившееся — чьим-то несовершённым. Спартанцы в Фермопилах не помышляли о Платеи, умерший в безвестности Ван-Гог — о мировой славе. Нашим предкам, как и нам, судьба отпустила лишь грёзы, которые нарекают прозрениями. Они видели сны, выдаваемые за знания, и призраков, принимаемых за реальность. Вестники на горизонте, мы — их mysterlum fascinans[34], их привидение, их мираж.
И кому, как не нам, оценить меру их заблуждений.
Веря в прогресс, мы полагаем, будто память наших политиков содержит больше памяти Митридата Евпатора, вершившего суд на двадцати двух языках своей империи. Мы считаем, что опыт наших заключённых богаче, чем у узника св. Елены, а знания учителей превосходят ньютоновские.
И не задумываемся о высокомерии потомков.
Всемирную историю для нас обрывает смерть. Царь Пётр мог лишь прорицать век Екатерины, Фридрих Великий — лишь пророчествовать Бисмарка, а Толстому в сумерках времён не дано было разглядеть две мировые войны, апокалипсическую смуту и скорое осуществление своей мечты — уравнение вне христианства. Примерам здесь несть числа, ибо прошлое, то сбывшееся прошлое, которое для кого-то было будущим, нарастает бесконечно (кто знает, что произошло, пока читаются эти строки?).
Моему отцу не довелось увидеть внука. Увидеть правнуков удаётся единицам.
История — жестокая сиделка. Рассказав сказку до положенного места, она укладывает спать, не внимая ни слезам, ни проклятиям.
МЕТАФОРА ЧЕРЕПАХИ
Она с бессмысленным упрямством тычется в стенки аквариума. Устав, ложится на дно, задыхаясь, всплывает на поверхность. Не мигая, смотрит на зажжённую лампу, мой палец, письменный стол, цветок в горшке. Панцирная крепость прячет её страхи, у неё есть имя, о котором она не подозревает.
Раз в день ей меняют воду. Вытаскивают, аккуратно перевернув на спину, чистят. Шевеля косым ртом, она вытягивает тогда морщинистую шею. Ей не постичь ни цели своего пребывания в моей квартире, ни меня — своего бога. Она плачет, но бог не видит её слез, она молится, но он не слышит её молитв!
Бедное создание, которому хозяин мстит за то, что не в силах вырваться за границу обстоятельств, за решётку мирских законов, мстит за их скорбное однообразие, за бессмысленное пребывание на задворках Вселенной.
ABSOLUTE ET RELATIVE
Есть писатели, уловившие дух своего времени. Они обращаются к той социальной группе, к которой обычно принадлежат сами, а потому удачно выражают её настроения. Отвечая её вкусам, они вызывают интерес, их имена становятся на слуху. Они обретают прижизненную славу, к ним относятся слова «известный» и «модный».
Таковы Хемингуэй, Сартр и наши шестидесятники.
Но они быстро устаревают.
Как можно было зачитываться Фолкнером или Кортасаром? А восторгаться Трифоновым?
Книги умирают с поколениями.
Но есть и другая категория писателей. Они видят человека без одежд его времени, освещённым вспышкой между двумя бесконечностями. Монтень из далекого 1580 года обращается к будущему читателю с уверенностью, что «Опыты» окажутся тому близкими: и его мысли, и его сомнения, и его каменная болезнь. Трагическое чувство жизни Мигеля де Унамуно, горькая ирония Свифта и признания блаженного Августина разделят ещё множество поколений. Откровения Достоевского, Толстого и Чехова будут волновать не только русских. С некоторой долей условности перечисленных можно назвать религиозными писателями.
Их книги не останутся лежать мёртвыми на полке истории.
Впрочем, близкое человеку нашей цивилизации, чуждо иным. Древний египтянин, представитель культуры, просуществовавшей на тысячу лет дольше нашей, вряд ли бы понял, о чём идёт речь. Забвение для него было предпочтительнее памяти. Даже могильный вор получал снисхождение, если усопшего не помнили. Это значило, что он стал богом. А грабители, исполняя его волю, раздают его имущество.
Приведённый пример делает смешными все разговоры об общечеловеческих ценностях. С другой стороны, Исида мстит за Осириса столь же яростно, сколь и Кримхильда за Зигфрида или Ольга за Игоря.
Можно ли говорить об архетипах наших страстей?
Или следует провозглашать их неповторимость?
Незыблемость Моисеевых заповедей поколебал Христос. Средневековую убеждённость в Нагорной проповеди расшатали крестовые походы. Видимо, в истории есть времена устойчивых взглядов, которые сменяют эпохи, открытые всем ересям. Торжество Абсолюта таит в себе зерно Относительности, победа Относительности пробуждает тягу к Абсолюту.
Это зыбкое равновесие и определяет восприятие мира.
КОШМАР
Мне снилось, что я пишу книгу. Во сне я отчётливо представлял её содержание, особенно ту сцену, в которой герой, а рассказ ведётся от первого лица, спал и видел сон, в котором писал книгу. Этот новый сон и книга отождествлялись, рождая дурную бесконечность: во сне писалась книга, в которой описывался сон о том, как писалась книга…
Сюжет требовал ослепить героя, и воображение рисовало мне картину. Стояла глухая ночь, за окном в кромешной тьме глохло эхо. А в комнате, похожей на мой кабинет, собрались заговорщики. Их мрачные лица, вырванные свечой из темноты, не сулили пощады. Это персонажи, которым я придумывал судьбы. И среди них тот, кого нужно было ослепить. Он говорил, а остальные кивали. Речь шла обо мне. Поймав его торжествующий взгляд, я вдруг догадался, что тоже нахожусь в комнате, сгорбившись за столом, пишу книгу. Меня коснулась рука, в холодном поту я услышал издевательский голос: «Зорин, твоя жестокость заставляет упреждать, из страха, поверь, только из страха, мы приговариваем тебя…»
И тут во сне, или в книге о сне, я с ужасом понял, что герой, которого нужно ослепить, — это я. Я ещё отважился на крик — не его ли эхо тонуло в кромешной тьме? — прежде чем проснулся. Слепым.
ЭВОЛЮЦИЯ ОДНОЙ ИДЕИ
Атис калечил себя во Фригии. Один в Скандинавии, пригвоздив себя к дереву, пожертвовал собой Одину. Египетский Ра удалился от дел, когда пришёл срок. Античные герои склоняли голову перед роком, их боги покорно слушали приговор Судьбы. Но у них не было выбора. Вопрос о добровольном самоотречении впервые поставил Христос. «Спаси Себя Самого, если Ты Царь Иудейский», — кричали Ему. Он безмолвствовал.
Отголоски Его молчания мы встречаем у гностиков. Идея Всемогущего Бога, гибнущего на кресте, покорила мир. А вот её преломление в трёх литературных текстах.
Первый, византийский, повествует о монахе, который живёт в пустыне, но слава которого выходит далеко за её пределы. Однажды к нему врываются разбойники. Они наслышаны о его чудесах и хотят их увидеть. Сначала они насмехаются, надеясь вывести его из себя и заставить прибегнуть к чуду. Но монах лишь молится. Они прибегают к побоям. Монах непоколебим. Тогда они грозят его убить. Святой выдерживает испытание, он всегда готов к смерти. В дальнейшем рукопись допускает разночтение. То ли изумлённый вожак останавливает товарищей и, покаявшись, обращается в православие, то ли небо посылает ангела, перед огненным мечом которого все падают ниц.
Вторым будет рассказ Борхеса «Роза Парацельса».
В нём идёт речь о том, как юноша приходит к знаменитому учёному, обладающему, как говорят, философским камнем. Пришедший заявляет, что ищет Смысл и хочет стать учеником чародея. (Перед его приходом Парацельс как раз молит небо, чтобы оно послало помощника.) Однако юноша хочет доказательств, требуя сотворить чудо. Парацельс отказывается, уверяя, что его учение состоит не в этом. Он рассуждает о Рае и Аде, Грехопадении и Вечности. Но юноше претят слова, он бросает в огонь розу, требуя воскресить её. Парацельс довольствуется рассуждением о розе как о платоновском архетипе, замечая, что в мире ничего не исчезает, потому что ничего и не возникает. Юноша называет его шарлатаном. Но и это не действует. В конце концов, юноша уходит, убеждённый, что Парацельс — бессильный лгун. Оставшись в одиночестве, Парацельс творит короткое заклятие, и из пепла возникает роза.
Наконец, в самом длинном из произведений Хармса «Старуха» герой сочиняет рассказ, который представляется ему гениальным. (При этом, как и положено в жанре абсурда, все причинно-следственные связи вывернуты наизнанку: он хочет взять перо и бумагу, но хватает посторонние предметы, стремясь сесть за стол, ложится спать.) В тексте содержится краткая парафраза этого вставного рассказа. «Это будет рассказ о чудотворце, — узнаём мы, — который живёт в наше время и не творит чудес. Он знает, что он чудотворец и может сотворить любое чудо, но он этого не делает. Его выселяют из квартиры, он знает, что, стоит ему только махнуть пальцем, и квартира остаётся за ним, но он не делает этого, он покорно съезжает с квартиры и живёт за городом в сарае. Он может этот сарай превратить в прекрасный кирпичный дом, но он не делает этого, он продолжает жить в сарае и, в конце концов, умирает, не сделав за свою жизнь ни одного чуда».
МОЛИТВА
Господи, Сущий на небесах, заключивший нас в тела, времена и судьбы!
Прости Себе долги наши, как и мы прощаем Тебе участь нашу. Ибо не виноват Ты в делах рук Своих, как не волен никто в своих замыслах. Не стыдись же сотворённого и не кайся в содеянном! И не молчи перед детьми Своими, как молчат могилы отцов их. Ибо легче сомневаться во всемогуществе Твоём, чем уверовать в чёрствость Твою!
ЛОГИКА
Одному греку предсказали смерть у городских ворот со сверзившимися львами. «Я буду жить вечно! — обрадовался он. — Достаточно не выходить за ворота». И, приказав зажарить быка, пригласил друзей. После пира он почувствовал себя разбитым и уснул. Друзья решили, что он заболел, и хотели позвать лекаря, но выяснилось, что тот отправился в соседнюю деревню. Они положили хозяина дома на носилки и понесли навстречу. В городских воротах на них обрушилась статуя льва.
ЧИТАЯ СЭЙ-СЁНАГОН
Читая Сэй-Сёнагон, думаешь, почему её иероглифы сохранили свежесть. А Мурасаки-Сикибу — нет. И Цураюки — нет. Это странно. Будущее, как женщина, капризы которой не угадаешь.
Кто может быть назван счастливым?
Женщина, обретшая возлюбленного.
Одолевший врага сёгун.
Ребёнок, запустивший в небо бумажного змея. Сэй-Сёнагон. То, что её записки отвечают нашему вкусу, — большая удача.
БЛИЖНЕВОСТОЧНОМУ ХУДОЖНИКУ II ТЫСЯЧЕЛЕТИЯ ДО Н.Э
На перекрёстке Африки и Азии, где текли реки, названия которых теперь неизвестны, ты склонился над гончарным кругом. Ты лепил вазы, расписывая их ревущими животными. Ахейцы тогда штурмовали Трою, Исида мстила за Осириса, а Гильгамеш искал средство бессмертия.
Ты видел луны, пески, солнца, наблюдал облака и считал звёзды. Тебя окружали мифы, лица друзей и врагов, страсти, которые скрашивают жизнь, и боль, которая её отравляет. Ты встречал рассветы, лёгкие, как птица, и закаты тяжёлые, как топор. Силу олицетворял для тебя бык, а слабость — рабское ярмо. Как и все, ты работал ради куска хлеба. Твои горшки — всё, что осталось от твоего царства, казавшегося тебе великим, и твоего бога, считавшегося вечным. Твои верования кажутся теперь суевериями, твоё имя, узнай мы его, ничего не скажет.
Но мы — фрагменты одной мозаики, которую ваял и ты.
ПАУК
Свив паутину, он слился с джунглями обоев.
Я следил за ним всё утро — он так и не шевельнулся. В нём было что-то от мертвеца. Или от Бога. Его паучье время свернулось в комок, замерло, уснув без снов, без надежд, без вожделений. Такой представляется беспредельность небытия, пугающая бездна одиночества.
Паук знает о своей включённости в небесный шифр, подчиняясь таинственному коду, который для нас выражают метафора или иносказание. Когда его сухим щелчком раздавит каблук визжащей женщины, он даже не поймёт, что умер.
Измученный бессонницей, я завидую этому воплощению смирения. Бесчувствие к ожиданию делает его короткую жизнь бесконечно длинной, отсутствие в ней томления — почти блаженной. Быть может, он обрёл счастье? Не то, что мы, с трепетом, волнением, ужасом ждущие то любви, то смерти.
ДРУГОЕ ПРОЧТЕНИЕ
Женщина сидела под тополем и горько плакала. Её спросили: «В чём причина твоих слёз?» «Если у меня родится сын, — ответила она, — то он будет непоседливым и непослушным. Однажды он убежит из дома и залезет на этот тополь. Но толстые ветви у тополя легко ломаются. И мой мальчик разобьётся насмерть! Вот я и оплакиваю его, прежде чем навсегда похоронить в сердце».
Этот ответ вызывает улыбку. Желание иметь ребёнка у женщины настолько сильно, что она, принимая воображаемое за реальность, не замечает сослагательного наклонения. Но разве мы сами не забываем о нём, когда прикасаемся к искусству, заставляющему рыдать или смеяться?
ЧАЙКИ
Я снимаю историю, которую пишут белые крылья, обмакнувшись в небесную чернильницу. Парение, крутые виражи, поцелуи с волнами. Натягивая невидимые нити, оптика делает птиц послушными, ручными. И когда-нибудь, вспоминая этот день, я заставлю их вновь чертить небо.
Быть может, и нас также снимает чья-то камера, и, сгинув, мы ещё вечность пребываем на её кассетах. А может, жизнь — это всего лишь кино, отснятое давным-давно, а теперь прокручиваемое ради чьих-то воспоминаний?
ЭЛЕГИЯ
Повернувшись спиной к настоящему, я смотрю в зеркало ушедшего. И едва различаю своё отражение. «Время дано лишь в сказаниях о времени, — успокаиваю я себя. — Настоящее постижимо только в мифах о настоящем». Но вижу, как свернувшийся у моих ног кот схватил юркое мгновенье, как стол четырьмя ножками опёрся о камень вечности, как рожь — в безразличной покорности, а гуляющий по ржи ветер — в свободе, обрели Сиюминутность, которая на земле значит то же, что Вневременность на небесах. И кот знает, что он — кот, стол, что он — стол, ветер, что он — ветер.
Мы не знаем. Лишённые непосредственности, обречённые на вечное ускользание простоты.
СОН
В нём я из последних сил перебираю руками тонкую проволоку, оставляющую во рту привкус металла. Я ползу по ней, как муравей. Мне негде остановиться, некуда свернуть. Иногда я замечаю впереди чью-то спину, но вскоре убеждаюсь, что это — мираж. По обочинам мне мерещатся пропасти, точно кисточка гримёра подвела пространству кривую усмешку.
У меня кружится голова, и я липну к кусающему холодом железу.
И тут Кто-то, огромный, как небо, и таинственный, как ночь, поднимает катушку с проволокой и, приблизив к глазам, смеётся. И я вижу, что ползу между катушечными валиками. Но не поперёк, а вдоль намотанной проволоки. Смертельно устав, я сделал лишь несколько витков.
— Короток путь истины, — гремит Голос, — короток и прям.
И тут из глубин сна я выныриваю к яви.
ПРЕЛОМЛЕНИЕ ОДНОГО ВЫСКАЗЫВАНИЯ
Христос, положив этим начало эбионитической традиции, сказал: «Удобнее верблюду пройти сквозь игольные уши, нежели богатому войти в Царство Небесное». Обличитель праздного меньшинства, апостол Павел комментирует Его изречение безусловным требованием: «Если кто не хочет трудиться, тот и не ешь». В Средневековье осуждение страсти наживы вылилось в монашеский аскетизм. У францисканцев корысть ростовщика становится первейшим грехом, бедность — главной добродетелью. Фома Аквинский так истолковывает Павла: неизбежный труд возложен не на отдельного человека, а на весь род людской. Для томизма эта мера вынужденная. Иерархией профессий — от низких обязанностей крестьян до молитвенного подвига духовных — ангельский доктор пытается примирить созерцательную жизнь с заповедью апостола. Он передёргивает. Впрочем, вся история религиозных движений — это история передержек. Жан Кальвин заявлял, что ад и рай предопределены человеку ещё до рождения, причём можно видеть тех, кого любит Небо, — им выплачивают проценты мирских благ. Богатство не просто морально, но даже предписано: об этом говорит и притча о рабе, впавшем в немилость из-за того, что не преумножил доверенную ему мину серебра. Женевский проповедник, запрещавший нищенство, привёл своим оправданием уже упомянутые слова Павла. Он был убеждён, что его учение проникнуто новозаветным духом[35].
Ричард Бакстер, пресвитерианин, для которого, в отличие от Лютера, деяния важнее слёз, а деятельность — страдания, опирается на чисто иезуитскую аргументацию этого вопроса: плоти должно быть представлено то, что ей необходимо, иначе человек становится её рабом (Baxter. Saints’ everlasting rest, 12). Пуритане, разделяя мнение Бакстера, ссылаются при этом на столь чтимую ими Книгу Иова, в конце которой возникает уверенность, что Всевышний осенит благодатью избранников ещё в этой жизни, даруя им материальное благополучие.
«Однако ленивый или нерадивый не может быть христианином и спастись. Его удел — погибель, и он будет выброшен из улья», — слова, которыми завершается символ веры мормонов. В трактате Бенджамина Франклина, удлиняя перечень метаморфоз, они превращаются в лаконичное «время — деньги». Мильтон, во всём провозглашавший умеренность, в первой «Defensio pro populo Anglicano» пишет, что носителем добродетели может быть только среднее сословие, ибо и роскошь и нужда одинаково препятствуют её воспитанию.
Макс Вебер, нравственный апологет законной прибыли, связывает появление Кальвина с нарождением буржуазии. Он считает Реформацию зарёй Нового времени, естественным откликом на возникновение мануфактур, а капитализм — лучшим из худшего, наименьшим из зол («Протестантская этика и дух капитализма», 1905). Фрейд, которого на щит поднял прагматизм прошлого века, объяснил бы слова Вебера комплексами, посеянными в детстве (а быть может, его происхождением из состоятельной бюргерской семьи). При этом разъяснения Фрейда я сам бы мог истолковать как проявление ущербности, коренящейся в детстве Фрейда. Ведь ущербность, та или иная, присуща всем. И, возможно, мои комплексы определили эту подборку различных мнений, которая выдаёт во мне сторонника социального равенства. «Позиция всегда совпадает с выгодой», — прокомментирует последнее высказывание наша эпоха, в которой главный порок — бедность.
И этим подытожит эволюцию христианской морали.
ИСКУССТВО ВТОРИЧНЫХ
Я хочу замолвить слово за тех, кого опустили в могилу безвестности. Изгнанные из памяти, они стали меньше чем тенью — следами, занесёнными песком. Среди них, размолотых судьбой, прошедших земной путь от некто к никто, было больше гениев, чем кажется, ведь заслуживших благодарность — единицы.
И первыми в их шеренге стоят Изобретший Колесо и Добывший Огонь.
Время искажает масштаб, как пространство — величину звёзд. Я бы хотел оправдать сограждан Сократа, у которых рождались образы, возможно, не менее причудливые, чем те, которые оборвала цикута. Я хотел бы подать голос в защиту малых поэтов, творивших в эпоху Чосера и Данте, имена которых канули в Лету, а строки растворились в фольклоре. Солнца Иссы и Граника поднялись на сарисах рядовых гоплитов, но из македонян помнят Македонянина, из персов — Перса. Судьба улыбается немногим, талант не страхует от забвения. Но прошлое взывает к возвращению, пепел забытых стучит в сердца. Это — апология тех, кого обошли молчанием, глава из книги фатальных утрат. Она посвящается легиону отгороженных от музеев, отрезанных от энциклопедий, она обращается к безголосой и безликой армии обделённых.
Рудаки цвёл при дворе Саманидов. Омар Хайям обязан почестями Сельджуку, а всемирным признанием — Фитцджеральду. Звёзды восточной поэзии, они сочиняли для правителей, осыпаемые их милостями. А между тем по дорогам их царств бродили тысячи босоногих дервишей, услаждавших слух дехкан. Аллах всевидящ и всемогущ, Он возместит этим сошедшим во гроб соловьям за несправедливую безвестность!
Возможно, мы знаем не лучших, но удачливых, тех, кто вытащил билет, помеченный вечностью. От Яна ван Эйка, которого назвали отцом Возрождения, остались миниатюры и гентский алтарь, от Губерта ван Эйка — один дивный ангел. Что помешало старшему из братьев раскрыть талант? А кто считал сгнившее в мансардах, сгоревшее в пожарах, затопленное в трюмах галлионов? Жестокость искусства не принимает оправданий. Сколько бы ещё создали Ван-Гог и Лорка, сложись их судьба не так трагично? А скольких бы тогда они интересовали? Кто бы говорил о Сенеке, не предпочти он Рим провинциальной Испании? В устройстве мира выпирает бессмыслица, неизбывно питающая надежды на небеса. Вероятно, для Бога мы — камни одной мозаики, его памяти не нужна классификация, его всеведению — табель о рангах.
Иконы нашего искусства достаточно случайны, им молятся, починяясь привычке. Многие из них, как Лотреамон, обрели бессмертие задним числом. Почему бы тогда не попасть в хрестоматии и Имрууркальсу, слагавшему прекрасные касыды в доисламский период? Бог нашей культуры, Аристотель — никто восточнее Ганга. «Magister dixit» относится там к Нагрджуне и Шанкаре.
Роза не цветёт в пустыне, в саду её оттеняют другие цветы. Могли бы существовать Тютчев и Фет без мириа-дов вирш при сальном огарке? У любого графомана сыщется пара гениальных строк. Искусство — это победа над повседневностью, скукой, рутиной, это бунт против Времени, а героизм обречённых не бывает вторичным.
ЭРА РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ
Её датируют двадцатые годы девятнадцатого и двадцатого веков. Прологом ей послужил «Евгений Онегин», эпилогом — «Тихий Дон». Её серебряный век прозвучал отголоском золотого. Бунин и Казаков — это искры гаснущего костра, в Набокове уже совсем мало русского. Она возникла из ничего. Ушла в никуда. Она родилась среди тёмного народа, умерла в век просвещённой технократии. Её предтечей, с большой долей условности, можно считать былины, сказания, летописи, наивные оды Ломоносова и сентиментальные поэмы Жуковского. В Англии уже был Шекспир, в Италии — Данте, во Франции — Расин. В России было только Евангелие.
И её литература, не обременённая авторитетами, сразу взяла правильную ноту.
Немцы, тяготеющие к отвлечённой метафизике, породили Гёте, китайцы, склонные к иерархическому педантизму, — Конфуция. В русской литературе отразился характер широкий и страстный, не терпящий недомолвок и полумер. На Руси не было философских школ, не было теологических университетов. Перед её литературой стояла задача заменить сразу всё.
И это ей почти удалось.
Поначалу она робко косилась на Европу, играя то в шеллианство, то в байронизм. Но потом убедилась, что подражать в богоискательстве некому, а в остальном — нет смысла. Ей безразличен антураж, а развлекательность претит. Единственный её камертон — совесть, а главный рецепт — сострадание. Художественности она добивается как бы между прочим, отвечая на «проклятые» вопросы. Она верит в своё предназначение, в магическую силу Слова, в то, что сможет переустроить мир.
Возможно, её сделала удалённая от власти интеллигенция. Однако в истории было множество диктатур, не оставивших после себя ни строки.
В каждой литературе свои гении. Но русской удалось ближе других подойти к эпицентру борьбы Добра и Зла, к загадке Бога, к тайнам души. После неё были литературы куда более интригующие. Но она ставила задачей нечто большее. Она стремилась постичь Цель, увидеть Предназначение, указать Путь. Она сама есть титаническое усилие человеческого духа. И сейчас потребность в ней испытают те, кто, устремив взор к небесам, вдруг обнаружит среди горних высей её сияющее солнце.
Семь выстрелов в прошлое
ЯЗЫЧНИК ВЛАДИМИР ИДЁТ НА РУСЬ
Север двинулся на Юг, дети луны — на детей солнца. Озорная ямь, толпы задиристых варягов и беспокойная, рыщущая жмудь ведут на Русь своего князя. Они будут орать под бревенчатыми стенами, вымазав лица грязью, будут швырять в них огромные топоры. Они знают, что победят. Вспоминая обещания ведуний, дико хохочут. Вспугнутые птицы видят тогда их потускневшие кольчуги и шлемы с кабаньими клыками.
Язычник Владимир идёт на Русь. Не Святой и не Красное Солнышко, ведёт он свои рати, полные суеверий и зла. В зачервлённой рубахе он прыгает через дымные костры, забавы ради убивает и на Ивана Купалу ублажает плоть. Он верит лишь в силу, принимая коварство за ум. Презрение, которое он видел в славянине с вислыми усами, мимоходом зачавшем его, обжигает память. Ему суждено хитростью убить брата, взять в жёны его невесту и остриём копья добыть его стол. Ему суждено указать на Распятие. Втайне уже избранный, он не знает, что хорсам, симарглам и мокошам идёт предпочесть Бога, который есть любовь. Он идёт, чтобы у ятвягов, кривичей и древлян ненависть ярилы сменил ад, а милость перуна — рай. Обрекая на смерть, он сам умрёт в смутной надежде на бессмертие. Его приравняют к апостолам, о которых он не имеет представления.
Нечаянный креститель, я обязан тебе еврейским именем, клеймом первородного греха и наивной верой в Святую Русь.
ЧАША
Этот жест обессмертил простого воина. Став символом, его поступок вошёл в хрестоматии. В нём уже проглядывается зеленоватая бледность Робеспьера, устремившаяся в Бастилию толпа, вихрь революции, Марат и гильотина, равняющая бедных и богачей.
Год спустя после очередной победы Франк выстроил своё войско. Обходя ряды, он заметил давнего обидчика. Коварный, придрался к перевязи его меча. Тот, отвернувшись, поправил. И Хлодвиг снёс ему голову. «Так и ты поступил с чашей!» — слова, вложенные в его уста молвой.
Совершённое Хлодвиг объяснил вспыхнувшим гневом, местью или правом сильного. Однако его поведение предрекло и случившиеся через тринадцать столетий Ватерлоо, трагическую атаку кирасир на плато Монсен-Жан, чёрные стяги Блюхера, Реставрацию и торжество меньшинства.
История склонна к повторениям, ибо мотивы, движущие её, вечны.
ИСТОРИИ ОБ ИСКУССТВЕ И СМЕРТИ
Героя первой из них, наследного принца Ши Суя, мы застаём во дворце. Его окружали циновки, сановники, отлитые в бронзу предки, бритоголовые монахи, блюда из жареных кузнечиков, соловьиных язычков и ласточкиных гнёзд. За кувшинами вина приближённые славили Ши Ху, Каменного Тигра, пришедшего из-за Стены, основавшего династию и зачавшего Ши Суя.
Один из евнухов, наклонившись, зашептал принцу на ухо. Тот небрежно кивнул. Тотчас раздвинулась потаённая ширма, из-за которой вышла танцовщица, прекрасная, как луна, которая висит над персиковым садом. Тонкую шею украшало ожерелье из ракушек, смоляные волосы были собраны в высокий пучок. Наступила тишина. Так восходящее солнце заставляет на мгновенье смолкнуть щебечущих птиц. Женщина танцевала, и огненные движения приковали гостей. Потом она играла на лютне. Её голос мог покорить и глухого.
Удалилась она с лёгким поклоном. И все сошлись на том, что сто ху риса, верёвка монет и десять кусков шёлка — неимоверная цена для любой наложницы — для неё дармовая. Слушая эти разговоры, Ши Суй хлопнул в ладоши. Через ту же самую ширму два мускулистых раба внесли таз с мясом, переложенным побегами бамбука. Лежащую сверху голову украшали морские ракушки и волосы, собранные в пучок.
— Так умирают рабыни, — едва вымолвил китайский мандарин.
— Так умирают рабыни искусства, — возразил Ши Суй. — Но нет выше искусства, чем кулинарное.
Вторая история — продолжение первой. Ши Суй, терпя от отца унижения, решил его убить. «Чтобы не получать удары палкой, надо отсечь руку, её держащую». Притворившись больным, он пригласил Ши Ху. В сыновних покоях того ждал отравленный кинжал. Однако небо отвело предательский удар. Его приняла телохранительница, нежная, как лотос, и быстрая, как змея. Ши Суя вместе с домочадцами изрубили в крошево и бросили в нечистоты. Маленький внук императора с плачем хватал деда за пояс. Каменный Тигр закрылся рукавом, но приказа не отменил.
— Так умирают лицедеи, — заметил китайский мандарин.
— Так умирают недостойные лицедейства, — возразил Ши Ху. — Этого величайшего из искусств.
Третья история случилась в год кабана, в шестую луну первого летнего месяца, когда явилась комета с хвостом дракона. Стотысячное войско восставших обложило Хун-на во дворце с выгнутыми крышами и гирляндами золотых колокольчиков. Напрасно Ши Ху обращался к гадателям. Глядя на кровь петуха, те сулили беду. Напрасно искал он совета и у древних иероглифов, которые оставили мудрецы. Казалось, его ничто не спасёт. Но на выручку явился престарелый вождь тибетцев. Преступив гордость, Сын Неба слёзно молил его о помощи. И тысяча доблестных всадников, словно ураган — тучи, разметали неисчислимые толпы. Не выдержав потрясений, император заболел. Отправляясь в долину снов, которыми начинается жизнь и которыми она заканчивается, Хунн не смог выбрать преемника.
— Так умирают тираны, искусство которых удерживать власть, — заметил китайский мандарин.
— Но разве удел остальных лучше? — возразил старый тибетец, в голосе которого слышалась неизбывная тоска.
ВОИН
Они стояли друг против друга. Темник и князь, орда и дружина, пешие полки и тысячекопытные тумены. Их разделяло поле. Их разделяли победы и поражения. Их отцы стояли также. И деды. Оседлые, поднявшиеся на степняков. Их ждала атака раскосой конницы и короткое счастье — умереть свободными.
Над рекой клубился туман. Луна засыпала, уступая рассвету право обратить росу в кровь, а крики куликов — в свист стрел.
Ему было около двадцати. Раздвинув ряды, он вышел, надеясь на Бога. Проиграть ему было нельзя. Выиграть — невозможно. Когда сошлись, целил в панцирь из воловьих кож, вложив в удар обиды трёх поколений. Как и девять из десяти пришедших, он не узнал, что победил. Его тело лежит за сотни вёрст от Поля, его душа — за тридевять земель от Руси.
Александр Пересвет, нет русского, который бы не плакал о тебе!
БЕГСТВО
Поначалу Шейх Паладин Раджа не выделялся ничем, кроме мудрости и загадочности, которых на Востоке в избытке, но ближе к середине своего царствования, «благословенного и милосердного», как замечает Хайр-ад-Дин, он приказал воздвигнуть себе усыпальницу. В его распоряжении не было бы ничего необычного, если бы он не перебрался в свой склеп ещё в разгар работ, став его живым центром. Мулла делийской мечети, о чём также сообщает Хайр-ад-Дин, усмотрел здесь кощунственную попытку сравниться с Аллахом — центром миров. Но как может соперничать с Аллахом тот, кто сам замурован лишь буквой в Его тексте? Как бы там ни было, семьдесят семь концентрических стен отделили властелина от подданных, семь каменных небес, нависших куполами, — от неба. Тридцать три круглых башни мёртвыми псами сторожили покой мавзолея. Внутренний дворец был разделён на тридцать три зала, где на тридцати двух тронах восседали двойники повелителя. И только один зал вмещал его священную особу. Ко всем бесчисленным замкам подходил единственный ключ, который изваяли в виде зуба, чтобы Шейх Паладин Раджа мог хранить его во рту.
Строительством, которое не прекращалось ни днём, ни ночью, руководил визирь. Кроме него никто не знал срока его окончания. Подозревали, что таких сроков и не было, что согласно плану властителя (или его капризу, как шептались по углам) нужно было охватить как можно больше земли, в идеале — все владения Шейха Паладина Раджи или даже весь мир. В этом случае работы остановила бы только смерть визиря, единственного посвящённого в замыслы правителя.
Теперь нам остаётся только гадать, какую цель преследовал Шейх Паладин Раджа, заключая себя в каменном мешке. Психиатр связал бы это с фобией открытых площадей, теолог — с боязнью заразиться греховностью мира. В обоих случаях его уму непостижимое творение — памятник страха. А быть может, он рассуждал так. Пространство и время имеют по сути единую природу, значит, рассекая стенами пространство, можно отгородиться во времени, значит, уединяясь в первом, можно заслониться от смерти — посланца второго. При этом Шейх Паладин Раджа, видимо, полагал, что смерть приходит извне, а не таится внутри — его простодушие не допускало подобного коварства. Утверждают, что под развалинами мраморных плит до сих пор бьётся сердце Шейха Паладина Раджи, что его стук можно услышать, прислонив ухо к камню в глухой предрассветный час, когда луна исчезает с небосклона.
Несчастный Шейх Паладин Раджа, погребённый заживо под сводами своего лабиринта! Наивный, он напрасно пытался умножать сущее, как будто каждый из нас и так не заточён в этот мир, в собственное тело, имя, скорлупу судьбы.
ЭПИЗОД
«Heimskringla»[36]. Мертвецы в перекрестье Севера и Средневековья. Что бы сказали они о страстях, декорированных автомобилем, галстуком в горошек и лосьоном после бритья?
ИСТОРИК
В двадцать он стал политиком и четверть века вёл жизнь «встреч вечером и расставаний утром». Он служил семи правителям, бывая то в Фесе, то в Гранаде, то в Севилье. При дворе Педро Жестокого он видел былую славу своих предков. В Дамаске — висячие сады, головы на пиках и толпу прокажённых. Воспитанный в Традиции, он клялся Кораном. Совершив хадж, не верил, что халиф — тень Аллаха на земле. Он был всегда на людях, растворяясь в словах, поручениях и сиюминутности.
А потом был Калъат-ибн-Салама, древние свитки, шесть томов «Всеобщей истории», населённая бедуинами «Мукаддама»[37], проводы верблюжьих караванов и опровержение линейного времени в угоду возврату, смене и повторению. История представилась ему вращением колеса, в её хаосе проступил едва уловимый порядок.
Что подтолкнуло его к уединению, мы не знаем. Он явно лукавил, когда писал о внезапно нахлынувшем отвращении к дипломатии. Четыре года, когда он не наблюдал царств, рушащихся вокруг, но пытался разглядеть узор в череде их взлётов и падений, — ничто в сравнении с семьюдесятью, отданными суете. Ибо вскоре он опять вернулся к политике.
Он не имел ни предшественников, ни преемников. Его философия осталась чужда современникам, жизнь которых была «одинока, бедна, отвратительна, груба и коротка».
Перед смертью он занимал высокие должности в Египте. Его имя вошло в александрийскую книгу судей. Отсюда, с вершин пирамид, он наблюдал движение племён, размётанных по земле, оставляющих следы в песнях, шатрах, диалектах, проповедях, формах клинка, детях, очертаниях скул, суевериях, эпосе и названии мест.
Став прошлым, автор «Мукаддамы» окликнул будущее. Он воскрес в Тойнби и Шпенглере. И этим подтвердил цикличность в мире идей.