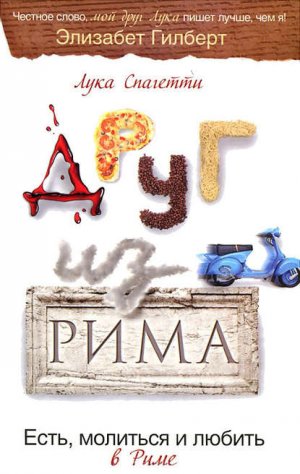
Believe it or not[1]
Печатается с разрешения издательства RCS Libri S.p.A.;
© RCS Libri S.p.A. Milan, 2010
© Перевод. Н.Н. Сотникова, 2011
© Издание на русском языке AST Publishers, 2011
«Среди моих новых итальянских друзей есть один, который вызывает у меня самое большое любопытство. Его зовут… держитесь, чтобы не упасть… Лука Спагетти. Клянусь вам, у него именно такая фамилия. Я не выдумала ее. Я бы просто не смогла. Знаю, это нелепая фамилия. […] И я решила связаться с Лукой Спагетти, как только у меня появится возможность».
Шел 2003 год, Элизабет Гилберт – американская писательница и журналистка – представляла одного из персонажей своей новой книги «Есть, молиться, любить», правдивой истории своего путешествия длиною в год по Италии, Индии и Индонезии в поисках самой себя и истинной любви. Этим парнем с фамилией, казалось, найденной в каком-то туристическом путеводителе по Италии, который возил Элизабет по Риму на своем порядком облезлом мотороллере, водил на стадион смотреть воскресные футбольные матчи и потчевал блюдами, оценить которые способен только истинный римлянин, был я. Родившийся и выросший в Риме гитарист-самоучка, страстный футбольный болельщик, поклонник хорошей кухни. Да, я действительно существую, моя фамилия на самом деле Спагетти, и я не имел ни малейшего представления о том, какие приключения уготованы мне судьбой. Ибо никто, и меньше всего я сам, не мог представить себе, что книга «Есть, молиться, любить» обойдет весь мир, вызовет восхищение многочисленных читателей и читательниц, станет настоящим явлением и будет продана миллионными тиражами. Для меня же книга Лиз была всего-навсего достоверной и оттого еще более необычной историей американской девушки-блондинки, красивой и немного нервной, полной любопытства и жажды жизни. Однажды сентябрьским днем я случайно познакомился с ней через нашего общего приятеля, и вскоре она стала одним из самых важных людей моей жизни. Настоящим другом, которого никогда не забудешь.
Я и представить себе не мог, что, в какую бы страну ни прилетел, во всех аэропортах будет продаваться книга Лиз, и я попаду в самую популярную телевизионную передачу Америки – ток-шоу Опры Уинфри, где Лиз покажет в прямом эфире фотографии нас двоих в Риме. Еще меньше я ожидал, что ко мне будут обращаться читательницы самого разного происхождения, обуреваемые любопытством: «А ты действительно „тот самый“ Лука Спагетти?»
И кто бы мог поверить, что эта история попадет на киноэкраны всего мира и мою приятельницу Лиз сыграет Джулия Робертс, а меня – симпатичный и жизнерадостный итальянский актер?
Жизнь удивительна и полна неожиданностей: это внушила мне Лиз. И она же научила ценить настоящую дружбу, перед которой бессильны и время, и расстояние. Дружбу, которая, как мы часто говаривали друг другу, является иной разновидностью любви.
В этой книге я хотел рассказать свою часть этой истории. О своей жизни, любви, необычной и неожиданной дружбе с Лиз и моем любимом городе. Рим – я знаю его с детских лет, с тех самых пор, когда мальчишкой играл в мяч во дворе дома, и товарищи подшучивали над моей фамилией, которая заставляет вспомнить о накрытых столах и томатном соусе. Рим, который я весь обошел вместе с Лиз, стараясь поделиться с ней моими привязанностями и воспоминаниями. Выкладываясь по полной, ибо именно так завоевывают настоящих друзей, я брал у нее уроки жизни, учился начинать с самого начала и находить в себе силы искать, искать, искать, пока не обретешь то, что ты истинно желаешь. И прежде всего – счастье, которое можно найти там, где ты его меньше всего ожидаешь: в блюде макарон со свежими помидорами, в забитом голе твоей любимой команды, в бокале ледяного вина на площади Кампо де Фьори, в радости от того, что ты запомнил новое слово на языке, который только что начал осваивать.
Ибо, как писал Трилусса[2] в стихотворении под названием «Вода и вино»: «Вывод таков: счастье – в малом».
Часть первая
Рим, не валяй дурака![3]
Предупреждение: название каждой главы является названием какой-то из песен, которую сочинил и/или исполнил Джеймс Тейлор. Любая связь с фактами, относящимися к истинной истории Луки Спагетти, к счастью, является чисто случайной!
1. «That's why I'm here»[4]
Моя бабушка постоянно твердила мне:
– Эта фамилия принесет тебе счастье! Она пробуждает радость в людях, с которыми ты сталкиваешься. И немного возбуждает аппетит…
Естественно, я ей не верил. И совершенно не понимал ее. Каждый раз, когда бабушка повторяла мне это, я думал, что она тоже подшучивает надо мной.
Дело было в Италии, в Риме, шел, кажется, 1978 год, и мой детский мозг только начал осознавать, чем чревато носить такую фамилию: Спагетти. И какой несоизмеримый груз падает на хрупкие плечи семилетнего мальчика.
Вначале я даже не понял, что это моя фамилия. «Скорее всего это только прозвище», – уверял я себя. Кто знает, возможно, у меня был предок-толстяк, который содержал тратторию, и его фирменным блюдо были спагетти алламатричана[5]. Или же мой отец так наелся спагетти в кругу знакомых, что это знаменательное событие запечатлелось в их умах и они наградили его этим прозвищем.
В общем, когда кто-нибудь спрашивал, как меня зовут, я отвечал: «Лука Спагетти», – но только потому, что мои родители велели мне говорить именно так.
По-настоящему я прозрел, когда начал ходить в школу. Или, вернее сказать, моих одноклассников настигло озарение. В первом классе начальной школы ситуация еще была относительно спокойной, но в последующие годы, с наступлением сентября и при первой перекличке в классе всеобщий дружный смех был гарантирован. А я в то время еще не научился посмеиваться над самим собой. Хуже того, судьба наградила меня братом, Фабио Спагетти, который был на четыре года моложе меня. Естественно, я горел желанием защитить его от участи, выпавшей на мою долю. Я старался подготовить его к неизбежному, но он, казалось, отодвигал момент постижения всей глубины нашей беды. Помнится, я даже подумывал о том, как сжить его со света. Таким образом, из самых благих побуждений и предусмотрительности, я бы избавил его от тяжких испытаний, которые выпали на мою долю. Жаль, что мои родители не потрудились понять и разделить мою точку зрения, настаивая на том, что мое желание стереть его с лица земли было вызвано «ревностью по отношению к младшему брату», а вовсе не «благими побуждениями и предусмотрительностью». Однако, для вашего сведения, Фабио до сих пор жив, пребывает в добром здравии и с гордостью несет бремя нашей фамилии.
Конечно, мои одноклассники и дружки по молодежному клубу, куда я после обеда каждый день ходил играть в мяч, со временем привыкли к ней; но каждый раз, когда дело доходило до какого-нибудь спора, я с самого начала оказывался в проигрыше:
– Да что ты в этом понимаешь? Сиди уж со своей фамилией!
Я уж не говорю о тех гениях, которые раз в неделю развлекались тем, что звонили по домофону в квартиру и, когда мы спрашивали: «Кто там?» – нам отвечали:
– Спагетти, поешь пасты!
Мои родители и моя бабушка Инес, проживавшая вместе с нами, только улыбались на то, что в их глазах являлось простой шуткой; для меня же положение постепенно становилось невыносимым. Но у меня не было никаких средств защиты. Как я мог отплатить мальчику, которого, например, звали Карло Бьянки?
– Привет от Марио Росси[6]?
Возможно, проблема заключается в том, что у нас, итальянцев, существуют поистине особые отношения с пастой. Я всегда задавался вопросом, откуда произошла эта безграничная любовь. Но то, что это чудо один раз в день за обедом или ужином появляется на наших столах, нельзя объяснить простой привычкой. В этом есть нечто большее. В Италии самый лучший подарок, который можно сделать человеку, возвратившемуся из путешествия за границу, – это подать ему блюдо букатини[7] алламатричана. Сколько раз мне приходилось быть свидетелем телефонных звонков соотечественников, готовящихся к возвращению из-за границы, единственной заботой которых было удостовериться, что, как только они вставят ключ в замочную скважину двери родного дома, еще до приветственных объятий с матерями, женами и невестами, им удастся краем глаза усмотреть кастрюльку с водой, поставленную на огонь.
Согласно словарю итальянского языка, я представляю собой «спагетти – разновидность макаронных изделий, длинных и тонких, с круглым сечением, типичных для итальянской кухни», в то время как под пастой подразумевается «продукт питания из отрубей или муки иного происхождения в виде небольших фигурок одинаковой формы, предназначенных для приготовления на огне во влаге; а также может означать блюдо, где пищевая паста является главным составляющим, приправленным соусом, подливой или какой-либо другой приправой». Понятно, что в Италии быть обладателем такой фамилии непросто.
Я часто размышлял о том, какой же вид пасты предпочтителен для меня. Ответ кажется банальным, но я обожаю спагетти… Возможно, этот вид пасты находится вне конкуренции. К тому же, чтобы составить список приоритетов, надо кое-что уточнить. Провести границу между различными видами пасты, например, между длинной и короткой, гладкой и рифленой, приготовленной дома, с начинкой, и в конце концов дополнить разновидностями, которые для меня не являются пастой, такими как лазанья и каннелони[8], но которые некоторые гурманы включают в эту категорию.
Я не хочу сказать, что питаю абсолютную привязанность к какому-то одному виду пасты, поскольку, несомненно, основная роль принадлежит приправе. Лично у меня предпочтения выстроены в следующем порядке: безоговорочное первенство принадлежит длинным макаронным изделиям, независимо от возможных приправ. На первом месте, ясное дело, спагетти, а точнее, спагетти номер пять; но, когда речь идет о длинной приправленной пасте, то, несомненно, ничто не сравнится с букатини, перед которыми невозможно устоять из-за их плотной консистенции и способности притягивать к себе подливу. У них только один недостаток: невозможно съесть целую тарелку и не испачкаться. Букатини представляет собой настоящую рогатку, стреляющую подливой, и существуют лишь два способа сесть за стол без страха заполучить на свою физиономию грамм двести – триста помидорного соуса, да еще наставить пятен на одежду: либо полностью обнажиться, либо запеленаться подобно мумии, оставив открытым только рот для поглощения еды.
Я видел, как разлетавшиеся на несколько метров капли подливы поражали соседние столы, пока человек пытался накрутить на вилку непокорные букатини, утопающие в соусе; я всегда восторгался бездумными личностями, которые заказывают их для деловых обедов, чтобы потом ткань их костюмов оказалась расцвеченной в горошек. И меня просто ошеломило совершенно гениальное решение новобрачных, которые заказали букатини в качестве обязательного первого блюда для свадебного обеда, подвергая неимоверному риску не только элегантную одежду гостей, но и туалет невесты.
Переходим к коротким макаронным изделиям: с моей точки зрения, превосходство так называемых рифленых макаронных изделий над «гладкими» не подлежит никакому обсуждению. Я любитель подливы и вынужден констатировать, что она имеет обыкновение стекать с гладкой пасты; возможно, этот вид больше ценят любители посмаковать вкус самой пасты, а не приправы. Шероховатость имеет свойство вбирать в себя и сохранять на поверхности большую часть соуса. «Перышки», ригатони[9], макароны, «нарукавники» – каждые из них имеют свою форму, свой размер, и, возможно, каждый вид был задуман для особой подливы. И на самом деле в Риме исторически «перышки» ассоциируются с острой подливой алларрабьята[10], ригатони – с пайатой[11] и так далее.
Отдельный случай представляют собой фузилли[12], своей необычной формой смахивающие на матрасную пружину, которые, являясь «гладким» вариантом пасты, в то же время обеспечивают результат, весьма близкий к достижениям рифленой.
Среди иностранцев пользуются славой фетуччини[13] со сливочным маслом. Трудно поверить, но простой союз яичной пасты со сливочным маслом создает божественное сочетание. Естественно, это не так просто, как кажется: похоже, что для идеального подмешивания масла требуется определенная сноровка, дабы образовалась однородная вязкая масса, прекрасно обволакивающая каждую отдельную фетуччинку. Иностранцы сходят с ума по ним. Мы, римляне, не в таком восторге… однако же по меньшей мере один раз в жизни мы их попробовали[14].
Далее следует паста с начинкой, которая находит свое наиболее полное выражение в тортеллини, аньолотти и равиолях[15]. Возможно, тортеллини плохо поддаются новаторским экспериментам, лучше всего проявляя себя в бульоне или рагу. Серьезной проблемой равиолей является их количество, в особенности в ресторане: каждый раз, когда ты обедаешь не дома и заказываешь равиоли, в тарелке обнаруживается лишь наводящая уныние кучка из трех квадратиков. В лучшем случае из четырех, если шеф-повар проявляет особую щедрость, но никак не больше. Этого едва хватает, чтобы почувствовать вкус равиоли.
В Риме рассказывают историю о каком-то субъекте, которому в ресторане подали первое, состоящее из трех равиолей. Раздраженно взглянув на пустую тарелку, он нанизал все три друг за другом на вилку, проглотил их за один раз, повернулся к официанту, с любопытством наблюдавшему за ним, и заявил:
– До чего же хороши, можешь бросить в кастрюлю еще три десятка!
Но вернемся к римским первым блюдам, которые играют в этом городе действительно важную роль: спагетти алла карбонара[16], алла грича[17], с сыром и перцем; ригатони с пайатой; паста и фасоль; фетуччини по-папски; клецки по-римски.
Это традиционные блюда, в них живет истинный дух римской кухни. Некоторые из них изумительно просты в приготовлении, скажем, такие как паста с сыром и перцем: поэтому они заслужили такую любовь у нас, мужчин. Для того чтобы подать их на стол, достаточно лишь сварить пасту, и вкуснейшее блюдо обеспечено!
Основным и самым замечательным свойством пасты является то, что этот продукт удовлетворяет все запросы. В своей обезоруживающей простоте она представляет собой идеальное решение на все случаи. Паста сочетается с любыми компонентами, которые только можно себе представить, она по душе вегетарианцам, летом прекрасно идет с приправами, свежими и вселяющими радость, зимой – с основательными и сытными, а по вечерам влюбленные используют ее в качестве афродизиака. Согласен, можно спорить о вкусах и предпочтениях, о продолжительности варки и технологии приготовления, но в отличие от большинства споров, которые нам приходится вести ежедневно, эти дискуссии дают радость, зажигают огонек в глазах, а во рту от них текут слюнки.
Такие же слюнки вызывает и моя фамилия. Мне хотелось бы знать, живет ли в Германии некто по имени Франц Картофель, в Америке – Джон Гамбургер, в Греции – Нико Сувлаки[18], а во Франции – Брижжит Багет[19] и оказывают ли их фамилии такое же воздействие на аппетит и настроение людей. Мы могли бы составить неплохую команду: может быть, нам и не удалось бы накормить весь мир, но место в Правлении Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН нам было бы гарантировано.
Во всяком случае, я подчеркиваю, моя фамилия со временем становилась все более привлекательной, нежели смешной, и глупые шутки моих товарищей звучали все реже. Хотя возникли другие проблемы. Например, с девушками!
Конкуренция между мальчиками в возрасте 10–12 лет может оказаться смертельной, а отказ девочки на предложение дружить способен привести в самое глубокое отчаяние, не говоря уже о позоре. Согласен, все это длилось от силы несколько часов, но события эти оставляли следы в моей несчастной душе.
Я уже начал задаваться вопросом: а существует ли на свете девочка, расположенная дружить с мальчиком по фамилии Спагетти? И, что еще серьезнее, вышла бы она когда-нибудь за него замуж? И решилась ли завести с ним детей? То есть многочисленных спагеттиков – разновидность пасты, которая особенно хороша, если сварена «на зубок»[20], с подливой из свежих помидоров и базилика? Возможно, нет, если только она сама не носит фамилию «Тальятелла»[21].
Одним словом, как можете убедиться, жизнь человека по фамилии Спагетти начиналась с испытаний и преодоления трудностей.
2. «Places in my past»[22]
Бесполезно скрывать – я римлянин и горжусь этим. Хотя, как вы понимаете, фамилия Спагетти не сулит легкого детства и отрочества в любом итальянском городе. Тем более в Риме.
В том, что касается чувства юмора его жителей, Рим – город особый. Дело в том, что юмор римлян нельзя сравнить ни с чем, и мы, римляне, вырастаем с убеждением, что ирония позволяет украсить жизнь. Коренной римлянин умеет воспринимать ситуации и людей с легкостью и склонен все превращать в шутку, если это возможно. Я знаю немногих в Риме, которые будут ссориться из-за глупостей. Конечно, обидчивых людей полно на этом свете… но если составлять итальянскую классификацию, то в Риме концентрация подобных личностей наиболее низкая. В противном случае вы здесь не сможете выжить. Это качество не обязательно должно быть врожденным, но если ты человек сообразительный, усвоишь его с младых ногтей. Примерно так же с детских лет должен смекнуть, на чью сторону ты встанешь в своих футбольных предпочтениях, будешь ли болеть за команду «Лацио»[23] или «Рома». В противном случае это сильно осложнит твою жизнь, так что лучше определиться пораньше.
В Риме вы повсюду найдете проявления шутливости, для которой нет ничего святого. Даже в вывесках различных заведений: вот вам два ресторана – «Благодарение Богу, сегодня пятница» и «Здесь не отравишься»; парикмахерские «Никогда не стригись по понедельникам», «Давайте совершим обрезание», «Два конца, два кольца, посредине гвоздик»; зоомагазин «От 0 до 4 лап»; забегаловка-бутербродная «Что тебе туда положить?».
На работе мы также предпочитаем относиться ко всему легко. Существует пословица, которая гласит: «Не откладывай на завтра то, что можно сделать сегодня». Но похоже, что римлянам больше подходит фраза Марка Твена, изрекшего: «Не откладывайте на завтра то, что безо всяких трудностей можно отложить на послезавтра». Однако возможно, здесь требуется уточнение… Фактически создается впечатление, что в Риме не особо горят желанием работать: это – одно из многих расхожих мнений о столице. В действительности все иначе. В Риме работают много, но вся прелесть в том, что мы умеем стратегическим образом распределять время, предназначенное для трудов и перерывов.
Например, по утрам мы запасаемся максимально возможным спокойствием, чтобы начать предстоящий тяжелый трудовой день… Для этого существуют различные способы: чтение газеты, ибо быть информированным – дело первейшее; или же вторая чашка кофе в баре либо у автомата в конторе; в результате обеденный перерыв часто используется для длительной разминки в тренировочном зале. После такой разминки просто невозможно отказаться от обеда в клубе или баре-столовой. Таким образом вы ликвидируете последствия занятий физкультурой и должны повторить этот цикл точно так же на следующий день. Если же вы не увлекаетесь спортом, наиболее популярным местом для посещений является настоящий ресторан с обедами, состоящими из первого блюда, второго, гарнира, десерта, кофе и рюмочки крепкого напитка для завершения. В некоторых районах города, таких как Прати и Париоли, подобные заведения зачастую больше работают в обед, чем вечером.
Одним словом, нам, римлянам, нравится распределять время по нашему усмотрению еще и потому, что вечером мы имеем обыкновение задерживаться в конторе, дабы компенсировать наши утренние или обеденные «отвлечения». Весь секрет состоит в том, чтобы спокойно противостоять каждой проблеме в отдельности, не позволяя стрессу взять над вами верх.
От работы отвлекают и красоты Рима: этот город обладает необычайным художественным наследием, и даже если мы не замечаем этого, несясь на полном ходу на мотороллере или спускаясь под землю в метрополитен, иногда все-таки останавливаемся, потому что дух захватывает от великолепия этого города. Достаточно иного освещения Римских форумов, взгляда на спокойно текущий Тибр или же смены времен года, вместе с которыми меняется сам Рим: зимы, отдающей запахом жареных каштанов; весенних вечеров в пивных Трастевере[24]; летних напитков из дробленого льда с соком в киосках, манящих привкусом отпуска; и сентябрьских закатов, которые с каждым днем наступают все раньше, возвещая о том, что осень не за горами.
В Риме множество мест, хранящих таинственные истории; некоторые из них я люблю рассказывать моим друзьям-иностранцам, навещающим меня, или же тем, кто еще не знает их, хотя и прожил в Риме всю свою жизнь.
Больница Санто-Спирито на набережной Тибра, рядом с Кастель Сант-Анджело[25], со всем своим прошлым является таким местом. Это одна из старейших лечебниц Европы, от одной мысли о ней мороз пробегает по коже. Самое интересное, что, согласно преданию, к строительству больницы на берегу реки для приюта старикам, калекам и младенцам-подкидышам папу Иннокентия III подтолкнул сон: ангел явился перед ним и рассказал о вине жестоких матерей, которые бросали в Тибр нежеланных младенцев. Значение колеса, которое все еще виднеется слева от монументального главного входа в стиле барокко в больнице Санто Спирито, заключалось в следующем. Эти сооружения назывались «колеса выставленных напоказ»: на колесо укладывали незаконнорожденных младенцев, которые, после приемки настоятельницей, получали метку двойным крестом на левой ножке и вновь «выставлялись» на колесе на предмет возможного усыновления. Каждый малыш регистрировался как filius m. Ignotae[26], причем буква m. означала matris[27]. Однако с учетом того, что на точку после буквы «т» никто не обращал внимания, в простонародье это словосочетание произносилось как filius mignotae[28], откуда и пошел термин, используемый некоторыми в Риме, «mignotta»[29].
Так что если вы пойдете на стадион в Риме посмотреть футбольный матч, то услышите это ставшее нарицательным прозвище, в особенности в отношении родительницы судьи.
Не могу удержаться и расскажу историю, довольно авантюрную, одного из моих любимых римских памятников – фонтана Треви, места, популярного не только у туристов, но и у некоторых взрослых римлян. Фонтан этот имеет древнейшее происхождение, поскольку является художественным оформлением выхода Аква Верджине[30], акведука, который Марк Випсаний Агриппа построил в Риме в 19 году до нашей эры, чтобы снабжать водой римские бани. Название источник, Вода Девы, получил, по преданию, в честь девушки, по-латыни virgo, которая указала Агриппе место, откуда ключом била вода.
Таким образом, на теперешней площади Треви Агриппа установил один из небольших фонтанов акведука, состоящий из трех чаш для сбора воды. Вереница реставрационных работ и переделок превратила эти чаши в чудесный фонтан, который сегодня занимает почти всю площадь. В первой половине семнадцатого века, при папе Урбане VIII, фонтан начал приобретать свой теперешний вид. Папа решил превратить его в грандиозный памятник и с этой целью нанял великого скульптора Джованни Лоренцо Бернини. Тот представил целый ряд проектов, один дороже другого, так что для осуществления финансирования этой затеи папа был вынужден увеличить налоги, а именно на вино. В историю по этой же причине вошел и папа из рода Барберини:
И Урбан VIII, и Бернини умерли, так и не увидев готовый фонтан; работу завершил в восемнадцатом веке Николо Сальви.
Среди историй, которые рассказывают о знаменитом фонтане, наиболее известной является легенда, согласно которой тот, кто бросит туда монету, повернувшись к нему спиной, рано или поздно возвратится в Рим. Менее известной, но более любопытной является другая, связанная с огромной вазой, находящейся на правой стороне фонтана и прозванной «чашей-туз» за сходство с игральной картой: она якобы была установлена там, чтобы критически настроенный в отношении проекта Бернини цирюльник, чье заведение находилось как раз на этой стороне площади, не видел проводимых работ и перестал поносить последними словами этот замысел! Вероятно, если бы он смог представить себе красавицу, подобную Аните Экберг[31], погружающуюся в фонтан при свете луны, то сменил бы гнев на милость…
Другое место, которое мне нравится посещать и водить туда гостей Рима, – церковь Святого Игнация Лойолы: каждый раз я испытываю удовольствие при виде потрясения своего спутника, если ему удается догадаться, что купол церкви ложный. Автором этого чудесного обмана зрения был Андреа Поццо, который создал оптическую иллюзию и представил дело так, что потолок является куполом. На полу имеется отметина в направлении алтаря, указывающая на идеальную точку для рассмотрения ложного купола.
Похоже, речь идет о грандиозной уловке, к которой прибегали по причине внезапной нехватки денег. Построить величественный купол из каменной кладки, предусмотренный проектом, оказалось невозможным. Андреа Поццо был истинным мастером в создании ложной перспективы, и весьма забавно оказаться перед его творениями и немного поломать себе голову для осознания, что такие работы, как коридор комнат Святого Игнация в церкви Джезу[32], на самом деле намного меньше, нежели кажется при первом взгляде.
Площадь Святого Петра также играет шутку со зрением посетителя, в этом случае такую, которая очень нравится детям: «два центра колоннады». Эта площадь имеет овальную форму, но овал на самом деле состоит из двух полукругов, окаймленных четырьмя рядами колонн, число которых можно определить с любой точки этой площади, за исключением двух центров полукругов, или «двух центров колоннады», где создается впечатление, что стоят не четыре ряда колонн, а только один.
Для нас, детей, выросших по соседству с Сан Пьетро, «центры колоннады» были основным аттракционом в городе, которые нам нравилось показывать туристам или приехавшим в Рим друзьям; признаюсь, иногда мы использовали их как ворота для импровизированной игры в футбол. Дело в том, что до покушения на папу Иоанна Павла II[33] на площади Святого Петра не было барьеров и особо жестких систем слежения, поэтому группе ребят, отправляющейся на прогулку, обязательно с мячом, было трудно устоять перед искушением использовать такое гостеприимное пространство. И когда охранники предлагали нам возвратиться для игры в свой приход, казалось, что их больше заботило, как бы мы не потревожили послеобеденный отдых папы, нежели факт использования одного из самых святых и посещаемых мест в мире таким образом, как будто это был наш стадион Маракана[34].
Другим местом, которое в состоянии приберечь немало сюрпризов, является Авентин, один из семи римских холмов, возможно, наиболее живописный. Он вздымается над Чирко-Массимо[35], на его склонах расположился великолепный городской розарий Рима, в то время как наверху видны средневековые церкви Святого Ансельма, Святого Алессио и Святой Сабины, прекрасные и романтичные: трудно представить, сколько бракосочетаний заключается здесь каждый день! И, примите к сведению, если вы хотите завоевать сердце девушки, то это одно из первых мест, куда вам следует повести ее, назначив встречу у чудесного Апельсинового сада.
Но главной причиной, из-за которой я, будучи ребенком, обожал Авентинский холм, стала площадь Мальтийских рыцарей, где располагался одноименный орден, во дворце с величественным входом и постоянно запертыми воротами.
Любой, кому случается проходить мимо, не удержится от того, чтобы удовлетворить свое любопытство: ворота как будто нарочно поставлены именно там, где каждый может беспрепятственно заглянуть в замочную скважину, не стыдясь делать этого, не чувствуя себя совершающим нечто компрометирующее, и прежде всего потому, что там нет никого, кто готов осудить и упрекнуть. Да и с другой стороны, там не обнаружишь ничего ужасающего или неприличного, а только один из самых красивых видов в Риме: длинный бульвар с двумя рядами деревьев, кроны которых, сплетаясь между собой, образуют глубокую перспективу из арок. Создается впечатление, что она кончается как раз куполом собора Святого Петра, виднеющегося в отдалении на заднем плане.
Мне также вспоминается мое удивление, когда меня впервые привели сюда ребенком: я испытывал безумный страх, глядя в скважину, потому что мои родители всегда твердили мне, что такие вещи делать не следует, к тому же меня пугала мысль о том, что я могу там увидеть. Но когда передо мной возникла эта прекрасная перспектива, мой глаз превратился в нечто вроде присоски, не способной оторваться от необыкновенного зрелища. С тех пор это место прочно поселилось в моем сердце, и я стараюсь привести всех друзей, которые там никогда не были, чтобы понаблюдать за их реакцией, поначалу робкой, затем переходящей в экстаз, дабы сделать им подарок, который они никогда не забудут. Так же, как и я не забуду их взгляды, полные изумления и ошеломления.
Потому что Рим всегда может предложить нечто особое: украдкой восторженно рассматривать арку прохода во двор старинного дворца, с улицы любоваться деревянными потолками во многих домах или вдыхать запах ладана и свечей в церкви, которую посетил в первый раз, – все это заставляет вас испытывать волшебный привкус чего-то необычного.
Время от времени глоток воды из «носища», типичного фонтанчика с изогнутым носиком для подачи питьевой воды, коими изобилует Рим, прерывает прогулку, имеющую своей целью для нас, римлян, посещение магазинчиков, как правило, выпадающих из поля зрения туристов. Не то чтобы нас порой не тянет заново навестить (читай: в несчетное количество раз с рождения) Колизей или Пантеон, но пить кофе на небольшой полускрытой площади, когда тебя ласкает весна, под взглядом довольно потягивающегося кота… это совершенно другое дело.
И все это, а также и многое другое – Рим. Это город с тысячью лиц, но для римлянина это просто Рим.
Согласен, он является Вечным городом, столицей мира, колыбелью современной цивилизации. И хотя это запечатлено в душе и мозгу римлянина, часто он забывает об этом.
В Аризоне рождаются случайно, случайно рождаются в Чили или в Индии, случайно на Гаити, в Кении или на Виргинских островах. Можно появиться на свет в тысяче других стран, ты даже не знаешь их все. Однако же, если случайно ты рождаешься в Италии, да к тому же еще в Риме, в определенный момент жизни начинаешь ощущать, что родиться в Чили или в Индии было бы чем-то иным. И вовсе не по очевидным причинам. Ты можешь ничего не замечать до отрочества и продолжать играть в мяч, заставляя его отскакивать от Аврелиановых стен на высоте ворот Метрония: им всего-то по две тысячи лет, но ты еще не знаешь этого. Взрослым ты можешь притворяться и думать о чем-то другом, когда, находясь в пробке более часа и трясясь на покрытии площади Святого Петра, имеющем тот же возраст, что и стены, отдаешь себе отчет в том, что Колизей уже лет двадцать используют как разделитель транспортного потока. И, разозленный опозданием, которое, как и всякий раз, отравляет тебе деловую встречу, даже не замечаешь всю эту историю вокруг тебя.
Однако же в какой-то момент жизни до тебя доходит, что тебе выпала судьба появиться на свет в самом красивом городе мира. И тогда начинаешь соображать, что он дал тебе.
На память приходят поездки на «Римское море», в Остию, когда ты был ребенком, и восхищаешься пляжем – столько километров песка и средиземноморского кустарника, незагаженного и душистого, находятся так близко от дома и от шума городского. Вспоминаешь о первых вылазках на мопеде, когда ты пересекал город тайком от родителей и тебе казалось, что ему нет конца. И возможно, была весна, и Рим купался в великолепном освещении, и душу искушало желание рвануть на луга, которые тянутся по обеим сторонам Старой Аппиевой дороги, или на Римский форум, идеальные места, чтобы удалиться туда со своей первой девушкой, дабы никто тебя не обнаружил.
Вспоминаешь выходы вечером, на свидания, назначенные на улице Императорских Форумов, где, возможно, катились колесницы самых знатных римлян, но которая для тебя и твоих друзей была всего-навсего отличным местом для игры в мяч.
Потому что, с улыбкой вспоминается тебе, в Риме всегда найдется тот, кто ездит по городу с мячом в багажнике.
И потом вечера в Трастевере, пицца, настоящая римская, тонкая и хрустящая, которую выносят тебе в переулочках на салфетках из белой бумаги.
И в памяти всплывает все, что ты делал с детских лет и продолжаешь этим заниматься: как ты ешь рогалики глубокой ночью в переулке Пяти в Трастевере или в Тестаччо, неподалеку от Газометра; по меньшей мере раз в год любуешься шедеврами Караваджо, который не был римлянином, но также прекрасно чувствовал себя в этом городе – «Призвание Святого Матфея» в церкви Святого Людовика и «Мадонну пилигримов» в церкви Святого Августина; выстаиваешь десять минут в очереди, чтобы за тридцать секунд выпить кофе в баре «Сант-Эустакио», рядом с Пантеоном; развлекаешься, читая сонеты, написанные прохожими на цоколе памятника Паскуино[36], которые клеймят очередное правительство, не важно, правое или левое, оно все равно несправедливое; проходишь мимо пирамиды Цестия, являющейся копией египетской пирамиды уменьшенного масштаба, но относящейся к 12 году до Рождества Христова, думая, что там, рядом, на католическом кладбище, покоятся Китс и Шелли, Грамши[37] и Гадда[38]. И болтаешь с обычным официантом остерии рабочего квартала на окраине, где ты ешь спагетти алла карбонара, не такие легкие, как большая часть блюд римской кухни, но столь хорошо приготовленные, что таких вы не найдете больше нигде в мире.
И, таким образом, погрузившись в воспоминания о прошлом, ты каждодневно переживаешь их в настоящем и начинаешь думать, что если ты продолжаешь в течение стольких лет проезжать мимо Колизея, считая его всего-навсего отличным разделителем транспортного потока, тебе действительно повезло родиться в Риме.
3. «Anywhere like Heaven»[39]
Однажды, во время воскресной службы в небольшой церквушке поблизости от дома, когда священник читал Евангелие на странном языке – нечто среднее между испанским и итальянским, я задался вопросом: а сколько же церквей в Риме?
Я провел расследование по Интернету, исключительно из любопытства. Мне не удалось найти точного ответа, хотя какой-то полоумный написал, что сосчитал их и вышел на цифру 230.
На этот вопрос трудно ответить, учитывая протяженность исторического центра города. Даже если ты живешь в Риме всю свою жизнь, значительная часть которой была посвящена посещению его церквей, куда либо тебя таскали родители, либо ты сам сопровождал приезжих друзей.
Тем временем, кружа по городу, рано или поздно вы обязательно увидите одну: купол, как мы любовно называем его. Именно так, потому что базилика Святого Петра в Ватикане, построенная в том месте, где был похоронен апостол Петр, помимо того, что она является символом Рима во всем мире, для нас, римлян, – старинный друг, подлинный и незыблемый оплот надежности и устойчивости.
Несколько лет назад, когда не было такого риска покушений, как сейчас, и еще не проверяли детектором на металл при входе в базилику, почти каждая вечерняя прогулка по центру заканчивалась, кто его знает почему, выходом в центр огромной площади, творения Бернини. И всякий раз я неизбежно испытывал одно и то же странное ощущение ничтожности перед этим величием. Базилика Святого Петра на самом деле грандиозна: это самая большая католическая церковь в мире. Всего несколько лет назад в Риме действовало неписаное правило: ни одно здание не должно превосходить по высоте купол или даже приближаться к нему. Но времена меняются, теперь и в Риме появились небоскребы…
К тому же базилика Святого Петра является центром католической религии. Мысль об этом также производит известное впечатление, даже на тех, кто не исповедует веру. Почти невозможно перечислить сокровища, которые хранятся в ней: мраморные бюсты, статуи, надгробия, гобелены, картины, фрески, мозаики, лепнина. Тотчас же при входе ваше внимание привлекает группа людей справа. Там находится «Пьета»[40], на мой взгляд, самая прекрасная, самая трагичная, самая гуманная скульптура, когда-либо созданная человеком, работа Микеланджело, когда ему едва исполнилось двадцать четыре года. Теперь этот шедевр защищен стеклянной витриной после того, как в 1972 году безумец бросился на нее, ударив в нескольких местах молотком.
В ходе моих паломничеств не к святым местам, но к морскому побережью Рима я всегда наталкивался на базилику Сан-Паоло-фуориле-Мура[41], которая, в свою очередь, была создана на том месте, которое по традиции считается могилой святого Павла. Она находится на улице Остиенсе, поблизости от берега Тибра, теперь заполоненного кафе, барами и известными ресторанами вроде того, где ужинал вечером Пьер Паоло Пазолини[42] перед тем, как его убили. Оказываясь в этом районе, я непременно заезжаю в то место, которое мы, римляне, для краткости называем «Три фонтана», на расстоянии примерно трех километров от базилики: это комплекс из трех церквей и одного монастыря в местечке, где царит необычайная тишина и куда попадаешь, свернув с огромной и шумной римской магистрали, улицы Лаурентина.
Этот комплекс называется «Три фонтана» по очень любопытной причине: здесь в 67 году нашей эры был обезглавлен святой Павел, и его голова, согласно преданию, трижды подскочила при ударе о землю, причем после каждого удара из земли забил источник; именно в память об этих трех источниках построены три церкви. Самое старое здание – монастырь, был основан в 625 году, и в нем по очереди обитали греческие монахи, затем члены ордена бенедиктинцев и цистерцианцев. Распространение малярии заставило их покинуть это место, которое затем оказалось вверено заботам святых отцов из ордена траппистов, засадивших местность эвкалиптами, деревьями, почитавшимися как верное средство против малярии. Невероятно, но и в наши дни, по прошествии веков, трапписты производят эвкалиптовый ликер, который вместе со знаменитым шоколадом и различными лечебными снадобьями из трав продается в маленьком магазинчике во дворе. Округа утопает в зелени и погружена в сон. Это место, где можно обрести немного покоя, вдали от транспортного шума и городского хаоса.
Другая удивительная история, которую мне рассказывал мой отец, опять-таки когда я был маленьким, связана с другой папской базиликой, Санта-Мария-Маджоре. Она была сооружена в том месте, где, согласно легенде, в ночь с 4 августа 352 года чудесным образом выпал обильный снег.
Сама эта история является совершенно захватывающей: благородный патриций по имени Джованни, не имевший детей, вместе с женой решил принести церкви в дар все свое имущество и построить базилику в честь Девы Марии. Легенда утверждает, что обоим в ночь с 4 на 5 августа 352 года во сне явилась Святая Дева, открыв им, что место, на котором следует воздвигнуть церковь, будет указано чудом. Папу посетил такой же сон, и на следующий день, отправившись на Эсквилинский холм, он обнаружил, что тот покрыт снегом. Тогда он начертил на нем периметр здания, и церковь была построена за счет двух супругов, приобретя известность как церковь Святой Марии «в снегах», хотя то, что мы видим сейчас, является реконструкцией последующей эпохи. Мадонну Снегов по всей Италии празднуют 5 августа, и она является покровительницей примерно сорока итальянских городов.
В Риме же в августе каждый год «выпадает снег» из белых лепестков. Кто знает, что думает об этом Бернини, который покоится именно в этой базилике…
При всем этом изобилии церквей удивительно, что в Риме чаще, нежели в любом другом месте, имеют обыкновение говорить, что их всего-навсего семь: знаменитый обход семи церквей.
Только уже став взрослым, я задался вопросом, какие же эти семь церквей и почему каждый римлянин, включая меня, время от времени перечисляет их. И обнаружил, что обход семи церквей на самом деле был древнейшим маршрутом паломничества. Святой Филиппо Нери в 1540 году установил, что паломник, навещающий Рим, должен в Святую Пятницу отправиться помолиться в семи церквях, самых главных в те времена… и, ясное дело, единственный способ, которым это можно было осуществить, – хождение пешком! Бросаю вызов любому, кто сможет найти римлянина, который за свою жизнь умудрился посетить все их за один день. Тем более добрался до них пешком, а не со всеми удобствами на автомобиле.
И каковы же были эти «семь церквей»? Кроме четырех базилик патриарха, то есть Святого Петра, Сан-Джованни-ин-Латерано, Сан-Паоло-фуори-ле-Мура и Санта-Мария-Маджоре, к ним относились Сан-Лоренцо-фуори-ле-Мура, Санта-Кроче-ин-Джерузалемме[43] и, наконец, Сан-Себастьяно-фуори-ле-Мура, недалеко от одноименных катакомб, поблизости от Старой Аппиевой дороги.
Но в Риме существуют также и современные церкви. Как-то в одно зимнее воскресенье меня начало снедать любопытство. Несколько лет назад строительство церкви в пригородном рабочем районе Рима, Тор-Тре-Тесте, вызвало ожесточенные споры. Чтобы воздвигнуть ее, администрация решилась побеспокоить великого мастера современной архитектуры, Рихарда Майера.
В действительности Майер выиграл нечто вроде конкурса, объявленного по случаю празднования 2000 года, и в 1998 году был заложен первый камень. Но церковь Господа Милосердного, как она называется, была закончена намного позже после празднования 2000 года, в 2003-м, и представляет собой нечто вроде собора в безликом районе, тесно застроенном невыразительными зданиями. Майер также спроектировал вызвавший споры колпак, закрывающий Алтарь Мира[44] на набережной Тибра. Он выполнил грандиозную работу, производящую возвышенное впечатление: три огромных белых самонесущих паруса, высочайший из которых достигает 26 метров. Солнечный луч никогда не проникает туда, за исключением одного момента после обеда, когда пучок солнечных лучей через небольшое окошко освещает распятие, установленное внутри.
Ну что тут скажешь? Определенно, церковь красивая. Но если подумаешь о соборе Святого Петра и его куполе, самом знаменитом в мире…
4. «Long ago and far away»[45]
То, о чем я рассказал вам, – это Рим, который каждый его житель учится узнавать уже взрослым, когда отдает себе отчет в том, какие красоты и сокровища таит в себе этот город. Но у маленького мальчика Луки Спагетти голова была забита совершенно другим.
Вероятно, в жизни каждого итальянского мальчишки воскресенье занимает особое место. В самом деле, я вспоминаю все воскресенья моего детства как сплошной праздник. В том смысле, что все, что происходило со мной в воскресенье, для меня имело оттенок особого события. Уже субботним вечером я ложился спать с мыслью о пробуждении, возвещавшем о замечательной возможности, которая никак не могла иметь место в течение недели: об игре в мяч утром.
Конечно же, прежде чем дать выход энергии и футбольной доблести на поле нашего прихода с покрытием из пуццоланы[46], обязательным этапом для всех ребят была воскресная служба в десять часов, учрежденная специально для них. Если говорить начистоту, то желание поиграть в мяч было настолько сильно, что мы охотно обошлись бы и без службы, но в глубине души воспринимали ее благосклонно, потому что это был повод для маленьких футболистов собраться всем вместе в точно назначенное время поблизости от поля. С того момента, когда мы чинно размещались на скамейках друг подле друга, уже во время проповеди начиналась работа по определению состава команд.
По окончании службы мы давали выход нашему футбольному зуду, и орда вопящих огольцов вываливалась на площадку, явно слишком маленькую для того, чтобы уместить всех. Уже потому, что ребенок присутствовал на службе, он имел право принять участие в игре, даже если ему не доставался мяч. Так что воскресное состязание выливалось во встречу двух фаланг ребятишек, числом под тридцать в каждой команде. В довершение этого, у всех были майки разных цветов.
Когда свисток возвещал о начале матча, армия малолетних сорванцов бросалась преследовать мяч подобно стае свихнувшихся обезьян. Мяч обычно был марки «Супертеле», то есть кусок пластика сферической формы, который летал по воле ветра и потому был совершенно неуправляем. Отскакивания рикошетом было невозможно предугадать на поле, где кроме почвы имелось множество разнообразных подвохов: платановые деревья высотой в десятки метров, преграждавшие путь выбросам в сторону, колдобины, камни и острые выступы, делавшие игровое поле довольно коварным, безобразная стенка из туфа высотой тридцать сантиметров, окаймлявшая границу поля. За одними воротами из проржавевших столбов возвышалась пятиметровая стена, за другими, из еще более проржавевших штанг – высоченная сетка, которая должна была бы защищать стекла соседних домов. Должна была бы…
Я помню матчи, в которых мне ни разу не доводилось коснуться мяча; я только глотал пыль, поднятую другими озорниками, гонявшими по полю с проворством, достойным Койота и Бип-Бипа[47]. Часто и охотно, когда стая сбивала меня с ног, я оставался лежать, чтобы посчитать упавших, которые постепенно появлялись на поле по мере того, как рассеивалась туча пыли.
Некоторые игроки, более безжалостные и менее склонные к трудам, выстраивались прямо на линии ворот противника в надежде, что судьба подкатит им под ноги мяч, обеспечив возможность легко отправить его в сетку. Когда такое случалось, празднество длилось около четверти часа, и возобновление игры становилось делом чрезвычайно сложным.
Эти матчи обычно прекращались, когда одни за другими являлись родители, уводя своих детей, или же назначаемый по очереди судья официально объявлял, что настал час обеда.
Естественно, обеденное время было делом существенной важности. К часу дня детвора разбегалась по улицам квартала, чтобы преодолеть несколько сот метров, отделявших их от дома; во время этого путешествия я всегда пускал слюнки при виде чудесной вывески кондитерской рядом с домом. Ибо воскресный обед не обходился без пирожных.
В кондитерской всегда змеилась длинная очередь, потому что все старались сделать покупку до часа дня, дабы обеспечить себе преимущество приобрести сладости из последней партии свежей выпечки и не заставлять пирожные слишком долго томиться в домашнем холодильнике. Всегда возникал бурный спор по поводу того, какой же самый лучший размер пирожного: кое-кто предпочитал птифуры, вероятно, эти лакомки являлись истинными ценителями сладостей, потому что они выгадывали на возможности попробовать несколько их разновидностей сразу, но при этом тешили себя иллюзией, что потребляют меньше калорий. Некоторые же, наоборот, были склонны воздать должное большому размеру, настоящему пирожному, которое при первой же атаке на него взрывается у вас во рту изобилием крема. Перед пирожными не может устоять никто, даже тот, кто не питает особой слабости к сладкому, и уж это воскресное лакомство действительно несло в себе привкус праздника.
После посещения кондитерской кое-что еще напоминало мне, что я голоден как волк: аромат рагу, исходящий из домов. Воскресного рагу. Хотя я так никогда и не смог разобраться, как же правильно пишется это слово, ragu, ragout или ragou, но оно в любом написании одинаково возбуждает аппетит.
Конечно, мы жили не в Неаполе и не в Болонье, однако же и в Риме мы умеем готовить рагу. На сегодняшний день, возможно, традиции уже несколько утеряны, но это изысканное кушанье всегда остается единственным истинным «воскресным угощением» по многим причинам: прежде всего из-за времени, необходимого для его приготовления, которое итальянские матери семейств могут выкроить только на седьмой день недели; нельзя не признать и роль экономической подоплеки, то есть стоимости составляющих его продуктов. Не будем упоминать и о калорийности: наверняка лишь немногие были бы в состоянии возобновить работу в послеобеденное время, предварительно набив себе желудок доброй порцией фетуччини аль рагу.
Традиционный рецепт нашей семьи Спагетти состоит в том, чтобы подрумянить в нескольких ложках оливкового масла телятину с салом, грудинкой, петрушкой, перцем, измельченным чесноком и луком. Когда мясо как следует подрумянилось, огонь уменьшают и начинают медленно подливать вино, давая ему выпариваться и продолжая добавлять до тех пор, пока не образуется однородная смесь.
Тогда кладут томатное пюре и продолжают томить на медленном огне, пока соус не примет очень темно-красный цвет. Все это требует чрезвычайно длительного времени приготовления, но еще более длительного времени «выдержки», чтобы все ингредиенты могли идеально перемешаться. Некоторые готовят рагу за сутки вперед, чтобы оно было готово и «настоялось» для обеда на следующий день.
Чтобы потом корочкой собрать подливу, оставшуюся после первого, в нашем доме никогда не испытывалось недостатка в хлебе, который покупался непосредственно у булочника в Трастевере. По завершении ритуала удаления соуса с тарелки чуть ли не досуха мы все были готовы наброситься на второе, которое чаще всего состояло из рулетиков, фаршированных чесноком, сыром, солью и перцем. Мощное подкрепление на тот случай, если рагу оказалось недостаточно.
Однако же перед тем, как предаться воскресному кутежу, я должен был преодолеть последнее препятствие, которое для ребенка на самом деле могло представлять некоторое затруднение: переход улицы. Ибо я жил на улице Папы Григория VII, длинной магистрали, ведущей прямо на площадь Святого Петра, и в этот час в воскресенье по ней беспрерывно и хаотично снуют прохожие, автобусы и автомобили, возвращающиеся с молитвы, вознесенной к Святой Богородице.
Не знаю, сколько раз мне приходилось пересекать улицу Григория VII, чтобы пойти в собор Святого Петра, но один такой поход мне запомнился особо: день, когда избрали папу Иоанна Павла II. Весь город пришел в движение по случаю этого события, а также и толпы некатоликов, поскольку, в сущности, папу в Риме считают кем-то вроде престарелого дядюшки, одним словом, членом семьи. Много раз мне приходилось выжидать, сидя на мотороллере, по приказу регулировщиков, невзирая на зеленый свет светофора, чтобы пропустить папу с его свитой, и всегда меня забавляло ошеломленное выражение лиц туристов, стоявших у светофора подле меня, когда я объяснял им: «Папа едет!» Их устрашенные физиономии всегда возбуждали во мне некоторое подобие нежности.
Избрание Иоанна Павла II для меня было действительно волнующим событием. Мне объяснили, что итог выборов я пойму по цвету дыма, который пойдет из дымохода Сикстинской капеллы: черный дым означал отрицательный результат, то есть ни один из «кандидатов» не набрал двух третей голосов в свою пользу, белый дым сообщал об избрании нового понтифика. Опять-таки меня просветили, что черный дым возникает от сожжения бумаг, а белый – при добавлении влажной соломы.
Зараженный волнениями людей вокруг меня на огромной площади Святого Петра, я ни на секунду не сводил глаз с дымохода, надеясь увидеть, как начнет виться белый дымок. Вместо этого после длительного ожидания появился унылый черный дым, сопровождаемый разочарованным «ооххх» толпы, извещая нас, что попытка не удалась.
Я спросил у родителей, не может ли конклав остаться на совещании еще некоторое время, возможно, они передумают и перед тем, как отправиться спать, изберут кого-то, так что на следующий день я смогу рассказать в школе, что «я там был». Мне опять-таки разъяснили, что это не так просто и быстро, как поджарить пару колбасок на углях, и мы отправились по пологому склону улицы Григория VII, которая привела нас к дому. Мне удалось увидеть белый дым только по телевизору, так же как и первое выступление Иоанна Павла II.
Ясно, что в обычное воскресенье на молитву Святой Богородице не являлась такая толпа, как в день избрания, но, для того чтобы пересечь знаменитую улицу Григория VII, мне пришлось быть очень внимательным. Вернувшись домой, я имел возможность восстановить за столом силы, оставленные на приходском футбольном поле. Однако это была лишь короткая передышка – в полтретьего начиналось событие, которое я ожидал в течение всей недели: футбольный чемпионат серии А.
Поскольку я пообедал дома, у меня не было возможности посетить стадион, так что следить за игрой я мог, лишь припав к радио. Существовало два варианта: либо вернуться на футбольную площадку с моими друзьями и вместе с ними слушать известия о происходящих событиях, ведь там всегда были один или несколько радиоприемников, либо сконцентрироваться на словах радиокомментаторов дома. По мере того как текли минуты, я пытался запомнить тембр голоса журналиста, который вел передачу о «Лацио», команде, за которую я болел, и каждый раз, когда кто-то вмешивался, чтобы сообщить о голе, мне казалось, что я чувствовал удар в грудь кулаком, и некоторые доли секунды пытался понять, не раздался ли этот голос с площадки, на которой играли наши ребята. Но часто у радиокомментаторов были похожие голоса, и я приходил в волнение, когда говорящий объявлял о голе, но потом отдавал себе отчет в том, что его забила не «Лацио».
По окончании матча, чтобы восстановиться после серьезного напряжения от прослушанной радиопередачи, мы в отличие от взрослых, все еще изнемогающих после рагу, рулетиков и пирожных, возвращались на поле, где играли до вечера, если нам разрешали родители.
Послеобеденный футбол не являлся исключительно воскресным развлечением: мы играли каждый божий день, независимо от того, были занятия в школе или нет, случился ли всемирный потоп или стояла сорокаградусная жара, мы играли, пока у нас была хоть какая-то возможность. Зимой мы превращались в летучих мышей, продолжая бегать за мячом, когда его уже не было видно. Я даже играл в темноте в одиночестве, пока родители не приходили за мной после того, как уже обзвонили все больницы в окрестностях…
Однако же над послеобеденными матчами в течение недели висела тяжкая повинность: урок катехизиса. Из шестидесяти сорванцов, гоняющихся за мячом, каждый день после обеда группами, человек по пятнадцать, мы должны были покидать поле, чтобы присутствовать на часовом уроке в здании прихода. Игра прекращалась за несколько минут до урока, и те, кому выпал жребий, уходили с рыданиями и истериками, в то время как другие с легким сердцем продолжали носиться по полю.
К счастью, площадка была окружена небольшими холмами с богатой растительностью, и примерно за четверть часа до рокового момента детвора скрывалась между ветвями деревьев, чтобы их не поймали за чуб и не отвели на урок. На поле царствовали те, кто по какому-то странному капризу судьбы не ходили на катехизис.
Как только проверка заканчивалась, буквально через несколько минут орда хоббитов вновь появлялась из леса и невозмутимо возобновляла игру, которой не видно было конца.
После матча по возвращении домой юных футболистов ожидало самое скучное – купание. Мне трудно сказать, сколько килограммов пыли в состоянии притащить домой ребенок после такой игры, сколько грязи пристает к рукам, впитывается с потом в майку, оседает в складках носков. Факт остается фактом: лично я для экономии времени спокойно бы улегся в постель в таком виде – тем более что на следующий день после десяти минут игры я достигал такой же степени чумазости, – однако моя мать регулярно подвергала меня тщательному и длительному мытью.
Я пытался вести с ней переговоры, чтобы выторговать купание по меньшей мере раз в два дня вместо каждого божьего вечера, но она не поддавалась никакому убеждению. Мне сильно досаждало, что из-за ее упорства я терял возможность участвовать в особом состязании: соревновании раскрашенных всеми цветами радуги ног.
В конце семидесятых годов все мальчишки были обуты в одинаковую спортивную обувь: внушающие страх кеды «Мекап». Они были изготовлены из прорезиненного полотна сине-зеленого цвета и имели общее свойство: при соприкосновении с потными ногами становились на размер меньше и, помимо того, что исключали использование носков, оставляли на коже пятна самой фантастической окраски. Художественные творения, возникающие сами по себе, которые отпечатывались на наших ногах, являли собой нечто галлюциногенное, чудесное, почти гипнотическое. Но прежде всего это был вид соревнования. Мы могли часами восторгаться этими произведениями поп-арта, охватывавшими всю гамму зеленых и синих оттенков, шедеврами, которые могли претендовать на место в нью-йоркском Музее современного искусства. Впрочем, в то время, как и всем гениям, нам было суждено остаться непонятыми.
Только самые смелые или удачливые, то есть те, которым посредством сложных переговоров или же под весомым предлогом удавалось избежать цепких рук своих мамаш и не мыть ноги в течение двух или трех дней подряд, могли надеяться на победу в «состязании радужных ног». Мне же после игры в воскресенье явно было не на что уповать: ноги не только мыли до восстановления естественного цвета, но еще и дезинфицировали этиловым спиртом.
После вечернего омовения для нас, юных футболистов, наступал час отхода ко сну. По крайней мере так было в течение недели. А воскресный вечер приберегал для нас последний волшебный подарок: «90 минут» – спортивную передачу, страстно ожидаемую всей Италией, о ней возвещали музыкальные позывные, которые невозможно было спутать ни с чем, любой итальянец был в состоянии узнать их, даже если бы его глубокой ночью сбросили с кровати.
Условным сигналом были последние аккорды музыки к телефильму «Следите за этими двумя», более известного за границей как «Мастера убеждать»: звуки этой мелодии означали, что через несколько минут начнется ожидаемая с таким нетерпением спортивная программа.
С начала «90 минут» до позднего вечера, когда меня загоняли в постель, я купался в потоке сообщений, кратких описаний матчей, монтажных вставок и комментариев: будь на то моя воля, я бы слушал их бесконечно. Если моя команда «Лацио» выигрывала, то я предавался золотым снам, в противном случае отправлялся спать несколько встревоженным при мысли о том, что завтра после школы мне предстоит возобновить повседневную битву с болельщиками команды «Рома»: этот извечный конфликт между Добром и Злом.
Естественно, я олицетворял собой Добро.
5. «Secret o'life»[48]
Об этом бесполезно говорить: с самого нежного возраста, как и многие итальянские дети, я твердо решил, что стану футболистом. То, что у меня может не оказаться соответствующего таланта, являлось вопросом совершенно второстепенным. Для себя, ежедневно игравшего со своими друзьями в приходском молодежном клубе с полудня до заката, а потом продолжавшего игру в одиночку на террасе дома, я не видел иного будущего.
Когда опускалась тьма и игра на приходском поле заканчивалась, я возвращался домой и возобновлял ее на террасе, заставляя отца играть со мной, или же в одиночестве бил мячом об стену. Думаю, что для моей матери это был самый настоящий кошмар: начиная с грязи, покрывавшей меня, когда я возвращался домой, до постоянного равномерного стука мяча о наружную стенку гостиной. Ей, должно быть, пришлось тяжко. Только любовь матери помогала вынести подобную пытку. Полагаю, что, если бы сегодня в доме завелся такой проказник, я выплеснул бы ему на голову кипящую воду, только что слитую с готовых спагетти!
Благодаря ежедневным тренировкам с утра до вечера мне казалось, что я играю все лучше, и ночью под одеялом я воображал себе долгую карьеру, расцвеченную успехами. Я буду играть всегда и только за мою команду «Лацио», пока не попаду в сборную и не выиграю чемпионат мира, забив решающий гол в самом ожесточенном финале в истории футбола; и тогда мой вопль радости станет помесью выкриков Роки Бальбоа на ринге и Марко Тарделли в финальном матче 1982 года против Германии. Я подниму кубок чемпионата мира перед океаном итальянских флагов и обязательно стану легендой.
Сколько раз я погружался в эти золотые мечты… Но каждый раз примешивался кошмар, спрятанный под притягательным звучанием моей фамилии: а если вместо выигрыша в результате моего решающего гола мы проиграем чемпионат мира из-за моего удара в собственные ворота? Что напишут в «Гадзетта делло Спорт» на следующий день на первой странице аршинными буквами? Я просто уверен в этом: «Объелись Спагетти»!
Правда, я играл в нападении, то есть ближе к воротам противника, нежели к своим, отсюда больше возможностей забить гол, нежели угодить в собственные ворота, но, конечно же, всегда существовала вероятность чего-то непредусмотренного: удар в штангу, неожиданный угловой удар по мячу соперниками, никогда нельзя загадывать. Одним словом, всегда можно ожидать подвох с возможностью «объесться Спагетти». Естественно, если бы потенциальный гол в свои ворота забил какой-нибудь Карло Бьянки или Марио Росси, то это была бы совсем другая история.
Однако же ничто не мешало мне тешиться мечтами. И отчаянно болеть за команду моего сердца, «Лацио».
Я рожден с «Лацио» в душе. Или по меньшей мере так мне кажется, потому что не помню точного момента, когда я стал ее болельщиком, а отсюда и ощущение, что это было всегда. Конечно, празднование 1974 года в честь первого в истории выигрыша моей команды чемпионата Италии дало существенный толчок моей футбольной вере, но, возможно, это были какие-то подсознательные послания, исходившие от моего отца, страстного приверженца «Лацио», когда я еще пребывал в чреве моей матери, и побудившие меня стать закоренелым лациистом.
«Лацио» – первая римская команда, которая была основана в 1900 году в самом сердце Рима, на площади Свободы, с выходом на Тибр, где и сегодня болельщики ожидают полночь с 8 на 9 января, чтобы отпраздновать день рождения своей любимой команды. В честь Греции, родины Олимпийских игр, были выбраны ее цвета, белый и небесно-голубой; что же касается герба, то замысел основателей был грандиозным: орел с распростертыми крыльями, гордая птица, символ римских легионов.
Как мог ребенок остаться равнодушным к подобной истории? Она бы и осталась чрезвычайно поэтичной и сентиментальной, если бы двадцать семь лет спустя не произошло непоправимое. Четыре второстепенных команды города слились, чтобы образовать новую, которую назвали «Рома».
Ее болельщики за эти годы неуправляемо множились таким образом, что сегодня в городе соотношение между болельщиками «Ромы» и «Лацио» составляет, вероятно, семь к одному. Но это не поколебало любовь как мою, так и моих друзей-болельщиков к бело-голубым майкам: как говорится, лучше меньше, да лучше… Однако сторонники «Ромы» всегда подчеркивали свое присутствие, даже расцветкой: но как можно сравнивать элегантное сочетание белого с голубым команды «Лацио» с кричащим красно-желтым «романистов» – любой стилист высокой моды согласился бы со мной!
Когда я начал в конце семидесятых годов следить за футболом как завзятый болельщик, дела в «Лацио», к сожалению, шли плохо, а вскоре на нее посыпались всяческие несчастья. Конечно же, как и во всякой большой любви, в футболе чем больше любишь, тем больше страдаешь: последовали тяжелые годы, кульминацией которых стал переход в лигу Б по причине договорных матчей. Вины болельщиков в том не было, но позор пал и на них. Я в своей бело-голубой майке играл на приходском поле, но группа сорванцов в красно-желтых всегда оказывалась более многочисленной, и насмехаться над болельщиком «Лацио» из лиги Б стало делом несложным. Тем более когда у тебя фамилия Спагетти…
Противостоять насмешкам было невероятно трудно. Точно так же, как организовывать состязание между ребятами: обычно против четырех жалких лациистов играли одиннадцать озверевших романистов. Возможно, именно поэтому мы, приверженцы «Лацио», становились все искуснее. Благодаря несчастьям нашей бедной «Лацио» мы, маленькие болельщики, уже научились проигрывать, в то время как наши красно-желтые кузены еще не наловчились выигрывать.
«Лацио» вернулась в лигу А только в конце чемпионата 1982–1983 годов: жаль, что именно тогда «Рома» выиграла кубок чемпионата Италии, ибо это достижение отравило мой первый спортивный бело-голубой восторг.
В этом возрасте, между восемью и тринадцатью годами, посещение стадиона было радостью и требовало соответствующей подготовки. Для того чтобы в душе затеплился хотя бы огонек надежды, требовалось доставать просьбами папу за несколько недель до матча. Как только удавалось убедить его, начиналось лихорадочное ожидание воскресного дня. На стадион, столичный Олимпийский стадион, ехали автобусом во избежание проблем парковки – уже тогда найти место для стоянки автомобиля в Риме было несбыточной мечтой – и прежде всего потому, что места не были пронумерованы, из дома уходили утром, чтобы хватило времени доехать, купить билеты в кассе и выбрать хорошее место из разряда дешевых, обычно стоячее.
Затем приходилось долго ждать, так как матч не начинался раньше 14.30. Привилегированные же зрители, которые сидели на трибуне с пронумерованными местами, могли позволить себе прибыть незадолго до свистка, возвещающего о начале игры. Но для меня пребывание на набитых людьми трибунах не было тягостно: мне нравилось наблюдать пеструю и возбужденную толпу вокруг себя и готовиться к волшебству зрелища.
Возможно, для моего отца, который сам также был ярым болельщиком, поездка со мной на стадион являлась скорее пыткой, нежели радостью. Для него это означало отказ от воскресного обеда в день, когда кулинарное искусство моих бабушки и матери достигало наивысшей точки и за столом сидели и трапезничали часами, болтая и попивая вино, наслаждаясь этим времяпрепровождением, которого не могли позволить себе в течение недели. А для меня потеря воскресного обеда по причине похода на стадион всегда была праздником и подкрепиться бутербродом не составляло никакой проблемы. Так что вкус бутербродов с ветчиной, которые мы приносили с собой из дома, еще не выветрился из моей памяти, и я верю, что у меня он всегда будет ассоциироваться с волнением этих минут, таких напряженных в моей жизни болельщика.
Я вспоминаю, как первый раз вошел на стадион, в солнечный полдень, отчего трава показалась еще более зеленой, потом напряженное ожидание выхода команд на поле и, наконец, саму игру, которую впервые видел под совершенно новым углом с недорогих мест на трибунах. И затем шок – мне следовало ожидать этого, ясное дело: комментариев не было! К счастью, с помощью спортивных передач воскресным вечером, которые показывали все голы, забитые в течение дня, и благодаря нескольким годам тщательного изучения фотографий во вкладышах из пачек с печеньем мне было несложно узнать моих любимцев даже без каркающего голоса комментатора, выкрикивающего имя каждый раз, когда один из них завладевал мячом.
В восьмидесятые годы я начал ходить на стадион с друзьями, без обязательного привлечения к этому мероприятию моего отца. Это был нелегкий период, а стадион не принадлежал к числу самых безопасных мест. В Италии лишь недавно закончились так называемые свинцовые годы[49], и взрослые не чувствовали себя спокойно, отпуская детей шататься по городу. Прежде всего когда имело место состязание: матч «Лацио» против «Ромы».
В нашем городе это противостояние двух команд, тем более это феномен, который выходит за пределы человеческого понимания: каждый болельщик, будь то лациист или романист, ожидает и переживает его по-своему, со своими суевериями и заклинаниями против дурного глаза. Кто-то приходит на эту игру каждый раз в течение многих лет, облаченный в одну и ту же одежду, кто-то погружается в медитацию на всю предшествующую матчу неделю, кто-то взвинчивает себя и заявляется на стадион полный ненависти к противнику, а кто-то, напротив, теряет последние силы от нервного напряжения.
Полагаю, что в немногих столицах мира спортивные соревнования так определяют городскую жизнь. Каждый день в Риме просыпаются, умываются, удостоверяются в том, что с соответствующих тренировочных баз прибывают хорошие известия, и только затем начинают работать. Я наконец-то пришел к убеждению, что истинный столичный болельщик, перед тем как доказывать любовь к собственной команде, обречен исполниться ненависти и желать самого плохого со спортивной точки зрения команде с другого берега Тибра.
Таким образом, как это ни парадоксально, я считаю, что моим первым большим успехом болельщика «Лацио» было поражение «Ромы» по пенальти в финале Кубка чемпионов в Ливерпуле в 1984 году. Это была моя месть: над нами смеялись за переход в низшую лигу, который команда заслужила не на поле, а теперь, благодаря этому поражению по пенальти, я создавал себе иллюзию, что они наконец-то научатся проигрывать.
6. «Music»[50]
От незавидной участи человека с фамилией Спагетти меня прежде всего спасла музыка.
Первой песней, которую я спел, была «Mamunia» Пола Маккартни и группы «Wings», включенная в чудесный альбом «Band on the Run». Шел 1973 год; мне стукнуло три года, я произносил свое имя как «Кука Петти», был первым и единственным внуком в семье и потому безраздельным повелителем моих родителей, дедов и бабок, для которых возможность повидать меня каждый раз становилась праздником.
Моя бабушка Лилиана, родом с Сардинии, отличалась чрезвычайно малым ростом и бесконечно ласковым взором своих глаз, чем-то смахивая на фантастическую инопланетянку.
Дед играл роль моего благодетеля, обеспечивавшего возможность выпить несколько капель вина: только в воскресенье, на обеде в их доме, мне дозволялось попробовать этот изысканный нектар, который тщательно отмерялся в мою рюмку под бдительным присмотром взрослых.
С моими дедушкой и бабушкой жили также двое их сыновей, два моих юных дяди, Джорджо и Фабрицио. Именно они заставили меня страстно полюбить музыку, которую, будучи в середине семидесятых годов молодыми людьми чуть старше двадцати лет, слушали беспрерывно. Я родился и вырос в доме, где музыка не умолкала: мой отец был большим любителем джаза, и эта музыка непрерывно и негромко звучала в наших комнатах. Но, уж если говорить начистоту, как ни ценю я джаз, больше всего меня притягивала музыка, которую слушали мои дяди.
Я был совершенно зачарован аккуратным длинным рядом долгоиграющих пластинок, которые стояли у них на полках: сотни конвертов, тысячи оттенков в прекрасных фотографиях и словах, по большей части непонятных для меня. Одной из немногих надписей, которую, как мне казалось, я понял, так как считал ее итальянской, хотя значение было не совсем ясно, оказалась именно «Mamunia».
Она стала моей песней, и я пел ее ко всеобщему удовольствию, бесконечно повторяя это странное слово, пока какой-нибудь дружеский пинок не давал мне понять, что пора выключить этот маленький и, похоже, назойливый музыкальный автомат. Но дяди с энтузиазмом относились к моим нечленораздельным певческим выступлениям, так что при малейшей возможности ставили «Mamunia» на проигрыватель, усиливали звук, и я, какой бы игрой ни был увлечен, бросал все и бежал к стереоустановке, чтобы возобновить мое представление поющего гнома.
Это длилось до тех пор, пока они не предложили мне:
– Лука, ты не хочешь попробовать спеть кое-что потруднее? Есть песня, состоящая всего из двух слов. Называется «Ob-La-Di Ob-La-Da»!
И залихватские звуки «Ob-La-Di Ob-La-Da» полетели из двух таинственных кубов, которые мои дяди называли «ящиками», вместе со столь дорогим моему сердцу голосом Пола Маккартни. Родственники убедили меня в том, что он тоже приходится мне каким-то дальним дядей.
Дядя Джорджо и дядя Фабрицио постоянно возились с пластинками, которые казались мне предметами, исполненными загадочной притягательности, и устанавливали их на диск проигрывателя с невероятной осторожностью, стараясь не оставить на поверхности отпечатка или царапины. Мне, естественно, было запрещено даже мимолетно прикасаться к этому длинному ряду сокровищ, и, будучи послушным ребенком, я не нарушал этот запрет. Хотя бы еще и потому, что у меня тоже была собственная музыкальная игрушка: оранжевый щелевой портативный электропроигрыватель, памятный всем, кому довелось быть ребенком в Италии в мифические семидесятые годы. Я вставлял в него знаменитые пластинки, которые крутились со скоростью 45 оборотов в минуту, с напетыми на них сказками. Они также были непременной принадлежностью детей той эпохи.
Я знал их все наизусть, однако даже тогда, должен признаться, «Mamunia» и «Ob-La-Di Ob-La-Da» доставляли мне совершенно иное удовольствие. Представьте себе мой восторг, когда вскоре я начал петь, не понимая ни единого слова, «Yellow Submarine», или, как мы произносили, «Йелло Саммарин», под аккомпанемент двух акустических гитар моих дядей.
Тогда моей ручонкой было невозможно держать виниловые пластинки, не касаясь их проигрывающей части, так что дяди научили меня брать их раскрытыми ладонями. К восьми годам я получил подарок, который навсегда изменил мою музыкальную судьбу: первую настоящую долгоиграющую пластинку, к тому же первую двойную долгоиграющую пластинку.
Пластинку в красном конверте, на котором красовались улыбающиеся лица четырех парней, смотрящих на нас с балкона. Именно тогда с помощью родителей я в первый раз прочитал по-английски это слово: «Битлз». Мои дяди немедленно настояли на том, чтобы я тут же выучил имена четырех юношей, стоящих на балконе, и после целого дня терзаний и допросов мне это удалось: Джон Леннон, Пол Маккартни, Джордж Харрисон и Ринго Старр.
А когда мне объяснили, что Пол Маккартни был тот самый старый дядюшка, который пел «Mamunia» и «Ob-La-Di Ob-La-Da», я с некоторым опасением спросил, не могу ли я считать и остальных трех старыми дядюшками.
Мне было дано разрешение, и с того дня эти четыре парня для меня стали просто Джон, Пол, Джордж и Ринго.
Первой песней двойной долгоиграющей пластинки была «Love Me Do», за ней следовала «Please Please Me» и «From Me to You». Я слушал их без остановки, одну за другой. Каждый раз, прослушав «From Me to You», я вытянутым пальчиком осторожно поднимал головку звукоснимателя и ставил опять «Love Me Do». И так – до бесконечности. Кажется, четвертую песню на пластинке я прослушал только через месяц. «From Me to You» стала первым настоящим музыкальным потрясением: я отчетливо слышал два голоса, которые пели одни и те же слова, но с двумя различными мелодиями, одна звучала высоко, а другая – низко. Высокая казалась мне не соответствующей никаким канонам, но невообразимо прекрасной. Я был загипнотизирован.
Через несколько лет я вложил все свои сбережения в первую пластинку, которую купил самостоятельно: «Double Fantasy» Джона Леннона. Однако вскоре после выхода пластинки какой-то ненормальный выстрелил в дядю Джона в Нью-Йорке и убил его, когда тот возвращался к себе домой. Я не переставал задавать себе вопрос, почему лиходей сделал этот выстрел, ведь жертва была всего-навсего певцом, писавшим прекрасные песни, но все вокруг меня были слишком опечалены, чтобы дать ответ.
Диск был из ряда вон выходящий, хватило бы одних только песен «Woman», «Starting Over» и «Watching the Wheels», чтобы я часами слушал их.
«Woman» занимала первое место в итальянском хит-параде; в пятницу и субботу ближе к полудню по радио передавали первые десять песен по порядку и так называемые горячие диски, песни, занимавшие места с одиннадцатого по двадцатое. Чтобы не пропускать недельные хит-парады в прямом вещании, я приносил в школу небольшой переносной радиоприемник, который слушал с приглушенным звуком, сидя на последней парте и прижав его к уху, чтобы меня не поймали преподаватели. Конечно, чтобы послушать «Woman», которая кочевала по первым местам, приходилось выслушивать песни, начиная с двадцатой позиции и в убывающем порядке, но она того стоила.
Я был покорен музыкой, той музыкой, и жаждал ее новинок. Утром, выходя на римское солнце с деньгами в кармане, которые были выданы мне на покупку полдника в школе, я часто принимал решение оставить их втайне от родителей и, благодаря отказу от полдников, постепенно накапливал необходимую сумму для моей ежемесячной музыкальной покупки. Как раз напротив моего дома находился магазинчик пластинок, и я стал самым малолетним покупателем; хозяин к тому времени привык к любознательному и восторженному ребенку, который заходил в его владения как в страну чудес, и, должно быть, испытывал к нему симпатию, хотя и дивился каждый раз, когда я выходил оттуда, неся в руке «Tug of War» Пола Маккартни, «Alibi» в исполнении группы «America» или же «Eye in the Sky» ансамбля «Alan Parsons Project».
Я проводил все послеобеденное время, слушая музыку, и пытался повторять слова по напечатанным текстам внутри конверта.
Коренной поворот в моей жизни произошел, когда я получил от своих дядей свободный доступ к их длинному ряду долгоиграющих пластинок, который с годами стал еще длиннее. Теперь я мог слушать их также в отсутствие хозяев. Там были сотни виниловых пластинок, современнейшая дискография, а лет пятнадцать музыкальной истории подлежало восстановлению: Джэксон Браун, «Eagles», «America», Дэн Фогельберг, «Poco».
Я решил сделать это с толком: купить все, но по порядку, по исполнителям. Начал с «Eagles». В субботу после обеда, когда большая часть моих одноклассников отправлялась на дискотеку, я садился на свой мопед и рыскал по Риму от одного магазина пластинок к другому, чтобы вернуться домой по меньшей мере с одним трофеем, хотя и побывавшим в употреблении или с немного поврежденным конвертом.
В это время я подхватил еще одну заразу: желание научиться играть на гитаре. Слишком сильно было притяжение «шести струн», которым искушала меня моя любимая музыка, и было так соблазнительно видеть других, бережно перебирающих эти струны и извлекающих из них гармоничные звуки где-нибудь у костра, в окружении друзей, чтобы не попытаться проделать то же самое.
К тому же не стоило упускать из вида: мною было замечено, что мои друзья, игравшие на гитаре, пробуждали особый интерес у девушек; и возможно, если мне удастся достичь успехов, то моя фамилия как-то отойдет на второй план.
Так что я позаимствовал у моих дядей их старую расстроенную гитару фирмы «Эко», которая не представляла собой какой-либо ценности, но для начала этого было вполне достаточно. И, вооружившись учебником и нотами песен и, конечно, беспрерывно слушая музыку, я потихоньку начал, как самый настоящий самоучка, выстраивать связное исполнение, осваивая один аккорд за другим. Я и сейчас помню огромную радость от моего первого успеха: я целый день проигрывал ту мелодию в тональности фа-мажор.
Уверен, что в этот период мои родители серьезно подумывали о том, чтобы отделаться от меня: они всегда с большим вниманием относились к моим художественным наклонностям, как, впрочем, и способностям моего брата, но подозреваю, что выслушивать непрекращающееся биение по ушам этим бренчанием было тяжким испытанием для их терпения.
Я постепенно прогрессировал. Теперь у меня в запасе имелось несколько песен: например, наиболее простые из репертуара «Eagles» давались мне с легкостью. Но моя музыкальная жизнь круто изменилась раз и навсегда, когда я перешел на пластинки другого американского автора-исполнителя: Джеймса Тейлора[51]. Мне были знакомы две его песни: «Hard Times» и «Her Town Too», услышанные совершенно случайно. Они были включены в долгоиграющую пластинку, выпущенную четыре года назад, «Dad Loves His Work», последнюю из тех, что он сочинил до того момента. Была середина восьмидесятых годов, и ожидалось появление его нового творения: «That's Why I'm Here». А кроме того, в 1985 году Джеймс в первый раз приехал с концертом в Италию, в Рим. В моем распоряжении оказалось совсем немного времени, уже наступил июль, и самым простым делом было записать на магнитофонную ленту его «Самые большие хиты», белую пластинку, которую я нашел в доме моих дядей. По мере того как приближался вечер концерта, я начинал ощущать все возрастающее возбуждение.
За несколько часов до этого события вместе со своими дядями я уже стоял в третьем ряду перед подмостками дворца в ЭУРе[52]. Это было мое первое посещение стоячего концерта, к счастью, мой рост достигал уже метра восьмидесяти сантиметров, и мне удавалось видеть все. Чтобы скоротать ожидание, я рассматривал «Палаэур», одно из мест в Риме, предназначенное для больших концертов, постепенно наполняющееся людьми, и прекрасную сцену, заставленную чудесными инструментами, ожидающими ласковых прикосновений рук оркестрантов.
Когда погас свет, я был готов наблюдать за огнями фейерверка, боем барабанов и искусственным туманом, которые сопровождали выход на сцену Джеймса Тейлора в костюме рок-звезды. Он появился под гром аплодисментов один в тусклом свете единственного прожектора, улыбающийся мужчина с уже редеющими волосами, в джинсах и рубашке, всего-навсего с гитарой в руке. Аплодисменты стихли только тогда, когда его длинные пальцы заскользили по струнам гитары, и неслыханные ранее звуки погрузили дворец в полное молчание.
То была «You Can Close Your Eyes», и когда Джеймс Тейлор начал петь, я испытал такое ощущение, будто меня ударили кулаком в лицо. Я был парализован. Певец обладал сумасшедшим магнетическим зарядом, просто гипнотизирующим. Он стоял на сцене один со своей гитарой, но впечатление было такое, что играют трое. Во время пения Тейлор улыбался публике, а его взгляд был направлен прямо на зрителей.
Я совершенно уверен, что пару раз он взглянул в глаза и мне, выделявшемуся из армии ностальгирующих сорокалетних зрителей. Исполнитель закончил под исступленные вопли публики и начал другую песню, причем каждая казалась последним завершающим ударом, хотя концерт только начался: «Wandering», «Carolina in My Mind», «Sweet Baby James». У него был вид человека, играющего для своих друзей. Ему не нужно было лезть из кожи вон и пускаться во все тяжкие на сцене, чтобы привлечь внимание. Было достаточно его голоса, гитары и безусловного таланта, которым он добивался их слияния. Концерт продолжился выходом его оркестра, и со сцены полились шедевры, такие как «Your Smiling Face», «Steamroller», «You've got a Friend», «Up on the Roof», затем несколько новых песен из альбома «That's Why I'm Here», и представление закончилось вокальным исполнением «That Lonesome Road», которое совершенно доконало меня.
Я был ошеломлен и этим вечером вернулся домой шокированный и несколько обозленный на своих дядей, ибо они не сказали мне, что кроме Джона, Пола, Джорджа и Ринго у меня был еще один старый дядюшка, самый симпатичный изо всех: Джеймс.
На самом деле это было всего лишь началом долгой истории любви. Потому что мне удалось несколько раз встретиться со своим любимым бардом, так что теперь я без колебания могу провозгласить себя «послом по приему Джеймса Тейлора в Риме».
Первый раз это случилось в мае 1992 г. По завершении его концерта мне удалось умолить одного из охранников позволить мне войти и поприветствовать певца, когда тот закончит беседовать с журналистами, только для получения автографа. На самом деле я подготовил речь о любви, которая могла затянуться на несколько часов. Я настолько истерзал этого охранника, что он, потеряв терпение, сдался и впустил меня. Я держал за руку мою девушку Джулиану, и когда увидел Тейлора в глубине помещения, стоящего с двумя шеренгами журналистов по сторонам, то, как у пророка Моисея при виде Красного моря, мое сердце чуть не выскочило из груди.
Я приблизился к нему за автографом, и в этот волшебный момент вместо речей, готовившихся годами, у меня вылетело глупейшее: «Congratulations![53]» Потом я направился к выходу, но, сделав пару шагов, вернулся обратно, бросился ему на шею и запечатлел на его щеке поцелуй, а потом расплакался как ребенок. Он не ожидал ничего подобного от молодого человека, которому уже перевалило за двадцать, но мне хочется думать, что ему это понравилось. Тейлор ответил на мое объятие улыбкой любящего дядюшки и пару раз похлопал меня по плечу, в то время как журналисты хохотали, а Джулиана не могла поверить своим глазам.
Второй раз, 1997 год. Джеймс прибыл в Рим, чтобы представить свой новый диск «Hourglass». У него не были запланированы концерты, но певца пригласила какая-то радиопередача, о чем я немедленно пронюхал. Мы вместе с моим братом оседлали мотороллер и, вооружившись фотоаппаратом, кинулись к местонахождению радиостудии. И вот мой идол, умиротворенный и улыбающийся, выходит из ворот радиовещательной компании. Мы сделали несколько фотографий вместе, и мне даже удалось заменить «Congratulations!» чем-то более связным.
Потом был 1999 год, а затем 2002-й. В том году в Риме Джеймс Тейлор выступал в действительно особой обстановке, на площади дель Пополо, с бесплатным концертом. Это был единственный раз, когда мне не удалось встретиться с ним из-за огромной толпы и самого места представления, которые делали невозможным украдкой подстеречь его и приблизиться к нему.
Я взял реванш двумя годами позже, когда Джеймс возвратился в мае 2004 года, чтобы петь на «Кавеа», открытой арене Римского Аудиториума. «Кавеа» в течение дня является местом, открытым для посещения публики, здесь люди гуляют и присаживаются, чтобы посмаковать напитки или мороженое. И только во время проверки звука перед концертом доступ закрывается. Но Луку Спагетти это не обескураживало: он, когда началась проверка звука, уже более часа находился там, идеально замаскировавшись под рабочего сцены.
Проверка звука, возможно, наилучший момент, чтобы обменяться парой слов с артистами, не особо мешая им: нет большой толпы, и в их жилах еще не заработал адреналин представления. И вот тогда, после полудня, был сделан лучший снимок Луки Спагетти и Джеймса Тейлора, улыбающихся и сидящих бок о бок на арене.
Я следовал за моим идолом и за границей, от Франкфурта до Брюсселя, но для него поехал бы и на край света. В 2008 году, чтобы увидеть его, часами выстаивал под проливным дождем у Большого театра в Риме. Тейлор прибыл в автобусе вместе со своим штатом. Увидев его, я попросил разрешения войти, чтобы сделать один снимок с ним. Он согласился с обычной любезностью и даже снял меня на мобильный телефон, когда я бежал, промокший до нитки, под дождем, чтобы еще раз поблагодарить его.
Еще одно качество Джеймса, которым я всегда восторгался, – это то спокойствие, с которым он поет шедевры других авторов, такие как «You've Got a Friend», «Up on the Roof» или «How Sweet It Is», непременно благодарит и отдает дань уважения сочинителям этих вещей. Певец всегда делал это на всех концертах, где я бывал. Он мог бы ничего не говорить, однако со скромностью, свойственной только истинно великим людям, Джеймс никогда не забывает тех, кто написал эти песни.
Я хотел бы, чтобы Джеймс Тейлор, прежде чем жаловаться на меня за преследование, знал, что в действительности я просто обожаю его. И если я преданно жду его и прилагаю все усилия для встречи с ним всякий раз, когда узнаю о его приезде в наш город, так это только для того, чтобы заключить его в самые горячие объятия, которые Рим может предложить истинно желанному гостю по случаю благополучного возвращения. Я становлюсь безмерно счастливым от осознания, что транслирую эту страстную любовь всем моим друзьям, далеким и близким. Но с учетом того, как я изводил их все эти годы своей привязанностью к Джеймсу, можно понять, что они думают обо мне каждый раз, когда я называю его имя…
7. «There we are»[54]
Короче говоря, до восемнадцати лет жизнь для меня вполне понятно складывалась только из двух магических составляющих: футбола и музыки. Согласен, нередко мою голову посещали мысли и о девушках, но, когда я бывал с друзьями и видел катящийся мяч, то на всем белом свете не нашлось бы супермодели, которая могла составить конкуренцию колдовским чарам кожаного шара.
Существовала еще, между прочим, и учеба, но, к счастью, мне хватало усидчивости, чтобы ухитриться приносить домой хорошие отметки, так что, отделавшись от обязанностей, я мог предаться удовольствиям. Во время учебы в лицее мне даже удалось выцарапать у родителей нечто вроде договора: за каждую хорошую отметку они отстегивали денежки.
Была составлена четкая таблица: отметки считались от 1 до 10; за 6 никаких денежных поощрений не полагалось, поскольку она соответствовала простому «удовлетворительно»; за 5 я не подлежал денежному штрафу, так как эта отметка, хоть и не особо хорошая, тем не менее была приемлемой и могла считаться немного ниже удовлетворительной. С 1 до 4 – трагедия: я не выкладывал деньги, но меня ожидала порка. Отметки с 7 до 10, чудо из чудес, обеспечивали премиальные в мою пользу.
Это был сказочный механизм, и я извлекал из него выгоду, с охотой вызываясь отвечать, когда был хорошо подготовлен. При такой системе мой фонд для покупки пластинок в субботу после обеда никогда не пустовал.
Музыка, которую я постоянно слушал и воспроизводил на гитаре, и футбол, в который я играл и наблюдал с трибун стадиона. Так пролетали мои деньки; я все лучше играл на гитаре, а также в футбол.
Поскольку я был великодушным от природы, мне нравилось разделять переживания, которые мне дарила музыка, с другими: я превратился в фаната по составлению подборок песен – это более личный подарок, нежели купленный готовый безликий диск. В те времена, когда еще не существовало mр3, айпода, Интернета и тому подобного, было нелегко раздобыть песни, и процесс составления подборки был долгим и тщательно отработанным. Я дарил их друзьям, родственникам и, признаюсь, также девушкам в надежде, что некоторые романтические песни помогут мне завоевать какую-нибудь из них. В глубине души я уповал на то, что, слушая «You Can Close Your Eyes», девушка может просто не заметить, что за ней ухаживает некто по фамилии Спагетти!
Однако еще большее удовлетворение начала приносить мне моя гитара. Изучение песен Джеймса Тейлора стало лучшей тренировочной школой, которую можно пройти; только его песни при первом прослушивании казались простейшими благодаря мелодическому стилю и мягкости его голоса. На самом же деле их исполнение представляло собой исключительную трудность, особенно для дилетантов-самоучек, каковым являлся я. И действительно, научившись прилично играть многие его вещи, я с удовольствием заметил, что мне спокойно удается воспроизвести восемьдесят процентов песен других моих любимых артистов.
Таким образом, на пляже в Анцио, куда я, подобно многим другим римлянам, ездил с семьей на каникулы все годы, мы организовывали певческие вечеринки у костра. Я вспоминаю довольно-таки многочисленную группу парней и девушек, загорелых и закаленных морем и солнцем, которые часто собирались вместе, а также взрослых, наслаждавшихся свежестью вечернего бриза на террасах окружающих домов. В те годы эти сборища происходили ежедневно, вечер за вечером, мы собирались на пляже и пели, подкрепляясь свежим пивом и великими курортными романами, которым суждено было длиться всего несколько дней. Это простой, но полнокровный вид развлечения, создававший дружеские привязанности и заставлявший людей чувствовать себя ближе друг к другу.
Я не всегда играл мои любимые вещи, но слушать друзей, поющих под звуки, извлекаемые мною из струн, было трогательно. Самое замечательное происходило в тот момент, когда кто-нибудь просил меня сыграть вещь «Битлов» или Джеймса Тейлора, но бывало и так, что я непроизвольно затягивал песню сам и обнаруживал, что среди собравшихся кто-то знает ее и счастлив спеть вместе со мной.
Как и все, я жил в ожидании истинной любви и надеялся, что магия гитары заставит упасть в мои объятия девушку, предназначенную мне судьбой. К сожалению, мне не давали прекратить игру, так что вечера напролет я бренчал и бренчал, а другие тем временем крутили любовь как одержимые. Такая ситуация в наших местах описывалась колоритным выражением «держать свечку». Но по крайней мере я держал ее, не выпуская из рук неразлучную гитару.
Что касается девушек, то должен сказать, что в этом вопросе рассчитывать на особую помощь футбола не приходилось. В эти годы мы начали играть более серьезно, участвовать в официальных и любительских региональных турнирах, и я тешил себя иллюзией, что это пригодится, дабы произвести должное впечатление, но был вынужден с прискорбием констатировать горькую истину: женщины и мячи не уживаются друг с другом! Более того. Мне следовало бы обратить внимание на знаменитую песенку, которая пользовалась чрезвычайной популярностью, когда я был сопливым мальчишкой: «Почему, почему по воскресеньям ты всегда оставляешь меня одну, чтобы идти смотреть на мяч?» – раздиралась страдающая и несколько взбеленившаяся Рита Павоне[55], объединяя чудесным образом протест тысяч итальянок, которыми пренебрегли, покинув их в одиночестве, мужчины, слишком занятые наблюдением за двадцатью двумя парнями в майках и трусах, гоняющими мяч. Но у представителей итальянского сильного пола явно имелись в запасе какие-то козыри, поскольку после окончания игры всегда воцарялся мир, и я никогда не слышал ни об одном браке, который распался бы из-за слишком частого посещения воскресных матчей.
Что касается меня, то я на собственном горьком опыте узнал: девушек совершенно не интересовали как мои успехи в футболе, так и схема игры, принятая командой «Лацио» в это воскресенье, и я не могу сказать, что представительницы прекрасного пола падали к моим ногам…
В первые годы учебы в университете я регулярно посещал стадион. У нас образовывалась прочная группка друзей-болельщиков, собиравшихся в воскресенье всегда на одном и том же месте, на сиденьях, которые в конце концов стали нумеровать. Никаких ранних утренних выездов и бутербродов: воскресный обед для всех, затем поездка на мотороллере после чашки хорошего кофе, чтобы затем вместе страстно поболеть за «Лацио».
Субботний вечер, даже зимой, я часто проводил в Анцио с кучкой друзей, которая не распадалась до конца лета, и именно тогда я случайно познакомился с Джулианой. Она была очень красивой девушкой с каштановыми волосами, зелеными глазами и шаловливым выражением лица; но что поразило меня с самого начала, так это ее естественность, чуточку приправленная робостью: прошло несколько месяцев, прежде чем мы начали разговаривать друг с другом.
Джулиана проживала в Анцио, и, вы только послушайте, моя фамилия не доставляла ей никаких неудобств. По мере того как мы лучше узнавали друг друга, обнаруживалось, что все больше нравимся друг другу, и через год после того вечера, когда мы познакомились, началась история нашей любви. Друзьям я рассказывал, что увидел ее в первый раз выходящей из моря, с точеной фигурой и золотистым загаром, подобно Урсуле Андресс, явившейся перед удивленным и несколько ошеломленным Джеймсом Бондом, или же легко несущейся по песчаным дюнам, как Бо Дерек в фильме «Десять». На самом деле об этом я никогда не рассказывал своим друзьям, но мы познакомились за столом, перед тарелкой пасты, исходящей ароматным паром. И главное, я действительно был влюблен в нее.
Часть вторая
Римлянин в штатах
8. «Up on the roof»[56]
Среди моих бесчисленных детских грез о будущем первое место неоспоримо занимала мечта… побывать в Америке. С тех самых пор как я выучил на память первые песни на английском языке, меня никогда не покидало желание отправиться в Штаты. И наконец-то мечта начала сбываться…
Наступило 29 июля 1995 года, я только что закончил университет и был готов к отъезду. Мои родители подарили мне путешествие по Америке, предмет моих устремлений, от побережья до побережья, от Нью-Йорка до Калифорнии и обратно. Меня должен был сопровождать мой друг Алессандро, и мне предстояло собственными глазами увидеть те места, в которые меня заставили влюбиться музыка и телевидение. Я не верил сам себе: я поведу автомобиль по тем же дорогам, где колесили герои фильмов «Старски и Хатч» и «Чипс»[57], возможно, возьму напрокат автомобиль в компании «Мэгнем Пи. Ай.» или же без дальнейших раздумий сразу же арендую недорогую модель в «Сьюперкар».
По радио я в последнее время слушал только американскую музыку, на закате стрелой носился по аризонской пустыне, распевая во весь голос «Take It to the Limit», мою любимую песню «Eagles». Затем гамбургер и жареная картошка, пиво и кока-кола, а на завтрак – блинчики с кленовым сиропом. И прежде всего, грезил я, у меня будет возможность встретиться с Джеймсом Тейлором. Ни больше и ни меньше. Я уже прочитал где-то, что он живет на Манхэттене, и был твердо уверен: мне бы только попасть туда, а уж там-то я обязательно найду его…
Я и Алессандро ехали в гости к американской семье Патрика Макдевитта, друга Алессандро по переписке, которая проживала в Нью-Джерси, неподалеку от Нью-Йорка. Я еще не был знаком с этим Патриком Макдевиттом, но он уже стал одним из моих героев!
Однако, как говорят в Риме, мы составили счет, не спросивши трактирщика: необходимо было предупредить нашего героя о том, что к нему в дом ввалятся двое юношей-итальянцев.
Мы решили набраться мужества и, не откладывая дело в долгий ящик, позвонить в дом семейства Макдевитт. Я и Алессандро совместными усилиями наскребли значительную сумму в 10 000 лир на приобретение телефонной карточки и нашли кабину, так как, если бы наши родители застали нас за разговорами по телефону с Америкой глубокой ночью (из-за разницы в часовых поясах) и по такому тарифу, о котором лучше не упоминать, они могли бы лишить нас наследства. Но прежде всего, если уж говорить начистоту, мы с Алессандро пришли к выводу, что, учитывая наш постыдный английский, лучше не выставлять себя на всеобщее посмешище, а проделать это, закрывшись в кабине…
Мы были сильно озабочены: возможно, нам удастся выдавить из себя несколько слов, но поймем ли мы того, кто будет говорить на другом конце провода, Патрика Макдевитта? Мы порешили, что всегда можем положить трубку и убежать, и, вооружившись смелостью, позвонили.
Естественно, эта тяжкая задача выпала на долю Алессандро, ибо он был другом Патрика.
К тому же представьте себе, если бы позвонил я и изрек нечто вроде: «Добрый вечер, говорит Лука Спагетти!» – трубку немедленно повесили бы! Так что да здравствуют мужество и дерзость: мы забрались вдвоем в кабину, чтобы набрать скорее сердцем, нежели пальцем номер Патрика. Я никогда не забуду вытаращенные глаза Алессандро, когда на другом конце провода и света кто-то ответил, молчание моего друга в течение нескольких секунд, чтобы набрать в грудь воздуха, проглотив напряжение, которое было сродни целому яйцу, сваренному вкрутую, и его лепет по-английски, прерывистый, возбужденный и исполненный надежды.
Я не понял ни слова из того, что он говорил, а можете представить, что смогли разобрать американцы. Однако же светящийся дисплей телефона демонстрировал, что сумма кредита уменьшается с молниеносной быстротой, подобно времени на радиоуправляемой бомбе. Одним словом, за кратчайшее время с таким трудом собранная нами сумма в десять тысяч лир испарилась, но Алессандро выполнил задачу: когда мы прилетим в Нью-Йорк, Патрик приедет в аэропорт, встретит нас и приютит на несколько дней в доме своей семьи в Нью-Джерси.
И на самом деле, через несколько дней мы приземлились в аэропорту имени Джона Фицджеральда Кеннеди. Чтобы действительно ступить ногой на американскую землю, оставалось только преодолеть чудовищный иммиграционный контроль. Еще в полете мы должны были заполнить пресловутый зеленый бланк, в котором допытывались, не являемся ли мы шпионами, бывшими террористами, виновными в геноциде, не страдаем ли заразными заболеваниями: сразу же стало ясно, что предпочтительнее всегда отвечать «нет». Только на вопрос: «Ввозите ли вы в США больше 10 000 долларов на человека?» нам хотелось бы ответить «да», но и здесь, к нашему прискорбию, пришлось написать «нет».
Однако, несмотря на наш растрепанный вид из-за разницы в часовых поясах и полета компанией «Финэр» с суточным ожиданием при пересадке в Хельсинки, в Америку нас впустили. Я не верил своим глазам: мечта начала сбываться!
Выйдя в аэровокзал, мы нашли Патрика, который ожидал нас, с виду – воплощение истинного американца с широкой улыбкой, каким я и представлял его. К сожалению, его улыбка исчезла, как только он отдал себе отчет в том, что итальянский гость прибыл с другом, а не один: я моментально осознал, что десять тысяч лир на телефонную карточку потрачены зря, ибо Алессандро и Патрик не поняли друг друга и мое присутствие в семье Макдевитт не было предусмотрено.
Однако, когда первоначальный шок благополучно прошел, размещение не представило собой никаких проблем. Более того, прием в доме семьи Макдевитт остается одним из самых приятных воспоминаний моей первой поездки в Соединенные Штаты. Несмотря на то что мы чувствовали себя совершенно разбитыми из-за разницы в часовых поясах и мечтали только о каком-нибудь матрасе, на который можно было бы свалиться, мать Пэта приготовила ужин.
Увидев на столе только салат, я успокоился, рассчитывая, что этим дело и ограничится: но тотчас же меня встревожил знакомый запах, и с тех пор я никогда не забываю, что, в то время как в Италии салат является гарниром ко второму блюду, в Америке – это всего лишь прелюдия к самому настоящему ужину. Действительно: из недр кухни появилась мать Пэта с огромной супницей пасты с томатным соусом! Затем последовало изысканное жаркое и в завершение – десерт. А я-то полагал, что в США питаются только гамбургерами да картошкой…
После ужина мы переместились в гостиную, где я взял в руки гитару и спел для моих хозяев песни моих американских идолов: от Джеймса Тейлора до Джексона Брауни и Джима Кроуса. Обалденный вечер! Я никогда не предполагал, что на расстоянии тысяч километров вновь обрету тепло костра на пляже Анцио.
Я был совершенно обессилен и все же счастлив, но терять время на сон представлялось невозможным: только несколько часов отделяли меня от первого дня в Нью-Йорке!
Мне никогда не доводилось испытывать столь острого переживания от предстоящей встречи с новым городом: в предвкушении я задавался вопросом, действительно ли он окажется таким, каким я воображал его: гигантским, завораживающим, полным музыки, красок и современных бешеных ритмов.
Когда из автобуса я увидел на горизонте очертания Манхэттена, у меня по коже поползли мурашки. Мы действительно подъезжали к городу, который никогда не спит!
Выйдя из автобуса, будто притянутые каким-то магнитом, мы оказались, сами не зная каким образом, в торгово-деловом центре на Пятой авеню и без какой-либо определенной цели отправились бродить с открытым ртом и широко распахнутыми глазами, с сердцем, преисполненным радости. Я потерял дар речи, ибо в меня за эти несколько минут вселилась уверенность, что в подобном городе я никогда не найду Джеймса Тейлора…
Манхэттен оказался в тысячу раз величественнее, чем я ожидал: он не поддавался никакому описанию. Мы поняли, что находимся в совершенно ином мире: в то время как мы брели, подавленные таким великолепием, улицу пересек Капитан Кирк[58]. Или, точнее говоря, человек, который спокойно разгуливал в костюме капитана межпланетной ракеты «Энтерпрайз», в желтой майке и черных брюках, при полном безразличии прохожих.
Мы представили подобную ситуацию в Риме: если бы на площадь Испании Капитан спустился по знаменитой лестнице с вершины холма от церкви Тринита дей Монти, при всеобщем веселье какие-нибудь галантные римляне спросили бы у него, учитывая проблемы уличного движения в Вечном городе, где он припарковал свой межпланетный корабль и не оставил ли его в двойном ряду, доверив ключи некой темной личности, подрабатывающей присмотром за припаркованными автомобилями на улицах.
Но в Нью-Йорке возможно все, и это выглядит нормальным, и может произойти что угодно. Все, что угодно, и противоречащее всему, чему угодно.
Должен признаться, что я всегда был энтузиастом и оптимистом; даже когда все идет как нельзя хуже, я обычно вижу, что стакан наполовину полон, а не пуст – естественно, красным вином. Более того, часто и охотно я поднимаюсь в своем оптимизме до таких высот, что не вижу и сам стакан, а только красное вино. Дело доходит до того, что мои друзья предлагают мне поразмышлять, не являюсь ли я вместо оптимиста алкоголиком. В любом случае мой энтузиазм толкает меня к погоне за моей мечтой с несгибаемой целеустремленностью: как правило, в процессе преследования я достигаю ее. Но возможно, именно из-за пылкого стремления к моей цели, часто возникает ощущение, что мне не удается насладиться в полной мере тем моментом, когда эти мечты исполняются. Возможно, будучи славным римлянином-романтиком, я каждый раз отчаянно пытаюсь свои впечатления закладывать в память в пользу будущих дней, почти забывая насладиться настоящими. Я восторгался красотой стольких закатов, но взирал на них, прилагая наибольшие усилия к тому, чтобы запечатлеть в уме красоту этих моментов, дабы иметь возможность сохранить их во всей полноте на будущее.
Так же и в этот первый день в Нью-Йорке, ошеломленный чрезмерным изобилием этого невероятного города, я испытывал ощущение, что мне не удается вместить в себя всю грандиозность осуществившейся мечты. Американской мечты итальянского юнца.
Ноги несли меня по Большому яблоку. От Центрального парка у меня перехватило дух. В моих мыслях он стал мифическим местом, когда одним сентябрьским вечером 1981 года я смотрел по телевизору сказочный концерт Саймона и Гарфанкеля[59]. Я на весь вечер буквально прилип к телевизору и записал все представление на небольшой магнитофон, который подключил к выходу телевизора, вынудив всю семью соблюдать абсолютное молчание.
К счастью, вскоре вышла пластинка с концертом, но первые недели после события я провел, прослушивая вновь и вновь эту шипящую ленту и заучивая песни. Я обожал «Mrs. Robinson», но истинное потрясение получил от «The Sound of Silence», прекраснейшей вещи в истории музыки и настоящего шедевра: найдется немного других песен, в которых слияние голосов Саймона и Гарфанкеля с музыкой достигает такого уровня совершенства.
Добравшись до Всемирного торгового центра, к башням-близнецам, мы медленно возвели глаза к небу, лаская взглядом эти чудесные серебристые конструкции, которым, казалось, не будет конца. Устоять перед искушением было невозможно: мы должны немедленно подняться наверх. На крышу мира. Потребовалась всего одна минута в лифте, смахивающем на межпланетный челнок, чтобы стрелой взмыть на высоту четырехсот метров на крышу Северной башни. Там, наверху, открывшаяся панорама представилась чем-то невероятным: внизу раскинулось неподвижное море, необъятный простор синеватого железобетона.
Нью-Йорк казался исполинским дикобразом, вытянувшимся на север, с отливающими на солнце иглами и хохолком на голове в виде Центрального парка. Реки Гудзон и Ист-Ривер выглядели двумя маленькими водными потоками, а Статуя Свободы, эта гранд-дама, хотя и небольшая, незыблемо возвышалась на своем месте, все еще подавая надежду тем, кто прибывал в порт, и благосклонного взирая на узкие полоски пены, которые суда неторопливо вырисовывали на море. Вокруг было разлито ощущение спокойствия, столь непохожее на суматоху, царившую на стритах и авеню, за которыми эти два элегантных колосса надзирали с высоты.
Когда мы вернулись на землю, то для нас был прибережен изысканный культурный момент: посещение Музея современного искусства. Мы не принадлежали к знатокам той тайны, которая называется современным искусством, и, будучи привычными к итальянским музеям, где зачастую самое последнее творение искусства восходит к 1500 году, не осознавали хорошенько, что же нас ожидает.
Мы как следует поразвлекались над тем, что нашим глазам казалось милыми странностями, над всеми этими творениями типа томатного супа Кэмпбелла. Но в один момент я натолкнулся на то, что буквально лишило меня дара речи: большое полотно, висящее на стене, подсвеченное, полностью белое. Первое, что мне пришло на ум: не иначе как картина, которая должна висеть на этом месте, украдена. Надо бы известить хранителей, чтобы они перекрыли все выходы, и, как только картина будет возвращена, я удостоюсь фотографии на первой странице «Нью-Йорк таймс»: «Лука Спагетти, итальянский герой, который предотвратил похищение века». Но, подойдя ближе, заметил на стене небольшую металлическую табличку, гласившую: «Белое на белом». Белое на белом?! Это была знаменитая картина Малевича, которая в самом деле была совершенно белой: она безмятежно висела в зале, причем никому в голову не приходило и тени мысли украсть ее.
Когда Алессандро пришел за мной, я все еще стоял там, совершенно недвижимый, перед картиной «Белое на белом» с отсутствующим видом и, надо полагать, пораженный приступом синдрома Стендаля[60].
Настало время перевести дух и подготовиться нанести обязательный визит: посетить «Дакота-билдинг», здание на углу Централ-парк-уэст и 72-й улицы, мелькающее в кадрах фильма «Ребенок Розмари», но приобретшее печальную славу после того, как перед входом в него 8 декабря 1980 года был убит Джон Леннон. В моей памяти воскресли драматические события того вечера, показанные в теленовостях: ограждения вокруг «Дакоты» и люди, объединившиеся подле них в стихийном порыве скорби. Я полагал, что там висит мемориальная доска в память Джона, однако не обнаружил ни малейших ее признаков. На «Дакоте-билдинг» не было ничего. Мы нашли упоминание о Ленноне в Центральном парке: место с поэтичным названием «Мемориал Земляничных полян», где на огромной мозаике выделяется надпись «IMAGINE».
Три года тому назад я посетил музей «Битлз» в Альберт-Док в Ливерпуле и почувствовал себя пригвожденным к полу от потрясения, когда, полагая, что залы музея уже кончились, я неожиданно оказался в последнем, в помещении с совершенно белыми стенами: в центре стоял огромный рояль, тоже белого цвета, на котором лежали очки Джона в круглой оправе, в то время как звуки песни «Imagine» травили душу любого, вошедшего сюда.
Без слов, но думая о том, сколько Джон мог бы сказать миру сегодня, я повернулся и молча пошел прочь.
У нас было запланировано путешествие от побережья до побережья, которое должно было начаться через три дня. Перед отъездом Джулиана подарила мне книгу Джека Керуака «На дороге», и, несмотря на то что энтузиазма было предостаточно, ее чтение подлило масла в огонь. Мы просто бредили этой поездкой и были готовы поглощать милю за милей, не важно каким образом. Нам необходимо было любыми средствами добраться до Сан-Франциско.
Средство имелось одно-единственное, под названием «Эмтрэк Калифорния Зефир», овеянный легендами состав, который колесил по Америке вдоль и поперек.
Но перед отъездом нас ожидало еще одно испытание, которое я никогда не забуду: бейсбольный матч на «Янки-стэдиум», куда мы отправились с Пэтом и его отцом Джоном.
Мы были возбуждены новизной и тем, сколько мы узнали за немногие часы пребывания на американской земле, но теперь мы сами могли преподать урок этому народу с еще не сложившимися традициями: как надо ходить на стадион! Не важно, что нам совершенно неизвестны правила бейсбола; мы усекли основной принцип этого вида спорта: требовалось как можно сильнее ударить по летящему мячу деревянной битой, стараясь отправить его подальше. Заняв свои места на «Янки-стэдиум», мы уже считали, что после стольких лет посещения Олимпийского стадиона и матчей соперничества «Рома» – «Лацио» для нас эта игра окажется прогулочкой.
Играли команда «Янкиз» против «Милуоки Брюэрз»[61]. Требовалось уяснить только одну небольшую деталь. Я спросил у Пэта:
– За кого болеем?
На мое счастье, я всегда уютно чувствую себя, куда бы ни попал; даже за границей, среди незнакомых людей, через день я чувствую себя как дома, через три дня – гражданином этой страны, через неделю готов идти сражаться за нее.
На сей раз этот процесс ускорился: я уже готов был идти в сражение.
– За вон тех, в белом, – ответил Пэт.
Каждый раз, когда происходило нечто значимое, мы с Алессандро поддерживали болельщиков «Янкиз», используя весь наш изысканный многолетний репертуар стадионных выкриков, изливая на головы несчастных «Пивоваров» всю брань, какую только возможно придумать. А ведь эти бедняги носили название, которое так нравилось нам!
Пэт и его отец явно развлекались этим уроком разбушевавшейся фантазии, который был преподан нами сдержанным американским болельщикам, и мы гордились внесенным вкладом. Тот факт, что Пэт в последующие годы всегда рассказывал эту историю со смехом, который вызывал у него слезы на глазах, пробудил во мне подозрение, что наш энтузиазм выглядел слишком уж «футбольным», но что поделаешь: любовь к «Янкиз» оказалась заразительной.
Я уже почти вошел в спортивный транс, когда обнаружил, что вляпался в самую непредвиденную ситуацию. В те годы я много курил; каждый день пачка красных «Мальборо», исключительно и всегда только красных «Мальборо», эта пачка была моим единственным и обязательным спутником. На открытых трибунах «Янки-стэдиум» этим теплым вечером я уже прикончил четыре или пять сигарет, когда, закуривая очередную, увидел нависшую надо мной исполинскую тень сотрудника службы безопасности, чернокожего великана, который с чрезвычайно серьезным видом угрожающим голосом начал читать мне нотацию. Первое, о чем я подумал, было: «Черт, я забыл заполнить какую-то графу на этом проклятом зеленом бланке в самолете!» Но потом понял, что совершил более серьезный проступок на стадионе: может быть, виной тому мое сквернословие? Нет, это оказалось намного хуже: сигарета. Я курил на открытом стадионе! Потеряв дар речи, я засунул сигарету обратно в пачку. В то время как служитель угрожал вывести меня со стадиона, если только я вновь возьму в руки орудие преступления, Джон учтиво пытался объяснить ему, что я не знаком с этим правилом, что приехал из менее цивилизованной страны, но тот не хотел слушать никаких увещеваний: еще одна сигарета – и Лука Спагетти будет навеки изгнан с «Янки-стэдиум»!
Игра продолжалась, и, оглядевшись вокруг, я осознал, что курили все, включая Джона, просто они прикрывали сигарету ладонью и втягивали и выдыхали дым таким образом, чтобы это оставалось незамеченным. Я же, один-единственный олух, курил как ни в чем не бывало, пуская дым в небо кольцами. Я спросил себя, что случилось бы с несчастным сотрудником службы безопасности, если бы он попытался затушить сигарету у кого-нибудь во время матча в Риме: даже если бы на его месте оказался сам Стивен Сигал, скорее всего уже меньше чем через двадцать минут его останки были бы сброшены в Тибр озверевшей толпой.
Но это пошло мне на пользу; таким образом я получил урок, как должен вести себя курильщик в Соединенных Штатах.
К тому же «Янкиз» выиграли матч, и с того вечера мое американское сердце бьется только за них.
– «Янкиз», давай!
9. «Riding on a railroad»[62]
На следующий день все было готово к отъезду. Посадка в поезд «Эмтрэк Калифорния Зефир» состоялась в Чикаго. Мы поднялись в вагон нашего нового друга и выбрали места, которым предстояло стать нашим домом… на все последующие четверо суток! Конечно, это предприятие сулило немалые трудности, но такой вызов нас только раззадоривал. Правда, нам не давали покоя всего две небольшие проблемы: первая, кстати, не такая уж маленькая: как не умереть от голода и жажды за эти четверо суток? Вторая, касающаяся исключительно меня, заключалась в устрашающем вопросе: когда я выкурю свою следующую сигарету «Мальборо»?
Мы решили провести первичное обследование поезда, чтобы обрести большую уверенность в наличии хотя бы незначительных возможностей обеспечить себе пропитание, и «Зефир» немедленно предложил нам два варианта: первый, явно не про нас, оказался вагоном-рестораном, куда могли иметь доступ пассажиры с кошельком более тугим, нежели наш; второй представлял собой некое подобие бара, где подавали пиццу, напитки и различные закуски. Голодная смерть нам не грозила.
После чего до меня дошло, в каком нелепом аду я очутился со своими привычками курильщика: громкоговоритель объявлял название следующей станции, уточняя, что она является «остановкой для курящих». Что такое?! Я молниеносно вытащил свою пачку сигарет и, как только двери открылись, уже был тут как тут со своей «Мальборо» во рту, готовый на полную катушку использовать «остановку для курящих».
На перроне ко мне приблизился пожилой темнокожий мужчина с приятным и внушающим доверие лицом Моргана Фримена. Похоже, что и его терзала моя проблема с курением, и, когда он подтвердил мои наихудшие опасения, я почувствовал себя в положении больного, приговоренного к смерти. Оказывается, не все остановки были для курильщиков, а только те, о которых предупреждал громкоговоритель. И тогда полагалось выходить и курить. Можно с ума сойти! К счастью, я немедленно сдружился с «Морганом Фрименом», в действительности его звали Луиш, он был бразильцем и работал на компанию «Эмтрэк». Мой спаситель ехал с нами почти всю дорогу и заранее знал, на каких остановках я могу сделать несколько разрушительных для здоровья затяжек дыма.
Пришло время заморить червячка, так что мы с Алессандро направились проверить, какими же изысканными блюдами попотчуют нас в этой комнатушке вагона. Ответ был сколь внезапным, столь и обескураживающим: пицца и пиво! И все. Это в течение четырех-то суток! Однако существовала возможность выбора между обычной круглой пиццей и пиццей с перцами; когда мы выяснили, что в Америке под «перцами» подразумевается не наш перец, а колбаса (!), пришлось выбрать как раз эту последнюю в компании с бутылкой освежающего пива «Будвайзер». Первый заход вполне удовлетворил нас аппетитностью и насыщением поданного блюда: жаль, что это неизбежно повторялось все последующие разы. Нет смысла говорить, что я в жизни своей не забуду вкус этой «пиццы с перцами».
Кое-как приглушив голод, мы решили немного исследовать состав. Переходя из вагона в вагон, мы внезапно, к нашему величайшему изумлению, очутились в великолепном помещении, совершенно отличном от всех прочих: оно было абсолютно прозрачным! Собственно говоря, созданным специально для того, чтобы подарить пассажирам полный обзор окружающего пейзажа, как днем, так и ночью. Придя в восторг, мы тут же начали фантазировать, какое зрелище ожидает нас в окрестностях Большого каньона.
Колеса под нами быстро отсчитывали мили, и мы уже в конце первого дня знали более или менее всех в поезде, от обслуживающего персонала до пассажиров. Одна большая семья, которая ехала на запад.
А потом произошел «казус Стива».
Стивом был мальчик примерно лет двенадцати, блондин с рыжеватым отливом волос и светлой кожей лица, слегка усеянной веснушками. Он был самым маленьким и определенно самым любопытным из трех или четырех ребят, путешествовавших вместе с ним, скорее всего в сопровождении какого-то взрослого, размещавшегося в другом вагоне. Вероятно, наибольшее любопытство у него вызывали мы: два парня, явно оторванные от родной земли и разговаривающие по-итальянски. Мальчуган начал крутиться вокруг нас со все более настырными вопросами: кто мы такие, откуда приехали и куда следуем. Стив не был вредным отпрыском, но едва мы делали попытку расслабиться или вздремнуть, как из ниоткуда возникала рыжеватая головка, всегда готовая задать более или менее уместные вопросы.
Уже на второй день переносить его стало невмоготу. Мы спасались бегством в прозрачный вагон, притворяясь чрезвычайно увлеченными пейзажем, даже если проезжали через туннель.
Но самое неожиданное случилось вечером. Алессандро и я вынули колоду неаполитанских карт и начали отчаянно резаться в скопу. Я не испытываю особой склонности к игре в карты, но иногда это просто идеальное занятие для того, чтобы убить время. Хотя у скопы есть свои правила, но фактически это самая легкая и расслабляющая игра из существующих: достаточно уметь считать до десяти.
Мы уже отыграли полпартии, время от времени прикладываясь к изумительно освежающему «Будвайзеру», когда – вот она! – из-под стола появилась нагоняющая страх головка.
Ему было дозволено присутствовать, и шаг за шагом, партия за партией Стив не упускал удобного случая выспросить у нас обоснование каждого хода. Мы отвечали ему нехотя, стараясь не отвлекаться и втайне питая надежду, что ему это наскучит и он вернется к родителям.
Не тут-то было. Через десять минут вместо того, чтобы смертельно устать, мальчишка решил, что познал все правила игры, и, к нашему ужасу, попросился играть с нами. Я вцепился в горлышко моей бутылки с пивом, готовый нанести удар, но в последний момент меня осенила гениальная мысль: я ослабил свою хватку на бутылке и предложил этому докучливому дитяти договор на справедливых условиях. Да, он будет принят в игру, но, если проиграет более определенного количества партий, на следующий день должен исчезнуть с наших глаз. Зануда согласился.
Мой взгляд встретился со взглядом Алессандро, и на наших лицах появилась зловещая ухмылка завзятых шулеров. Алессандро уступил мне честь и удовольствие доконать этот бич Божий и пошел прогуляться. Я, как истинный джентльмен, более чем уверенный в победе, предоставил Стиву раздать карты. Он раздал каждому по три карты и четыре положил на стол, проявив при этом знание основ игры. Невзирая на наши разъяснения на английском языке, который был более чем далек от идеального.
Уже в ходе первой партии он проявил себя весьма предусмотрительным игроком и благодаря двум или трем случаям чистого везения выиграл. Удача новичков, подумал я. Но когда и две последующих партии закончились с таким же результатом, я встревожился. Если он продолжит выигрывать, мы будем вынуждены терпеть этого зануду до Сан-Франциско, как я смогу объяснить это Алессандро? К тому же я не мог допустить, чтобы меня обыгрывал всухую новичок! Поэтому, признаюсь, я начал подглядывать в его карты.
Толку от этого не было никакого: следующую партию, невзирая на мое подсматривание в его карты при каждом ходе, выиграл Стив!
К счастью, в этот момент появился Алессандро, игрок с совершенно другим опытом по сравнению со мной. Вот он-то обыграет мальчишку! Противник не моргнув глазом принял вызов моего друга, а я перешел в разряд зрителей, наблюдающих с трибун за смертельной расправой. Правда, я слегка подвинулся к этому сопляку, чтобы видеть его карты, если на то возникнет необходимость…
И таким образом, Алессандро, полностью уверенный в своих силах, начал игру, но результат не изменился: проклятый зануда выиграл все партии! Мы были в отчаянии и вынуждены подчиниться неизбежному: еще два дня Стив терзал нас, как блоха.
Сомнения, однако, не покидали нас: создавалось впечатление, что мальчишка старается запомнить все вышедшие из игры карты. Я робко спросил его, действительно ли это так, и он подтвердил. И к тому же сообщил нечто такое, отчего наше чувство полной несостоятельности только углубилось: Стив оказался сверходаренным ребенком, маленьким гением с мыслительными способностями, намного превышающими средние. Он ехал в Денвер обучаться в специальной школе. Показатель его интеллекта равнялся сумме показателей моего, Алессандро и пары наших приятелей.
Мы приободрились. По двум причинам: во-первых, мы чувствовали себя меньшими идиотами, нежели несколько секунд назад; во-вторых… Стив сойдет в Денвере!
Тем не менее заснуть в тот вечер нам так и не удалось.
Нас мучил единственный вопрос: почему на всех бескрайних просторах Соединенных Штатов именно нам попался этот долбаный двенадцатилетний гений, готовый преподать нам унизительный урок с неаполитанскими картами после угробления нашей нервной системы в течение целых двух суток?!
Мы пересекли штаты Иллинойс, Айова и Небраска, проезжая через такие исторические города, как Принстон, Гейлсбург, Берлингтон, Омаха, и восхищаясь из окон величием рек Миссисипи и Миссури. Наконец мы прибыли в Денвер, штат Колорадо.
Здесь мы пересели в прозрачный вагон, дабы полностью насладиться необычными видами каньона, который должен был начаться вскоре. Мы были вне себя от радости. Без денег, счастливые, с желудками, набитыми «пиццей с перцами», мы горели нетерпением предаться тому, что не купишь за деньги: впечатлениям и надеждам.
То, что подарила нам природа, оказалось чем-то невыразимым: вереница узких пропастей всех цветов, в которые мог проникнуть только железнодорожный состав под названием «Зефир». Вокруг не было никаких дорог, только железнодорожная колея, которая указывала путь медленному и неустанному движению поезда через расщелины, одно название которых заставляло испытывать глубокие ощущения: Каньон угольного ручья, Каньон южного валуна, Каньон Фрейзера, Каньон Байерса, Каньон Гора, Красный каньон, Каньон Гленвуда. Край каньонов. И у каждой пропасти была своя история, свой цвет, свой запах.
Самым прекрасным подарком края каньонов оказался закат. От него захватывало дух. Моим глазам еще никогда не доводилось видеть за такое короткое время столько красоты. Это было даже слишком.
Ночью мы переехали из Колорадо в штат Юта, и по воле судьбы следующим утром я случайно проснулся около пяти. Мои глаза, еще немного осоловевшие от сна, были потрясены светом, ясным и розовым, сильным, окутывающим все, но в то же время и мягким. Я находился один в прозрачном вагоне, одинокий и ошеломленный, погруженный в зарю, которая разливалась по плоской поверхности соляного озера.
Я еще не знал, что это за озеро, но в определенном смысле меня это и не интересовало. Для меня имел значение только необычный розовый цвет. Почти неестественный оттенок, порожденный светом зари, который, вероятно, каждым утром сливался с зеркальной поверхностью озера, но в этот день – только для меня, как будто для того, чтобы сделать подарок именно мне, решил показаться во всем своем сокровенном великолепии.
Внезапно я ощутил чье-то присутствие рядом с собой. Это оказался Луиш.
– Тебе нравится это зрелище? – спросил он меня отеческим тоном.
Когда я понял, что это был он, смущение от того, что я захвачен в минуту личного потрясения от вида розового озера, благодаря наличию свидетеля переросло в уверенность, что происходящее за стенами прозрачного вагона настоящее.
– Луиш, у меня не хватает слов. Я знаю, что мы где-то поблизости от Солт-Лейк-Сити, но ты знаешь, что это за озеро?
– Ты действительно хочешь знать его название?
– Да. Или, наверное, нет. Возможно, излишне давать название этому чуду. Хватит моего воспоминания.
– Правильный ответ. Ты славный парень. Унеси этот свет с собой в сердце и вспоминай его в трудные минуты.
– Спасибо, Луиш, я так и поступлю. Но почему у тебя рюкзак за спиной? – спросил я.
– Здесь я прощаюсь со своим «Зефиром». Я старею и уже не совершаю длительные поездки, как когда-то. Я должен остановиться на короткое время, а потом ехать снова. Другие путешествия, другие истории, другие лица, те же самые каньоны и те же самые озера, но всегда разных цветов. Через несколько минут я выхожу. Это остановка для курящих: выкуришь свою последнюю сигарету «Мальборо» со мной?
– Конечно, Луиш, почту за счастье!
Эта «Мальборо» в то утро, которое пронзило мою грудь, впервые не имела вкус сигареты. Я находился поблизости от Солт-Лейк-Сити, купаясь в невыразимом свете вместе с приятелем, которого я узнал всего несколько дней назад, и разделяя с ним одно из наиболее ярких переживаний моей жизни. И в этот момент я понял то, что пытался скрыть от себя самого, когда почувствовал его руку на своем плече в прозрачном вагоне. Я никогда больше не увижу Луиша. «Мальборо» имела вкус жизни, и этот мудрый человек, перед тем как удалиться в розовое сияние утра штата Юта, прощался со мной с немного печальной улыбкой, давая последние советы и обнимая юношу, который был готов расплакаться.
Я вернулся на свое место, стараясь замаскировать свою печаль. Алессандро бодрствовал.
– Але, ты представить себе не можешь, что произошло в последний час!
– Я все видел. Слышал, как ты ушел, открыл глаза, выглянул в окно и просто застыл на месте. Ты ведь отправился в прозрачный вагон, верно? Я не представляю, что ты наблюдал оттуда, но догадываюсь. Я в первый раз в жизни видел такую розовую зарю. Что это было за озеро?
Я ответил с улыбкой и новоприобретенной мудростью:
– Ты действительно хочешь знать это?
10. «Wandering»[63]
Начинался наш последний день на «Зефире». Мы уже предвкушали прибытие в конечную цель нашего путешествия, Сан-Франциско, но вместо этого с семичасовым опозданием по сравнению с графиком движения гордо выскочили из поезда на станции с названием «Окленд».
Чтобы добраться до места назначения, нам пришлось ехать автобусом. Подъезд к Бэй-бридж и пересечение залива произвели на нас чудесное впечатление, а ночное знакомство с Сан-Франциско оставило незабываемый след в памяти. Нас уже неудержимо влек к себе этот новый великолепный американский город – притяжение было настолько сильным, что после четырех суток в поезде, прибытия с опозданием на семь часов и осточертевшей пиццы с перцами в желудке мы в два часа ночи как два дурака стояли перед Бэй-бридж с рюкзаками на спине и без малейшего представления о том, где нам переночевать.
Все это кончилось тем, что мы, уставшие и возбужденные, скоротали ночь на скамейке пристани. По сей день фотография, которая запечатлела это памятное событие, относится к числу моих самых дорогих воспоминаний. Следующий день оказался очень длинным. После полудня в Сан-Франциско прилетал Коррадо, третий путешественник-исследователь из нашего трио; мы должны были встретить его в аэропорту, взяв напрокат автомобиль, сказочный «ниссан-альтима» цвета зеленый металлик, оборудованный истинным сокровищем: радиоприемником, принимающим все радиостанции Америки! Пока Алессандро восседал за рулем, я без устали переключал каналы и во все горло распевал песни, на которые натыкался.
До тех пор, пока до моих ушей не донеслись звуки «Take It to the Limit». До чего же я обожал эту песню! Ее не было среди первых творений «Eagles», которые мне понравились, но я помню, что меня как будто ударило электрическим током, когда я случайно услышал ее, готовясь к экзамену по экономике, – она затесалась среди прочих других в двойном компактном диске группы.
Когда все инструменты взяли в унисон начальный аккорд и проникновенный голос Рэнди Мейснера с необычной нежностью затянул песню, я почувствовал, как всего меня пробрала смертельная дрожь: «Вечер был на исходе, яркие цвета сменились синеватыми оттенками, и я, один-одинешенек, думал о женщине, которая, возможно, любила меня, а я так и не узнал об этом, но, ведь тебе известно, я всегда был мечтателем…»
В тот день я понял, что «Take It to the Limit» неоспоримо стала моей любимой песней «Eagles»; кто бы мог подумать, что несколькими годами позже, мчась по американской автостраде, я случайно услышу ее по радио…
«Так что выведи меня на автостраду, покажи мне указатель и еще раз газани так, что стрелку зашкалит».
На следующий день мы вместе с Коррадо отправились исследовать Сан-Франциско с его канатной дорогой, панорамами, Чайнатауном, который сам по себе почти что является отдельным городом, феноменальной бухтой Золотые Ворота. Этот изумительный красный мост, которому не было видно конца, – предмет моих мечтаний в течение стольких лет. Он напоминал мне о Джеймсе Тейлоре, когда тот в своей песне «Wandering» рассказал о своих бесконечных странствиях между Нью-Йорком и Золотыми Воротами.
И нам казалось, что мы тоже должны двигаться без остановки: на следующий день мы выехали в Йосемити[64], а оттуда через несколько часов начали спускаться к Западному побережью.
Водить машину в Соединенных Штатах – совсем иное дело, нежели в Италии, по меньшей мере на калифорнийской автостраде. Иногда кажется, что ты смотришь из окна фильм, настолько красивы пролетающие мимо виды; коренное отличие от наших дорог, где можно любоваться панорамой самое большее в течение двадцати метров пути, пока либо туннель, либо неизбежные ремонтные работы не испортят все, включая нервную систему водителя.
Первой целью осмотра был Монтеррей; после него мы направились к самой красивой части калифорнийского побережья вдоль Автострады 1: зоне Биг-Сур[65]. Эта область, воспетая Керуаком, с горами Санта Лючия, отвесно обрывающимися в море, потрясающе живописна.
Затем мы прибыли в излюбленную туристами Санта-Барбару, где нас ожидали менее поэтичные удовольствия, но их тем не менее не стоило упускать. Мы оказались в кафе со смешной вывеской: филин, вытаращенные глаза которого представляли собой две буквы «О» в слове «Hooters»[66]. Нам еще не доводилось слышать название этого заведения с едой быстрого приготовления, хотя мы полагали, что посетили их все, от «Макдоналдса» до «Венди» и «Кентаки фрайд чикен»[67]. Нет, «Hooters» оказался нам в новинку. Заглянув внутрь здания, мы несколько обалдели, – но это было приятным сюрпризом, – стайка девиц в форменной одежде обслуживала искателей приключений, разъезжая на роликовых коньках. Но это было еще не все: одежда официанток, возрастом лет двадцати, состояла из беленькой маечки на пару размеров меньше, чем это было необходимо, с невероятно глубоким вырезом и шорт апельсинового цвета, столь плотно обтягивающих, что можно было не напрягать воображение. Однако же и на этом чудеса не кончались. Все девицы имели одну общую особенность: из их декольте выпирали, готовые лопнуть от полноты, непокорные округлости, стянутые до безобразия узкими маечками. Налитые груди даже наименее щедро наделенной природой красотки тем не менее не уступали бюсту Долли Партон[68]! Одним словом, это зрелище заставило бы побледнеть и самого Хью Хефнера.
За две минуты «Hooters» стал еще одним из наших американских впечатлений и отнюдь не из разряда рядовых!
На следующее утро состоялось наше первое купание в океане. Дело нешуточное для трех юношей, привыкших к спокойным и теплым водам Средиземного моря. Как только я погрузил в воду большой палец ноги, так сразу же сообразил, что никогда не смогу окунуться в нее! Температура была как на полюсе холода, и даже десяти литров глинтвейна не хватило бы, чтобы мое кровообращение вновь заработало! Коррадо, напротив, сделал попытку. Время его пребывания в воде составило две десятых секунды, но он добился своего. Правда, после купания нам пришлось ждать минут двадцать, пока он не приобрел цвет живого человеческого существа.
Мы колесили по городу до вечера, потом направились в автомобиле в Лос-Анджелес. По радио исполняли «Ventura Highway», мелодию из числа моих любимых американских песен, а когда на указателе я прочитал «Вентура», то не мог поверить своим глазам. Мы слушали «Ventura Highway», несясь по автостраде Вентура!
Лос-Анджелес оказался огромным, но не произвел ошеломляющего впечатления. Он был настолько велик, что оказалось сложно понять, где ты находишься. Ну как не заскочить на Беверли-Хиллз и не бросить взгляд на закрытые ворота вилл миллиардеров? Или не прогуляться по Аллее Славы, попирая своими стопами, как жалкое ничтожество, какую-нибудь голливудскую звезду?
А потом прогулка по Родео-драйв, улице, где Джулия Робертс, одна из культовых актрис, такая прелестная, нежная, несчастная, ходила за покупками в фильме «Красотка». Не знаю, какие сокровища отдал бы я, чтобы увидеть перед собой ее улыбку и такую незатейливую красоту… что же я сказал бы ей, если бы случайно встретил на улице? Или этого никогда не может произойти в моей жизни? Вероятнее всего, не может, но ведь мечтать не вредно…
Я очнулся от мечтаний, когда совсем неподалеку отсюда, на бульваре Сансет, оказался в «Тауэр Рекордз», моем любимом магазине дисков. Каждый раз, когда я видел эту вывеску, у меня во рту начинали течь слюнки: в каком бы городе я ни очутился, просто невозможно было устоять перед соблазном зайти туда и поискать те диски, которые я ни за что не нашел бы в Риме.
Покинув Лос-Анджелес, мы устремились к конечной цели нашего путешествия, Сан-Диего, куда мы прибыли через пару часов езды по бесплатной автостраде. Сан-Диего оказался изумительным: чрезвычайно жаркий, но сухой климат, а цвета и запахи напоминали нам, что отсюда рукой подать до Мексики. Бесконечные пляжи с выходящими в море причалами, участки побережья немыслимой красоты, от которой захватывало дух, такие как район «Ла Холла», настоящая жемчужина, напоминающая Большой Юг, с виллами и домами, висящими над океаном, и ощущением свободы и покоя, что тотчас же заставило меня полюбить это место. После осмотра чудес «Мира моря», знаменитого аквапарка, из центра города на небольшом поезде мы поехали в Тихуану, так называемые «Ворота Мексики».
Мы ожидали увидеть селение из белых домиков, подобных тем, что были знакомы нам по мультфильмам о Проворном Гонсалесе, и потеряли дар речи, когда после пересечения границы пешком оказались в гигантском мегаполисе. Очутившись на проспекте Революции, улице размером с Пятую авеню в Нью-Йорке, мы быстро смекнули, что в Тихуане все сказочно дешево: текила, сигареты, марихуана, секс, еда, лекарства и так далее. Мы довольствовались разнообразными «Маргаритами» и изысканными фахитас; а затем с несколькими блоками «Мальборо» под мышкой мы отправились обратно к границе, чтобы вернуться в Сан-Диего.
Днем позже, направляясь в Гэслэмп-дистрикт, я остановился на перекрестке Пятой и Эф-стрит, и глаза у меня полезли на лоб: мой взгляд упал на вывеску «Ресторан “Кроус”». Это был ресторан Джима Кроуса, которым управляла его жена Ингрид. Создатель таких шедевров, как «Operator», «New York's Not My Home», «I Got a Name», «These Dreams» и «I Have То Say I Love You in a Song», в строгом порядке моих предпочтений, умер в 1973 году, и мне никогда не приходила в голову мысль, что здесь, в Сан-Диего, я могу наткнуться на ресторан, посвященный ему.
Было просто невероятно – любое место, куда я попадал в Соединенных Штатах, делало мне музыкальный подарок. Все это выглядело так, будто я следовал по тропинке, осененной мелодиями любимых песен.
На следующий день, после долгих пеших прогулок и дикой усталости, действительно настало время насладиться солнцем, пляжем и больше не морочить себе голову: наш выбор пал на пляжи «Миссионерский» и «Океанский». В конце дня, любуясь с Хрустального причала потрясающим закатом и океаном, мы не могли поступить иначе, как последовать мудрому совету американского героя, Форреста Гампа: «Раз уж мы добрались сюда, стоит развернуться и продолжить бег!»
Начиналось наше обратное путешествие с побережья до побережья в Нью-Йорк.
11. «Highway song»[69]
Мы вскочили в «Грейхаунд», автобус, который добирается даже до самой маленькой и отдаленной американской деревушки, и отправились в Лас-Вегас. По дороге мы сделали остановку, и, выйдя наружу, я ощутил самую непереносимую жару, которую мне довелось когда-либо испытать в моей жизни. Впервые я понял, что такое пустыня.
По прибытии в Лас-Вегас мы, конечно же, не могли удержаться от искушения сделать ставку в казино. 28 и 11, 11 и 28: таковы мои числа. Я жаждал разбогатеть. Мною была вложена в рулетку существенная сумма в пятьдесят зеленых, больше я не мог себе позволить. Итак, произнеся необходимые заклинания, выполнив соответствующие ритуалы и взаимно ободрив друг друга, трое из фильма «Одиннадцать друзей Оушена» стояли на главной улице, готовые выбрать казино, обреченное на разорение. Судьба предпочла «Экскалибур».
Мы вошли с непоколебимой решимостью и взглядом победителей и заняли места за столом рулетки. 28 и 11, 11 и 28, я не мог думать ни о чем другом и поставил свои первые жетоны на мои счастливые числа. Не выиграло ни одно. В это время Коррадо и Алессандро повезло. На радостях они повели себя как последние дураки, когда тут же рванулись за выигрышами, чтобы прибрать их к рукам, не зная, что распределять деньги надлежит крупье, который, судя по написанному на его лице отвращению, с удовольствием заехал бы им в рожи своей лопаточкой.
Я бы с удовольствием залепил ему в морду сам, до чего же противным голоском он вещал нараспев «Faites vos jeux»[70] и «Les jeux sont faits, rien ne va plus»[71], а числа 28 и 11 все не выходили.
Через десять минут мои пятьдесят зеленых улетучились, то есть, по злой шутке судьбы, были выиграны Алессандро и Коррадо, которые с довольным видом знатоков своего дела продолжали огребать деньги. Что за разочарование! Я целую вечность ждал этого момента, и никакого намека на 28 и 11. Я оставил моих приятелей за столом и отправился звонить Джулиане.
– Любовь моя, я спустил все! А Коррадо с Алессандро выигрывают, как два сукиных сына!
Я не успел повесить трубку, как увидел вдали очертания фигуры Алессандро, движущегося в моем направлении.
– Я просадил все! А Коррадо фарт так и валит!
Было совершенно ясно: судьба слепа, а невезение имеет преотличное зрение. Мы утешились мыслью, что нам определенно больше везет в любви. Придя к такому решению и предназначив Коррадо роль мстителя за наши неудачи, мы вернулись в зал болеть за него. А поскольку мы, римляне, любим выходить за рамки, то наши эмоции были достойны спектакля, разыгранного на «Янки Стэдиум». Коррадо в завершение выиграл сотню долларов. Во всяком случае, ему удалось сорвать куш в казино «Экскалибур»!
Сутки спустя мы добрались до Большого каньона. От дороги туда у нас захватывало дух: пустыня, кустарник, плотина имени Гувера и подъемы под палящим солнцем. Даже вблизи от заповедника у нас не создавалось впечатления, что мы достигли цели: не было видно ни вершин гор, ни ложбин, которые наводили бы на мысль о существовании каньона. Потому что если каньон есть, то его должно быть видно. С правой стороны параллельно внутренней дороге в заповедник тянулась ограда из чрезвычайно густого кустарника, из которого торчали знакомые очертания, а именно задницы человеческих существ! Некие личности неизвестно по какой причине выстроились в ряд, засунув головы в зеленые ветви, вследствие чего на всеобщее обозрение проезжающих по дороге оказались выставлены исключительно их зады.
Побуждаемые непреодолимым любопытством, мы припарковали автомобиль и тоже просунули наши головы в кустарник. То, что мы увидели с другой стороны, не поддавалось никакому описанию: ущелье из красного камня, круто обрывавшееся с совершенно плоской равнины вниз на сотни метров туда, где неслись воды реки Колорадо.
Это выглядело нереальным, казалось картиной, написанной рукой Господа Бога. Ущелье было гигантским, окрашенным в различные оттенки красного, желтого, апельсинового и розового цветов, с идеально отполированной поверхностью, склонами, выточенными рекой Колорадо в течение миллиона лет. Эффект был потрясающим; мне показалось, что я потерял всякую способность ощущать глубину и размеры.
Когда стемнело, ближе к девяти вечера, мы опять сели в машину, чтобы вернуться в Лас-Вегас, благодарные за те впечатления, которые доставил нам Большой каньон.
Было около одиннадцати, я уже просидел за рулем пару часов, в то время как мои приятели спали, когда вдали возникло странное зарево, которое напоминало то ли белую ночь на севере, то ли приземление межпланетного корабля из внеземной цивилизации. По мере того как мы приближались к Лас-Вегасу, зарево усиливалось, и только когда машина спустилась с последнего из холмов, окружавших город, мы поняли, что это за сияние: Лас-Вегас! Казалось, что проснулся вулкан и море лавы погребло город под собой, накрыв его сияющим покрывалом. Мы вновь потеряли дар речи. На сей раз от невероятного творения человеческих рук: моря огня в пустыне.
Переезд на Восток должен был продолжиться на следующий день; на основании приобретенного опыта и привычки ежедневно неустанно проезжать сотни миль мы приняли наиболее экономичное, но также и наиболее утомительное решение: три дня на «Грейхаунде» из Лас-Вегаса в Новый Орлеан.
Поскольку автобус делал много остановок, нам удалось повидать, хотя и бегло, несколько городов, от Финикса до Тусона, который навеял на меня воспоминания о Дэне Фогельберге, еще одном музыканте, которого я обожаю. Затем Эль-Пасо, Сан-Антонио, где я высадился, насвистывая как раз «In San Antone» Дэна Силза, и в заключение Хьюстон. Наконец мы прибыли в место назначения, Новый Орлеан. Там, прогуливаясь по городу, мы натолкнулись на кафе с комичным названием «Cats Meow»[72], где было в самом разгаре отчаянное караоке.
В Италии я всегда ненавидел караоке, но здесь я просто обалдел от радости: просматривая перечень имеющихся в репертуаре песен, я усмотрел там «Битлз», Джеймса Тейлора, Дэна Фогельберга, группы «Eagles», «Alabama». Кафе постепенно заполнялось, и толпа зрителей жаждала насладиться исполнением певцов, претендующих на выступление.
В какой-то момент, возвращаясь из туалета, я заметил нечто такое, что дало мне повод совершенно серьезно испугаться, как бы меня не хватил удар: все посетители уставились на меня, так как блондинка-ведущая только что вызвала меня на сцену петь! Пока я был в туалете, два моих малахольных дружка без моего ведома записали меня на выступление и вовсю аплодировали из глубины кафе, наслаждаясь розыгрышем. Я застыл в нерешительности, не зная, то ли мне сбежать, то ли умереть со стыда на месте.
Я выбрал второе – для меня представлялось невозможным обмануть ожидания зрителей, просто заходившихся от исступления, которое еще больше взвинчивала ведущая, подуськивая их аплодировать и поддержать «Луку из Рима». Тревога быстро улетучилась, и через несколько секунд вступления на двенадцатиструнной гитаре, к которому добавился стон электрогитары, я узнал знакомую песню и, преисполненный радости, в полный голос затянул «Well I tried…».
Это оказалась песня «Sister Golden Hair» группы «America», а я на несколько минут превратился в Джерри Беркли. Присутствующие улыбались и аплодировали мне, поднимая вверх большой палец, а на мониторе бежал текст, в котором я не испытывал ни малейшей надобности.
Лука Спагетти пел в новоорлеанском кафе «Sister Golden Hair» группы «America», и никому не пришло в голову пинками прогнать его! По меньшей мере пока.
Когда песня закончилась в буре аплодисментов, мною овладело чрезвычайное возбуждение. Мне хотелось остаться на сцене на три дня подряд, как в Вудстоке, чтобы приводить Новый Орлеан в восторг одной песней за другой, но здравый смысл и ревнивые взгляды других певцов, записавшихся на выступление, призывали меня покинуть сцену.
Я вернулся к нашему столу и обнял своих друзей, поблагодарив их за то, что заявили меня. Они же вместо ответа вложили мне в руку кассету с записью моего песенного выступления.
Этим же вечером, чтобы ничего не упустить, мы переместились в храм джаза: исторический «Preservation Hall», где слушали отличную музыку.
Из Нового Орлеана, все так же с помощью нашего верного «Грейхаунда», мы прибыли в Нэшвиль, столицу штата Теннесси и музыки в стиле кантри. Я заставил друзей нанести визит в «Зал славы музыки кантри» и «Grand Ole Opry», театр, где устраивались сотни выставок и концертов. Вечер мы провели в салуне «Дикая лошадь», где присутствовали на репетициях урока «лайн данс». Если и существует что-либо, к чему я действительно не испытываю ни малейшей склонности, так это танцы. По мне, так лучше размахивать веником, однако же «лайн данс» захватил меня. Это групповой танец, все двигаются в унисон, молодые и старики вместе. Естественно, все это под аккомпанемент музыки кантри.
Кто знает, может быть, в какой-нибудь другой день я попробовал бы. Но не в тот вечер. Было слишком поздно, и мои друзья, больше изнуренные музыкой в стиле кантри, нежели усталостью, заставили меня распрощаться с Нэшвилем, чтобы направиться к следующей цели нашего путешествия, Вашингтону.
По дороге к штату Западная Виргиния, между Голубым хребтом и рекой Шенандоа, мне показалось, что я нахожусь внутри песен «Take Me Home», «Country Roads» Джона Денвера, я был почти на небесах…
За Вашингтоном последовала Филадельфия. Там мы наконец встретились с Берни.
12. «Country road»[73]
С Берни мы познакомились в Риме несколько лет назад; этим летом он вернулся домой, в Филадельфию, в отпуск. Ему было под сорок, ростом он мог потягаться с нами, за метр восемьдесят, но вместо семидесяти пяти килограммов он весил намного больше. Эта дородность и симпатичное лицо придавали ему сходство с Джоном Гудмэном[74].
Берни был священником. Он владел семью языками, включая азбуку для глухонемых, чем чрезвычайно гордился. Мы познакомились с ним в нашем приходе. Играя в футбол с друзьями на площадке молодежного клуба каждую субботу после полудня, мы не могли не обратить внимания на этого человека весьма потешного вида, одетого в форму бойскаута.
Только позже мы обнаружили, что он был священником и притягивал людей к себе благодаря своему необычайному обаянию.
Его мечты также выходили за пределы рядовых. Например, он мечтал стать одним из персонажей «Звездного пути»: священником на исследовательском межпланетном корабле «Энтерпрайз». Однако, когда мы встретили в Нью-Йорке Капитана Кирка, нам не удалось замолвить словечко за нашего друга. Но тот не сдавался. Каждый год он принимал участие в сборищах «ИКЗП» – «Итальянского клуба поклонников “Звездного пути”», организующего периодические встречи для всех поклонников и почитателей этой саги, которые приходят туда, одетые в костюмы своих любимых героев. Мы всегда заранее знали, в каком костюме заявится Берни, и каждый раз при виде его мы теряли дар речи, потрясенные необыкновенной тщательностью, с которой тот был изготовлен. Мы дивились тому, как его толстым рукам удается кроить, наклеивать, сшивать детали величиной с булавочную головку. Это выглядело потрясающе.
Берни также испытывал беспредельную любовь к поездам. И к настоящим, и к их моделям. О поездах он знал абсолютно все. Берни хвастался, что ему приходилось водить и настоящие, а мы стали гордиться им, когда увидели огромный макет, занимавший весь подвал его дома в Магнолии, близ Филадельфии, с миниатюрными локомотивами, которые, издавая свистки, катились друг за другом по рельсам. Целый городок, воспроизведенный в мельчайших подробностях его чудотворными руками и его терпением из множества паровозиков и различных деталек, приобретенных за долгие годы.
Отец Берни на пару дней приютил нас в Филадельфии. После показа родного дома, расположенного именно в Магнолии, он повел нас перекусить в «Ки-Ки», техасско-мексиканский ресторан-гриль. Мы, желая щегольнуть опытом, приобретенным в Тихуане, предложили ему выпить ледяную «Маргариту», но он, к нашему уважительному изумлению, предпочел лонг-айлендский холодный чай.
Когда подали выпивку, я, совершенно уверенный в том, что угадал мысли Алессандро и Коррадо, не устоял перед искушением и спросил его:
– Берни, черт побери, но как тебе удается есть начос[75], бурритос[76], такос[77] и фахитас, запивая их холодным чаем? Что, тебя в Риме ничему не научили?
После того как Берни с трудом ухитрился подавить приступ смеха, он ответил:
– Прекрасно справляюсь с этим. Потому что, если вы этого не знаете, лонг-айлендский холодный чай – это вовсе не холодный чай, а коктейль из пяти крепких спиртных напитков, подкрашенный несколькими каплями кока-колы!
Из трех наших раскрытых ртов через несколько секунд хором в унисон вылетело по-римски темпераментное восторженное: «Ах, е… твою мать!» Святой отец преподал нам неплохой урок. С высоты экспертов по алкогольным напиткам мы упали до уровня невежественных молокососов.
Ужин прошел в приятнейшей атмосфере, и мы поведали Берни о чудесном кафе, которое мы обнаружили в Санта-Барбаре, и о том, как марка сети кафе «Hooters» стала нашим новым американским идолом. И здесь Берни опять-таки просветил нас. Несколько скептическим тоном он попросил нас произнести это слово по буквам[78].
– «H-o-o-t-e-r-s», – подтвердил я.
Берни разразился хохотом, который долго не мог побороть, и только когда он перевел дух, мы трое поняли, какими оказались лопухами!
Священник объяснил нам, что такое сиськи и как они называются в американском варианте английского языка.
Филадельфия, или в просторечии «Филли», которую мы посетили на следующий день, чрезвычайно понравилась нам. Мы прошагали несколько километров пешком, и только вечером, после ужина Берни выложил свой козырь на стол. Он повел нас к заведению, из которого лилась задорная музыка. Но только когда открылись двери, мы поняли, в какое райское местечко привел нас наш друг-священник: кафе «лайн-данса»! Внутрь набилась сотня посетителей в сапогах и шляпах, они столпились вокруг площадки, на которой несколько десятков улыбающихся человек отплясывали с идеальной слаженностью под мелодию «Take It Easy»!
Впервые в жизни во мне проснулось желание танцевать, но это не представлялось возможным. Было слишком сложно. Хотя все движения группы и были очевидно простыми, по мере того как сменялись одна за другой «мои» песни, менялись и танцевальные па; ковбои-танцоры, казалось, всегда знали, в какую сторону двигаться и что делать, какую ногу повернуть, когда притопнуть о пол каблуком или носком, как перемещаться – шеренгой или хороводом. Чудо из чудес! Захватывающе! Феноменально! Я чувствовал, что в меня вселился дух Тони Манеро… Мы оставались там несколько часов, наслаждаясь этим массовым спектаклем, и пару раз нам даже удалось двинуть ногой в такт музыке.
После этой сказочной ночи мы попрощались с отцом Берни и поблагодарили его за дружеское гостеприимство, проявленное по отношению к нам, назначив ему свидание в Риме как встречу старых друзей.
Настал черед Бостона. Несколько лет назад я случайно купил книгу нот песен одного барда, сопровождаемую краткой биографией. Угадайте чьей. Текст начинался такими словами: «Джеймс Тейлор родился 12 марта 1948 года в 5.06 пополудни в Бостонской многопрофильной больнице». Настал мой час: я мог навестить места детства моего обожаемого певца. Да, мне известно, что много лет он провел в Чейпел-Хилл, в Калифорнии, но все началось здесь, в Бостоне, штат Массачусетс.
Естественно, я подговорил обоих моих приятелей сопровождать меня в этом путешествии в качестве придворных короля. И хотя на Манхэттене у меня ничего не вышло, кто знает, может быть, здесь, в Бостоне, мне повезет случайно повстречаться с Джоном, которому, возможно, вздумается проехать по местам, где он родился, или по пути на остров Мартаз-Вайнярд, или же, как поется в одной из его песен, «по пути из Стокбриджа в Бостон».
Город произвел на меня волнующее впечатление, омываемый морем, зеленый, молодой, дружелюбный. Мы тотчас же отправились по так называемому «Пути Свободы», маршруту, отмеченному красными кирпичиками, который проходит через все исторические места в городе. По мере того как мы продвигались по «Пути Свободы», в моей памяти всплывали эпизоды истории, изучавшейся в школе и забытой нами, и прежде всего Бостонское чаепитие[79], которое обеспечило этому городу центральное место в американской истории. Но то, что поразило меня больше всего, так это площадь Фаней Холл вместе с рынком Куинси, где можно было найти продукты и кушанья любого вида, с историческими ресторанами, где подавали традиционные блюда, включая мое самое любимое из американской кухни, «клэм чоудер»[80].
Но в Бостоне не было и духа Джеймса Тейлора.
На следующий день мы отправились на машине в Пруденшиэл-сентер, чтобы обозреть Бостон с возвышения. Неожиданно мне пришла в голову мысль, до которой я до сих пор не додумался: заехать в Бостонскую многопрофильную больницу. Я чувствовал себя странником, завершающим паломничество: я нашел свою Вифлеемскую пещеру! Охваченный непреодолимым возбуждением, я заставил моих несчастных спутников выйти из машины и приблизиться вместе со мной к входу. Выражение их лиц менялось от демонстрации, что их терпение истощилось до опасного предела, до серьезного беспокойства, не помутился ли у меня разум.
Им было трудно понять меня, и я ничего не мог поделать.
После полудня, когда мы сели в машину и завернули за угол, подальше от взглядов прохожих, мои друзья отлупили меня.
Следующим утром мы отправились в обратный путь в Нью-Йорк. Но сначала мы остановились на Кейп-Код, красивейшем полуострове недалеко от Бостона, и море немедленно воскресило в моей памяти старого друга: Джессику Флетчер, «леди в желтом» из одного нашего любимого американского сериала, дорогую тетушку-писательницу, раскрывающую убийства с присущей ей проницательностью и невозмутимостью, перед которыми невозможно устоять.
Возвратившись в дом Пэта, мы тотчас же опознали аромат, который исходил из кухни на улице Магнолий, некогда столь привычный для наших ноздрей… запах соуса! Наконец-то мы вновь полакомимся пастой! На сей раз любовно приготовленной руками нашего друга Патрика! Рано или поздно я хотел бы провести статистическое исследование для выяснения, сколько времени может итальянец продержаться без пасты, в особенности если его имя – Лука Спагетти.
Ну, без такой, какую состряпал Патрик… очень долго! Количества «перышек», которые он навалил в наши тарелки, хватило бы на целый полк, но вкус разительно отличался от того, который обеспечила месяц назад его мама. Мой друг еще не стал хорошим поваром, и в тот вечер я заснул, мечтая о «пицце с перцами» в поезде «Зефир».
Что за странное ощущение испытываешь, возвратившись в Нью-Йорк после месяца, наполненного напряжением и переживаниями, незабываемыми встречами и впечатлениями! Я почувствовал себя не юношей, а мужчиной. И начала уже проявляться некоторая опечаленность, потому что вскоре я покину этот город. Да, американская мечта итальянского юноши подходила к концу.
Как быстро он пролетел, этот месяц, думал я, когда через несколько дней самолет готовился оторваться от земли. Мои мысли перескакивали от океанов к пустыням, от мостов к небоскребам; к Большому каньону, Пэту, Луишу и мальчику Стиву, бейсбольной команде «Янкиз», легендарному кафе «Hooters», моему исполнению на караоке «Sister Golden Hair» и к храму песен в стиле кантри «Презервейшн-Холл».
Самолет разгонялся по взлетной полосе, и во мне на секунду родилась надежда, что шум в моих ушах вовсе не звук шасси, отрывающихся от земли. Я глянул в окошко, чтобы еще раз увидеть закат, окрашивающий Манхэттен в красное, в то время как остров под нами все больше отдалялся. Я безуспешно пытался сдержать две слезы, которые уже стекали по моим щекам.
13. «Hard Times»[81]
Возвращение домой выбило меня из колеи. Я не находил места в своем собственном доме после переполненного яркими впечатлениями путешествия по Америке, которое запомнилось мне навсегда. Наступил момент решать, что же делать со своей жизнью – с дипломом высшего образования в кармане я должен осознать, какие пути открываются передо мной. Банк? Свободная профессия? После чрезвычайно продолжительных размышлений, длившихся месяцы, в течение которых меня терзал страх перед будущим и тоска по Соединенным Штатам, я выбрал стезю независимого профессионала. Конечно, нелегко решиться на это, не унаследовав уже хорошо поставленное дело, но это было как раз то, чем мне хотелось заняться, – стать бухгалтером-ревизором. Да, именно так, безликим, застегнутым на все пуговицы учетчиком денег в чужом кармане. Но кто доверит свои кровные человеку по фамилии Спагетти?
Об этом предстояло позаботиться позже: пока же я начал свою трехгодичную стажировку в конторе с устоявшейся репутацией. Начало этого нового этапа в моей жизни принесло с собой единственное открытие: мечта исчезла.
Именно в этот первый период неопределенности я начал предаваться другим размышлениям.
«Разве с такой фамилией, – думал я, – могла передо мной открыться возможность посвятить себя более творческим видам деятельности, нежели прозаический бухгалтерский учет?» Я начал задаваться вопросом: «Лука, а твоя фамилия ничего тебе не подсказывает?» Идея открыть ресторан в Риме и назвать его «У Спагетти» показалась мне слишком банальной; я подсознательно хотел каким-нибудь образом сбросить с себя груз своей фамилии, по этой причине придерживал такую возможность в качестве последнего шанса, если уж совсем не будет другого, стоящего варианта. И все же некоторое время я подумывал об этой потешной мечте и спрашивал себя: а почему же мой отец и отец его отца, тоже с фамилией Спагетти, не попытали счастья на рынке ресторанных услуг?
Можно было пойти по стопам кафе «Hooters». Не для того, чтобы обзавестись красотками официантками, подающими гамбургеры, а просто открыть новую сеть быстрого питания в Соединенных Штатах, сеть ресторанов, разбросанных по всей Америке, в которых будут готовить только пасту, – «Лука Спагетти»!
По сути своей это была простейшая вещь: меню в две колонки, с различными видами пасты с одной стороны, от длинных макаронных изделий до коротких, от домашних до разновидностей с наполнителями; и с различными вариантами соусов – с другой, включая карбонару, аматричану, рагу, песто[82] и так далее; для любителей приключений – полное раздолье выбирать из ассортимента пасту и соусы, наиболее благоприятные для их вкуса. Будут также и комплексные блюда, включая знаменитое «Меню Спагетти», содержание которого я вам не раскрою.
И мое имя как марка одноименной сети заведений быстрого питания будет красоваться на Пятой авеню, между «Булгари» и «Тиффани». В остальном же я готов принять вызов любого, пытающегося оспорить тот факт, что спагетти, если они приготовлены должным образом, являются истинными драгоценностями.
Вместо этого в реальной жизни меня ожидало тесное общение, держитесь, чтобы не упасть, с системой итальянского налогообложения, с которой я до сих пор каждодневно свожу счеты. Система итальянского налогообложения, если вам это неизвестно, – совершенно жуткий мир, дремучие дебри законов, норм, циркуляров, непонятных для подавляющей части налогоплательщиков, которые, естественно, изматывают требованиями по разъяснению и успокоению лицо, отданное на заклание этому мученичеству: бухгалтера-ревизора. Тот, в свою очередь, ломает голову, каким образом истолковать и изложить собственным клиентам гребаные мудрости налоговых положений последнего поколения, и в большинстве случаев ему это не удается.
Затем – этап регистрации документов, выполнение учета и последующего их архивирования. Все это является прелюдией к кошмарному периоду, длящемуся с апреля по июль, в течение которого бухгалтеры-ревизоры становятся личностями, внушающими наибольший страх и ненависть населению: время декларирования доходов. Эта прелестная процедура преследует одну-единственную цель, а именно заставить людей платить налоги. И люди чрезвычайно редко воздерживаются от того, чтобы не обрушить на голову невиновного бухгалтера-ревизора самые ужасные оскорбления и проклятия. И таким образом, каждый год где-то с половины апреля я вооружаюсь кирасой и шлемом, готовый получить ежегодную порцию оскорблений, которая иссякает только с наступлением периода летних отпусков моих клиентов. В том случае, если после моей работы у них еще остаются деньги на то, чтобы уехать в отпуск.
Должен сказать, если клиент оказывается неприятным, заставить его платить налоги прямо-таки становится удовольствием для меня. В особенности если он еще и скупердяй. В таких случаях я испытываю садистское и утонченное наслаждение, когда звоню ему в конце мая, явственно ощущая, как он в молчании дрожит на другом конце телефонного провода, ожидая этот удар судьбы.
Римлянина никогда нельзя заранее подготовить к столкновению с налогами. Но есть кое-что, вселяющее в меня мужество, – это изречение, принадлежащее, кажется, лично Альберту Эйнштейну: «Декларация доходов является вещью, непостижимой для человеческого ума». Истинная правда: это именно так. Будучи бухгалтером-ревизором, я становился свидетелем зрелищ, которые вы, простые смертные, не в состоянии представить себе: я видел, как налогоплательщики бледнели и находились на грани обморока при объявлении суммы, подлежащей к уплате, иные падали на колени и умоляли меня «сделать что-нибудь»; мне приходилось выслушивать бредовые речи лиц, уверенных в существовании призрачных законов и налоговых льгот в свою пользу; и наблюдать молчание других, ошарашенных и не понимающих, почему же по меньшей мере пятьдесят процентов их заработка растворяется в воздухе, как слезы под дождем.
Возможно, лучшими клиентами являются те, которые любой ценой хотят избежать одного: разъяснений бухгалтера-ревизора об истечении сроков, балансе и налоговых декларациях, от которых их головная боль усиливается, заставляя их орать, что они не желают ничего знать, что слепо доверяют своему бухгалтеру-ревизору, что заплатят все, что должны заплатить, и задекларируют то, что подлежит декларированию, не моргнув глазом, когда я скажу им сделать это. Но нам всем хорошо известно, что, в то время как первая часть их рассуждений может быть искренней, в момент уплаты подавляющая их часть тоже попадает в категорию «умоляющих на коленях».
О самых рассеянных, невнимательных или страдающих беспамятством я стараюсь проявлять наибольшую заботу. Пытаюсь весь год терпеливо просвещать их относительно времени и способов предоставления мне документации, и более или менее все они, лишь бы не вникать в различные налоговые тонкости, дисциплинированно повинуются мне. Только моя приятельница Франческа, физиотерапевт и остеопат, верна и последовательна в своем нежелании узнать или запомнить хоть один последний срок представления документов. Она является абсолютной предводительницей группы тех, которые не желают знать об этом. Платят, и все. Только каждый раз я должен напоминать им об этом. И вот, несколько лет назад, после предварительного оповещения Франчески в течение нескольких месяцев о том, что и в этом году 16 июня надлежит уплатить налоги, за трое суток до истечения срока я послал ей сообщение по электронной почте: «Привет, Франческа, все в порядке? Срок истекает, и ты осталась последней. Не забудешь принести мне как можно скорее документы для декларации?»
Ответ оказался таким: «Для какой декларации?»
Моим первым побуждением было в отчаянии как можно сильнее и громче ударить кулаком по столу. Придя в себя, я стал размышлять, как бы прикончить ее: возможно, подкараулив в автомобиле, замаскировавшись огромными темными очками, в полной готовности сбить несчастную. С минуту я даже подумывал о том, чтобы выйти из регистра консультантов по налогообложению.
На самом деле Франческа снабдила меня замечательным средством развлечения. Когда наиболее занудные, торопливые и надоедливые клиенты заранее, за несколько месяцев начинают звонить мне, чтобы задать вопрос:
– Дотторе[83], когда я могу принести документы для декларации? – я весело отвечаю:
– Для какой декларации?
14. «Golden moments»[84]
В те годы единственным средством, которое я мог использовать, чтобы почувствовать себя ближе к моей далекой Америке, была музыка. Каждый день я старался выкраивать хотя бы час, чтобы уединиться со своей гитарой. Но каждый раз получалось, что вместо сольного упражнения мне приходилось играть вместе с братом Фабио. Я всегда играл только на акустической гитаре, он же, сын иного поколения и больший выпендрежник, чем я, соблазненный примером Марка Нопфлера[85] и диском «Sultans of Swing»[86] рок-группы «Dire Straits», предпочитал электрогитару. Несомненно, некоторые песни звучали намного лучше в исполнении дуэтом, как по полноте звука, так и по возможностям двух голосов.
В один прекрасный день мы осознали, что обладаем репертуаром из примерно четырех десятков песен, которые нам удается исполнять приемлемым образом, и, возможно, могли бы начать выступать с ними в каком-нибудь римском заведении.
Мы решили предпринять такую попытку.
Здесь надо сделать отступление, что возникла проблема – наша фамилия. Безусловно, мы не могли выступать как «Братья Спагетти» или «Два Спагетти» хотя бы потому, что хозяева заведений, если дело пойдет, просто расхохотались бы нам в лицо. Но к счастью, у нас имелось двое друзей, таких же помешанных на музыке, как и мы: Марио и Джанни. Марио был на пять лет старше меня и в свое время был поклонником «Битлз»: ему хотелось петь, как Джон, но судьба наделила его голосом Пола.
Джанни, одногодок моего брата, обладал примерно таким же темпераментом. Он сходил с ума от блюзов и вследствие этого предпочитал электрогитару. Мы все четверо играли на гитарах, кто лучше, кто хуже, каждый в своем стиле, и все четверо горели желанием заняться этим вместе. Так что мы с братом решили основать нашу группу вместе с Джанни и Марио. Репертуар простирался от классики ливерпульской четверки до песен, отдающих ароматом Дикого Запада, которые, сказать по правде, в Риме в те времена никто не исполнял, так что это стало бы абсолютной новинкой для всех.
Таким образом мы создали группу. Нам требовалось только название. Слово «спагетти» безоговорочно отпадало, мы искали нечто оригинальное, но дающее представление о типе музыки, которую мы будем исполнять. Джанни, нашему предводителю по фамилии Кавалло[87], пришла в голову гениальная идея: достаточно перевести на английский язык его имя и фамилию и группа превратилась в «John Horse Quartet»[88], а мы – в четырех ковбоев с гитарами в руках.
Начались репетиции. Их местом стал Веллетри, самый удаленный городишко римских замков, где Марио владел небольшой виллой с подвальным этажом, в котором можно было поднимать сколько угодно шума, никому не мешая. Там очень скоро появился новый персонаж: Симона.
Симона, жена Марио, подобно нам, любила музыку и «Битлз» до такой степени, что, когда мы исполняли песни, не могла удержаться, чтобы не подпевать нам, подыгрывая на бубне или же просто подтанцовывая в такт ритму. Трудно сказать, была ли она нашей Линдой или Йоко. Жаль только, что первая недавно скончалась, а вторая оказалась женщиной, на которую низверглось самое большое количество проклятий в истории человечества. Так что мы решили, что Симона станет нашим пятым битлом, то есть нашим Билли Престоном[89] – невзирая на тот факт, что Билли был здоровенным, тучным и темнокожим, в то время как Симона – блондинкой с нежным цветом лица и такой маленькой, что заслужила себе прозвище «Блоха». Но ее голосок сообщал нечто смягчающее нашему мужскому хору, а присутствие на сцене женщины гарантировало тот минимум благоволения публики, которого никогда не заполучили бы мы, четверо крикунов-дилетантов.
Ноги у нас тряслись, но мы просто умирали от нетерпения в ожидании нашего первого выступления. Когда ведущий объявил наш выход, состоялось официальное рождение «Квартета Джона Хорса» под аплодисменты пятисот человек. Свет погас, зажглись прожекторы, мы сели на наши пять табуретов, взяли в руки гитары и отрегулировали высоту микрофонов. И тогда голос Марио наполнил помещение нежным акустическим вариантом «Can't Buy Me Love». Я чувствовал, как радость растет во мне, нота за нотой, аккорд за аккордом. Я смотрел на друзей, стоявших внизу у сцены, которые глядели на меня и улыбались, и я отвечал им улыбкой. Время от времени я поворачивался к другим членам «Квартета», погрузившимся в их собственное наслаждение, не верящим самим себе. Да, сочетание дружбы и музыки может творить чудеса.
Через несколько минут наступила моя очередь петь, во второй раз в жизни перед таким количеством людей, так что я собрался с силами и от всего сердца затянул такую дорогую для меня строку из «Sister Golden Hair».
Грохот аплодисментов вернул меня на грешную землю, возвестив об окончании песни. Далее концерт шел как по маслу, и мы развлекались вовсю. Наше удовлетворение превзошло все границы: мы предложили приемлемую для уха музыку, чудесные песни, которые были известны далеко не всем, а потому чувствовали себя в некотором роде первопроходцами этого жанра в Риме; к тому же все это исполнялось в компании друзей и для друзей. Чего было еще желать? Только повторного исполнения! Что и произошло. В те годы мы много выступали, совершенствовали уже отработанные песни, осваивали новые, такие как «Ventura Highway» группы «America» и прежде всего «More Than a Woman», исполняемую «Bee Gees», которая нами, к всеобщему изумлению, была выдана в танцевальном варианте, переходящем в акустический, и, возможно, являлась песней, аранжированной и представляемой нами лучше всего.
Мы стали желанным и привычным явлением для наших поклонников, которые за несколькими бокалами пива выучивали наши песни и вскоре даже начали требовать их.
Джанни находил все новые заведения для наших выступлений, и несколько раз нам выпала возможность выступить на сценах, предназначенных для профессионалов. Так мы вошли в 1999 год, когда, к сожалению, нагрузка на работе и семейные заботы стали оставлять нам все меньше времени для «Квартета». Таким образом, вечерние выступления случались все реже, пока, как это бывало во всех известных в истории группах, и для нас настал «час размышления», первый шаг к роспуску. К счастью, в противоположность всем выдающимся рок-группам в нашей обошлось без смерти от передозировки наркотика, алкоголизма или чего-либо подобного.
В 1999 году я не выдержал. Мне не суждено было излечиться от заболевания Америкой; музыка помогла мне продержаться, но не принесла забвения. Настал час возвращения в Штаты.
Каждый раз, когда я приезжаю в Нью-Йорк, у меня такое ощущение, словно я вернулся домой. То есть как будто я и не уезжал. Просто невероятно, что каждый, вступивший на эту землю, ощущает себя владельцем чего-то неопределенного, единственного и близкого, что уносишь с собой в другую часть света. И каждый раз возвращаешься, чтобы вновь найти это. Ибо Нью-Йорк постоянно меняется, но остается верным себе и тем, кто любит его.
В 2000 году я вернулся туда один, гостем Берни, который перебрался из Филадельфии в Нью-Йорк, в Бруклин, в приход церкви Помпеи на улице Сейгел. Как и другие районы Бруклина, этот также сильно отличается от Манхэттена. Здесь сверкающие небоскребы уступили место жилым домам цвета среднего между серым и коричневым, а вокруг церкви возвышаются несколько заброшенных фабрик и небольшие перенаселенные жилища. Кроме того, улицы зачастую становятся ареной разборок между враждующими бандами, иногда с перестрелкой. Многочисленная испано-пуэрториканская община, населяющая этот район, прекрасно приняла меня, и, поскольку я был другом отца Берни, все в округе были предупредительны со мной, как будто я состоял у них под опекой.
Был февраль, солнечный февраль. Утром я торопливо завтракал вместе с Берни, затем, естественно, моим первым побуждением было бежать к моим небоскребам, на мой Манхэттен. Но все оказалось не так просто.
Престарелые прихожанки церкви Помпеи, которые приняли меня с распростертыми объятиями и поцелуями, не давали мне увильнуть от них. После завтрака, как только я делал попытку выскользнуть в сторону метро, тотчас же натыкался на какую-нибудь милую старушку на посту у выхода, готовую сопроводить меня на службу в 8.30. Надо сказать, что каждодневное посещение церкви не относится к разряду развлечений; к тому же я приехал совсем за другим. Однако же для меня стало невозможным сказать «нет» этим добрейшим созданиям, так что я смирялся, убеждая себя в том, что я проводил эти полчаса с Берни, хотя он находился у алтаря, а я – на последней скамье.
В течение одной из этих служб, которую Берни вел на испанском языке, мой друг ошеломил меня находкой, до которой мог додуматься только он. Во время обмена добром[90] я пожал руки всем моим улыбающимся старушкам, оставалось только обменяться рукопожатием с моим другом-священником. Я никогда не позволил бы себе подняться к алтарю, чтобы обнять его и пожать ему руку, но сожалею, что не сделал этого.
Итак, после того как наши взгляды встретились и мы несколько секунд пристально взирали друг на друга, Берни медленно поднял руку с открытой ладонью. И, не спуская с меня ласкового взгляда, загнул три пальца внутрь, а указательным и средним изобразил большую букву «V»: «Долгой жизни и процветания!» Это был тот самый знак! И он был взят именно из «Звездного пути»: Берни направил мне свое приветствие на вулканийском языке. Я ответил на него понимающей улыбкой. Служба закончилась, и я удалился с миром, но пока не на Манхэттен.
Всегда приходилось преодолевать заслон из женщин: все хотели знать, в котором часу я вернусь на обед. И когда я сообщал им, что проведу день и ночь, бродя меж небоскребов, начинался шантаж:
– Какая жалость, ты не знаешь, какую чудную курицу я приготовила сегодня для тебя!
– Подумай как следует, сегодня ты сможешь попробовать любимое блюдо отца Берни!
– Но ты уверен, что сегодня обойдешься без моего фирменного блюда?
Именно в этот период Берни сообщил мне о своем грандиозном и безумном проекте: построить в гигантском подвальном помещении церкви Помпеи самый большой макет с поездами из всех, когда-либо созданных ранее. Некоторое время спустя эта затея была осуществлена: примерно через десять лет, вернувшись в Нью-Йорк, я первым делом отправился посмотреть на него.
В то зимнее путешествие, когда прекрасные прозрачные деньки с бодрящим морозцем так отличались от летних дней моей первой поездки, я столкнулся с неведомым для меня явлением: моим одиночеством. Моим чудесным одиночеством. Поездка в Нью-Йорк в одиночку оказалась захватывающим приключением. Слоняться в свое удовольствие, с целью или бесцельно, есть и пить когда придется, не иметь возможности комментировать (если только себе самому) все, что попадалось на глаза, заставляло терять чувство времени и вызывало у меня особое обострение чувств.
Посещение мест, увиденных в первый раз вместе с друзьями, давало мне возможность практически ощущать их рядом со мной; у меня было столько времени в моем распоряжении, чтобы подумать о людях, которых я люблю. Я осматривался по сторонам, спрашивая себя, когда мне удастся вернуться сюда с Джулианой. Жуя гамбургер у «Биг Ника» или совершая не то три, не то четыре поездки на пароме на Стейтен Айленд, я наслаждался красотой и великолепием города, который в первый раз принадлежал мне одному.
У меня действительно было два дома.
Я уже потерял счет тому, сколько раз с тех пор я возвращался в Нью-Йорк. Мне удалось побывать там вместе с Джулианой, и каждый раз я обретал там новых друзей: таких как Шейла, жена Пэта, девушка с Гаити, ростом с меня и с лучезарной улыбкой Джулии Робертс. И Джулио, мой старый одноклассник по лицею, везунчик, перебравшийся в Нью-Йорк и женившийся на необыкновенной девушке из Индии, Мадхури. Это люди, которых я храню в своем сердце. Они помогли этому итальянскому юноше осуществить по крайней мере кое-что из его американской мечты.
Часть третья
Американка в Риме
15. «Letter in the mail»[91]
Шел 2003 год. В начале сентября, только что возвратившись в Италию из Соединенных Штатов и еще пребывая в плену щемящей тоски по дням, проведенным там в компании старых друзей, я получил от Патрика сообщение по электронной почте, которое некоторым образом изменило мой образ жизни. Содержание было примерно таким: «Моя однокурсница по университету, писательница, приезжает в Рим на три месяца. Своди ее на стадион, она может оказаться потенциальным болельщиком за „Лацио“. Я снабдил ее твоим адресом электронной почты, и она свяжется с тобой. Ее зовут Элизабет Гилберт».
Я как минимум на пять минут замер с разинутым ртом, уставившись на монитор. Что хорошего ожидает меня от всего этого? Чутье подсказывало мне: совершенно ничего.
До этого мне еще ни разу не удавалось отплатить за то неоценимое гостеприимство, оказываемое мне Патриком, когда я приезжал навестить его; теперь мне впервые представлялась возможность сделать это, хотя и косвенным образом. Однако начиналась рабочая пора, в самом разгаре – послеотпускная депрессия, углубляемая наступающей осенью, и в довершение ко всему Джулиана переживала очень сложный период в жизни своей семьи. На меня всегда можно положиться, и я хорошо знал Патрика, который никогда не позволил бы себе усугубить мои проблемы, но он выбрал отнюдь не самый удачный момент присовокупления незнакомого существа женского пола к сложностям нашей повседневной жизни. С учетом того, что девушка проведет в Риме не два-три дня, а три месяца!
Его уверения в том, что эта писательница может стать болельщицей «Лацио», пробудили во мне большие сомнения. Естественно, я поведу ее на стадион! Каждый болельщик «Лацио», когда ему представляется возможность добавить еще одного члена к нашим рядам, готов уцепиться за нее. Пэту, старому приверженцу «Янкиз», это прекрасно известно. Но понравится ли это американской интеллектуалке из Нью-Йорка, привыкшей к коктейльным вечеринкам и литературным чтениям на Манхэттене? Разрешит ли она потащить себя на стадион в бело-голубой кепочке, чтобы вопить там: «Вперед, „Лацио“!»? Честно говоря, я был настроен в этом отношении чрезвычайно скептически.
Но прежде всего меня мучил тот факт, что я, любитель гриля из даров океана, хорошего насыщенного вина и запахов свежего пива в пабе, не ощущал в себе готовности пить в пять часов пополудни чай с дамой, избравшей ремесло профессиональной писательницы. Которая, совершенно определенно, является вегетарианкой и, бесспорно, не брала в рот ни капли спиртного, отчего мне не полезут в горло мои любимые бифштексы с кровью, щедро орошаемые красным вином.
Одним словом, было похоже на то, что судьба решила послать мне персональную Джессику Флетчер.
Мой план состоял в следующем: притвориться, что я ничего не знаю, до возможного получения электронного сообщения от этой дамы; потом, если она материализуется, посмотрим, что делать. Проблемы решаем по мере их возникновения.
И вот, через несколько дней, когда я уже полностью погрузился в пучины итальянского налогообложения и почти забыл о «прибывающей американской писательнице», я обнаружил в ящике электронной почты послание от Элизабет Гилберт. Я не без любопытства открыл его.
«Привет, я знаю, что наш общий друг Пэт предупредил тебя, что я свяжусь с тобой. Не возражаешь, если мы встретимся? Привет. Элизабет».
Необходимо было разработать новый план: я не мог сказать «нет», но требовалось отыскать способ в течение трех месяцев воздерживаться от чаепития в пять часов, во время которого, вместо того чтобы обсуждать музыку, еду и «Лацио», вероятнее всего, придется сравнивать различные поэтические стили последних четырех веков, без алкоголя, да к тому же на английском языке.
Призвав на помощь свои мыслительные способности, я пришел к весьма жалкому результату: неизбежная встреча вечером в Трастевере, аперитив с пивом, дабы прощупать алкогольную настроенность девушки, и потом ужин в ресторане с римской кухней. Идеальный план, состряпать который хватило бы ума у кого угодно.
Для тех, кто не знает: среди коронных блюд римской кухни присутствует так называемая требуха. До недавнего времени крестьяне и животноводы с целью получения максимально возможной выручки продавали лучшие части туши забитой скотины и оставляли для своего стола наименее благородные: требуху. На сегодняшний день эта тенденция изменилась, и в Риме развивается самый настоящий культ требухи, которую гордо позиционируют как национальное блюдо, отчего она теперь стала дороже филейной части.
Одним словом, если бедная Элизабет, возможно, и останется жива после аперитива на основе пива, то она вряд ли перенесет удар от ригатони алла пайата, требухи или хвоста бычка с подливкой. Конечно, как истинный римлянин, я приглашу ее на ужин, но совершенно уверен, что вторая встреча уже не состоится.
Итак, я немедленно запустил в ход мой гениальный план: «Привет, Элизабет, рад познакомиться с тобой. Тебя устраивает, если мы встретимся за аперитивом, а потом продолжим за ужином? Встречаемся в 19.00 на площади Санта Мария в Трастевере, так чтобы потом передвигаться оттуда пешком, хорошо?»
Ответ Элизабет прибыл незамедлительно: «Прекрасно, в 19.00 на площади Санта-Мария-ин-Трастевере».
На самом деле я даже не подумал о том, каким образом я узнаю ее; вполне возможно, она окажется единственной женщиной, томящейся в ожидании на площади Санта Мария в Трастевере, но скорее всего она затеряется в толпе парней и девушек, которые, держа в руке бутылочку пива, заполоняют на закате ступеньки фонтана одной из самых красивых и романтичных площадей Рима.
Я пустился сновать по Интернету в поисках фотографии Элизабет Гилберт: Пэт сказал мне, что она написала книгу «Последний американец», имевшую некоторый успех. Руководствуясь этим опознавательным знаком, я начал, как ищейка, рыскать по сети, пытаясь найти ее изображение. Только имя-то мое не Бонд, Джеймс Бонд, а Спагетти, Лука Спагетти. Поэтому мне удалось разыскать только крошечное черно-белое фото, на котором она была изображена в обществе бородатого господина, героя ее книги. Из того немногого, что мне удалось рассмотреть, я понял, что она была элегантной женщиной, высокой блондинкой с удлиненными чертами лица, больше смахивающей на немку, нежели на американку. «Черт возьми, вот она какая!» – подумал я.
По моему обыкновению, я прибыл немного раньше, припарковал свой мотороллер на проспекте Трастевере и воспользовался свободным временем для того, чтобы нырнуть в переулки и вдохнуть уникальную атмосферу одного из самых чарующих районов Рима.
Бродить пешком по Трастевере увлекательно в любое время дня: с утра, когда вас ведут за собой запахи, поднимающиеся из печей, и звуки квартала, начинающего оживляться, до вечера, когда весь район заполняют толпы прохожих, пестрые прилавки, уличные артисты и рестораны, готовые удовлетворить любые запросы. Я вспомнил о том, как в возрасте примерно двадцати лет, чтобы заработать немного денег, зимой расклеивал по киоскам афишки с основными событиями, освещаемыми утренними журналами и газетами. Работа была ночной: когда мне звонили по телефону из агентства доставки в третьем часу утра, я прилагал все усилия схватить трубку раньше, чем мои родители с перепугу подскочат в постели, затем бесшумно одевался и на моем синем «пьяджо си» отправлялся от собора Святого Петра на другой конец Рима за афишками. Я приезжал на остров Тибуртина, и оттуда начинался мой маршрут: обклейке подлежали пятьдесят газетных киосков, по тысяче лир за каждый, на что уходило два часа работы.
Не буду отрицать, это очень утомительно, но заработать пятьдесят тысяч лир за пару часов, не пропуская учебу в университете, недурно. Я заканчивал работу к пяти часам, температура редко поднималась выше пяти градусов (тогда водителей мотороллеров еще не обязывали носить каски, так что если когда-нибудь у меня возникнет непорядок с шариками в голове, виной тому – неоднократное переохлаждение мозга, которому я подвергался в тот период), и было темно, хоть глаза выколи.
Обычно я отправлялся из окрестностей железнодорожного вокзала Термини, района столицы, который и сегодня не рекомендуют посещать ночью, затем ехал по улице Национале до Трастевере, поднимаясь по Монтеверде, чтобы затем вернуться домой.
Вид пробуждающегося Рима в пять утра, когда я подъезжал к Трастевере, был великолепен: заря прозрачных зимних солнечных дней на пустынных площадях и улицах обладает какой-то берущей за душу красотой; пока убирают с улиц следы ночных гулянок, благоуханные ароматы кофе, капуччино и сдобных рогаликов вторгаются в воздух, сопровождаемые запахами хлеба и горячей пиццы, вырывающимися на волю из печей; город просыпается, угрюмо потягиваясь, и начинает с несколько недовольной миной трудовой день в надежде, что он не окажется слишком утомительным и скоро подоспеет вечерний отдых. Недаром знаменитая римская пословица гласит: «Пошли мне, Господь, работу, да только сподоби работать как можно меньше!» В Трастевере я подкреплялся чем-нибудь горячим, чтобы потом закончить маршрут обклейки, к шести вернуться домой и вновь отправиться на своем синем мотороллере «пьяджо си» слушать лекции в университете, который, по иронии судьбы, находился неподалеку от железнодорожного вокзала Термини, примерно там, откуда я начинал свой ночной объезд.
Мне неведомо, сколько человек имели счастье наслаждаться Римом в подобные моменты, но пережить такой опыт я советую каждому.
Увлеченный и околдованный в несчетный раз красотой этого города, в тот вечер я не заметил, как ноги вынесли меня на площадь Санта-Мария-ин-Трастевере с фонтаном в центре, и через минуту я оказался перед восхитительной церковью. Площадь пустовала, и около фонтана не было ни души; точнее говоря, там находилась только одна элегантная девушка, погруженная в чтение книги, с удлиненными линиями и белокурыми волосами, которые делали ее похожей на немку. «Черт, ведь это она!» – подумал я.
Я оказался неготовым; у меня вылетело из головы, что мне предстоит весь вечер разговаривать по-английски и о чем – еще было покрыто мраком неизвестности, я даже не придумал, куда мы пойдем. Я внушил себе: «Трастевере меня спасет!» – и, поскольку пришел раньше, притворился туристом и решил быстро сделать еще круг по окрестностям, надеясь, что Рим за это время придаст мне силы собраться с мыслями.
Однако тот факт, что писательница тоже явилась заранее, показался мне хорошим началом.
Завершив круг, я возвратился на площадь с улицы Сан-Франческо-а-Рипа, вновь оказавшись перед церковью и фонтаном, к которому прислонилась Элизабет с намерением почитать.
Я направился к фонтану. Пока я шел к нему, девушка подняла голову, наши взгляды встретились, и она улыбнулась. Помню, что я разобрал слово «Лука». Настал момент пустить в ход мой фантастический макаронный английский (кто знает, почему используется слово «макаронный», в моем случае точнее было бы назвать мой английский «спагеттарным»…).
– Привет, Элизабет, рад познакомиться с тобой!
Я шел напролом! Блестяще, непринужденно и прежде всего непредсказуемо! Не осмеливаюсь представить себе промахи этих первых минут, но помню, что постепенно стал чувствовать себя более спокойно. Впрочем, а почему я должен быть взволнован? Она иностранка, останется здесь на три месяца (а почему три месяца? Пускай…), найдет свои чайные и удалится в библиотеки и кружки интеллектуалов – писать и читать.
Я же находился в родном доме; на следующий день я возобновлю свою работу, обычную жизнь с Джулианой, моими друзьями, моей семьей, моей музыкой и моей «Лацио» в моем городе. Какие еще сомнения мучили меня? Что Джулиана ревнива? Нет, она знала все, к тому же свидание с незнакомой американской писательницей не должно сильно беспокоить ее. Самое главное для меня было не подвести Пэта; если Элизабет, возвратившись в Нью-Йорк, скажет ему: «Твой дружок – настоящий засранец!», бледный вид будем иметь мы оба. Я испытывал желание подарить знакомой моего друга воспоминание о приятном вечере, возможно, единственном, который она проведет в моем обществе в самом красивом городе мира.
Мы пошли бродить безо всякой определенной цели. Ясное дело, Пэт был одной из первых тем для разговора; во все время нашей беседы Элизабет продолжала улыбаться мне той же милой улыбкой, с которой она впервые посмотрела на меня некоторое время назад, и говорила со мной спокойным мелодичным голосом. Ее естественность и простота сразу же покорили меня, они, по правде сказать, совершенно не давали мне оснований укрепиться в моих предубеждениях против американских писательниц-блондинок с удлиненными линиями. Кроме того, Элизабет, казалось, совершенно не смущал мой спагеттарный английский, напротив: молодая женщина изучала итальянский и вставляла в свою речь кое-какие слова. И совсем не стеснялась демонстрировать свой прогресс.
Не определившись с точной целью прогулки, я предложил ей в соответствии с моим планом:
– Элизабет, ты не возражаешь, если мы посидим в одном из баров в Трастевере и выпьем пива перед тем, как отправимся поесть чего-нибудь?
Она тотчас же ответила со своей доверчивой улыбкой:
– Конечно, с удовольствием!
Я был спасен! Чаепитие с пяти до половины восьмого было изгнано навсегда! Оно заменялось кое-чем более освежающим и знакомым: пивом.
Я вспомнил, что одна из моих знакомых управляет пабом на улице Фонте д'Олио, которая начинается непосредственно с площади Санта-Мария-ин-Трастевере, и предложил Элизабет отправиться туда. Пока мы шли, я рассказал ей, почему эта улица называется источником оливкового масла. На самом деле я подвергал ее одной из пыток, которые выстрадал в детстве от собственных родителей: в большей или меньшей степени каждое римское дитя моего поколения должно было затратить множество воскресений «на экскурсию», как это именовалось родителями, с целью ознакомления с красотами своего города, до которых ему в этом возрасте не было никакого дела.
Колизей, Римский форум, Палатинский холм, Старая Аппиева дорога для меня были древними развалинами, которые кто-то построил неизвестно с какой целью, и я не мог уяснить себе, почему вместо того, чтобы отпустить меня играть в футбол на улицах моего квартала или позволить засесть перед телевизором, чтобы смотреть комедии про Станлио и Оллио, родители должны таскать меня по этим памятникам, церквям и базиликам. Все это неизбежно сопровождалось назидательными рассказами моего отца, увлеченного изложением историй, легенд, традиций и анекдотов, связанных с каждым пройденным метром, мне и моему брату – у нас обоих был настолько тоскующий вид, что более унылый трудно себе представить.
И тем не менее с течением времени большая часть этих «экскурсий» запечатлелась и в моем сердце, и в моей памяти. Таким образом, обобщив свои смутные воспоминания, связав их с некоторыми сведениями по истории искусства, почерпнутыми при обучении в лицее, я попытался объяснить Элизабет, что там, где возвышается церковь, примерно две тысячи лет назад, а конкретно в 38 году до новой эры, из-под земли забила струя того, что в те времена назвали оливковым маслом – кое-кто предполагает, что это нефть[92], которая непрерывно текла целый день. Это событие было истолковано как чудо, так что базилика Санта-Мария-ин-Трастевере построена именно на том месте, где обнаружили источник. В конечном счете, несколько воскресений, отданные в жертву в детстве, принесли свои плоды…
Когда мы добрались до бара, теплый воздух римского сентября позволил нам устроиться на открытом воздухе, и, когда я уже приготовился пробовать свое охлажденное светлое и прежде всего заслуженное пиво, то с некоторым опасением задал себе вопрос: собственно говоря, может, она трезвенница, ибо существовал риск, что она закажет полезный для здоровья микс из моркови и киви, томатный сок или еще какое-нибудь чудо из того же разряда. Но, уничтожив мои сомнения в зародыше, Элизабет заказала охлажденное светлое и прежде всего заслуженное пиво.
Пока мы продолжали болтать, постепенно чувствуя себя все непринужденнее, мой мозг не упускал из виду садистскую мысль осуществить следующий шаг: гастрономическое испытание.
В этот момент я увидел, как из глубины переулка подходит моя знакомая со своим ужином в руке, алюминиевым судком, испускающим ароматный пар, от которого у меня закружилась голова: тушеное мясо под соусом! В этот момент до меня дошло, что кроме проблемы поиска ресторана есть еще и другая – мой зверский голод. За такое соблазнительное мясо я был готов пойти на преступление. За десять секунд я узнал все, что мне требовалось: где моя приятельница купила ужин навынос, как далеко находится ресторан и его меню от А до Я. Эта траттория находилась прямо за углом: семейное заведение, к тому же римское семейное заведение, типичное меню, малое количество столов, но, поскольку еще было рано, отпадала необходимость заказывать столик заранее. Идеально.
Я предложил Элизабет, которая, подобно мне, также испытала искушение запахом мяса, не сомневаться и дать свое согласие. Мы допили последний глоток пива, я был счастлив угостить ее им в качестве премии за то, что она освободила меня от мук чаепития, после чего мы наконец отправились ужинать.
Когда мы подошли к траттории, я поразился, каким же образом я не заметил ее раньше: входом служила стеклянная дверь, и имелось большое окно, позволявшее видеть один-единственный внутренний зал, в котором очень близко друг к другу стояло с десяток столов, накрытых бумажными скатертями в белую и красную клетку, по большей части уже занятых посетителями и заставленных тарелками, от которых исходил манящий пар. Наружная ставня была серой, металлической и опускающейся, из чего следовало предположить, что на месте траттории некогда располагался гараж.
Звуковой фон внутри был типичным для тратторий – семейных римских заведений, в которых громче, чем шумная болтовня разгоряченных вином посетителей, звучит голос хозяйки, перечисляющей блюда дня. Я потерял дар речи: само провидение завело меня в это благословенное место!
Мы вошли и сели за маленький столик, и хозяин тотчас же принес корзиночку с хлебом и литр красного домашнего вина. Я попросил у него меню, и мне никогда не забыть тот сообщнический взгляд, который он бросил на меня, услышав, что Элизабет говорит по-английски. Его ухмылку можно было расценивать следующим образом:
– Я тебя понял! Позабочусь о том, чтобы у американки получился хороший вечерок!
Я хотел ответить ему:
– Ах, милок, ничего-то ты не понял! Тем не менее спасибо! – но это было бы трудно перевести для нее; так что я ограничился ответной улыбкой, с совершенно противоположным его ухмылке смыслом.
Выбор был не особо велик, но, несомненно, возбуждал аппетит. В качестве первого, пока мы сдерживали аппетит брускеттой[93] с помидором, я предложил Элизабет отдать предпочтение одному из трех блюд: спагетти алла карбонара, букатини алламатричана или перышки алларрабьята[94].
С учетом того, что гвоздем вечера должно было стать второе, я счел, что перышки алларрабьята являются самым легким из первых блюд: ведь, в общем, речь шла только о перышках, в то время как я обычно ел ригатони, причем всегда гофрированные, поскольку соус лучше задерживается на их поверхности – припущенных в сковороде в соке порезанных на кусочки помидоров, оливковом масле, чуть поджаренном до золотистого цвета чесноке и с большим количеством перцев, основным составляющим, поскольку «злость» соуса зависит только от них. После чего я объяснил Элизабет, что можно посыпать их пармезаном или римским козьим сыром.
Я заказал на двоих. Через несколько минут в центре нашего стола приземлились две изрядные порции перышек алларрабьята, которые Элизабет в отличие от меня посыпала ровным слоем сыра.
Итак, признаюсь: единственное, чего я не ем, так это сыр на макаронах! Я знаю, что для нас, итальянцев, это идеальное сочетание, паста с соусом плюс тертый сыр. Но мне он не лезет в горло, так как получается, что у всех соусов одинаковый вкус!
После перышек на наших тарелках остался чудесный и более чем соблазнительный слой соуса: я не устоял и предложил моей сотрапезнице проделать то, что строжайшим образом запрещает этикет, но в некоторых случаях является единственным выходом: собрать весь этот божественный остаток кусочком белого хлеба и отправить его в рот. Для меня является преступлением позволить унести тарелку, не погрузив в нее несколько ломтиков хлеба, готовых впитать в себя остатки соуса. Таким образом, чтобы не испытывать чрезмерного смущения, я решил, что должен убедить Элизабет проделать то же самое, и, к моему удивлению, она охотно согласилась и предприняла атаку на соус.
Мы уже одолели первую половину нашего ужина, и благодаря сентябрьскому теплу и прежде всего зажигательному воздействию перцев, домашнему вину и тому факту, что Элизабет с удовольствием поглощала все, что угодно, я почувствовал себя совершенно расслабленным.
Именно в этот момент Рим презентовал нам одну из тех картинок, которые можно наблюдать только здесь: за двумя удаленными столами два господина среднего возраста начали спорить на повышенных тонах; через некоторое время оживленный обмен мнениями сменился возбужденными пререканиями.
Раскрасневшиеся щеки спорщиков свидетельствовали об их опьянении, естественно, взоры всех посетителей траттории – перепуганных туристов и римлян, готовых насладиться этим спектаклем, неизбежно обратились на них. Как известно, в Риме все легко выходит за рамки…
Оба поднялись во весь рост с видом людей, пришедших сюда, чтобы затеять драку, обрушивая друг на друга самые выразительные оскорбления в лучших римских традициях, взывая к памяти матерей и предков, и чем дальше, тем больше. Бедная Элизабет, казалось, перепугалась при мысли о кровопролитии; но я-то знал, что они никогда не подерутся. Оба все больше приближались один к другому, однако же избегали прикосновений и призывали присутствующих, ради Бога, остановить их, в противном случае они поубивают друг друга. Но финал оказался разыгранным как по нотам: неизвестно откуда материализовались четыре здоровяка, которые схватили двух буянивших пьянчужек, успокоили их, как детей, и, налив им красного вина, предложили скрепить мир рукопожатием, а затем вывели их из ресторана под белые руки.
В Элизабет все еще чувствовалась какая-то напряженность, и я успокоил ее тремя словами:
– Добро пожаловать в Рим!
Сейчас не хватало только самой изюминки обеда: второго блюда.
Находясь в семейном заведении, Элизабет не могла отказаться попробовать историческое римское блюдо. Среди различных вариантов мне попалось одно из наиболее изысканных кушаний мировой кухни: бычий хвост алла ваччинара!
Хвост бычка алла ваччинара – это блюдо, рожденное в районе Регола, где проживали дубильщики кож, именуемые «ваччинари». Как и с любым рецептом, всегда существует официальный вариант блюда, но фактически любой римлянин скажет вам, что только его бабушка, будучи хранительницей секретного и неповторимого рецепта, готовила истинный бычий хвост алла ваччинара. Обычный рецепт с небольшими вариациями предусматривает следующее: подрумянить порезанный на кусочки бычий хвост в смеси поджаренных чеснока, лука, измельченного сала, моркови и сельдерея, чтобы он пропитался их ароматами, затем добавить стакан вина и кусочки помидоров, с которых снята кожица. Все это тушится примерно с час, затем заливается водой и оставляется на огне примерно на три часа, но некоторые клянутся, что не помешает еще один час. Важно лишь, чтобы готовый хвост стал мягким.
Некоторые считают, что истинный секрет состоит в том, чтобы использовать столько сельдерея, сколько весит хвост. Другие утверждают, что испробовать его наилучшим образом можно, лишь взяв при еде руками, но это не является тайной.
Я уже представлял себе, что Элизабет вежливо проигнорирует мое предложение или столь же вежливо отодвинет блюдо с дымящимся хвостом (нет, нельзя сказать, что это самое подходящее блюдо для писателей…). Последним ударом для нее станет наблюдение, как я буду брать его руками.
Однако же и на этот раз Элизабет потрясла меня, с улыбкой согласившись попробовать бычий хвост алла ваччинара, поданный с гарниром из цикория, припущенного с чесноком и сладким перцем. Но что мне доставило величайшее удовольствие после того, как моя гостья с наслаждением, читавшимся в ее глазах, расправилась с этим блюдом, так это то, как она, оказавшись способной ученицей, по традициям римской жизни немедленно применила на практике полученный урок: собрала ломтиком хлеба подливу от хвоста!
Я не верил своим глазам. Мой план проваливался самым жалким образом. Моя новая знакомая не только не оказалась занудливой, непьющей писательницей-вегетарианкой, но была симпатична, весела и ела и пила все, что угодно! Тем не менее должно же существовать какое-то оружие, которое сразило бы ее: мой мозг лихорадочно принялся вспоминать, какие же виды требухи могут мне помочь в случае возможных последующих ужинов, но я немедленно уничтожил эту идею в зародыше.
Моя гостья не заслуживала такого отношения. Итак, Элизабет блестяще выдержала экзамен, а потому единственное, что причиталось ей, так это премия: лимончелло.
Многие американские друзья доверительно признавались мне, что лимончелло, когда они пробовали его в первый раз, становилось для них открытием.
Таким же открытием оно стало и для Элизабет – хотя я придерживаюсь того мнения, что предпочтительно пробовать этот напиток домашнего приготовления, менее сладкий и с более высоким содержанием алкоголя. И прежде всего если его подать ледяным, то домашнее лимончелло может стать смертельным оружием, ибо сладкий и освежающий цитрусовый вкус, кажущийся таким невинным, в состоянии свалить с ног на второй рюмочке.
Я пообещал угостить ее домашним лимончелло, как только представится такая возможность, но она, казалось, усомнилась в этом: лимончелло, приготовленное дома?
Достаточно нескольких целых лимонов, с которых срезается только желтая часть корки – никогда не используйте ее внутреннюю белую подкладку, так как она придает настойке горечь. После срезания корку настаивают в литре чистого 95-градусного спирта в закрытой емкости. Далее, как и для хвоста бычка алла ваччинара, так и для лимончелло у каждого имеются свои рецепты, поскольку существуют различные подходы. Одни добавляют палочку корицы, другие считают, что напиток должен настаиваться несколько месяцев с периодическим переливанием, а некоторые, подобно мне, склонны полагать, что двух недель более чем достаточно. Затем в кастрюле теплой воды растворяется сахар, пока не образуется сироп, подлежащий полному охлаждению. Далее сироп и процеженный от корок спирт смешивают, и нектар готов.
После того как Элизабет испробовала заслуженную награду, мы вдвоем ощутили потребность немного пройтись: какое место может быть лучше, чем Трастевере, для пищеварительной прогулки? Затем наступил момент нашей новой задачи: мороженое. На сей раз Элизабет предложила мне пойти попробовать его поблизости от ее дома, в кафе-мороженое «Сан Криспино», поблизости от фонтана Треви.
Чтобы попасть туда, мы воспользовались моим мотороллером: я одолжил Элизабет свою легкую куртку, и мы тронулись с места.
Я решил удлинить поездку, проехав через Яникул[95], одно из тех мест Рима, к которому я более всего привязан. Оттуда можно любоваться Римом во всей его красе. Мальчишкой я часто приходил сюда со своими родителями, чтобы послушать полуденный выстрел пушки. Этот выстрел должен был возвещать о наступлении полудня и подавать знак для колокольного звона всем римским церквям.
Другим любопытным фактом, связанным с Яникулом, является то, что несколькими десятками метров ниже находится тюрьма Реджина Коэли, чье уникальное месторасположение позволяет криками общаться с заключенными. Поэтому еще не так давно было обычным делом, что родственники арестантов использовали Яникул в качестве своего рода переговорного пункта.
Поскольку мы прибыли поздно вечером, то были лишены удовольствия услышать полуденный выстрел и, не имея томящихся в заключении родных, вновь уселись на мотороллер и направились к «Сан Криспино». Нам потребовалось всего несколько минут, и вскоре мы уже получили в руки наше мороженое.
Было поздно, и домашнее красное вино вкупе с лимончелло дали о себе знать, поэтому мы пришли к соглашению, что настала пора проститься. Ибо, хотя я и не представлял, что делают по утрам писатели, для меня никто не отменял начинающуюся с 9 утра каждодневную битву с итальянской системой налогообложения.
Вернувшись домой, я не мог отогнать от себя мысль: я был слишком предубежден, Элизабет оказалась чрезвычайно приятной девушкой, и я должен признать со всей искренностью, что провел прекрасный вечер, неожиданно прекрасный. И я с удовольствием повстречался бы с ней снова.
На следующий день я решил послать ей по электронной почте сообщение, чтобы поблагодарить за прогулку, за пиво, за ужин, за мороженое и приятную болтовню. Я тотчас же заснул, не думая о заботах завтрашнего дня, что со мной редко случается, и, проверяя на следующий день электронную почту, я был весьма удивлен, обнаружив там послание Элизабет:
«Привет, Лука, спасибо за прекрасный вечер, за пиво, за ужин, за мороженое и приятную болтовню. Вскоре увидимся. Лиз».
Хорошо, Элизабет, с сегодняшнего дня ты для меня просто Лиз.
16. «Don't be sad 'cause your sun is down»[96]
Римская осень стояла у ворот. Дни становились короче, температура падала, а листья платанов, выстроившихся в ряд на набережной Тибра, постепенно становились золотыми. При переезде на мотороллере через мосты над рекой открывались чудесные виды. Даже в спешке я не мог удержаться от того, чтобы не притормозить на несколько секунд и не полюбоваться моей рекой, несущейся к морю и отражающее в себе деревья и колокольни.
Именно на одном из этих мостов я вспомнил, как Лиз безбоязненно села на мой мотороллер, то естественное равновесие, с которым она грациозно приютилась на заднем сиденье, хотя ей довелось сделать это в первый раз. На поворотах молодая женщины виртуозно балансировала так, словно была лишена веса, не рискуя нарушить равновесие резкими движениями.
Можно подумать, что Лиз рождена для мотороллера, управляемого римлянином. Стоило лишь вспомнить тех, кто садился на него, часто оставляя мне на память царапины на боках или синяки на плечах с перепуга от проскакивания в двух сантиметрах от зеркалец заднего вида автомобилей, выстроившихся в ряд перед светофором…
Для нас, римлян, езда на мотороллере является первостепенным условием выживания. Тому виной суматошный транспорт столицы с ее узкими улочками и трамвайными путями, где мы подвергаемся риску каждые тридцать метров, а также наша дурная привычка вождения без всяких правил.
Через несколько дней после нашей первой встречи у меня появилась возможность испытать Лиз в дневном потоке, намного более бурном, нежели ночное движение, при котором я уже ставил эксперимент.
Я получил сообщение по электронной почте, в котором Лиз просила встретиться за обедом, и я с удовольствием согласился. По сравнению со школьными временами, когда каждый обед по своему обилию и продолжительности превращался в рождественский, теперь я укротил свой аппетит. Я не могу позволить себе наесться и напиться до отвала, а потом как ни в чем не бывало ломать голову над хитроумными налоговыми проблемами. По этой причине и с учетом того факта, что американцы тоже не предаются чревоугодию за ленчем, я предложил моей гостье обед на скорую руку, возможно, первое и салат, в районе Борго.
Этот район, примыкающий к собору Святого Петра, наверняка должен был понравиться ей. Кроме возможности полюбоваться Пассетто ди Борго, то есть проходом-коридором, соединяющим Ватиканские дворцы с замком Святого Ангела, построенным в XV веке, чтобы папа в случае вражеской атаки мог спастись бегством прямо из Ватикана в эту крепость, мы наверняка отыщем среди множества таверн в окрестностях ту, которая приютит нас. Выбор падет на одну из трех улиц, также под названием Борго: Борго Пио, Борго Анджелико и Борго Витторио.
Лиз сняла небольшую квартирку неподалеку от улицы дель Корсо, и мой выбор Борго для нашей второй встречи за обеденным столом позволял мне заехать за ней и потом отвезти ее обратно за несколько минут, чтобы потом быстро вернуться на работу.
Мы встретились около ее дома, оба опять явились заблаговременно. Солнечный свет падал на ее белокурые волосы и бледное лицо, а ее улыбка, невзирая на какой-то меланхолический оттенок, дала мне понять, что она рада видеть меня.
Чтобы почувствовать ее истинный испуг, хватило бы нескольких минут езды на мотороллере при движении в час пик. Я принялся обгонять другие мотороллеры и мопеды, пригрозил ложным наездом на посетителей собора Святого Петра, два или три раза проскочил на красный свет после скандального виляния в потоке транспорта, а ей – хоть бы что: моя пассажирка продолжала болтать и шутить, восторгаясь пролетающими мимо видами Рима. Я не верил своим ушам! В тех случаях, когда я подвергал подобному обращению Джулиану или мою мать, намного более привычных, чем Лиз, к римскому движению и моему вождению, их вопли были слышны в Остии[97], а моей спине доставалось немало решительных ударов кулаком. На Лиз же… это не производило никакого впечатления!
Я опять был поражен. Сначала я подумал, что моя спутница не хочет доставлять мне удовольствие своим испугом, затем решил, что она развлекается, совершенно не сознавая грозящей опасности, а в конце концов стал уповать на то, что Лиз доверяет мне.
Мы нашли нашу таверну в Борго Витторио, и после унылого ожидания встречи с Лиз по причине деловых встреч во второй половине дня я не мог удержаться, чтобы не блеснуть в беседе своими познаниями в гастрономии. Мы уселись за стол для двоих в уголке, готовые к быстрому и легкому обеду.
Однако же, взяв в руки меню и выслушав официантку, мелодичным голосом перечисляющую блюда этого дня, не включенные в общий перечень, я заколебался и испытал обоснованное опасение, что скорее всего буду не в состоянии выполнить свое намерение придерживаться диеты. Чем дальше официантка углублялась в перечисление блюд, тем, как мне казалось, более чувственный оттенок приобретал ее голос; во рту у меня потекли слюнки, а в мечтах на тарелке поочередно возникали те лакомства, которые с такой любовью описывала девушка.
Я взглянул на Лиз, надеясь, что она не осознает, какое благословение Божие ниспослано в наше распоряжение, но меню на английском языке и то исключительное внимание, с которым я внимал словам официантки, разрушили все мои надежды. И легкий обед пошел к чертям.
На закуску – салат «Капри» с сыром из молока буйволицы, ушки со спаржей и креветками, запеченная ората с картофелем, в завершение – овощной салат, чтобы освежиться. К первоначальной половине литра ледяного белого вина вскоре добавился его близнец. Прошло два часа, а мы все сидели там, улыбающиеся, блаженные и вновь с набитым животом. Ничего не поделаешь, поесть – действительно одно из великих удовольствий жизни. На наших лицах, казалось, было написано: «Отберите у нас все, но не еду. Еда – это искусство, любопытство, чувственность. Любовь».
И к моему удивлению, Лиз внесла заключительный вклад в завершение нашей вакханалии, заказав то, что совратило ее в первый же раз, когда она попробовала его: лимончелло. Официантка проявила величайшую щедрость, оставив нам в середине стола целую бутылку.
Когда после обеда мы уселись на мотороллер, я улыбался во весь рот, довольный, как Грегори Пек, который в «Римских каникулах» носится по Риму с Одри Хепберн на своей «веспе». С той разницей, что я никогда не повез бы Лиз к «Устам истины»[98], даже если бы она умоляла меня об этом. Не столько ради того, чтобы избежать обычной толпы туристов, готовых бросить вызов этой каменной роже, сколько потому, и я признаюсь в этом, что испытываю перед «Устами истины» какой-то проклятый страх.
Я не лгу, но моей руке у нее во рту не бывать. Для меня было потрясением, когда еще ребенком меня в первый раз привели сюда мои родители, поведав, что каменная пасть откусывала руки всем лжецам, которые засовывали их туда, внутрь; возможно, к этому еще добавилась длинная очередь проклятых туристов, которые прикидывались, будто кисть руки действительно застряла, – факт остается фактом, – я не осмелился приблизиться к ней.
Я охотно вошел в Санта-Мария-ин-Космедин, церковь в византийском стиле, на стене которой приютились «Уста истины», но, восхитившись ее архитектурой и прочитав краткую молитву, я издалека помахал опасной щели еще неповрежденной рукой и убрался восвояси.
Я и впоследствии старался держаться подальше от нее, ибо во мне не гасла надежда, что как-нибудь «Уста» действительно оживут и вцепятся в кисть какого-то шутника, который притворяется пострадавшим.
К счастью, Лиз ничего не спросила у меня, а я позаботился о том, чтобы не проронить ни слова на этот счет. Она попросила меня повезти ее вниз на улицу Джулия, где была намерена совершить прогулку для улучшения пищеварения перед посещением книжного магазина в тех местах.
Так что я сопроводил ее до начала улицы, уверенный в том, что после прогулки и прочтения первой страницы она впадет в классическую и приятнейшую дремоту, которая для нас, римлян, ленивых и вялых, является таким же удовольствием, как и самой настоящей необходимостью – особенно если за обедом ты съел все то, что поглотили мы. И я не вижу причин, почему Лиз, которая, по крайней мере в моих глазах, становилась римлянкой, должна составить исключение. Ко мне же, для которого сон после такой трапезы всегда был несбыточной мечтой, послеобеденное время немедленно обратило свое неумолимое лицо: однако я принялся за работу, удовлетворенный тем фактом, что Лиз и я провели вместе приятные часы.
Я тотчас же рассказал Джулиане об этой второй встрече, отчасти для того, чтобы остудить ее ревность, отчасти потому, что был счастлив сделать ее участницей этого нового явления, которое я еще колебался назвать «дружбой», но которое явно развивалось в этом направлении.
Так что на следующей неделе я устроил ужин в Анцио, где жила Джулиана. Я поехал забрать Лиз, на этот раз в машине, и вечером мы покинули Рим, чтобы направиться к морю.
Дабы должным образом представить этот городок, я сказал, что, будучи американкой, она должна знать Анцио, так как в конце Второй мировой войны он был театром знаменитой высадки союзников. Я также поведал ей историю Анджелиты, пятилетней девочки, которую нашла на пляже всю в слезах группа солдат. Она потеряла обоих родителей, и солдаты «удочерили» ее, считая чем-то вроде символа высадки. Но через несколько дней, когда малышка начала возвращаться к жизни от потрясения, вызванного потерей родителей, она была убита взрывом гранаты. В Анцио Анджелиту увековечили в виде статуи, изображающей девочку, окруженную летящими чайками.
Я также попытался подготовить Лиз к встрече с Джулианой, описав последнюю как непосредственную девушку, простую и красивую, покой души которой в тот период был подорван тем, что ее родители разводились.
Я в первый раз увидел, как улыбка исчезла с губ Элизабет. Возможно, я перебрал с печальными рассказами. Но оказалось, на то была причина, о которой я не знал: после глубокого вздоха она поделилась со мной, что недавно развелась. Безобразный развод, если вообще когда-либо существовал прекрасный развод, он полностью уничтожил ее, сломил телесно и духовно, и одной из причин, по которой она попала в Рим, было желание забыть все. И перевернуть новую страницу в жизни.
Я почувствовал глубокую нежность к этой мужественной девушке, и она стала невероятно близка мне. В ее словах заключалась драма, которую я переживал из-за другой женщины, Джулианы, – и вместе с ней. И тот прямой, прочувствованный и страстный рассказ, в котором Лиз поведала мне о бесцельности своего существования в этот период ее жизни, оказал мне огромную помощь в понимании того, как наилучшим образом выдержать это испытание, которое также касалось и меня.
До этого момента я ни с кем не обсуждал то, что происходило с Джулианой, из-за сдержанности и уважения к ней и ее родителям. Но было так естественно разговаривать об этом с Лиз. Она обнажила свою душу и искренне рассказала о том, что пережила, а сделав это, она зажгла свет в картине, где я до сих пор видел только тьму. Я ощутил, что Джулиана и я не одиноки. Я был благодарен Лиз за этот момент сопричастности нашему горю и наконец понял причину этой меланхолии, проглядывавшей в ее улыбке.
Я поклялся себе сделать все, что в моих силах, и помочь Лиз вернуть душевное спокойствие, которое она потеряла. Я не оставлю ее одну и буду стараться оберегать от грусти. Иногда, возможно, было бы достаточно одной улыбки. Я и Рим возродим ее для близких, к которым она вернется на Рождество.
Мы прибыли в Анцио после часа езды на автомобиле, летевшем в буквальном смысле как на крыльях, и для меня было сильным испытанием видеть улыбки Джулианы и Лиз при их первой встрече. Предшествующее любопытство сменилось взаимной симпатией, и мои страхи насчет моментов натянутого молчания оказались столь необоснованными, что мне удалось заговорить только через полчаса. В течение которых я симулировал отсутствие аппетита.
На этот раз мы выбрали пиццу быстрого приготовления, уверенные в том, что в будущем нам еще представится возможность полакомиться отличными рыбными блюдами Анцио, так как после обеда мы хотели выкроить время, чтобы прогуляться по центру города и порту.
На секунду в пиццерии мной овладело искушение попросить особую пиццу с перцами по-римски, но эта мысль показалась мне слишком жестокой по отношению к моей бедной американской гостье. Возможно, она, привыкшая к пицце «Эмтрэка», не нашла бы повода для жалоб в изготовленной по всем правилам пицце Анцио. Но, будучи отважной гурманкой, Элизабет была хорошо проинформирована, и из трех поездок, которые она запланировала, первая имела своей целью Неаполь.
Вечер прошел в спешке, и когда настал момент прощания с Джулианой для возвращения в Рим, ее взгляд подтвердил мне, что она нашла в Лиз все то хорошее, что ожидала.
Мы с Лиз сели в машину. Пока моя новая знакомая говорила мне, что Джулиана в действительности так мила, как я рассказывал ей, у меня возник вопрос, какое мое любимое американское слово. Время от времени я задавал себе подобные вопросы. Совершенно неожиданные.
Мне пришлось подумать несколько секунд, прежде чем я нашел ответ: «Surrender»[99].
Звук этого слова всегда казался мне чудесным. Первый раз я обратил внимание на это еще в детстве: я слушал «Surrender to Me» в исполнении трио Макгвинн-Кларк-Хиллманн. А потом я вспомнил, что вновь увидел его, когда смотрел фильм «Волшебник из страны Оз», столь любимый мной в детстве, в сцене, где Колдунья Запада предлагает Дороти прекратить сопротивление, написав в небе: «Сдавайся, Дороти!» Эта фраза чрезвычайно нравилась мне, и я находил ее мелодичной, развлекающей, маленькой скороговоркой.
В этот момент я спросил у Лиз, какое же у нее любимое итальянское слово. Я воображал, что она ответит что-нибудь вроде «scarpetta»[100] или «cibo»[101], «pasta» или «pizza», «amore»[102] или «musica», «Luca» или «Elisabetta». Но ни за что не мог представить себе, что в ответ прозвучит: «attraversiamo»[103].
Я не знал, что и сказать. Мне показалось, что слово «аттраверсьямо», кроме приятного звучания для ее уха, имело также и особое значение: побуждение перевернуть страницу, перейти от старого к новому этапу жизни.
У меня же, напротив, перед глазами возникли только пешеходные переходы Рима, где каждодневно тысячи людей рискуют жизнью, чтобы пройти несколько метров, и сама мысль о пересечении вселяет в меня некоторый страх. Пересечение улиц в Риме – это процесс, требующий внимания, опыта и изрядной доли везения. Но возможно, я зашел слишком далеко. Слишком вышел за рамки.
Тем временем я вставил в стереопроигрыватель автомобиля компактный диск, на котором записал подборку песен, сопровождавших два моих путешествия с Джулианой в Америку. Естественно, я приготовился быть осмеянным Лиз, как только Трэвис Тритт затянул «It's a Great Day To Be Alive», первую песню моего диска.
Но как только зазвучал его зажигательный голос, я заметил, что Лиз не только знает песню наизусть, но она к тому же чрезвычайно нравится ей! Кто знает, почему я воображал, что она любит более интеллектуальную музыку! Действительно, это был «Great day to be alive!»[104].
Песня за песней, и я обнаружил, что стиль кантри также был любимым жанром моей знакомой: настал момент признаться ей в моем увлечении Джеймсом Тейлором.
Но на этом музыкальные сюрпризы не кончились: на половине диска и на полдороге, ночью, голос Леэнн Раймз начал петь «Can't fight the moonlight»[105]. Лиз разразилась громким смехом.
– Лука, откуда ты знаешь эту песню?
– Ну, Леэнн Раймз хорошо известна мне, а к «Can't Fight the Moonlight» я особенно привязан, потому что это саундтрек «Девушек из “Безобразного Койота”». Очень милый фильм. Ты его видела?
– Да… в определенном смысле я его написала.
– Как это – ты «его написала»?
– Я написала статью про этот бар, и из нее сделали фильм.
– Извини меня, Лиз, обычно, когда я общаюсь с девушками, я не пользуюсь такими словами, но, полагаю, на сей раз я сделаю исключение: ты не считаешь меня долбаным лохом?
Ей все не удавалось прекратить смех.
– Нет, я говорю истинную правду. Это просто потешное совпадение!
Она была права. Это было действительно невероятное совпадение. В какой другой машине на пути в Рим она могла случайно услышать саундтрек фильма по ее статье, случайно вставленный в подборку?
Затем настал кульминационный момент. Я вставил в этот компактный диск также песню, взятую из сольного альбома Дона Хенли под названием «Taking You Home». В шутку я задал ей вопрос, не сделала ли она сценарий для фильма с этой песней и знаком ли ей этот певец.
– А теперь ты принимаешь меня за долбаного лоха! – ответила Лиз. – Думаешь, я не узнаю голос Дона Хенли? Я обожаю «Eagles»!
Ее ответ влил мне в кровь порцию адреналина.
– Лиз, это просто чудо! А какая же у тебя любимая песня?
Ни секунды не колеблясь, она ответила:
– «Take It to the Limit».
– Что-о-о? «Take It to the Limit» тоже моя любимая! А я-то думал, что один во всем мире люблю ее больше «Hotel California» и «Desperado»!
Я не мог поверить своим ушам. Мой друг Патрик прислал ко мне писательницу, но не сказал, что она симпатична и забавна, что рядом с ней чувствуешь себя в своей тарелке, что она ест и пьет все, что угодно, и прежде всего любит все то же самое, что и я!
Я не знал, кому или чему возносить благодарность, но чувствовал, что получил неожиданный подарок с другого конца света, подарок, который буду оберегать и защищать. В Лиз все еще чувствовалась некоторая меланхолия, по этой причине, когда мы во все горло распевали «Take It to the Limit», я вновь подумал об обещании, которое дал сам себе: я, Рим, еда и музыка возродят ее для Соединенных Штатов.
17. «Your smiling face»[106]
Мои отношения с Лиз с каждым днем становились все более глубокими и требующими продолжения.
Мы часто виделись, хотя она тщательно распределяла свое время: первый завтрак, сочинительство, обед, уроки итальянского языка, ужин и прогулки по Риму. Когда мне по работе случалось попасть в ее район, я посылал ей эсэмэску с тем, чтобы узнать, не находится ли она поблизости; и тогда мы встречались где-нибудь, хотя бы только для того, чтобы выпить вместе чашку кофе или быстро перекусить.
Именно в одну из этих встреч Лиз опять ошарашила меня: робко, но решительно она спросила, не могу ли я как-нибудь сводить ее… на стадион! Естественно, я быль польщен такой просьбой, и мысль заполучить заокеанскую орлицу среди наших бело-голубых сил поддержки заставила меня прямо-таки напыжиться от гордости.
Первым случаем, который представился мне, была игра Лиги чемпионов в середине недели, и я уцепился за нее. Я предупредил моих компаньонов по походам на стадион Алессандро и Паоло, что этим вечером нашего полка прибудет, и купил билеты на матч «Лацио» – «Спарта Прага».
Вечером в день матча на мотороллере я забрал Лиз у станции метро «Октавиана», и через десять минут мы прибыли на Олимпийский стадион.
Во время игр Лиги чемпионов всегда царит приятная атмосфера возбуждения. Я был взволнован как значимостью матча, так и присутствием Лиз. Я представил ей Алессандро и Паоло и набросил на шею новоявленной болельщицы шарф «Лацио». После чего мы уселись, готовые к выходу на поле обеих команд под сопровождение соответствующих гимнов.
Стадион был набит битком, а цветные шарфы, флаги и выкрики хором вносили свой вклад в праздничную обстановку. Я заметил, что в Лиз проснулось любопытство, и краем глаза стал следить за тем, чтобы она чувствовала себя как можно более непринужденно.
Раздался свисток, извещающий о начале. Мы, болельщики со стажем, сохраняли относительное спокойствие, ибо в те годы команда «Лацио» считалась более сильной, чем «Спарта». Игра началась с атаки наших, воодушевленных горячей поддержкой трибун, но, как это часто бывает в футболе, случилось непредвиденное.
Не прошло еще и двадцати минут, как нам уже засадили два гола! Я в мечтах рисовал совершенно иное футбольное крещение Лиз. Им должна была стать красивая победа с множеством забитых мячей. Праздник. А вместо этого творился кошмар. Я пытался не показать вида, но Лиз чувствовала некоторую натянутость и мудро не промолвила ни слова.
Затем во время перерыва она выразила сожалению по поводу того, что мы проигрываем, ей даже показалось, что в этом есть доля ее вины. Я попытался изобразить оптимизм и ответил ей, что возлагаю большие надежды на второй тайм, но это звучало не очень убедительно.
К счастью, ожидания оправдались. Через десять минут наши наконец забили гол, и первый гул ликования на Олимпийском был вызван скорее нервным напряжением, нежели радостью. Гул стал восторженным после второго гола, который сравнял счет.
Теперь все расслабились. Мы даже робко начали лелеять мечту о победе. Лиз ободрилась: теперь начиналась ее игра, и она была готова наслаждаться спектаклем, который разыгрывался не командами на поле, а болельщиками на трибунах.
Все началось, когда тренер «Спарты» произвел первую замену.
Весь стадион ожидал этого момента. На трибунах болельщики обменивались взглядами, выражавшими крайнюю озабоченность, и было ясно: что-то назревает, когда в громкоговорителях раздался сильный и отчетливый голос:
– За команду «Спарта Прага» вместо футболиста Кинцла на поле выходит Глушевиц.
Весь стадион, включая нас, затаивших дыхание до этого самого момента, смог наконец выпустить на свободу, используя всю мощь голосовых связок, три великолепных, давно припасенных слова, гулко выпалив их в атмосферу:
– Пошел на х…!
Лиз громко расхохоталась. Она поняла, случилось нечто из ряда вон выходящее, и чутьем уловила, что эти три словечка не проходят по разряду изящной словесности. Развеселившись, она потребовала разъяснений по поводу шедевра хорового творчества.
Я сказал, что это – типично римское выражение, означающее: «нам на это плевать». Один из способов сообщества болельщиков устрашить новичка, выпущенного на поле, дав ему ясно понять, что его никто не боится. Естественно, это выражение производило наибольший эффект в ходе игр итальянского чемпионата, но, поверьте мне, до иностранца, услышавшего его вылетающим в унисон из глоток сотен болельщиков, поднявшихся во весь рост на трибунах, тоже доходит его смысл.
Ухитрившись наконец-то излить на попавшего под горячую руку чешского игрока часть напряжения, накопившегося до уравнивания счета, большая часть болельщиков сменила гнев на милость и ощутила полную свободу для проявления состояния собственной души самым причудливым образом. И вот тут-то и началось самое интересное.
Ибо в Риме болельщик является каким-то совершенно театральным персонажем, разыгрывающим самое настоящее представление: и я не знаю места лучшего, чем Олимпийский стадион, где бы можно было насладиться этим зрелищем.
Каждый римский болельщик на стадионе предается словесным излияниям всех видов, которые на самом деле зачастую и охотно превращаются в истинные монологи безумной выразительности, от которых несет невообразимой вульгарностью. Некоторые из них совершенно гениальны. Еще и потому, что успех каждого восклицания обусловливается одобрением соседей: если оратор вопит во все горло и в должной степени уснащает свою поэму уже известными или только что изобретенными словечками, то прочие болельщики выражают свое согласие сальными комментариями, сочувственными аплодисментами, а нередко и новыми ответными монологами.
Должен признать, что таким образом ведут себя не только болельщики «Лацио», но также и наши двоюродные собратья, сторонники «Ромы», хотя, напоминаю об этом, являясь всего-навсего гостями в этом городе, они овладели этим искусством в полной мере. В любом случае мы все находимся в Риме.
Естественно, перед таким потоком лексических изысканностей Лиз навострила ушки. Говорят, что когда едешь за границу, первым делом выучиваешь бранные словечки. Конечно же, она не могла упустить такую возможность интенсивного курса на этом уровне. Более того, у нее был отточенный слух и особый талант улавливать и извлекать из хора самые крепкие выражения.
Внезапно у нее в руках появилась записная книжка, с которой она не разлучалась, и, естественно, именно я был избран преподавателем по этому скользкому предмету. Курс начался с объяснения слова из трех букв, в своем буквальном значении не нуждавшегося в иносказательном переводе. Но моя ученица стала допытываться, почему оно употребляется столь часто. Я объяснил ей, что оно представляет собой слово-паразит в итальянском языке, конечно же, чрезвычайно вульгарное, используемое по всей Италии, а в Риме – с особой щедростью: предание гласит, что некогда в словесных конструкциях довольно много римлян заменяли запятые тем, что я и Лиз начали называть «Х-слово» или «слово с Х». Очень часто это слово произносилось в особые моменты речи, дабы перевести дух, выделить что-то или лучше донести до понимания то, что в противном случае оказалось бы трудно истолковать другим. Лиз была просто заворожена этим объяснением, и оно, несомненно, послужило ей дополнительным стимулом для изучения итальянского языка. Или римского диалекта.
Я также объяснил ей, что для должного использования бранных слов в Риме большую роль играет практика: например, уличное движение является прекрасным местом тренировки. Естественно, требуется также определенная доза фантазии. Она все записывала, и я без колебания перевел ее на следующую ступень обучения.
В футбольном матче излюбленной целью болельщиков является – и всегда останется ею – судья. От внимания моей ученицы, в ушах которой еще звучала музыка, выученная на первом этапе нашего курса, не ускользнуло оскорбление, которое остервенело выкрикнул за десять рядов позади нас тучный господин в возрасте:
– Хрен моржовый!
Естественно, это было обращено к судье.
«Хрен моржовый» является языковым шедевром, одним из тех выражений, которые, кроме оскорбительного звучания, создают точный портрет несчастного, кому они предназначены. Уверив мою спутницу, что в римских переулках не обретается никакого мифологического существа подобного вида, я объяснил ей: этот эмоционально окрашенный колоритный ярлык приберегается для тех, кого считают невежами и идиотами. Их грубость и глупость осмеивается с презрительным высокомерием, наводящим на мысль, что вместо головы у них на самом деле нечто совершенно иное.
От головы судьи перешли к дотошному анализу его происхождения. И после того как многие припомнили, что его мать практиковала древнейшее в мире ремесло, была многократно упомянута и его жена, поскольку, пока муж зарабатывал себе пропитание судейством, она определенно увлекалась занятиями сомнительного свойства… Мне было несколько затруднительно объяснить Лиз, что слово «проститутка» можно перевести на римском диалекте в двадцати различных вариантах, некоторые из них комичные и смягченные своим мелодичным звучанием, часто выраженные пространными богатыми окольными истолкованиями, другие определенно тяжеловесны и режут ухо своей вульгарностью.
По меньшей мере полтора десятка этих эпитетов пролетели над нашими головами, из них с дюжину приземлилось в записной книжке Лиз, некоторые были занесены туда мной по ее просьбе во избежание риска, что они будут увековечены в неправильном написании.
Но самый яркий пример музыкальности прибыл с последним благословением. Это, возможно, первое ругательное выражение, которое выучивает каждый итальянский ребенок:
– Пшелвжопу!
Наш спор возник не столько из-за перевода на английский язык этого вежливого приглашения, которое, как я полагаю, имеет точный эквивалент почти на всех языках мира, сколько потому, что Лиз задала мне самый странный вопрос, который только можно себе представить:
– Лука, но это слово на самом деле является тремя словами?
В каком смысле? Я не понял вопроса. В Риме не существует оскорбления, наилучшим образом воплощенного в едином выражении, более законченного и непосредственного, чем хорошее «Пшелвжопу!», часто сопровождаемое выброшенной вперед рукой, указывающей направление. Откуда взялось это побуждение раздробить его на три слова? Возможно, из мощного вопля другого одержимого за нашей спиной, который, для придания большей убедительности своему оскорблению, решил скандировать его раздельно:
– Пошел-в-жопу!
Только чуткое к словам ухо, подобное слуховому аппарату писательницы, способно уловить столь тонкий оттенок. Я никогда не предполагал, что для отправления кого-то куда подальше стало возможным разбить цельное «Пшелвжопу!» на три крошечных составных элемента. Однако в данном случае это было именно так.
Казалось, состязанию оскорблений и проклятий, от самых причудливых до традиционных, не будет конца. Но тут игра завершилась:
2:2. Команда «Лацио» свела матч вничью, но я уверен, что в этот вечер в глазах Лиз выиграли болельщики «Лацио».
Выходя со стадиона, я возблагодарил небеса, потому что ее уши, к счастью, не уловили жемчужину римских бранных словечек: «Е… твою мать!» – употребляемую, в отличие от распадающегося на три части «Пошел-в-жопу!», одним словом.
Чаще всего оно используется в машине, когда застреваешь в автомобильной пробке или тебя подрезают на автостраде, и еще в тысяче подобных случаев; однако и стадион является плодотворной почвой для подобного выражения. Это словосочетание, изысканно римское, переведенное буквально, имеет довольно жестокое значение: интимную связь «твоей матери» с посторонним молодцом. В этом выражении заключается изрядная доля подлости, разве не так? Но надо сказать, что выражение за время использования так поистерлось, что люди просто не замечают его; случается, что слышишь, как его употребляют между собой родственники, хотя, по иронии судьбы, они являются потомками одной и той же несчастной прародительницы.
– Ах, брат, е… твою мать! Ты забыл, что вчера был день рождения бабушки?
Скажу вам больше: со временем этот языковой шедевр стал даже чем-то вроде приятного комплимента. Поэтому часто слышишь, как друзья обмениваются между собой выражениями типа:
– Ты знаешь, мы с Марией решили пожениться!
– Е… твою мать! Поздравляю!
Однако Лиз не уловила этого выражения.
Я не уверен, что моя ученица, каким бы блестящим и одаренным лингвистом она ни была, созрела для правильного понимания и прежде всего правильного использования этого выражения.
Мы вышли со стадиона, оживленно повторяя пройденное по языковым шедеврам, только что вошедшим в словарный запас Лиз. Было поздно, чтобы идти на ужин, так что я предложил группе ознакомить нашу приятельницу с другой римской традицией: горячим ночным рогаликом.
Ибо, знаете ли, когда часами гуляешь с друзьями и ужин уже перешел в разряд далеких воспоминаний, к тому же, возможно, за ним перебрали несколько бокалов вина, то возникает потребность отведать сдобы. Что касается меня, я не особый любитель сладкого: ни за что не променяю кругляшок моццареллы или охотничью колбаску на кусок торта, а пиццу с перцами на мороженое. Но рогалик есть рогалик. Простой, с кремом или шоколадом, большой или мини, он всегда доставляет удовольствие. Особенно в поздний час, когда из какой-нибудь печи долетит этот убийственный аромат только что испеченной сдобы.
Мы отправились к булочнику возле собора Святого Петра, комментируя ничью, и, прикладываясь к горячему лакомству, зажатому в наших руках, насытились в мгновение ока.
Поведение Лиз также было более чем похвальным. Когда дело касалось еды, она никогда не подводила меня! Подобно мне, она поглощала все, что угодно, но не поправлялась. Ни у меня, ни у нее не было солитера, его подозревали у меня, когда я был ребенком, поскольку я наедался до отвала, но не прибавлял в весе.
Мы попрощались с Алессандро и Паоло и уселись на мотороллер, который теперь был хорошо знаком с нами. Подъехав к дому Лиз, я пожелал ей спокойной ночи.
– Спокойной ночи и тебе, Лука! Спасибо за стадион, сожалею, что сыграли вничью!
– Бывает. Случается сыграть и вничью, что же делать. Знаешь, как говорят в Риме, когда нет проблем?
– Нет, как говорят?
– А, х…йня!
На этот раз ее улыбка показалась мне лишенной какой бы то ни было примеси меланхолии.
18. «Little more time with you»[107]
Время от времени Лиз исчезала. Я посылал ей сообщение по электронной почте с приветом и не получал ответа. Через пару дней я повторял попытку посредством эсэмэски, и тогда она откликалась то из Неаполя, то с Сицилии, иной раз из Лукки, Венеции или Болоньи.
Когда она собралась поехать на Сардинию, я узнал об этом заранее и устыдился, что сам никогда не бывал там. Моя бабушка родом с Сардинии, и мне, конечно, нужно было из уважения к ней хотя бы один раз навестить ее родину, которая всегда манила меня к себе. Я три раза видел Большой каньон, ночевал в Уилкс-Барре[108] и объехал полштата Нью-Джерси, несколько раз пересек Америку вдоль и поперек на разнообразных транспортных средствах, но никогда не посещал остров, где увидела свет моя бабушка! Мне надо было бы воспользоваться благоприятной возможностью и отправиться туда с Лиз, но работа не позволила мне совершить это путешествие.
Каждый раз по возвращении Лиз посылала мне сообщение. И каждый раз я испытывал глубокое удовлетворение. Все более глубокое.
Я с волнением ожидал ее рассказа о пережитых впечатлениях, прежде всего о гастрономических, как, например, обеды на Сардинии с порчедду и каноннау[109].
Моя знакомая стойко держала оборону за каждым столом, принимавшим ее, и меня несколько беспокоило, что ожидало ее в последующие месяцы. Я знал о ее замысле совершить путешествие в Индию, где она была намерена остановиться в монастыре, а затем провести три месяца на Бали. Идея индийского монастыря – ашрама – чрезвычайно прельщала меня, как и Индия; кроме того, я обожал индийскую кухню (в особенности креветки, приготовленные моей знакомой Мадхури). Однако после того как Лиз проявила себя верным соратником в стольких гастрономических баталиях, я начал задаваться вопросом, как же она собирается выжить в монастыре.
Здесь следует сделать отступление: я не знал точно, какова жизнь в ашраме, но представлял себе вынужденную диету из воздуха и зелени и Лиз, сидящую со скрещенными ногами в постоянной медитации, имеющей целью силой духа отогнать от себя дурные мысли, ниспосылаемые ей дьяволом: спагетти алла карбонара и букатини алламатричана, салтимбокка по-римски[110], запеченная свинина, ората с картофелем и баклажаны с сыром по-пармски. Насколько я изучил ее, потребовалась бы вся ее сила воли для противостояния искушению такого рода.
Теперь Лиз хорошо ориентировалась в море римской кухни. Однако предстоял еще последний экзамен для получения «сертификата римского качества», чтобы ей можно было вручить ключи от римской кухни: пайата.
Это название тонкой кишки молочного теленка: будучи обработанной искусными руками мясника-хирурга, она режется вместе со всем своим содержимым на куски от десяти до двадцати сантиметров длиной, перевязывается ниткой, отваривается вместе с мелко нарубленными травами, а потом долго тушится с вином и помидорами, пока не образуется изысканный густой соус, готовый для приправы исходящих паром ригатони. Каждый римлянин обожает пайату. А еще больше наслаждается наблюдением за выражением лица посетителя заведения в тот момент, когда ему открывают неприглядную истину по поводу того, что он употребляет.
Именно за тарелкой ригатони с пайатой я выразил Лиз мою обеспокоенность по поводу ее гастрономического выживания в ашраме.
– Лиз, ты уверена что не лишишься сил после пребывания в Индии?
– Будь спокоен, за эти месяцы в Италии я набрала достаточный запас и полагаю, что мне не повредит небольшое воздержание в отношении еды.
– Согласен. Но ведь ты обожаешь поесть! Ты не вегетарианка и не трезвенница, и, если сядешь только на воду и зелень, я буду вынужден опасаться за твое здоровье.
– По правде сказать, я не знаю, что ожидает меня. Конечно, диета на основе воды и зелени представляет собой тяжкое испытание, но некоторое время его можно вынести.
– Да, Лиз, однако помни, если ты должна соблюдать вегетарианскую диету, то пайату ты можешь есть всегда.
– Но, извини, Лука, разве пайата – не мясо?
– Нет, Лиз… это – дерьмо!
Нескончаемые секунды ужаса, от которого каменеет лицо человека, сраженного таким ответом, представляет собой зрелище, которое не купишь ни за какие деньги.
Однако же Лиз не испытала особого потрясения, потому что она за столом в Италии ничуть не обращала внимания на «технические детали». Если блюдо ей нравилось – а это относилось почти ко всему, – она с удовольствием съедала его. То же самое можно было сказать и о пайате.
Тем временем моя знакомая, к величайшему удовлетворению, становилась настоящей болельщицей «Лацио»! Она опять сходила на стадион, на сей раз после обеда со своей приятельницей шведкой Софи на игру чемпионата, и пару раз в паб, чтобы смотреть вместе с нами матчи «Лацио» на выезде. И здесь зрелище болельщиков, хотя и в уменьшенном масштабе и более интимной обстановке, было чрезвычайно колоритным. Я наблюдал за Лиз, когда она следила за игрой, попивая пиво мелкими глоточками. Мне казалось, что она чувствует себя как дома и наконец-то стала умиротворенней. Я был доволен видеть ее такой благостной и тешил себя мыслью, что в этом преображении была малая доля и моей заслуги.
Ноябрьские холода уже начинали давать знать о себе и в Риме. И как ни странно, во мне проснулось желание отпраздновать свой день рождения. Не то чтобы я не питал особой привязанности к этому регулярно повторяющемуся событию, просто мне не нравится организовывать праздники, в особенности когда в центре торжеств нахожусь я, ибо совершенно дурею перед всеми проявлениями любви со стороны своих друзей, а уж когда получаю подарки, то прирастаю к полу, как олух, и становлюсь жертвой своих переживаний.
Но в этом году я был расположен отметить праздник, потому что на сей раз получилось особое совпадение – с праздником Дня благодарения.
День благодарения является американским празднеством, всегда завораживавшим меня: на нем непременно царят семейная сплоченность и тепло человеческих отношений, а также счастье родственников или друзей, которые, возможно, за весь год видятся только по этому случаю. И прежде всего в центре внимания красуются гигантские индюшки!
Мне было совершенно необходимо воспользоваться этим уникальным случаем. У меня была приятельница-американка – любительница знатно поесть, – которая находилась в Риме, а праздник Благодарения практически совпадал с моим днем рождения; как можно было не воспользоваться этим и не подготовить хороший ужин на День благодарения?
Я начал обхаживать Лиз, умоляя ее научить меня готовить фаршированную индюшку. В один из дней я взял отгул на работе и стал ее подручным поваренком, оказывая ей с самого начала помощь в приготовлении этого лакомого блюда.
В конце концов, хотя и с тысячью сомнений относительно благополучного исхода, порождаемых в основном тем фактом, что как ей, так и мне больше нравилось есть, нежели стряпать, Лиз согласилась. Она позаботилась об обеспечении оригинального рецепта с очень длинным перечнем ингредиентов, которые в Италии трудно приобрести, и мы решили заменить их. Затем вместе отправились закупать необходимое, а я взял на себя все остальное.
Было выбрано место: Веллетри, у римских замков, в доме моих друзей Марио и Симоны, где мы когда-то устраивали репетиции «Квартета Джона Хорса». Кроме хозяев дома и их двух тринадцатилетних дочерей, близнецов Сары и Джулии, должны были присутствовать Джулиана, Лиз и Паоло, мой приятель со стадиона, с подружкой Сарой. К сожалению, не могли присутствовать мой брат и Алессандро. В последний момент присоединились две подруги Лиз: Дебора, психолог, приехавшая навестить ее из Филадельфии, и Софи.
Лиз сначала стремилась сдержать мой энтузиазм, пытаясь объяснить мне, как ребенку, какую гигантскую организационную работу следует провести, чтобы приготовить фаршированную индюшку на одиннадцать человек: птица должна быть великаном, а время приготовления – библейским…
Но не в моих привычках отступать. Я дал клятву, что найду индюшку поменьше, может быть, только вылупившуюся из яйца, дабы ее хотя бы символически хватило на всех, и в утро праздника приступил к отчаянным поискам. Но мой знакомый мясник разбил мои надежды, раскрыв мне ужасную правду: в Риме, если хочешь купить целую индюшку, ее надо заказывать за несколько лет вперед.
Однако я не желал сдаваться: это был мой первый День благодарения, и я заполучу свою индюшку. Как обычно, я упорствовал в своей привычке видеть бокал, наполненный вином до краев, и продолжал колесить по мясным лавкам, получая везде один и тот же ответ. В конце концов мне пришлось признать, что, даже если я и найду нужную мне индюшку, у меня не хватит времени приготовить ее. А ведь еще предстояло идти с Лиз закупать все остальное, а ей надлежало приготовить начинку для фарширования, превращая в крошку килограммы хлеба, как гласил рецепт, чудом прибывший из ее дома в США…
Из головы у меня не шла мысль о том, что жизнь временами действительно бывает тяжкой. И тогда каково же решение? Покориться воле судьбы? Ни за что!
Тогда я сказал самому себе самую нелогичную вещь, которую мог выговорить в этот момент:
– Ни х…! Я все равно куплю индюшку!
Я так и поступил. Только она была не целой индюшкой: всего несколько килограммов грудки. Я понесся к Лиз, мы отправились за покупками, а затем я оставил ее крошить хлеб, пока мы наконец не были готовы отправиться в Веллетри, расположенный примерно в часе езды от Рима. По дороге, везя в машине Лиз, Дебору и Софи, я ощущал сильное возбуждение: движение было очень плотным, меня терзали опасения, что мы приедем поздно, и я чувствовал, что устрою не праздник, а грандиозное посмешище. Все продолжало идти в направлении, точно противоположном тому, что я планировал.
Когда я прибыл в Веллетри, дружеский прием Джулианы, Марио, Симоны, Сары и Джулии успокоил меня, так же как и вид их дома, утопающего в зелени. И хотя я чувствовал себя расстроенным всеми мытарствами этого дня, все же заметил, что приглашенные, не нуждаясь в моей помощи, уже перезнакомились и чувствовали себя совершенно непринужденно.
И тогда мы все занялись стряпней под руководством Лиз и под наблюдением Деборы, двух американок – хранительниц секретов начинки, предназначенной для фарширования индюшки, которой мы не фаршировали, так как имели в своем распоряжении только грудку индюшки. Финики, колбасу, петрушку и прочие таинственные ингредиенты мы просто подали к индюшке.
Когда «Операция Индюшка» находилась в полном разгаре, мы откупорили несколько бутылок вина и попросили наших американских гостей рассказывать, что лежит в основе празднования Дня благодарения, то есть о встрече священников-миссионеров с местными американскими племенами.
Настал момент попробовать начинку для фарширования: несколько минут напряженного молчания – и почти что не верящие самим себе Лиз и Дебора с улыбкой подтвердили присутствующим, что она готова и даже оказалась недурной. Я почувствовал некоторое облегчение, хотя окончательное испытание было еще впереди: с моего привилегированного места во главе стола я видел реакцию моих оголодавших сотрапезников, готовых дать стрекача, если дело примет скверный оборот.
Вместо этого, казалось, все были приятно удивлены первой пробой «индейки алла Лука Спагетти». Лиз и Дебора подтвердили: вкус был таким же, как у настоящей фаршированной американской индюшки, что доставило мне огромную радость. Нужно совсем немного, чтобы я остался доволен. Но разве это немного, когда твой день рождения совпадает с праздником Благодарения и ты проводишь его в обществе самых дорогих тебе людей с прекрасной индюшкой и хорошим вином?
Я был счастлив, смущен, взволнован и еще раз получил подтверждение, что быть оптимистом всегда хорошо. Что случилось бы, если бы я утром не заорал сам на себя: «Ни х…!»?
Я поблагодарил своих друзей за дружеское расположение и готовность, с которой они содействовали мне в исполнении этого потешного желания, и пригласил всех выпить, обещая, что на следующий день я закажу настоящую индейку к следующему году.
Теперь за столом царило веселье. И прежде всего я с облегчением понял, что определенно не сбылось мое главное опасение: вечеринка с участием американцев, итальянцев и шведов, которые не знали языков друг друга и, более того, не были знакомы, пройдет под знаком молчания. Вместо этого я с удовольствием отметил, что все, включая двух близнецов, говорили с соседями на своем родном языке и, как ни странно, понимали друг друга. На моих глазах совершилось чудо: исчезли преграды возраста, национальности и языка, было не разобрать, кто здесь хозяева, а кто – гости, и, ощутив на себе магическое воздействие этого застолья, я окончательно растаял от полноты чувств.
Именно в этот момент Дебора, воззвавшая к вниманию присутствующих, пригласила нас отдать дань традиции этого праздника, то есть каждый из присутствующих по очереди должен выразить собственную благодарность. Джулиана, которую я до сих пор ни разу не слышал говорящей на публике, взяла слово первой. При всеобщем полном молчании она поблагодарила меня, именно меня за то, что я так поддержал ее в чрезвычайно трудный момент ее жизни. Искренность, с которой Джулиана произнесла эти слова, заразила всех прочих, и каждый по очереди, от Сары и Джулии до Деборы, с такой же непосредственной живостью высказал свою собственную благодарность.
Все присутствующие за столом были чрезвычайно тронуты, а я – больше всех. Джулиана крепко сжимала мою руку, в то время как Лиз с другой стороны стола, несмотря на слезы, с улыбкой обнимала меня.
Иногда в жизни случаются необъяснимые ситуации, моменты, которые, бог знает по какому таинственному стечению обстоятельств, оказываются особыми. И возможность осознать и постичь их именно в тот момент, когда это происходит, – редкое счастье. В тот вечер я пережил несколько самых наполненных эмоциями часов моей жизни и прочувствовал каждую из этих секунд всем сердцем, вкушая в полной мере глубокое счастье. Я утверждаю, что при наличии небольшой доли оптимизма даже самая рядовая грудка индюшки может творить чудеса.
После ужина, как и после каждого ужина в Веллетри, появились гитары. Присутствовали три пятых «Квартета Джона Хорса», и я не мог не выразить свою радость: мы играли и пели все, от Нейла Янга до Джексона Брауна, из репертуара «America», «Bee Gees», «Битлов» и, конечно же, Джеймса Тейлора. Вечер завершился моей попыткой спеть дуэтом с Лиз «Sweet Baby James», только я, вместо того чтобы «вернуться спать в каньон», немного позже выехал на дорогу в направлении Рима, с тремя полусонными женщинами в салоне автомобиля, сердцем, скачущим от радости, и занимающейся зарей.
Два с половиной месяца с того момента, когда Лиз появилась в моей жизни, пролетели так, что я их и не заметил. Город начал подготовку к Рождеству, и, хотя у меня не было никакого желания признавать это, до отъезда моей приятельницы оставалось совсем немного.
Поэтому я старался воспользоваться каждым моментом, чтобы повидать ее: от стакана пива в баре, посещения вместе футбольной игры до наших пантагрюэлевских ужинов. Но дни летели неумолимо, и я ощущал все большую меланхолию. Кроме того, я чувствовал себя несколько одураченным: в жизни мне редко доводилось встретить человека, столь родственного мне, с которым у меня возникло бы такое естественное и немедленное единение и установилась такая истинная и прочная привязанность; жизнь преподнесла мне прекрасный подарок, еще одну приятельницу, а теперь лишала меня ее.
Я хотел упросить Лиз остаться еще на непродолжительное время, но, конечно же, не мог вмешиваться в ее планы: это было бы слишком эгоистично с моей стороны. Для нее – святое дело навестить своих родных на Рождество, а затем вновь отбыть, на этот раз прямым ходом в Индию. Кроме того, с отчаянием задавал я себе вопрос, как она сможет писать мне из ашрама? Будет ли у нее время между молитвами и духовными ритуалами, чтобы найти хорошее интернет-кафе, подобное тем, которые она любила посещать в Риме?
За два дня до отъезда я проводил ее домой после прощального ужина в Анцио с Джулианой. Перед тем как глубокой ночью прибыть к месту назначения, мы остановились на мосту через Тибр, с которого Лиз бросила прощальное письмо городу Риму. Листок плавно опустился на воду, нарушив отражение звезд, которое волшебным образом тут же восстановилось. Осмотревшись вокруг, я обратился с мольбой к моему родному Риму сделать так, чтобы он показался ей во всем своем великолепии: красивым, романтичным, немного распутным, соблазняющим, искушающим, как это свойственно только ему одному, и задержал Лиз еще на несколько дней. Я глядел на Рим и наблюдал, как Лиз смотрит на Рим, и меня переполняло желание, чтобы время остановилось.
Но время не останавливается. Оно зовет, и ты должен идти вперед.
Этим вечером я осознал, чего я больше всего опасался, я боялся, что никогда больше не увижу ее. Я думал, что для Лиз покинуть Рим означало просто перевернуть страницу в своей жизни: город и его обитатели выполнили свое предназначение, возвратили ей немного радости, но теперь естественный ход событий манил новым опытом, новыми знакомствами. Возможно, американцы, проживающие в такой огромной стране, более привычны по сравнению с нами, итальянцами, находиться вдали от дорогих своему сердцу существ и говорить людям «прощай». А пока Лиз готовилась пережить новые приключения, я оставался на месте. Да, со своей Джулианой, своей музыкой, своей командой «Лацио» и своими вечеринками с друзьями. Но одним другом будет меньше.
Именно тогда я торжественно пообещал самому себе, что буду всеми силами защищать это маленькое сокровище, случайно дарованное мне жизнью, и не позволю, чтобы мы забыли друг друга.
Когда я проснулся на следующее утро, сияющее солнце озаряло Рим. Это был один из столь обожаемых мною дней, безоблачных, с солнцем, согревающим тебя, и легким ветерком, который делает воздух пощипывающим.
Я решил, что в этот день, последний день пребывания Лиз в Риме, я не пойду на работу. Не для того, чтобы провести его с ней; было бы справедливо, чтобы она делала в этот день, что ей вздумается, шла туда, куда направит ее зов сердца, без всякого вмешательства. Стояла середина декабря, и мне самому надлежало пройтись по своим собственным делам, выполнить то, что я всегда откладываю напоследок, включая покупку рождественских подарков. С тайной надеждой случайно встретить ее.
Эта надежда не оправдалась. Единственным спутником, сопровождавшим меня, была моя меланхолия: такой прекрасный день, но окрашенный горечью из-за отъезда подруги, которую я, возможно, больше никогда не увижу.
У меня дома находился ее самый большой чемодан, который я загрузил в багажник предыдущим вечером, чтобы сэкономить время на следующий день, когда повезу ее в аэропорт. Купив для нее несколько подарков во время моего праздношатания по Риму, я вложил их прямо в чемодан, вместе с письмом. Я не хотел сделать расставание слишком печальным и сугубо официальным и предпочел, чтобы она обнаружила мои сюрпризы и мое послание только когда окажется дома.
И вот завтрашний день настал. Оба мы, как обычно, заранее встретились очень рано утром, в обговоренном месте на набережной Тибра, я – с ее чемоданом в багажнике, она – с тележкой.
Каждый метр продвижения был секундой, вычитаемой из времени пребывания в ее обществе, и тем утром дорога из Рима во Фьюмичино[111] внезапно оказалась невероятно мало загруженной транспортом: за всю мою жизнь у меня никогда не уходило так мало времени, чтобы доехать до аэропорта!
Лиз была опечалена, но с радостью возвращалась домой, и все это, вместе взятое, то, что она была рядом со мной и вполне довольна, создавало мне хорошее настроение.
У стойки регистрации уже змеей извивалась длиннющая очередь пассажиров, вылетающих в Нью-Йорк. Мы дождались очереди Лиз, и только тогда наступил момент прощания. Мы дали друг другу тысячи обещаний поддерживать связь любым возможным способом и тысячи пожеланий на будущее. А затем обещания и пожелания уступили место крепкому объятию, которое значило намного больше, нежели тысячи слов.
Лиз прошла контроль, а я все продолжал следить за ней издалека. Затем с комком в горле пустился в обратный путь. Когда я сидел в машине по пути в Рим, мне пришла в голову мысль послушать «One More Day»[112] в исполнении группы «Diamond Rio» только для того, чтобы посвятить ее Лиз, хотя ее и не было со мной. Я хотел сказать ей, чтобы она осталась еще на один день, уверенный в том, что посредством неизвестно какого телепатического канала это сообщение придет к ней. Но, включив стереопроигрыватель, я сообразил, что там был установлен другой диск: хорошо знакомый аккорд ударил меня будто кулаком в живот, опередив на несколько секунд очень высокий и почти страдающий голос Рэнди Мейснера, который затянул «Take It to the Limit». Опять полились слова: «Вечер был на исходе, яркие цвета перешли в синеватые оттенки… но, ведь ты знаешь, я всегда был мечтателем…»
Я разразился самым настоящим плачем. Слезы текли у меня по лицу, затуманивая дорогу.
«Ты можешь проводить все свое время, зарабатывая деньги, ты можешь проводить все свое время, занимаясь любовью, но когда завтра все это разлетится как дым, останешься ли ты все еще моей?»
«Take It to the Limit» кончилась, я прослушал ее еще раз с начала и пел во весь голос, заливаясь слезами. И я слушал ее вновь и вновь в последующие дни, каждый раз, когда вспоминал Лиз.
Рождество было практически у ворот, сопровождаемое песней «White Flag» Дайдо, в которой по странному совпадению припев кончался словом «сдаваться», и именно на исходе сочельника я вдруг осознал, что ни разу не проинформировал Патрика о своей дружбе с Лиз. Я сообщил ему о первой встрече, о том, что мы понравились друг другу, но мне так и не представилась возможность сказать ему хоть одно слово о том особом сродстве, которое связало нас.
Итак, я отправил ему сообщение по электронной почте, в котором поблагодарил друга за то, что судьба в его лице ниспослала мне Лиз. У меня создалось такое впечатление, что он, подобно фокуснику, извлек из магического цилиндра настоящую подругу: я и представить себе не мог, что буду испытывать подобное сожаление из-за ее отъезда. Я также поделился с ним моими опасениями, что больше не увижу ее.
Ответ Пэта заставил меня подскочить на стуле: «Лука, а не возникло ли между тобой и Лиз нечто большее?»
19. «You've got a friend»[113]
– Что??? Пэт, ты что, совсем сдурел? – это был первый ответ, который пришел мне в голову.
Однако мой друг был прав. Я страшился думать об этом, но настал момент задать вопрос самому себе:
– Лука, а ты не влюбился?
Тем не менее ответ был тем же самым, что я дал Пэту:
– Нет. Мои отношения с Лиз – всего лишь прекрасная дружба, окрашенная особым оттенком. Она явилась совершенно неожиданно. И потом, ты знаешь, Пэт, я ем, пью, болтаю всякую ерунду, но в душе я – романтик с итальянским сердцем, и мне жаль, что моя гостья уехала. Еще раз спасибо тебе за то, что ты подарил мне Лиз.
– Я рад всему этому, – услышал я в ответ от своего друга. – Нам с Шейлой было бы жаль Джулиану, но должен признаться, что написанные тобой слова сильно смахивали на бред влюбленного.
Но теперь мне было известно точно:
– Нет, я не влюбился. А может быть, и так. Но это другая разновидность любви.
Казалось неуместным допускать, что любовь может иметь множество разновидностей. Моей величайшей любовью была Джулиана. Но разве не является любовью то, что родители испытывают к своим детям? Или близкие отношения с дорогим твоему сердцу другом? Или то, что я всегда ощущал к музыке? Или к своему родному городу? Все это другие разновидности любви, которые благодаря Лиз и ее простоте я впервые почувствовал себя вправе допустить.
В этом смысле я любил ее. Я всегда знал, что дружба, зародившаяся в детстве, обладает особой сущностью, и трудно ставить ее на тот же самый уровень с дружбой, которая завязывается во взрослом возрасте, как бы прекрасна и значима она ни казалась. Но с Лиз случилось нечто уникальное: она действительно перевернула все во мне. Хватило немногих месяцев, чтобы создать ощущение, будто она всегда была частью моей жизни, именно такой, какой бывают немногие истинные друзья детства. В этом смысле Пэт, возможно, прав, это что-то большее, более прекрасное, хотя и отличное от того, что я испытывал к Джулиане. И если кто-то хочет назвать это любовью, ну и ладно, пусть это будет любовь. Иная разновидность любви.
В последующие месяцы мои опасения потерять Лиз окончательно отступили: я начал периодически получать из Индии ее письма с новостями, рассказами, ее фотографиями верхом на слоне или в процессе медитации.
Я пребывал в состоянии необыкновенного счастья. И все благодаря Лиз. В век Интернета она вновь взялась за перо. И во мне проснулись этот забытый интерес и вкус к получению писем, приятные волнения в ожидании их, хотя у меня и не было обратного адреса. Так что я должен был дожидаться, когда Лиз переберется на Бали, обзаведется персональным компьютером, и я смогу излить ей свою родственную душу, сообщить, что я получил все, что она послала мне, и рад узнать, что она стала еще счастливее. И конечно же, сказать ей, как мне недостает ее.
И я был еще более обрадован, когда Лиз написала мне с Бали, что вновь влюбилась: она познакомилась с Фелипе.
Когда она поведала мне о нем, о его природном обаянии и благородстве, растаяли мои последние страхи, что моя приятельница может вновь страдать из-за мужчины. Итак, с этого момента их любовь приобрела в моем лице одного из самых страстных болельщиков.
Вернувшись домой, Лиз продолжала писать мне письма из Соединенных Штатов. До того дня, в феврале 2005 года. Который я никогда не забуду, так как мне пришла бандероль.
Я открыл ее и потерял дар речи. «Элизабет Гилберт „Есть, молиться, любить“ – предварительная непроверенная верстка – не для продажи».
Ах, Бог ты мой! Сигнальный экземпляр ее книги! Она как-то говорила мне, что хотела бы рассказать о своих странствиях, но теперь, держа в руках ее творение, я с трудом верил, что все это происходит наяву. И сюрпризы на этом не кончились. Я тотчас же засел за чтение. В книге излагалась вся история. Я не мог оторваться и чуть было не упал в обморок, когда в одном месте прочел два слова: «Лука Спагетти». Черт возьми! Это обо мне! Лиз написала в своей книге обо мне! Мама родная! И что же теперь делать? Да ничего, продолжай читать, лопух!
Я возобновил чтение и продолжал натыкаться на эти слова: «Лука Спагетти». Каждый раз я подпрыгивал, и мне требовалось несколько секунд, прежде чем до меня доходило: «Но… это же я!» Как же ты вознесся, дурень, ведь это именно ты!
Лука Спагетти попал в книгу. Откровенно говоря, я не знал, чего больше хочу: того ли, чтобы ни один экземпляр этой книги не был продан, или чтобы она пользовалась бешеным успехом. Во втором случае, однако же, она действительно стала бы отмщением Спагетти! Освобождением, избавлением от тяжкого бремени моей фамилии. И тем не менее оказалось чрезвычайно странно читать там о себе. В моем сознании просто не укладывалось: это действительно я; несомненно, я присутствовал там, но при чтении испытывал странное ощущение, как будто разглядывал себя со стороны. Перелистывая страницы, я вновь переживал свои римские месяцы с Лиз, и это было столь же прекрасно, сколь и необычно.
Вперед, Лиз! Давай, подружка, давай! Давай, круши все! И преврати в привлекательную бабочку этого шалопая с потешной фамилией, с которым ты познакомилась в Риме!
Книга была прекрасна, одновременно трогательная и забавная, и действительно начала приобретать успех. Для меня стало сказкой переживать вместе с ней, день за днем, этапы триумфа «Есть, молиться, любить», радоваться с Лиз и за Лиз по мере того, как я получал от нее воодушевляющие сообщения о продажах и реакции читателей и критиков. Можно было открывать по бутылке шампанского в день!
Однако же я продолжал задаваться вопросом, когда я смогу снова увидеть ее.
Это произошло в июле 2007 года, когда Лиз возвратилась в Италию для презентации итальянского издания ее книги «Есть, молиться, любить». Ей предстояло приехать на три дня, которые мы, естественно, должны были провести вместе. Мы отправились бродить по Риму, я, она и Джулиана, так же, как и четыре года назад, смеясь и перекусывая, попивая вино и слоняясь по улицам. И именно гуляние завело нас на площадь Санта-Мария-ин-Трастевере.
Как только мы ступили на площадь нашей первой встречи, я повернулся посмотреть на Лиз и встретился с ее взглядом и нежной улыбкой соучастницы. В этот момент я понял, что Лиз осталась той же Лиз, огромный, невероятный успех ее книги ни на йоту не изменил мою старую знакомую, и до тех пор, пока будет существовать в Риме эта площадь с фонтаном, я никогда не потеряю Лиз. Мы поклялись самим себе не ждать еще четыре года до следующей встречи и сдержали его.
В середине декабря этого года Джулиана и я вылетели самолетом в Нью-Йорк, чтобы провести рождественские праздники вместе с Лиз. Мы пребывали в величайшем возбуждении. Мне еще никогда не доводилось навещать Нью-Йорк на Рождество, и, более того, на этот раз у меня был особый гид.
Первые три дня мы провели с ней на Манхэттене, действительно в фантастической атмосфере. В магазинах звучала мелодия «Let It Snow», а рождественское убранство и нагруженные подарками люди придавали всему еще более романтический вид. На этот раз роль хозяйки исполняла Лиз: она водила нас повсюду и, естественно, в свои любимые рестораны и пабы, пока мы не перебрались в ее дом в Нью-Джерси, где наконец познакомились с Фелипе. Я с нетерпением ожидал этого часа. Лиз посылала нам различные фотографии, включая снимки их свадьбы, и Фелипе мне нравился, хотя я еще не был знаком с ним. У него было доброе лицо и вид человека, оберегающего женщину, но прежде всего одна удивительная особенность, которая не могла не понравиться мне: он несколько смахивал на Джеймса Тейлора!
И когда мы вошли в дом и его голос встретил меня радостным и теплым восклицанием: «Лука Лукиссимо!» – я понял, почему Лиз вышла за него замуж.
Фелипе, кроме того что был чрезвычайно симпатичной личностью, обладал и другой основательной добродетелью: хоть он и был бразильцем, но оказался лучшим поваром… Нью-Джерси! Его фажолада[114] была непревзойденной. Мы прогостили в доме Лиз пару дней, в течение которых вместе приготовили лимончелло, с тем чтобы оно настоялось в течение двух недель, к тому времени, когда мы вернемся в Нью-Джерси на Рождество. Ибо наше путешествие предусматривало важный этап: штат Коннектикут, где мы должны были познакомиться с родителями Лиз, которые трудились на их фирме «Рождественская елка». Мы приехали в потрясающее место, где Джон и Кэрол, отец и мать Лиз, посадили сотни елок для продажи придирчивым покупателям, имеющим счастливую возможность лично выбрать свою рождественскую елку.
Они были всех видов и размеров. Я не успел выйти из автомобиля, как кто-то вложил мне в руку электропилу. Да, так как было принято решение, что я окажу помощь в спиливании деревьев, выбранных покупателями: и это при том, что мне в жизни не попадалась на глаза ни одна электрическая пила! Мне объяснили: прежде чем пилить ствол, следует освободить ветви от покрывающего их снега и льда, в противном случае возникает риск их поломки, когда елка упадет набок. Постепенно я набил руку в этом деле и начал вовсю развлекаться.
Джулиана, которая любит Рождество больше любого другого праздника, казалось, обалдела от радости. Кэрол выдала ей все материалы и инструменты для изготовления рождественских украшений. Я тем временем обходил с Лиз заснеженный холм, одетый ряженым из фирмы «Рождественская елка»: зеленые штаны, красная куртка и шапочка эльфа на голове.
Работа была утомительной: после спиливания деревья подлежали упаковке с помощью машины, оборачивавшей их сеткой, и затем погрузке на автомобили клиентов, число которых все прибывало. Когда подъезжал очередной, Лиз приглашала его присмотреть дерево, объяснив, что как только дерево выбрано, надо закричать: «Лука!» – и немедленно появится красавчик из Рима, готовый свалить дерево. В результате мое имя выкликали каждые две минуты с разных сторон холма, и приходилось пробегать километры по снегу для удовлетворения всех покупателей.
На третий день я изнемог. Я был доволен, но совершенно разбит. И не мог не сказать самому себе: «Лука, ты столько учился и работал, ты обладатель ученой степени бухгалтера-аудитора, владелец специализированной конторы в Риме. Но какого хрена ты делаешь здесь, на заснеженном холме в Коннектикуте, срезая рождественские елки с шапочкой эльфа на голове?»
Это была милая месть Лиз. После того как я вынудил ее есть бычий хвост, пайату и требуху, пришла ее пора поразвлечься.
На фирме «Рождественская елка» царила прекрасная атмосфера. Кэрол прекрасно исполняла роль немногословного руководителя. Хозяйка раздавала всем задания с ласковой непререкаемостью и не повышая голоса; после общения с ней в течение нескольких дней я убедился в том, что она не повысила его ни разу в жизни. Джон был необыкновенно симпатичен, и на одной из стен дома я увидел вывешенную статью из газеты, написанную про него: он прошел весь «Аппалачский переход»[115], подобно мне, любил пешие прогулки и обожал горы. Кроме того, занимался выращиванием рождественских елок. Одним словом, нечто вроде коннектикутского Санта-Клауса.
Чтобы отпраздновать окончание сезона продажи елок, мы отправились в ресторан неподалеку, где разделили с Джоном одно из самых странных блюд, которое можно себе представить, – по меньшей мере для итальянца: пицца с цыпленком баффало[116]! После чуда с перцами в поезде «Эмтрэк» я уже решил, что повидал все, но это превосходило всякое воображение: пицца с кусочками цыпленка и соусом барбекю… Самым удивительным было то, что блюдо оказалась вовсе недурным.
После закрытия фирмы «Рождественская елка» мы все отправились в Филадельфию, чтобы провести 24 и 25 декабря в доме Кэтрин, сестры Лиз. Это были особые дни, в течение которых мы по большей части восседали вокруг стола, сервированного Кэтрин с таким высоким классом и изяществом, что у нас захватывало дух.
В день Рождества Лиз решила представить обществу подарок, который мы привезли ей из Италии: деревянную кружку-гроллу.
Кружка-гролла, название которой происходит от слова «Грааль», – деревянный сосуд с боковыми носиками, числом обычно от четырех до двенадцати, используемый для кофе, приготовленного так, как это делают в Валь-д'Аоста[117], с граппой[118], сахаром, апельсиновой кожурой и зернышками гвоздики. Он хорошо согревал и желудок, и сердце. Кружка-гролла известна как «чаша дружбы», которую передают от одного человека к другому, от друга к другу, чтобы каждый отпил из своего носика дивный кипучий напиток. Это был прекрасный и возвышенный момент, а также любопытная новинка для всех наших друзей.
Рождественские праздники пролетели. Фелипе и Лиз отправились в Нью-Джерси, а мы с Джулианой остались еще на пару дней в Филадельфии, перед тем как съездить в Бостон, чтобы отведать тамошнего супа из моллюсков, а затем опять возвратились в Нью-Йорк. Когда мы опять оказались в доме Лиз, то обнаружили там ее подруг, Дебору и Софи: через четыре года после нашего римского Дня благодарения мы вновь встретились! Фелипе попотчевал гостей изысканным обедом, который завершился приготовленным нами лимончелло, созревшим после двух недель выдержки, тонкого вкуса и ужасно крепким.
Было просто невероятно видеть библиотеку в гостиной, забитую экземплярами «Есть, молиться, любить» на всех языках мира. Лиз недавно была гостем ток-шоу Опры Уинфри, где продемонстрировала нашу фотографию, так что в тот день я получил восторженные послания от всех моих американских друзей.
Книга пользовалась необыкновенным успехом, и даже было принято решение сделать из нее фильм с Джулией Робертс в роли Лиз. Самое забавное и прозвучавшее для моих ушей насмешкой судьбы было то, что практически самым частым вопросом, который задавали Лиз, оказался такой: существую ли я в реальной действительности? Кто бы мог поверить в это? Мне казалось, я избавился от бремени моей фамилии, и вместо этого узнал: полмира искренне верят, что человек с такой смешной фамилией – всего-навсего удачная выдумка!
Два дня спустя мы с Джулианой вернулись в Рим, но накануне провели памятный вечер с Фелипе и Лиз. Не без содействия лимончелло мы принялись изливать друг другу душу. Фелипе и Джулиана были вынуждены пару часов выслушивать песенное представление Луки – Лиз, прервавшееся только тогда, когда Лиз заставила меня и Джулиану спеть песенку «Roma, nun fa' la stupida stasera»[119], которую она открыла для себя этим вечером и немедленно влюбилась в нее. Я перевел весь текст, слово в слово, рассказывая о Риме, таком прекрасном, что он помогает тебе влюбиться в девушку, с его звездами на ночном небе, которые освещают Тибр, с ласковым дуновением вечерних слегка резковатых ветерков и весенними вечерами, оживляемыми нескончаемым и меланхолическим пением сверчков…
– Лиз, – заявил я, – эта песня – настоящий гимн Риму и его необычайной красоте. Она нежнее и романтичнее любовного стихотворения.
Естественно, для объяснения по-английски, что такое «крошечная частичка луны» или как «западный ветерок-разбойник» может стать «пощипывающим порывом», мне пришлось приложить титанические усилия. Но я уверен, что Лиз и Фелипе уловили очарование этого творения.
Для меня и Джулианы настал момент возвращения домой после самых прекрасных в нашей жизни праздников. Расставание с Лиз и Фелипе далось нам с трудом. Но было ясно, что вскоре мы увидимся вновь, и мне также будет не хватать как моей подруги, так и Фелипе, этого доброго человека с приятным лицом, столь напоминающим Джеймса Тейлора.
Кстати, что касается Джеймса Тейлора, то я никогда не забуду историю, имеющуюся у меня про запас, героями которой являются он и экземпляр книги «Есть, молиться, любить». Шел 2009 год, и Джеймс опять, как и пять лет назад, пел в «Кавеа». Было чрезвычайно жаркое воскресенье июля, и, в то время как половина города отправилась на море, я уже за несколько часов до концерта стоял на посту. Лука Спагетти – самый преданный поклонник Джеймса Тейлора.
До тех пор пока охрана позволяла, я бродил по территории «Кавеа», прикидываясь туристом, потом уселся рядом с микшером в надежде, что сойду за техника и смогу присутствовать при настройке звука. Я использовал метод «таращиться на стены», как делал это в школе. Для того чтобы меня не спрашивали, я старался как можно меньше смотреть в глаза учителю.
Но появился тип с бородкой, который удивился, что меня еще не выставили отсюда, и дал соответствующее указание персоналу «Аудиториума».
Но на сей раз я был вооружен. И оружие было убийственным: экземпляр «Есть, молиться, любить», соответствующим образом подготовленный мной. Я напечатал и наклеил внутри все фотографии, которые сделал с Джеймсом за все прошедшие годы, а на первой странице написал несколько строк благодарности, но действительно душещипательных!
Если бы мне была дозволена всего одна минута, я подарил бы ему книгу, показал фотографии и сказал, что я – один из персонажей этой книги, разговоры о которой он определенно слышал, и имя мое – Лука Спагетти!
Как он мог забыть его? Понял, Джеймс? Спагетти! Ты не можешь забыть его! Возможно, когда ты вернешься сюда в будущем, то вспомнишь меня. И от моей фамилии, в конце концов, будет какой-то толк.
Но затеянное предприятие оказалось тяжким. Пока мой умоляющий вид оказывал воздействие на сотрудника охраны, я старался тянуть время, показывая ему книгу и фотографии.
– Прошу тебя, видишь? На этих фотографиях мы вместе, он и я! Дай мне подойти к нему только на секунду, когда он выйдет из уборной, для того чтобы подарить ему эту книгу и поблагодарить за его музыку. Клянусь, что потом исчезну! – До следующего раза…
Никаких уступок.
«Черт побери, всему конец!» – подумал я.
Именно в этот момент чудесным образом появился Джеймс Тейлор собственной персоной и направился к сцене для настройки звука.
– Вот он! Прошу тебя, мы на расстоянии всего тридцати метров, и на всей площадке я один. Подведи меня к нему. Клянусь, я отдам ему книгу, поприветствую его и уйду. Если тебе не понравится, что я делаю, разрешаю дать мне оплеуху по лицу прямо в его присутствии!
Охранник с минуту поколебался, прежде чем ответить:
– Хорошо, пошли. Быстро!
Я никогда не действовал в своей жизни быстрее. За десятую долю секунды я оказался под сценой и вежливым голосом, исполненным надежды, окликнул его:
– Джеймс.
– Да.
– Извини меня, я займу только одну секунду. Это небольшой сувенир для тебя. Я – один из персонажей книги, и меня зовут Лука Спагетти. В книге ты найдешь фотографии…
Он не читал «Есть, молиться, любить», но выглядел приятно удивленным подарком и несколькими словами, которые я написал внутри.
– Но это я и ты, здесь!
– Да, Джеймс, это фото четырехлетней давности, как раз на этих ступеньках…
– Спасибо, Лука, я действительно ценю твой сувенир.
Лука! Черт возьми, он сказал «Лука»! Он назвал меня по имени! Какой сладкой музыкой мне показался голос Джеймса, произносящего «Лука»!
– Джеймс, прежде чем я уйду, можно сделать еще одно фото вместе?
– Конечно!
Из-за нахлынувших на меня чувств на этой фотографии я получился с ярко выраженным видом придурка. Но на этом все не кончилось.
Пока я протягивал ему руку, чтобы попрощаться, Джеймс снял с себя пропуск с надписью «Джеймс Тейлор и оркестр», который висел на шнурке у него на груди, и неторопливо надел мне его на шею, проговорив:
– Лука, сегодня этот пропуск мне не нужен. Можешь забрать его. С ним ты становишься членом оркестра.
Я чуть было не лишился чувств. Теперь сотрудник из службы охраны «Аудиториума», который сопроводил меня сюда, улыбался и явно сопереживал мне.
Я не уверен, что правильно понял его.
– У меня нет слов. Тогда… значит, тогда, возможно, я не помешаю, если устроюсь тут в уголке и буду слушать настройку звука?
– Лука, ты теперь участник оркестра и можешь идти куда хочешь!
У меня закружилась голова. Первым побуждением было пойти поискать субъекта с бородкой, который прогонял меня, и заявить ему на не скованном никакими условностями римском диалекте:
– Эй, милок, это тебе теперь надо уматывать отсюда! – Но сейчас я испытывал симпатию даже к нему.
Сидя в первом ряду в «Аудиториуме», один как перст, я прослушал самую прекрасную настройку звука в истории.
В конце Джеймс дал мне знак подойти поближе, а сам направился к вокалистке, Кейт Марковиц, и спросил ее, читала ли она книгу. И она ее уже прочитала! Тогда Джеймс сообщил ей, что я – Лука Спагетти, тот самый Лука Спагетти.
Кейт проявила исключительную любезность, спустившись со сцены, и уделила мне минут десять, пытаясь помочь очнуться от состояния очумелости, в котором я пребывал и которое углублялось по мере того, как мне представляли членов оркестра, которые, естественно, были мне хорошо известны.
Подписав десятки автографов за пределами «Кавеа», Джеймс позвал меня, чтобы нанести окончательный удар:
– Лука, пошли с нами!
Каждый раз, когда он окликал меня, у меня дрожали ноги. Я вошел, на сей раз на законном основании, подтвержденном пропуском.
– Через некоторое время мы пойдем с ребятами поужинать, если ты не против, можешь присоединиться и пойти с нами перекусить.
Если я не грохнулся на землю в этот момент, то, полагаю, больше никогда не грохнусь в своей жизни. Мне потребовалось минут десять на то, чтобы осознать происходящее. За эти десять минут, однако, мне бросилась в глаза одна деталь, которую я сначала упустил из вида. Они работали. Кто репетировал, кто подписывал бумаги, а кто лихорадочно готовился к этому событию.
На меня в этот день обрушилось слишком много, чрезмерно много всего сразу. Я боялся оказаться лишним, незваным гостем, обязанным своим присутствием только любезности Джеймса и без которого, возможно, большая часть его группы охотно обошлась бы.
Итак, призвав на помощь все мое чувство меры, я, тронутый до глубины души, с благодарностью отказался. И, переполненный радостью, на сей раз действительно вернулся домой.
В те часы, которые отделяли меня от начала концерта, я рассказал о моем невероятном приключении Джулиане, своему брату и всем друзьям: количество бранных слов, излитых на меня за то, что я отклонил приглашение, превышало всякое воображение. Некоторые даже дошли до того, что угрожали мне физической расправой.
Но меня это не волновало. У меня все еще звучал в ушах голос Джеймса, который окликнул меня: «Лука!» – и пение которого я вновь услышал спустя несколько часов.
Я не мог удержаться от того, чтобы не написать немедленно об этом Лиз, поведать ей, что благодаря ей и книге «Есть, молиться, любить» я осуществил одну свою мечту. И она, являясь истинным другом, была счастлива как ребенок.
Последний сюрприз, который Лиз преподнесла мне, относится к прошлому лету – тому самому, когда на несколько часов Лука Спагетти самым настоящим образом стал членом оркестра Джеймса Тейлора.
В середине августа я поехал с Джулианой в отпуск в Прованс, именно в то время, когда Джулия Робертс со своей космической улыбкой приземлилась в Риме со всем персоналом, чтобы начать съемки фильма «Есть, молиться, любить».
Мы вернулись из отпуска во Франции отдохнувшие и довольные, и я считал дни, отделявшие меня от встречи с Лиз: в первых числах сентября она должна была прибыть в Рим, чтобы провести там неделю с Фелипе по приглашению продюсеров фильма.
Естественно, я не упустил ни одной секунды ее свободного времени. Пока в один прекрасный день не произошло нечто незабываемое.
Я сидел с Лиз на террасе ее гостиницы на улице Джулия и, пока мы рассеянно взирали на крыши Рима, размышлял о том, что случилось со мной с тех пор, как я познакомился с ней. В моей памяти воскресали все моменты, проведенные с ней: первая встреча в Трастевере, ужины и обеды, завершаемые лимончелло, необычные уроки итальянского языка, стадион, церкви, улицы, пройденные вместе в поисках наиболее зачаровывающих мест Рима, а затем Анцио, День благодарения с индейкой «алла Лука Спагетти», слезы по поводу ее отъезда, ее книга и фирма «Рождественская елка».
Я подумал о том, как щедра оказалась ко мне жизнь, даровав эту дружбу, и во мне зрело намерение прошептать ей на ухо: «Лиз, у тебя есть друг».
Именно в этот момент она посмотрела мне в глаза и с любящим и немного шаловливым выражением лица спросила:
– Лука, ты хотел бы пойти на съемочную площадку, чтобы познакомиться с Джулией Робертс?
Я с улыбкой обнял ее:
– Конечно, Лиз! Давай опять выйдем за рамки!
Благодарность
Мне всегда нравилось изящество слова «благодарность», и наконец я могу злоупотребить им.
Не могу не начать с тех, кто наделил меня этой фамилией и, подобно мне, проживает с ней каждый день: с моей матери, моего отца и моего брата Фабио, то есть с семьи Спагетти!
В особенности существенной была помощь Фабио с точки зрения идей, предложений и их исполнения различным образом. Спасибо! Спасибо! Спасибо!
Огромная благодарность Джулиане, которая с самого начала этой авантюры ежедневно оказывала мне поддержку и стойко переносила мои затеи. Хотя время от времени до сих пор она бросает на меня недоверчивый взгляд…
Сердечная благодарность Пэту, Берни, Шейле, Фелипе, Джулио и Мадхури, моим дражайшим заокеанским друзьям, за то, что они открыли передо мной двери своих домов и Америки, а также Алессандро и Коррадо, моим закадычным приятелям каждого дня и осуществленной мечты.
Истинная благодарность сотрудникам издательства «Риццоли» в лице Джулии, Джованны, Стефано, Сони, в строгом порядке знакомства с ними, и Марко за то, что они дали мне возможность выполнить эту работу: заполучить в качестве автора бухгалтера-аудитора – это такое наказание, которого они, бедняги, не заслужили.
Спасибо членам «Квартета Джона Хорса» за то, что они дали мне почувствовать себя музыкантом.
Благодарю Джеймса Тейлора за терпение, проявленное по отношению ко мне все эти годы, и за то, что он своими песнями сопровождал главы этой книги.
И наконец, она. Писательница, Элизабет Гилберт, Лиз, Лиззи. Или просто моя иная разновидность любви. Не знаю, с чего начать. С ней действительность превзошла всякую фантазию. Я думал, что чудеса окончились в день нашей встречи, напротив, они только начали совершаться. Доказательством тому служит эта книга. Спасибо, Лиззи!
Спасибо Риму, Нью-Йорку и музыке.
И сердечное спасибо тем, кто прочитает эту книгу. Моей величайшей радостью было бы вызвать у них пускай и на мгновение хотя бы легкую улыбку.
Жизнь прекрасна!