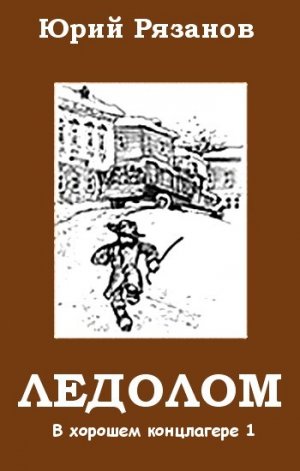
Об авторе
Ю. Рязановым опубликованы пять сборников рассказов.
Четырнадцатилетним подростком начал трудовую жизнь рабочим в РСУ и на ремонтном заводе сельхозоборудования. В феврале 1950 года, несовершеннолетним, после истязаний (обычное явление и до сей поры) в седьмом отделе милиции города Челябинска был осуждён по сфальсифицированному уголовному делу на пятнадцать лет концлагерей за якобы нанесённый государству ущерб в размере девяноста семи рублей, а также подвергся пыткам в гортюрьме за непризнание на суде участия в десяти чьих-то уголовных делах (на милицейской фене — «висяках»).
Амнистирован в 1954 году. Служил, по собственному настоянию, в советской армии с 1954 по 1957 годы. Принят в 1955 году в ряды комсомола, где активно работал до 1961 года.
Печататься начал в 1955 году в местных воинских газетах. В 1957 году вернулся в г. Ангарск Иркутской области, который начал строить ещё «зеком», где и продолжил трудиться на заводе слесарем, учиться в ШРМ и печататься в местных газетах. В 1961 году, окончив ШРМ, поступил в Уральский государственный университет на факультет журналистики и завершил учёбу в нём в 1966 году. Но журналистская карьера не сложилась: за публикацию в челябинской областной многотиражной газете «Строитель Урала», резкой, но правдивой критической корреспонденции «Почему погибла Евдокия Владимирова?», был уволен из редакции «по собственному желанию». Далее капээсэсовцы-бюрократы и их пособники из правоохранительных органов не позволяли автору работать штатно по специальности, признав корреспонденцию антипартийной. От преследований пришлось уехать с семьёй в Свердловск, но гонения продолжились.
Печатался в местных газетах и журнале «Уральский следопыт» как рабкор, публиковался в библиографических сборниках. Но преследования не прекращались и в последующие годы, вплоть до выхода на пенсию. Не оставляют его в покое карательные органы и до сего дня, угрожая расстрелом.
Автор тем не менее продолжает посильно работать.
2007 год
Книга первая
РОДНИК ВОЗЛЕ ДОМА
Трилогию посвящаю жене и другу Лидии Дмитриевне Рязановой
Сызмальства во мне всегда звучали музыка или песни, хотя я не обладал (и не обладаю) ни голосом ни слухом.
Наедине с самим собой какая-то мелодия возникает вдруг внутри и не прекращается, пока не заменю её другой.
Каждый рассказ двух сборников я решил предварить текстом песни, не обязательно мною любимой, — именно их распевали свободские пацаны, эти «романецы» были услышаны в тюрьмах и концлагерях, они служили своеобразной аурой, вибрировали во мне, являясь частью, составной самого жизневосприятия.
Наиболее запомнившейся на долгие годы была эта:
Родник возле дома[1]
Он обнаружился совсем рядом — на лужайке в нескольких шагах от коммунального дома по улице Свободы, двадцать два «а», где проживало в однокомнатной квартире, почти в центре Челябинска, наше семейство.
Когда я вдруг (тогда многие события происходили вдруг) по-настоящему разглядел его, изумление моё было столь велико, что я побежал к маме, которую недавно привезли вместе с малюткой братиком из роддома на телеге в коробе из под угля.
Она, как всегда очень занятая домашними хлопотами, отмахнулась от меня, а я восторженно воскликнул:
— Там, в ямке, живая вода! Она шевелится!
Усталая мама не поняла меня.
— Вода, Юра, не может быть живой, не выдумывай. Живая и мёртвая вода — из сказки.
Я обрадовался ещё пуще и тотчас бросился к явившемуся из сказки невероятному — с живой водой! — источнику.
Растянувшись на животе в густой прохладной траве, я приблизил лицо к лунке величиной с блюдце, наполненной такой прозрачной водой, что её почти не было видно. Зато различалась по цвету каждая песчинка: белёсая, серая, вишнёвая, чёрная с искрой… Они плавно отрывались от дна, поднимались, кувыркаясь, и опускались, чтобы вновь взлететь.
Движения их завораживали своей загадочностью и беспрерывностью. Откуда пучится вода, и к тому же такая холодная в жаркий день? Что за трубочка там, под землёй? Тогда главным для меня являлось, что, как и почему устроено всё окружающее: растения, камни, скрытое под ними — любой предмет.
Нетерпение узнать, как всегда, было велико, и в начале робко, а после и шустрее, я стал вычерпывать из лунки ладошкой песок и размокшую землю. Вскоре на дне осталось немного жидкой грязи, что меня разочаровало. Скользкая воронка в земле уже не прельщала. И никакой трубки не обнаружилось. Я был удивлён. Такой, но очень большой колодец я видел в городе Кунгуре, где мы жили до переезда в этот дом и где меня постоянно просили не совать голову в страшное бездонное сооружение, куда я мог упасть и утонуть.
Я решил сделать из лунки маленький колодец, углубив её и придав форму квадрата. Быстро сбегав домой, выхватил старинный, с серебряной рукоятью, столовый нож из ящика буфета и, примчавшись назад, осуществил свой замысел. Теперь у меня будет свой колодец!
Положив после работы нож на густую траву, который тут же в ней скрылся, я подровнял края колодца и остался очень доволен выполненной работой. И, радостный, побежал домой.
Вечером обнаружилась пропажа ножа, которым отец очень дорожил, — наследство!
— Сясь принесу, — всполошился я и рванул к «колодцу». Долго шарил вокруг него, всё по травинке перебрал — нет ножа! И в колодце!
Пришлось повиниться: отец строг-настрого запретил брать без родительского разрешения ножи, вилки, ложки… Серебро!
Наказывать меня по малолетству не стали.
Отругали за самовольство. Я заплакал. Красивый был ножик, с буковками и клеймом на рукояти.
Я читать тогда не умел, книжки мне мама растолковывала. Сколько я ни просил родителей научить меня чтению, мама отвечала, что ей некогда, вот в школу пойду, учителя обо всём мне расскажут: что за буквы и слова, из которых составлены книги. Отец же, когда я слишком ему досаждал, легко щёлкал меня по лбу и на этом моё познание грамоты заканчивалось — с рёвом. Моим, разумеется. Чтобы не надоедал, не мешал папаше валяться на диване и почитывать газету «Челябинский рабочий».
История же с пропажей ножа так закончилась: отец купил новый, из нержавеющей стали, на лезвии которого имелась тоже надпись, как я позднее прочёл: «З-д им. Сталина. г. Павлов». Кто бы мог тогда предположить, что я им буду пользоваться по сей день. Нож оказался с округлой рукоятью, очень неудобный в работе, и мама постоянно высказывала своё недовольство, поминая тот наш старинный нож, который находился рядом, у соседей, но об этом я узнал много лет спустя, когда меня на пир пригласил Толька Данилов, приехавший на побывку после окончания Казанского авиационного института, весь сверкающий начищенными до золотого блеска пуговицами, галунами погон с лейтенантскими звездочками на них и кокардой на новенькой фуражке, не менее эффектной, — лётчик-испытатель! Он очень гордился своей профессией.
Именно тогда, в шестьдесят втором (или шестьдесят третьем) году, на кухонном столе, уставленном бутылками с водкой и закусками, я опять — сколько лет прошло! — увидел наш столовый нож с серебряной рукоятью, сразу узнал пропажу, но промолчал, — неприлично было даже упоминать о нём. Мог произойти скандал, а я не желал этого. Да и не кухонный нож взволновал меня, а потрясающая новость: Толян, получив следующую звёздочку и квартиру в Казани, намеревался нагрянуть в очередной отпуск в Челябинск и сделать… предложение Миле.
Я отказывался представить себе, что Толян посмеет жениться на прекрасной девушке, мизинца которой не стоит, — уж я-то знал этого типа отлично, и на что он способен, хоть маршальские эполеты на себя нацепил бы.
Я так разволновался, что ушёл с пира. Больше мы с новоиспеченным бравым офицером Толяном, которому удалось вырваться из нищеты и взлететь высоко, не увиделись. Он не женился на Милочке. Рухнул с этой высоты. С самолётом.
Думаю, что она и не вышла бы за Толяна замуж, — Мила была умной девушкой.
И после я помалкивал о кухонном ноже, но главное — обо всей этой истории вообще можно было бы умолчать, опустить, если б она не поясняла многое в следующих моих рассказах о детстве. Но давайте вернёмся в то счастливое время, когда я выкопал «колодец» с живой водой.
Перед возвращением домой я вытер о трусы руки, чтобы мама не упрекнула меня в нечистоплотности, и, придя, увлечённо занялся разборкой механического — прыгающего, если его завести специальным ключиком, — жестяного лягушонка. Меня давно и нестерпимо зудило: что заставляет игрушку двигаться? И вот разрешение родителей наконец-то выпрошено — за дело! Вооружившись отвёрткой, быстро разобрал лягушонка на части. Попробовал собрать детали воедино — не получилось. Пришлось затолкать то, что недавно было игрушкой, в нижний ящик огромного бабушкиного шкафа. Таких громадин (с табурета до верху не мог достать) у нас имелось два. Бабушка уехала куда-то далеко, к родственникам, и некоторые её вещи остались у нас. Наверное, они ей стали не нужны. Она даже очки забыла, и я их использовал как увеличительные стёкла при рассматривании пойманных мною мух, бабочек, гусениц и жуков, живших в нашем огромном дворе.
Утром следующего дня я с удивлением увидел, что вода в расширенной мною лунке опять совершенно прозрачна и словно покрыта колышущейся слюдой. Наверное, очищенный родничок стал бить сильнее. Но мне не понравились обнажённые белые корешки трав, торчащие из ослизлых стенок, и бархатистая грязь на дне, дышащая, словно брюхо неведомого водяного животного. Я принёс из уличной канавы чистый серый песок с маленькими разноцветными галечками и высыпал всю пригоршню в лунку. Когда муть осела, я увидел, что песчинки снова резвятся в беспрестанном хороводе. Ожил родничок!
В начале зимы вокруг ключика образовалась наледь. Ох и покувыркался на ней! Весело!
…Весной сорок второго весь наш необъятный двор поделили между тремя домами, находившимися в нём. И в каждом доме семьи получили «наделы» земли сообразно своей численности.
Тётя Таня Данилова на собрании жильцов заявила от имени неведомого мне домкома, что землю следует «нарезать» лишь на членов семьи, способных обрабатывать участок самостоятельно. Грудному младенцу Кольке и трёхгодовалому карапузу Валерке, внукам Герасимовны, земли, дескать, не надо. И нам со Славиком тоже.
Бабка отчаянно возразила:
— Ты, Татиана, шибко умная штала нашальником в домкоме-те, а покумекала бы: ежели корову не кормить, будет она молоко давать? Вот так-то!
Меня упоминание о корове удивило: у бабки не то что козы — кошки не было. Корова в нашем дворе жила одна — в стайке у тёти Ани Васильевой, сестры тёти Тани, её семье она и принадлежала. Но при чём тут Герасимовна и её внуки? И я с братом?
Большинство при общем голосовании поддержало бабку — её непонятный довод убедил их.
Лужайку перед домом решили не трогать, а оставить для детей. В трёх домах, по подсчётам Герасимовны, вообще-то её звали Прасковьей Герасимовной, нас, пацанов и девчонок, набралось «цельна дюжина». Я всех по пальцам перебрал — получилось девять. И несколько лет спустя, когда отец поручал мне, например, купить дюжину яиц, я уверенно просил отсчитать девять штук — врезалось!
…Как же я ликовал, что вместе с поляной нам оставили и ручеёк! Он, незаметный, тёк в своей канавке, вероятно кем-то и когда-то углублённой, и тянулся к центру двора шагов на двадцать или чуть более. Разлившись возле груды бутовых камней лужицей, в которой жил большой жук-плавунец, переселённый мною из Миасса, вода опять уходила в землю.
Ручеёк тёк так тихо, что даже не журчал. Он словно таился от кого-то. Наверное, потому что был слабым, не то что неукротимо-бешеная струя уличной колонки на противоположном тротуаре — через дорогу перейти. Почва вокруг этого таинственного места, где жил-поживал ключик, всегда оставалась влажной, даже в сухие и жаркие лета. И в непролазных зарослях сирени близ дома, в котором обитало семейство Бруков, а они не пожелали выкорчёвывать кусты и в самые голодные годы войны, здесь всегда царила прохлада, и вокруг высился лес гигантских лопухов. Именно здесь мы любили играть в разведку с непременной добычей «языка». А ручей служил нам ориентиром. Чаще же — рубежом.
…Майским светозарным утром я выбежал во двор и не узнал полянку. Налево от тропинки, ведшей к парадному крыльцу нашего дома, до самого забора с соседним, почему-то называвшимся «судейским», двором, хотя в нём жила знаменитая заслуженная учительница, чернела свежевзрыхлённая земля, по которой суетливо бегал наш дворовый скворец. Ещё вчера поздно вечером я вприпрыжку возвращался по мокрой от росы траве, и всё было на месте, и лунка с ручейком в своей канавке тоже. И лишь непривычно серело несколько камней, зачем-то притащенных из нашей «крепости» костлявым, но жилистым Толькой Даниловым — Бумбумом. Ещё вчера днём на нашей полянке я наловил полный спичечный коробок кузнечиков — на них так охотно клюют жадные окуньки. А теперь где их отыщешь, кузнечиков, — жить-то им негде.
Но почему изуродованную поляну не замечают Даниловы? Толька избегает смотреть в мою сторону и слишком уж усердно хлопает скалкой по вывешенному на просушку бесценному ковру, приданому тёти Тани. На ковре изображены лихо пляшущие под гармошку бородатые цыгане в красных рубахах, синих, зелёных портах и чёрных, выше колен, сапогах.
— Тише ты, ирод рыжий, колоти! Испортишь вешши! — кричит, высунувшись из окна, тётя Таня.
— Сам знаю, не маленький, — огрызается Толька. — Без понятья чо ли?
— Толян, — спрашиваю его, — кто нашу полянку перелопатил?
— Не твоего ума дело, — угрожающим тоном отвечает Рыжий. — Любопытный больно. А то получишь за своё любопытство: бум! бум!
И он имитирует удары кулаками справа и слева.
Именно за это пристрастие хвастаться, как он умеет тузить, Толяна и прозвали Бумбумом. Правда, я ни разу не видел, чтобы он задирал кого-нибудь из взрослых ребят. Тем более уличных пацанов. Он и по вечерам-то не показывается — до ночи зубрит школьные задания. Мать не разрешает якшаться «со свободской шпаной фулюганами». Но над младшими, из своего двора, он чувствует себя всемогущим повелителем. И дерётся! Совсем взрослый — с двадцать седьмого года рождения.
Хотя босые ноги Толяна не особенно грязны, я заметил у крыльца даниловские галоши с налипшей на них непросохшей землёй. Неужели он?
Я положил наземь удилища и другие нехитрые принадлежности для рыбалки и кинулся к маме.
— Наш ручеёк закопали! — завопил я, ворвавшись в комнату.
— Тише ты! Славика разбудишь. Кто закопал? Зачем?
— Вся полянка перекопана. Это Толька! По чуням видно.
— Что ты мелешь? При чём тут чуни? А ты не фантазируешь опять?
— Не! Честно — не фантазирую. Нету ручейка!
Маме, да и не ей одной, почему-то не нравятся фантазии, порождаемые как бы независимо от моего желания, без всяких усилий и придуманности, произвольно — воображением. Реальное и возникающее в моей голове часто путаю, а меня обличают: врёшь! Это беда какая-то! Устыжённый другими, я часто чураюсь своих «фантазий», а они преследуют меня на каждом шагу. И поделать с собой ничего не могу — воображение само, когда ему вздумается, включается и создаёт диковинные образы. И непредвиденные их действия. Люди мне порой напоминают или принимают обличье реальных, а то и несуществующих существ. Нередко бывает так: я гляжу на девчонку, а вижу перед собой… бабочку-капустницу, например. Ещё в детсадике я влюбился в кукольной красоты девочку — золотоволосую и голубоглазую. Она-то и увиделась мне капустницей. Я быстро понял, тут что-то не так, — не может девочка стать белокрылой бабочкой, и удивлялся искренне: почему так получается? Спросил папу. Он, глядя в газету, ничего по существу не ответил:
— Иди гуляй. Ерунду всякую мелешь…
Он очень долго отсутствовал дома и, наверное, очень уставал и почти всегда после работы лежал на диване. Мама на мои недоумённые вопросы «где папа?» ответила однажды строго: его послали в длительную командировку, и больше спрашивать об этом не надо. Что такое «командировка», я представления тогда не имел, пятилетний мальчишка. И поэтому обратился к Герасимовне. Она старуха без зубов, а у кого их нет — всё обо всём знают.
— Што така командировка? Отша, баешь, в камандировку ушлали? Это када камандир отшилат. А на школь, нихто не ведат. Вернётша твой отеш, вернётша. Иных отшилают, дак те не вожвиртаютша, а ён придёт. Шкора. В школу не ушпешь пойтить, милай шын. У наш многи в тех командировках нонше. Ён в ахвишерах не шлужил, молод был ишшо. И бешпартейнай. Шкоро жди ево.
Бабкина беседа успокоила меня. А поскольку мама запретила мне упоминать о командировке, то ей я ничего о разговоре с Герасимовной не сказал. Ждал и дождался. Отец вернулся исхудавший и щетинистый. В грязной, с остриженными полами шинели и каком-то тряпье. И стали мы жить как раньше.
…Мама, выслушав моё сбивчивое откровение о роднике, строго посоветовала:
— Займись лучше делом. И запомни: обзывать людей нельзя, это неприлично. Мало ли кто на кого похож.
— А курицу можно тётей Таней называть? Или тётю Таню курицей?
— Ни в коем случае, — отрезала мама. — В чулан запру к паукам, если такую глупость сморозишь. Понял?
— А ворону — бабушкой Герасимовной? Или бабушку Герасимовну — вороной?
— Тоже нельзя, и забудь об этом. Она старый человек, а пожилых надо уважать.
А как можно забыть такое: я сорвал, давно, возле забора алый цветок мака, а он, оказывается, бабке принадлежал? Она очень рассердилась и хрипло закричала на меня: «Лешов шын! Вот я тебя ужо хвороштинай!» Я бросился наутёк. Мне побластилось, что сей миг старуха превратится в громадную чёрную ворону — уже превратилась! И вот-вот клюнет меня сверху, схватив за плечи полированными кривыми когтями. И я увидел эти когти, впившиеся в моё тело, и вскрикнул. А оглянувшись, заметил, что бабка и с места не сдвинулась, а лишь припугнула меня, — скрипучий голос её слышался издалека.
Мама ещё в Кунгуре не доверяла моим рассказам, потому что я не раз пытался убедить её в том, чего не было, что лишь вспыхнуло и пронеслось в моём воображении. Но тогда, повторяю, я и сам не всегда отличал, что существует на самом деле, а чего нет и не может быть.
— Ничего не понимаю. Ну-ка идём… — недовольно произнесла мама, услышав про ручеёк, ведь я её от дела оторвал — от стирки. А она этого очень не любила, чтобы её никчёмными вопросами отвлекали, и негодовала каждый раз.
Мы вышли в общий коридор. Бабка Герасимовна, варившая для внуков на примусе овсяную кашу и слышавшая наш разговор, проскрипела:
— Этто Татиана швоевольнишат. Мало ей швово-то надела, от мира даденного, дак она у робят последний лужок отхапала. И Толькю впутала.
Услышав имя соседки, мама сразу повернула назад. Я — за ней.
— Будет тебе, Юра, из-за пустяков, — недовольно сказала она. — Не порть мне выходной день.
— Но это не пустяк, — горячо возразил я, — это наш ручеёк. Всех. А не её. И не Толяна.
— Прекрати. Из-за чего сыр-бор? Из вашего ручья и воробью досыта не напиться. Какой от него прок?
И, укоряюще поглядев мне в глаза, добавила:
— И в кого ты такой настырный? Всё тебе больше других надо. Ох и набьёшь себе в жизни шишек… Иди играй во дворе. И не мешай мне.
Мама, мама… Не понимала она, как выручал нас, защитников «крепости» (кучи бутового камня) родничок, когда мы, прижимаясь всем телом к земле, чтобы не засёк «противник» (не могли же мы назвать друг друга «фашистами»), подползали к роднику с всамделишной солдатской фляжкой в зелёном брезентовом чехле (ещё с германской войны сохранилась в семье Богацевичей) и нацеживали её колпачком дополна, под пробку. Крепостью мы звали груду бутового камня, привезённого незадолго до войны для строительства в нашем дворе нового здания, но так никогда и не возведённого. До чего же вкусной была та вода из родника! Она прибавляла нам сил, и мы вновь бросались на «врагов» — чащобу крапивы и репейника — и крушили их кривыми саблями, изготовленными собственноручно из бочечных металлических обручей.
Мама не уставала повторять, чтобы ни я, ни братишка, которому исполнилось уже шесть лет, не пили из источника воду, якобы кишащую заразными микробами. Но мы не то что с удовольствием — с наслаждением всасывали, вытянув губы трубкой, воду из лунки — и ничего! Только песок иногда похрустывал на зубах. Да откуда было взяться зловредным микробам? Ведь их мог подбросить лишь диверсант, а мы бдительно охраняли свой ключик, маскируя лунку листьями лопуха, — чужаку ни за что не обнаружить! Вот такой любимый чудесный родник был у нас. Был… В его исчезновение, несмотря на очевидность, не хотелось верить. Но пришлось.
Ещё накануне я нацелился преподнести маме подарок — к обеду нарыбачить на уху. Поэтому, подхватив снасти, потрусил к реке, на своё заветное место у водокачки, пока его никто не занял. Стоя по щиколотки в чёрном иле, я думал не о вёртких пескаришках, не о сопливых ёршиках, так и норовящих выскользнуть из пальцев, и не о красноглазых окунях. И не мечтал, как обычно, о поимке опасного — в омут, как говаривают, не затащил бы — в полпуда усатого сома, а всё видел нашу исковерканную заступами полянку. Меня сверлил вопрос: «куда делся родник и можно ли его возродить?». Без разрешения мамы.
К обеду не удалось натаскать даже на скромную ушицу, попались с десяток — всего-то! — пескаришек и ёршиков. Одна мелочь.
Спрятав связку рыбёшек в мешочек, чтобы не отняли взрослые парни, — случалось и такое на берегу Миасса, я помчался домой.
С минуту задержался на том месте, где ещё недавно жил ключик, но там ничего не узрел, кроме врытых в землю камней. Площадка была утоптана чунями. Толян, наверное, с восхода солнца трудился.
Присев на корточки, я принялся разгребать подсохшие сверху комья, но ко мне решительно приблизился Бумбум. За всем происходящим во дворе он постоянно, как и его мамаша, наблюдал из окна.
— Проваливай отсюдова. Мы здеся картошки посадили. Не видишь чо ли?
— Это не ваша поляна, а всех ребят двора… Вы у нас её отняли.
— Из наших окошек видная, значит, наша. Чеши отсюдова, а то как дам! Бум! Бум!
Я безошибочно почувствовал, что стычки не миновать. А мне, признаться, так не хотелось ссориться, не то что драться. К уличным дракам, которые нередко приходилось видеть, я всегда испытывал отвращение, и преодолеть его стоило мне обычно больших усилий. Когда приходилось защищаться — тогда другое дело. Даже, если мне доставалось больше, — не отступал.
— Всё равно отдадите наш родник… Он не твой и не тёть-Танин, а всех ребят.
— Вот вы чо получите: на — выкуси! — Толька злорадно сунул мне под нос грязный кукиш. — Мы будем с голоду подыхать, а вы — на полянке валяться? Ишь чо захотели… Обрыбитесь!
— Толькя! — окликнула сына тётя Таня, наблюдавшая за нами из растворённого кухонного окна. — Брось ты его, не связывайся с сопляком! Подь сюды, вешши примай…
Рыжий неохотно отошёл от меня с видом победителя. Сколько же в нём было злости и уверенности в своём превосходстве над нами, кто помладше.
Тем не менее я утвердился мыслью: родник надо спасти. Но сейчас, днём, невозможно этим заняться — Толян не даст, помешает, драку затеет, побьёт.
Вечером я незаметно, крадучись возле забора, принёс из сарая лопату и спрятал её в лопухах. Тётя Таня, днём и ночью подсматривавшая в окна, не «засекла» меня.
Долго не спал, выжидая, когда все в доме угомонятся и наступит тишина. Пробрался по тёмному коридору (электричество в доме ещё в сорок первом отключили) и вышел на крыльцо. Насколько жарило днём, настолько похолодало сейчас. Кругом — тьма непроглядная, нигде не единого огонька. И лишь отчётливо доносились тоскливые паровозные гудки с далёкого железнодорожного вокзала.
В холодных мокрых лопухах нащупал черен заступа. Жутью веяла молчаливая тьма, затопившая всё вокруг. Только, усыпанная светляками, мерцала голубая крапива, коварно обжигавшая голые ноги. Пронизывающая насквозь ночная майская свежесть заставляла мои зубы выбивать дробь, и я не хотел признаться себе, что лихорадит меня от страха. Страшила неизвестность того, что может вдруг произойти с тобой в любой миг. Я принялся подбадривать себя: нельзя поддаться страху и отступить. Вот отброшена первая лопата земли, вторая, третья… Кр-р! Заступ наткнулся на что-то твёрдое. Камень! Понятно, для чего кажилился[2] Бумбум, притащив глыбу из нашей «крепости». Предательские, скрежещущие звуки соприкосновения металла с камнем заставляли чаще и громче колотиться сердце. Чего я опасаюсь? Что меня застанут за этим занятием? Наверное. А может быть, настораживали темнота и тишина, нарушаемая пением сверчков.
Работа оказалась не из лёгких. Мне удалось обкопать каменную глыбу со всех сторон, но не хватало силёнок поднять и вытолкнуть из ямы. Я быстро выдохся.
Чуть не плача от досады, ругал себя, что не догадался пригласить на подмогу кого-нибудь из друзей. Вовку Бобылёва, к примеру. Вдвоём-то мы быстрее навели бы порядок. Да и не так страшно, когда рядом друг. И всё-таки, собрав все силёнки, мне удалось выкатить скользкий и невероятно холодный камень на поверхность земли. После этой победы я побежал к уличной колонке — смыть грязь. Извазюкался весь. Застанет меня в таком виде мама — беда! Хлебнул бы слёз.
Домой прокрался незамеченным. Сразу забрался под одеяло к тёплому спящему братишке, но долго ещё не мог унять дрожь.
Проснулся я поздно и сразу пошёл посмотреть, что там во дворе.
Бумбум уже успел заровнять яму. Увидев меня на крыльце, погрозил поднятой лопатой. Я не пошёл к нему объясняться. Не хотелось громкого скандала. Двор показался мне неуютным — как никогда.
Удивительно, но все словно не заметили исчезновения родника. И никто из взрослых за него не вступился. Выходит, он никому из нашего дома не нужен, — горестно подумал я. Или тётя Таня самая сильная, и её все боятся?
Долго, очень долго не мог примириться с исчезновением ключика, будто потерял что-то невосполнимое, своё, неотделимое. Друзья разделяли мою озабоченность.
Но в том же сорок втором нам удалось отвоевать у Даниловых родничок. Но об этом в другом рассказе.
…Через много лет, приезжая в город своего детства, чтобы проведать родителей, я каждый раз вспоминал с грустью о давно не существующем источнике, о котором, вероятно, все прочно забыли.
Под окнами тёти Тани ещё в шестидесятые направо вдоль тропинки росли то картошка, то цветы на продажу, то появился обнесённый металлической сеткой загон для десятка кур на том месте, где когда-то бил ключ. Их разведением одинокая тётя Таня занялась вместе с сожителем — пенсионером Андреичем, суетливым и суесловным мужичком, такого же с ней ростика, — отчаялась ждать своего Ивана, да и сына уже не было в живых и ни за кого она не получала никаких государственных пособий — ни копейки.
А меня в каждый приезд подмывало воскресить родник. Хотя в сооружении из металлических предметов, намертво связанных проволокой, виднелась какая-то не просыхающая лужица, из которой пили, задрав головы, куры и цыплята. Однажды я поведал о ключике Андреичу, ибо он вёл хозяйство. Но лукавый пенсионер повздыхал нарочито и улизнул от прямого ответа. Деловой и практичный, он не пожелал рушить курятник. Ради чего, спрашивается?
А если бы мне даже удалось вывести на свет божий весь ключик, то, во что превратил бы его куровод Андреич, — в такую же загаженную поилку для своих хохлаток?
Да и родители упросили меня не лезть на рожон, не тревожить и не раздражать соседей.
Минуло ещё десятилетие. Скончался от сердечного приступа Андреич. Переселили в новые квартиры оставшихся обитателей дома, и, несмотря на сопротивление тёти Тани, его разломали.
Рядом с руинами до середины восьмидесятых ржавел металлический скелет курятника, сработанный хозяйственным Андреичем — на века — из старых железных кроватей, оконных решёток, — всё это он насобирал на помойках.
Теперь, кажется, можно беспрепятственно вызволить ключ. И я решился. В нашей сарайке нашёл тяжеленный лом, которым в юности зарабатывал деньги на приобретение книг, и с чмоканьем через вагу вывернул каменюку, заткнувшую родник почти на полвека. Выждав, когда муть осядет, я лёг на рыжий помятый бурьян и напился досыта. Вода осталась такой же студёной и вкусной, как в далёком детстве, в том роднике возле уже не существующего дома, в котором прошла большая часть моей жизни.
Ещё долго я сидел возле ямки, наполненной студёной водой, и в ней, как в очень далёкие годы, под тончайшей колышущейся слюдой поверхности безостановочно веселились пляшущие разноцветные песчинки. Он снова ожил, надёжно охраняемый непролазным, дремучим бурьяном, заполонившим покинутый всеми, кроме Васильевых и Бруков, двор. Кому родник нужен, чью жажду утолит, кого обрадует? Ведь на руины никто не захаживает. К тому же через некоторое время здесь, несомненно, воздвигнут бетонные коробки деловые предприниматели, а землю вокруг закуют в асфальтовый панцирь. Навсегда.
1986 год
Запретная зона[3]
Памяти брата Станислава, погибшего от руки пьяного милиционера и равнодушия врача-хирурга
Мы с братишкой долго бродили вокруг огромного квадрата заграждений из кое-где порыжевшей и пачкавшей руки колючей проволоки. Часовые перестали обращать на нас внимание — много пацанов и девчонок топталось возле огороженного здания городского цирка, с огромным куполом, недавно, кажется летом или осенью сорок первого, превращённого в казарму. Вернее, как были осведомлены все свободские пацаны, в учебный центр, где тренировали будущих лыжников-диверсантов.
Помещение цирка было мне знакомо, до войны мы часто, по воскресеньям, всей семьёй ходили на весёлые представления. Особенно мне запомнились дуровские дрессированные звери, акробаты и клоуны. Теперь же здесь призывники учились мастерству воевать с фашистами, и в их числе наш отец.
Сами видели два дня назад, как он в строю взвода промаршировал в открытые проволочные же ворота. Странно однако, что он не заметил нас, — мы бежали рядом до самого КПП и азартно кричали: «Папа! Папа!» И хотя перепоясанный ремнями командир, шедший сбоку, сердито махнул на нас рукой, мы продолжали неустанно выкрикивать это слово, тщетно пытаясь привлечь внимание отца, громко, вместе со всеми певшего:
— Дальневосточная! Смелее в бой!..
Мы при первой же возможности проходными дворами промчались на площадь Павших, посредине которой грузно возвышалось, пожалуй, самое большое в городе деревянное строение со сферической крышей. Но сейчас подходы к нему со всех сторон были перекрыты — не прошмыгнёшь, не перелезешь. Да и вооружённые часовые под дощатыми грибками по углам зоны отгоняли, грозя пальнуть. «Стой! Запретная зона», — предупреждали фанерки с чернильными потёклыми надписями на столбах запретки.[4]
А мы упорно рыскали вокруг неё, соображая, как пробраться внутрь.
— Идём ещё попросимся, — предложил Славик, которого я по давней привычке держал за ладошку, таская всюду за собой.
— Бесполезняк. Опять гайнут[5] от капэпэ… Да ещё по шее накостыляют. Один путь — через запретку.
— А проволка? — недоверчиво спросил Славка. — С колючками вострыми.
— А мы — по-пластунски. Как на фронте. Земля-то — заметил? — рыхлая. В ней запросто можно и грабками[6] проход сделать.
Братишка поколебался секунду и согласился:
— Я с тобой!
— Идёт. Вторым номером. За мной.
Понимаю: ему, чай, тоже не терпится отца повидать.
В моём лёгком воображении мгновенно возникла картина, как мы пробирёмся в зону. Лишь бы часовой не засёк. Я отметил про себя, что иногда один из часовых покидает свой пост, тот, что ближе к КПП. Надо лишь дождаться такого момента — и… А уж отца-то мы непременно разыщем, пусть в цирке даже окажется тыща красноармейцев.
Чем отец занимается сейчас? Наверное, пулемёт «Максим» разбирает на части, смазывает и снова ловко и быстро собирает. «Товарищ командир, пулемёт к бою готов!» — «Молодец!»
И тут я, как бы переключившись из воображаемой обстановки в действительность, замечаю, что под тем самым грибком, что ближе к КПП, пусто. Вот это удача! Я взялся за проволоку — боязно! Вдруг другой заметит и бабахнет? В меня-то едва ли попадёт, а вот Славик, он не такой шустрый, увалень. Но желание немедленно встретиться с отцом вытеснило последние колебания, и я командую братишке, почему-то шёпотом: «Ложись!»
Место мне показалось вполне подходящим — посредине от сторожевых грибков и самое близкое к округлой цирковой стене.
Повернувшись на бок, я приподнял над собой нижнюю проволоку, развернулся по часовой стрелке, пропустил вперёд Славика, на животе подполз ко второму ряду колючки, проделал тот же манёвр.
— Не поднимайся! — приказал я брату. — За мной! На локтях ползи.
Извиваясь телом в нагретой солнцем пыли, мы приблизились вплотную к цирковой стене и лишь тогда распрямились и огляделись.
Часовой маячил лишь под одним грибком, почти спиной к нам, поэтому мы не спеша отряхнулись и направились вдоль стены в сторону КПП, так же крепко держась за руки. Никто из встречных нас не остановил, даже не окликнул.
Мы проникли в цирк через проём, некогда закрытый плюшевым занавесом, и оставались у барьера манежа. На манеже, застланном дощатыми щитами, стояло несколько столов, стульев и скамеек. На столах действительно лежали учебные винтовки, противогазы, а на скамьях сидели стриженые, похожие друг на друга молодые и постарше красноармейцы в вылинялых гимнастёрках и галифе, в чёрных обмотках и ботинках. Все они почему-то показались мне с длинными и худыми шеями, и я подумал, что их, наверное, недавно выписали из больницы.
— Зырь-ка, Юр, гранаты! Настоящие! — разглядел Славик стенд с прикреплёнными к нему проволочками «лимонками», причём одна была распилена вдоль.
Братишка тянул меня к стенду, за барьер, а я решил: успеем ещё, насмотримся. А сейчас надо отца разыскать. Среди тех, кто сидел на скамьях, его не обнаружилось.
Один из столов, накрытый куском красного материала, привлёк моё внимание больше остальных, хотя на нём и не было оружия, а лежали какие-то бумаги. Зато за этим столом сидел старый, как мне тогда показалось, командир с какими-то блескучими, начищенными значками на груди тёмно-зелёной гимнастёрки и тремя шпалами в петлицах. Он беседовал с другим командиром, помоложе, имевшим всего одну шпалу.
— Стой тут, я сейчас, — наказал я братишке и перемахнул через барьер.
— Товарищ командир, — звонко выкрикнул я, волнуясь. Обратился я к тому, кто старше. — Скажите, пожалуйста, как нам найти нашего папу?
Командир с недоумением взглянул на меня и подошедшего следом брата.
— А как фамилия вашего отца?
Я назвал.
— Такой большой, — добавил Славик и показал рукой, вытянутой над головой, какой высокий наш отец. — Он красноармеец. Мы к нему на свидание приходили. С мамой.
— А кто вас сюда сейчас пропустил? — старый командир задал этот вопрос обыденно, спокойно, вроде бы его это не особенно интересовало.
— Никто. Мы сами, — ответил я без опасения, честно. Да и чего было нам опасаться?
— Через проходную? — продолжал осторожно допытываться командир.
— Не-ка, — опередил меня братишка. — Под проволкой пролезли.
Командир оживился, в глаза брату заглянул.
— А где? В каком месте?
— А там, — охотно откликнулся Славик и показал рукой, правильно показал, направо.
Старший командир переглянулся с младшим, но до меня смысл их взглядов не дошёл.
— А вы нам покажете папу? — осмелел братишка. — Я его обнять хочу.
— Вызвать дежурного, — приказал старший командир молодому, и тот гаркнул на весь цирк, аж под куполом аукнулось:
— Дежурного к комиссару полка!
Моментально появился молодой командир.
— Вот что, — равнодушным тоном обратился комиссар к подбежавшему дежурному. — Пригласите-ка сюда Иван Яковлевича.
— Папу Михаилом Алексеевичем зовут, — поправил я комиссара, но тот никак не отреагировал на моё замечание.
— Кстати, потрудитесь выяснить о рядовом Рязанове Михаиле Алексеевиче, — отдал он ещё одно распоряжение.
— Как вас звать, разведчики? — шутливо поинтересовался комиссар.
Я, обрадованный, принялся рассказывать о себе и брате, совершенно не заметив, как подошёл к столу и сел рядом с комиссаром человек в военной форме, но в петлицах его линялой гимнастёрки не оказалось никаких опознавательных знаков. Я поперхнулся, когда встретился с его тяжелым и пристальным, как мне показалось «чёрным», взглядом, хотя глаза у него были светло-карие.
— Это по вашей части, — сказал комиссар внимательно изучавшему меня красноармейцу.
Мне так неуютно стало под его взглядом, что я поёжился и прижал к себе братишку.
Тот, кого комиссар назвал Иваном Яковлевичем, предложил мне снова рассказать, каким путём мы попали в расположение части, и я охотно повторил этому красноармейцу всё снова, и он слушал, не спуская с меня давящего взгляда.
…Не сразу, но отца всё-таки разыскали, и он предстал перед нами — руки по швам, отрапортовал:
— Красноармеец Рязанов по вашему приказанию прибыл!
— Вы детей сюда вызвали с какой целью? — как бы равнодушно спросил комиссар.
Отец взглянул на нас почти безумными глазами и отчеканил:
— Никак нет, товарищ полковой комиссар, я их вовсе не вызывал.
Красноармеец Иван Яковлевич молча внимал, переводя свой необыкновенный взгляд то на отца, то на нас.
В этот миг Славик приблизился к отцу, шестилетний, исхудалый, тоже стриженый под нулёвку мальчонка, и взял его за руку.
Но отец не шелохнулся, не ответил на прикосновение сына, а уставился на вроде бы пробегавшего взглядом какую-то бумаженцию комиссара.
— Ваш папа подсказал вам, как можно, минуя пропускной пункт, проникнуть в запретную зону? — с напором спросил у брата красноармеец Иван Яковлевич.
— Не, — поспешно ответил я за брата. — Да нам и поговорить-то с ним не было возможности — он ведь в строю пел.
— Пел? — почему-то переспросил любопытный красноармеец. — А какую песню он пел?
— Непобедимая и легендарная! — тонкий голосишко Славика зазвенел, резонируя под куполом.
— Хорошо, — заулыбался комиссар. — Достаточно. А теперь повидайтесь с отцом. Товарищ боец, побеседуйте со своими сыновьями. Только недолго! В вашем распоряжении, — он взглянул на циферблат ручных часов, — восемь минут. Через восемь минут возобновятся занятия.
— Слушаюсь! — отчеканил отец.
Я, обрадованный, кинулся к отцу, но он всё ещё не оторвал взгляда от комиссара, словно ожидая ещё какого-то распоряжения.
— Можете идти, — видя его нерешительность, доброжелательно позволил комиссар.
Мы отошли к округлому барьеру, и только сейчас я рассмотрел, что все места на ярусах-рядах заняты постелями, заправленными серыми и рыжими одеялами. Но лишь кое-где, лёжа на них, отдыхали красноармейцы. Возможно, это были хворые или отсыпавшиеся после дежурств.
Я почувствовал себя счастливым — нам разрешили пообщаться с отцом! Столь близко я его не видел с декабря прошлого, сорок первого, года, когда мы проводили его, немного хмельного, в военкомат на улице Красноармейской, что недалеко от цирка.
— Зачем пришли? — тихо, с нескрываемой сердитостью, а может быть и еле сдерживаемым гневом, спросил отец, и меня словно током дёрнуло. Но внутренне ликование ещё переполняло меня. — Юряй, я тебя спрашиваю…
А Славка карабкался к отцу. Он взял его на руки, и брат сразу привычно обнял его за шею. Таких ласк от отца я никогда в жизни не получал. Он и лёжа на диване играл лишь с младшим сыном.
— Хотели тебя повидать, — сник я.
— У тебя пулемёт есть? — встрял Славик. — Покажь нам свой «Максим».
— Вот что, Юряй, бегите-ка домой. А то мать потеряет вас. И больше сюда не приходите. Мне из-за вас неприятности могут быть. Понял, Юряй?
— Ага, — тихо произнёс я, хотя не мог уяснить, почему и какие неприятности могут появиться у нашего отца из-за того, что мы с братом придём проведать его ненадолго. И командир у него, этот старый комиссар, вон какой добрый.
— Ну вот, давайте бегите.
И, поставив Славика на пол, он слегка шлёпнул его меж лопаток, выпрямился и, крупным шагом подойдя к столу, застланному кумачом, громко спросил:
— Товарищ полковой комиссар, разрешите идти для дальнейшего исполнения служебных обязанностей!
— Идите, — приветливо ответил комиссар.
— Слушаюсь, — отчеканил отец, лихо повернулся и снова приблизился к нам.
— Юряй, иди и поблагодари комиссара. А Фёдоровне передай, чтобы пожрать принесла. Перед отбоем, часов в девять. И больше близко к части не подходите, поняли?
Я кивнул в знак повиновения. Радость встречи убывала с каждым ударом сердца. Отец спешно удалился в проём под оркестровой ложей, откуда обычно появлялись, выбегая на арену, артисты и звери. И только он скрылся, как к нам подошёл красноармеец, которого комиссар учебного полка уважительно называл Иваном Яковлевичем, и предложил деловито:
— А теперь, ребята, покажите место, где вы проникли на территорию части.
Я всё ещё думал о встрече с отцом, и в душе у меня возникла сумятица, хотя предложение красноармейца принял безоговорочно.
Конечно же, мы сразу нашли то место, и любопытный Иван Яковлевич велел показать, как нам это удалось, — пролезть под проволокой. Мне, да и Славику тоже, это предложение понравилось, и мы охотно проделали весь путь — только из зоны на площадь.
— А сейчас идите домой, — распорядился стоявший по ту сторону запретки Иван Яковлевич с какими-то молчаливыми спутниками, тоже военными. — Вы где живёте?
— Тут, недалеко, по Свободе, — ответил я.
— Больше не подходите к запретной зоне — часовой вас может застрелить. Уяснили?
— Так точно, — ответил я по-военному.
Мы побрели вдоль проволочных заграждений. Славик опять принялся у меня выпытывать, куда ушёл папа, отпустят ли его домой, можно ли ему будет взять с собой гранаты, чтобы он, Славик, мог их хорошенько посмотреть и потрогать дома. Пока я растолковал ему всё по порядку, мы поравнялись с грибком невдалеке от КПП. Там происходила смена часового. Прежний отдал другому красноармейцу винтовку, а ещё один держал в руке поясной брезентовый ремень с патронташем. Мы остановились поглазеть. Сменённый часовой взглянул на нас как-то необычно. Нет, он посмотрел без злости, но с какой-то внутренней болью и досадой. Я это лишь отметил, но никак не увязал с тем, что произошло ранее с нами, — с ловким проникновением в зону и показом наших пластунских способностей.
Втянув голову в плечи, сменённый часовой поплёлся к входу в цирк, за ним красноармеец с двумя винтовками, рядом ещё один, и всю эту процессию замыкал тот, кого называли просто по имени и отчеству — Иван Яковлевич. Сейчас на нас со Славиком он даже не обратил внимания.
— А ну, кыш отсюда, стервецы! — рявкнул на нас вновь заступивший на пост красноармеец и, клацнув затвором, направил на нас ствол. — Ш-ш-пана…
Мы отбежали к зданию бывшей школы, а ныне госпиталя, оглянулись. Часовой не спускал с нас глаз и погрозил кулаком.
«Чего он окрысился? — спросил я вслух сам себя. — Злой какой…»
Славик задал же вопрос, на который я не смог ответить:
— А почему нас от папы выгнали? Почему не пускают? Ведь он наш папа?
— Наш-то наш, да нельзя.
— А почему нельзя?
— Служба у него такая, секретная. Понимаешь? — придумал я. — Поэтому и зона — запретная.
— Ага. Понимаю, — сказал братишка и успокоился.
Не знаю, что он понял, но я не мог уразуметь, почему нам запретили посещать отца. Но мы его всё-таки увидели!
Мы, снова радостно возбуждённые, примчались домой и вечером рассказали маме о нашем приключении и о приглашении отца. Мама, отругав нас за самовольство и строго-настрого запретив тащиться за ней, сварила для отца картошку, ещё что-то положила в кастрюльку и ушла на свидание.
В тот вечер мы не уснули и дождались возвращения мамы. Пришла она не в духе и не стала нам объяснять ничего. Лишь на следующий день мне стало известно, что ей не удалось повидаться с отцом. Мама много раз после ходила к зоне, пока не разузнала, что после нашего посещения отца срочно перевели в Шершневские летние лагеря. Даже отец, думается, не догадался о причине столь резкой перемены в своей воинской судьбе: из лыжников-диверсантов — в пехотный лагерь. В него-то вскоре мы и совершили — всей семьёй — паломничество. Целый воскресный день провели с отцом и после, ночью, шли по лесу через страшное Митрофановское кладбище. Жутко-весёлые остались от этого возвращения впечатления, но об этом — другой рассказ. А этот я, пожалуй, закончу вот чем: вскоре после похода в Шершни мы получили первое письмо с обратным адресом «Полевая почта» — отец писал из-под Сталинграда, с передовой, уверяя нас, что здоров, чувствует себя хорошо, воюет с фашистами и скоро вернётся домой с победой.
Я много раз перечитывал это письмо, свёрнутое треугольником. Именно тогда у меня впервые появилась мысль сбежать на фронт и уже с отцом добить банду захватчиков, а после вместе с ним вернуться победителем на свою Свободу, двадцать два «а», и зажить счастливо всей нашей семейкой. Как до войны. И даже намного лучше.
1960 год
«По улице ходила…»[7]
Брезгливый читатель может перелистнуть страницы этого рассказа, автор не испытает обиды. Ведь чтение его может вызвать у него возмущение: надумал, о чём писать, — о котёнке из помойки!
Но этот случай, много лет спустя, заставил меня вспомнить его во всех подробностях и осмыслить иначе, увидев всё другими глазами и, как говорится, в ином свете. И в иной перспективе. И с совершенно другим смыслом.
Этот случай, как мне представляется, объяснил многие мои дальнейшие поступки в жизни.
Над происходившим со мной и вокруг, текущим вроде бы само собой, я не особенно задумывался, не охватывал мысленно события вкупе, анализировал лишь отдельные случаи, давая оценки только им. А когда однажды окинул прожитый отрезок жизни как бы со стороны, выстроив наиболее значимые, в большинстве своём печальные для меня события, в логический ряд, то понял, почему поступал именно так, а не иначе. Хотя возможны были варианты и даже прямо противоположные способы разрешения тех или иных ситуаций, иногда для меня судьбоносных.
Это понимание, когда оно до меня дошло-таки, в дальнейшем предсказало характер, содержание и последствия моих поступков и тем не менее не всегда останавливало от того, как не следовало действовать, ибо приносило, разумеется, немало неприятностей, поворачивало течение жизни не туда, куда оно вроде бы устремлялось.
Подобные «повороты» можно было объяснить особенностями моего характера, формировавшегося в детские годы и в основном стихийно, без умной помощи взрослых или вопреки их попыткам воспитать меня. Я даже не упоминаю о систематическом и тем более научном воспитании. По сути, я был уличным мальчишкой, а поэтому свою роковую роль в моей судьбе сыграла и окружающая среда — улица. Те, с кем ты постоянно сталкиваешься в пространстве этом, — от квартала до квартала и далее.
И хотя жил я и рос в семье с мещанскими интересами — мои родители были служащими — и мама заботилась о нас, двух сыновьях (а более всех — об отце), из сил выбиваясь, чтобы обеспечить детей своих и супруга по возможности всем необходимым для благополучного существования, улица так или иначе влияла на меня, на моё формирование. Из-за маминой занятости без продыху и определённой позиции отца я оказался почти беспризорником. Были, конечно, и другие причины, о чём читатель узнает далее. Если пожелает.
Если б не книги, к чтению которых пристрастился с первых школьных лет, да «кавалерийские» воспитательные наскоки матери в редкие свободные минуты, оставлявшие глубокие рубцы в моей детской, очень ранимой душе (и не только в ней), меня постигла бы стандартная судьба, что и многих, почти всех моих уличных друзей, — преступление, тюрьма, гибель… Потому что тюрьма — это неминуемая гибель. Духовная и часто физическая. Нас вела туда сама жизнь, госсистема. К счастью, мне пока удалось избежать первого и последнего в этой триаде.
Лишь много позднее, размышляя, осознал, что оказался в «объятиях» тюрьмы совсем неслучайно…
…А сейчас вернёмся в тысяча девятьсот сорок второй год. Мне — уже одиннадцатый. Я взрослый. А братишке пошёл седьмой год. Малыш, конечно. Себя я считал главой семьи. И опекуном Славки — большая ответственность.
…Мы со Славиком сидели в тёплой, влажной борозде нашей картофельной гряды. Это коллективное поле дружно вспахали за один день сорок второго. А до этого оно представляло обширное ромашковое пространство, место игр детей, живших в трёх домах двора под номером двадцать два «а», позднее почему-то измененном на цифру двадцать четыре. Два дома фасадами выходили на улицу Свободы. Наше же строение, самое большое, располагалось в глубине двора, отгороженного от соседних участков дощатыми заборами. В нескольких этих ещё дореволюционных заплотах уже повзрослевшие поколения ребят когда-то проделали отверстия, через которые можно было легко попасть в соседние дворы (не все, некоторые хозяева блюли неприкосновенность своих территорий) и оказаться, например, на параллельной улице, которой присвоили имя великого русского поэта Пушкина, на которой он жил, — так я думал ещё маленьким, когда мама прочла мне его сказки.
Вот таким огромным дворищем мы, дети, обладали до весны сорок второго. И считали его именно нашим, ребячьим, двором, а себя — хозяевами. Полными хозяевами. И жилось в нём нам очень хорошо, весело и интересно.
Всё это зелёное летнее богатство, и аллею замечательной четырёх- и пятилепестковой сирени, два ряда которой углублялись во двор от дома, где жили семья Бруков и моя ровесница Нинка Мальцева со своей мамой, представляли идеальное место для «прятушек». А тётя Люба Брук даже разрешала нам рвать букеты душистых и несказанно красивых цветов. Один куст она позволила пересадить под окна Малковых, обитавших в нашем доме. И эта роскошь, несравнимая ни с чем, принадлежала нам, ребятам, потому что в революцию владельца нашего дома и двора, буржуя, выгнали далеко за границу доблестные красноармейцы в шишковатых шлемах со звёздами на лбу. Теперь в хозяйском доме жило несколько семей, и наша — тоже. Небольшом по площади, но с высокими потолками. Ещё имелся запасный, почему-то называвшийся взрослыми «чёрный», выход через чулан, из которого отец мечтал построить ещё одну комнату с печкой-«голландкой».
…Сейчас мы играли мирно со Славкой в швайку. Старше братишки на четыре года — целых четыре года! — я постоянно выигрывал, что его очень огорчало, а меня наполняло гордостью: вот какой ловкий и сильный! И при очередном проигрыше он громко и надрывно заплакал — ему так хотелось победить! Но разве я мог позволить себе проиграть малышу? Слёзы его, к сожалению, я до сих пор скорблю о своей неотзывчивости, меня ничуть не трогали. Я и не задумывался уступить братишке, пожалеть его, о чём впоследствии, много лет спустя, особенно, когда получил последнее его письмо, мучительно посожалел. Даже слёз удержать не мог. Втихую. Чтобы никто из «друзей»-зеков не увидел.
Ну что мне стоило сделать ему приятное, желанное, пустяковое для меня — проиграть хотя бы раз понарошку? Так нет — это являлось правилом — игра должна быть честной: кто сильнее и ловчее, тот и побеждает. Игра есть игра: кто-то пожинает славу, а кому-то достаются слёзы. Главное — играть честно, не хлыздить,[8] не мухлевать.[9]
К слову пришлось: вскоре увидев и поняв беспощадные правила игры «под интерес», каким бы он ни был, я никогда в жизни ничем подобным не занимался — ни-ко-гда! А подтверждением моего размышления и решения стал случай, жестокий и нелепый, — самоубийство проигравшегося в карты несчастного подростка-детдомовца по кличке Моня. Если б о нём я вспомнил двадцать пятого февраля пятидесятого года, моя жизнь была бы иной. Но это уже другой рассказ.
…А тогда, жарким летом сорок второго, я и Славик уютно сидели в тёплой, нагретой солнцем борозде. Синим, белым и жёлтым цвёл картофель, торчали ярко-зелёные хвостики морковки, серо-зелёные колючие кустики репы, зеленовато-матовые стрелки лука тянулись к свету. Кругом всё было усеяно зонтиками укропа. На особой грядке, усердно поливаемой нами, прятались под треугольными листьями огурцы, заманчиво-сладковатые, пупырчатые, хотя нам строго было внушено, что лакомиться ими нельзя, — пусть набирают вес. От развесистых кустов помидоров, рассаду которых мама в ящиках, сколоченных мною, разумеется с помощью Славки, выставила на подоконник ещё ранней весной, мы ожидали сочных и мясистых плодов. В настоящее время они представляли из себя зелёные шарики с пятак величиной. Все эти овощи предназначались для долгой зимы — в магочередях говаривали, что она будет ещё более голодной и холодной, чем суровая прошедшая.
Наступил долгожданный разгар лета. Вокруг нас жужжали мухи, их кружило множество, потому что в дальнем углу огорода находилась помойка барака ЧТУ (позднее узнал — Челябинского трамвайного управления), постоянно пикировали стрекозы, синебрюхие, со слюдяными крыльями и сказочными искрящимися на солнце выпуклыми глазами. Бабочки-капустницы так и норовили отложить яички на молодые кочерыжки, но мы бдели и, не ленясь, гоняли бело-зеленоватых красивых вредительниц лопухами. Но ещё больше порхало крапивниц — жгучая трава росла вдоль всех заборов, а избушку нищей старухи Каримовны с огорода даже не видно было, настолько она заросла бурьяном и крапивой, по листьям которой ползали чёрные гусеницы — будущие красавицы-бабочки. Иногда прилетали к нам большие бабочки с голубыми глазами на крыльях. Они выглядели настолько сказочно и привлекательно, что я не удержался, поймал одну и застыл в восхищении, пока она трепыхалась в моих ладонях, — ничего более очаровательного не видел. А опыт в ловле и разглядывании насекомых у меня скопился немалый: лягушки, тритоны, пиявки, земляные жирные черви и сороконожки, ярко-жёлтые или коричневые мухи, кузнечики, букашки-солдатики, жуки, да разве всё перечислишь…
Не было во дворе камня (кроме огромного отполированного валуна в половину моего роста), который я не перевернул бы и не изучил, кто под ним живёт.
По резным наличникам мне удавалось взбираться на надоконники и шарить, натыкаясь пальцами на пищащих встревоженных птенцов воробьёв, слушая истерический гомон взрослых птиц, круживших рядом. Но однажды за наличником кухонного окна я обнаружил бронзовую печать, имевшую отношение к бывшему хозяину нашего дома. Но об этом расскажу дальше…
…Солнце нагрело наши затылки, причём изрядно. Однако для нас солнцегрей — нипочём. Славика от жгучих лучей защищала застиранная панамка, — помню, она ещё в детстве мне служила, — а меня спасала выцветшая, золотыми нитями вышитая тюбетейка. Чтобы солнце не обжигало и без того болезненно розовые, с ошмётками ещё не сползшей кожи, я соорудил из целого номера газеты «Челябинский рабочий» за прошлый год плащ на плечи (на нынешний мама почему-то не подписалась, хотя подписка считалась обязательной, как на облигации), и в этот зной «плащ» казался мне незаменимой защитой от ожогов.
Меня, признаюсь честно, не трогало хныканье Славика, на то, что его кусают мухи и комары, — я-то с ними юрко расправлялся лопухами, но всё же предложил:
— Пойдём в тень, а то вся спина у тебя обгорит на солнышке — мама ругать нас будет (уверен был, что журить она будет меня, а не брата).
И в этот момент явственно послышался какой-то звук, напоминающий писк. Слабый, еле различимый, будто откуда-то из-под земли. Послышится же такое! Но что это?
— Славик, ты что-нибудь слышишь?
Братишка повертел головой туда-сюда.
— Слышу. Мухи жужжат. А вечером комаров много прилетит. Ещё больше. Туча.
Славик всегда страдал и плакал от комариных укусов, на месте которых тут же, сей секунд, появлялись белые припухлости, — они невыносимо чесались. И мама делала ему холодные компрессы.
Опять раздался слабый писк. Не комариный. И не тёти-Марининого недавно родившегося Кольки — с ним часто тютюшкалась Герасимиха. Я подумал, бабушка этого самого грудного Кольки где-то недалеко. Вместе с малышом. Правда, как несколько лет спустя выяснилось, так и не вернувшийся с фронта отец Кольки (пропал без вести) приходился внуком Герасимовне. А Колька и Валерка — аж правнуками. Но тогда это не имело для меня никакого значения. Ну ладно, дело не в родословной соседей, а в другом — писк продолжался. Слабые, еле различимые звуки. Они звали.
Напрягши слух и повертев головой, как братишка, определил: доносятся звуки от одноэтажного барака, в котором обитали трамвайщицы — кондукторы, водители, женщины других специальностей из депо, и ни одного мужика, — всех забрали в армию. Ещё в сорок первом. Правда, по выходным дням в бараке появлялись мужчины и из открытых окон разносились громкие песни про камыш и про Стеньку Разина, а также частушки.
И хотя окна длинного барака сейчас распахнуты настежь, не из них слышатся подозрительные попискивания.
— Славк, неужели не различаешь? — спросил я брата, уже игравшего с «солдатиком» — небольшим жуком оранжевого цвета и с чёрными круглыми пятнышками на спинке, — их водилось в нашем дворе великое множество. Чем они нам нравились — не вредили разным овощам. За это мы их не уничтожали, не то что капустных зелёных гусениц. Или, как их называла бабка Герасимиха, «прожорных гушельниш».
Писк стал меня тревожить. Да и заинтересовал. Кто же всё-таки это?
— Славк, бежим посмотрим, кто там вяньгает, — предложил я братишке, и он моментально согласился. И в самом деле — забавно же! Может, птенец-воробьишко из-за наличника вывалился. Голый, розовый ещё, неоперившийся. Мгновенно представил, как к беспомощному желторотому птенчику с растопыренными, не обросшими перьями крылышками крадётся и вот-вот сцапает ощерившаяся голодная кошка.
Эта представленная картина заставила меня быстро подняться с борозды и осторожно пробраться меж окученными кустами картошки гряд соседей — чтобы ботву не помять, иначе от мамы влетит (я никак не мог привыкнуть к постоянной несправедливости: нашалим мы вдвоём со Славкой или какую-нибудь ошибку совершим, оплеухи всегда доставались почему-то одному мне). Потому что «закопёрщиком» она обязательно объявляла меня. А я и смысла-то этого слова не знал. Догадывался, правда, что «закопёрщик» — почти подстрекатель, первый. А ведь далеко не всегда затевал запретное дело, — даже не зная, что оно кому-то не понравится, — именно я. Например, кататься на валенках с разбегу по обледенелой земле.
И хотя меж кустов мы продвигались сейчас, как заправские разведчики, увидь нас вездесущая тётя Таня поздно вечером, после возвращения мамы с работы, бдительная и приметливая соседка обо всём доложила бы ей, непременно исказив то, что произошло на самом деле, и — наказание мне обеспечено. С «обвинительной» моралью. Что так поступать нельзя. Что хорошие, воспитанные дети всегда должны думать, чтобы не нанести вред или неприятность другим. Что надо думать, прежде чем поступить. И так далее, и тому подобное. Причём нестерпимо долго. С припоминанием прежних моих «грехов».
А тёте Тане удовольствие, что ли, доставляло, когда мама «воспитывала» меня, или мой плач и тщетные оправдания. Плач не столько от маминых шлепков, сколько от несправедливости. Мама всегда верила взрослым, видимо, не сомневаясь в том, что дети лгут, чтобы избежать заслуженной кары. Вот почему я не любил тётю Таню и сторонился её. Но от всевидящих глаз её не всегда удавалось скрыться. Она вообще всем соседям «по секрету» нашёптывала взахлёб, кто кому о ком якобы что-то сказал. Или что-то плохое совершил. А после начинались выяснения отношений между жильцами. И только тётя Лиза Богацевич никогда не здоровалась и ни о чём не заговаривала с председателем домового комитета. Всем соседкам, которые, например, дружно лузгали вечерами семечки подсолнуха на скамье возле уличной калитки, говорила «здравствуйте», а ей — нет. Как будто вовсе не замечала её. За что тётя Таня её люто ненавидела и сочиняла о ней всякие небылицы. Что будто бы муж у тёти Лизы был белый офицер, за что большевики его и расстреляли. И правильно якобы сделали. Недовольна была домком, что и тётю Лизу не расстреляли как буржуйку. И «всю еёную породу контрариволюционную».
А мне было жаль тётю Лизу. Я даже представил, как мужа её, во всём белом, ставят к стенке, он молчит и не плачет. Мы ведь и сами часто, играя в войну, делились по жребию на красных и белых. Конечно, последними никому не хотелось оказаться. Но кем тебе понарошку стать, решали орёл или решка. И если выпадала решка, хлыздить считалось нечестно. И позорно.
Недавно я додумался: если б тётя Таня не ссорила соседей, то все мы жили бы дружно. Когда я спросил маму, почему тётя Таня следит за всеми нами, в ответ услышал загадочную фразу:
— Данилова — домком. Понимаешь? Домком.
— Нет, — признался я. — Не понимаю.
— Она председатель домового комитета. Её обязанность — за порядком в доме следить.
Поэтому, как говорит мама, «от греха подальше» обошли гряду Даниловых по мерной борозде.
…Писк усиливался, и с приближением нас к источнику становился всё отчаянней. Теперь точно можно было утверждать, что привлёкший нас звук доносится из квадратного отверстия помойной ямы, выкопанной почему-то за пределами снесённого в этом месте штакетника, — на территории нашего двора. Соорудили её с умыслом: отодвинуть подальше от окон длиннющего, на три подъезда, деревянного засыпного барака, тамбурами глядевшего во двор, который воротами выходил на улицу Пушкина. Для нас, пацанов, никаких помех не представляли заборы, ворота и калитки, мы умели пройти дворами пять кварталов напрямик. Сейчас этого не требовалось. Мы смело взобрались на помойный холм, к открытому зловонному жерлу, квадратному, с откинутой, на шарнирах, деревянной крышкой — оттуда, из поганого отверстия, летел призыв о помощи погибающего существа!
Встав на корточки, я заглянул туда, откуда нёсся отчаянный вопль. Не вопль, разумеется, а писк, но для нас он звучал как громогласный призыв погибающего. Просьба, мольба о спасении.
Славик тоже потянулся к отвратительно пахнущему отверстию, но я вовремя спохватился и крикнул ему:
— Не подходи близко! Стой там! Сам во всём разберусь. Сейчас разузнаю…
И яснее ясного услышал хриплый крик. Да кто же там? И понял — этот погибающий мог оказаться щенком.
Мы быстро нарвали лопухов, росших в обилии здесь же, у забора. Я обложил ими края не очень широкого отверстия, оставленного в деревянном щите, присыпанном кусками и крошками глины. И когда склонился над отверстием, задержав дыхание, то разглядел среди всякой гадости… котёнка! Совсем маленького. Этакий крохотный шевелящийся — живой! — комочек.
Как он туда попал? Оступился и свалился? Наверное, голодный, ползал в поисках пищи и сорвался со скользкого края. Он, похоже, ещё и ходить толком не умеет — только недавно родился. А может, его туда бросили? Тогда, кто совершил этот жестокий поступок? На такое способны только плохие люди. Очень плохие. Неужели эти разбитные, иногда нетрезвые девки и бабы из общежития, любящие по вечерам горланить разухабистые, матерные песни? Певуньи горластые и осатанелые плясуньи. Их гулянки мы довольно часто слышали из открытых окон общежития, а их визгливые пляски наблюдали с удивлением, будто они с ума посходили. (С тех пор я не люблю подобные зрелища.)
Примостившись на куче лопухов, чтобы не испачкаться, я сунулся в невообразимо противно пахнущую парну́ю духотищу, протянул руку, но так и не дотронулся до котёнка.
— Славка, держи меня за ноги, чтобы не бултыхнулся. Крепко держи!
— Ну кто там? — нетерпеливо поинтересовался братишка.
— Котёнок, кажись…
Мне удалось, повиснув над опасным отверстием, ухватить-таки мокрый пищащий комочек, упереться левой ладонью в осклизлый край деревянного настила и с пыхтеньем выбраться на свежий воздух, держа в зажатой правой ладони спасённого крохотного котёнка.
Положив на лопух, мы разглядели его. И бегом вдоль забора, по обжигающей голые ноги крапиве, кинулись к уличной чугунной колонке, чтобы обмыть нашего малыша.
Слепого и голого, без шерсти, котёнка мы старательно прополоскали в чистой и сильной струе: я мыл, а Славик что есть силы давил на ручной рычаг. Обрызгались, конечно, все с ног до головы. Потом вымылись сами, и я почувствовал себя счастливым.
А котёнок продолжал голосить. Нетрудно было догадаться, что он очень хочет есть. От голода и холода его трясло, как в лихорадке. Если б ему дать попить немножечко молока! Я решил, согревая котёнка в ладонях, попросить всего ложечку молока у тёти Ани Васильевой. Она, единственная в нашем дворе, имела корову, жившую в специально построенной для неё стайке с высоким сеновалом. Эту добрую бурёнку я очень любил за то, что вечерами, когда её пригонял с пастбища пастух, Маня охотно принимала из моих ладоней свеженарванную для неё сочную траву. И хотя у неё были страшноватые огромные жёлтые зубы, травку она с ладоней моих брала осторожно мокрыми, толстыми, чёрными, с белыми крапинками губами — настолько неторопливо и бережно, что ни разу даже нечаянно не куснула мои пальцы — умная! И добрая.
Мы иногда, нечасто, покупали у тёти Ани по литру или даже по пол-литра Маниного молока. Хозяйка наливала его из огромной бутыли, называвшейся почему-то четвертью. А пол-литра ведь в два раза больше четверти.
Молоко, бывало, доставалось нам ещё тёплым, не остывшим после дойки. Велик бывал соблазн выпить всю банку, до дна, залпом, досыта. Но позволить себе такую вольность не мог. Молоко мы пили с чаем, по две-три чайные ложечки на стакан кипятка.
Нам со Славкой удалось выпросить у тёти Ани кулёчек, свёрнутый из газеты, с несколькими ложками молока, причём показали и того, для кого оно предназначалось. Мы принялись, поблагодарив тётю Аню, поить нашего подопечного. К удивлению, он не хотел или, вернее всего, не умел пить его и продолжал пищать и трястись всем тельцем. Мы нашли тряпку, обтёрли, подсушили кроху на солнышке и укутали в неё же. К тому времени кулёк промок, и содержимое его неумолимо, капля за каплей стало просачиваться в мои ладони. Тогда я попросил Славика осторожно разжать пастёшку котёнка и с ладони слил молоко в неё. Ура! Хоть что-то попало крохотуле.
Весь день мы не выпускали свою находку из рук, а когда с работы вернулась мама, дружно и радостно закричали:
— А мы котёнка нашли! Ты разрешишь, чтобы он у нас жил? Он очень хороший. Только совсем махонький.
Котёнок лежал на полу, замотанный в тряпку, потому что постоянно норовил выбраться, выкарабкаться из «пелёнок».
— Он вырастет и будет мышей ловить, которые у нас в подполе картошку зимой грызут. Его и кормить не надо будет.
На лице мамы я уловил тень недовольства. Она явно не разделяла наши восторги.
— Ну-ка, покажи, Юрий, что такое вы нашли?
Я развернул тряпку и продемонстрировал наше сокровище — ведь у нас в квартире никогда не жил собственный кот.
— Он тебе понравится, — добавил я с большой надеждой на одобрение.
Мама взглянула на нашу находку и тихо, как будто ужаснувшись чего-то, произнесла:
— Боже мой!
В её голосе слышался непонятный мне испуг. И на нас она смотрела тоже испуганно и сердито.
— Где вы его взяли? — жестко спросила она меня.
— Мы его из помойки вытащили. У трамвайщиков. Если б не мы, он умер бы. В этой…
— Замолчи! — резко приказала она и произнесла вовсе непонятное: — И это всё ты, Юра. Какой ужас! Стригущий лишай!
Потом она долго молчала, разглядывая беспомощно барахтавшегося и издававшего жалобные звуки котёнка, и наконец вымолвила с укоризной:
— Боже мой! Что вы наделали!
И сразу же тоном, не допускающим возражений, добавила:
— Сию секунду садитесь на стулья и ни к чему не притрагивайтесь руками! Когда вы его нашли? Днём? Что дальше делали? Мыли? Где? Под колонкой?
— Да, — подавленно ответил я, предчувствуя недоброе, ожидающее меня.
— Славик его тоже брал в руки?
— Ну да. Мы оба его согревали. Он весь дрожал. Трясся, как зимой от холода. Совсем голый. Шёрстки нет, не выросла ещё.
— Это животное — больное. И заразное. Вы тоже заразились от него. Не вставайте. Сейчас я вам смажу кожу. Пока болезнь не набрала силу, и вы не покрылись лишаями.
Мама открыла один из шкафов, где на верхней полке лежали как бы недоступные для нас, меня и Славки, разные лекарства, которые нам строжайше было запрещено трогать или брать в руки. И тем более — пробовать. Это сугубо мамино хозяйство — ведь она врач. Хоть ветеринарный и санитарный, но врач. На военный завод она пошла работать по чьему-то призыву.
Она вынула большой коричневого цвета флакон с притёртой пробкой, наполненный зелёнкой, принесла с кухни лучину, накрутила на неё вату.
— А котёнка тоже будешь лечить? — спросил я робко.
Мама надела резиновые перчатки, молча завернула крохотное тельце в ту самую тряпку и вынесла его из комнаты.
Случилось то недоброе, которое я почувствовал раньше, — вернулась она с пустыми руками.
— А где котёнок? — спросил я недоумённо.
— Мне так хочется отодрать тебя за твою глупую выходку. Об этом существе я чтобы единого слова от вас не слышала. Котёнок нежизнеспособен. Понял? К тому же — источник заразы.
— Как? Он ведь живой! — возразил я. — Его тоже надо лечить. Вместе с нами. Его надо вылечить. Его и нас. Зелёнкой.
— Ты перечишь матери? Ты знаешь больше, чем я? Скажешь ещё слово о котёнке, я отхлещу тебя отцовским ремнём. Если у тебя ума не хватает понять.
После подобных угроз я обычно умолкал, отвращая наказание. Но сейчас, вцепившись пальцами в круглое, с дырочками сиденье «венского», ещё бабушкиного стула, я забазлал:
— Мама, что ты сделала! Ведь он погибнет! Он живой! Был живой!
Мама подошла к другому шкафу, где лежали и висели постельные вещи и одежда, и достала ненавистный ремень. С никелированной пряжкой и такими же накладками. Ещё холостым отец приобрёл его во Владикавказе. На мою беду.
— Я отдеру тебя за дерзость и непослушание как сидорову козу.
Но я продолжал упорствовать. Несмотря ни на что.
Расправа была короткой.
— За что? — орал я, обливаясь слезами. — Хочу котёнка спасти, чтобы он не умер!
— За то, чтобы ты никогда впредь не лазал по помойкам и не цеплял там всякую заразу. Запомни это навсегда!
Она хлестала меня по плечам и спине и приговаривала. А я, чего со мной раньше не случалось, ревел и продолжал твердить своё:
— Накажи, только не выбрасывай котёнка. Прошу тебя, ма-ма… Умоляю. Пока он живой.
— Вот тебе ещё за твою бестолковость!
Эту фразу она выкрикнула не только с раздражением, но и какой-то остервенелостью, и кавказский ремешок, привезённый отцом с курорта, опустился на мои плечи и спину ещё и ещё…
— Ты понял, наконец? — спросила она, перестав меня хлестать.
Я ничего не мог ответить, рыдания сотрясали меня, как тельце того несчастного котёнка. Меня, конечно же, обжигала боль, но рыдал я неудержимо, потому что понял, — котёнка больше нет в живых, уверился, что он опять оказался в вонючей выгребной яме. Только не общежитской, а нашей, находившейся за уборной.
Я продолжал безутешно плакать, а мама уже приступила к лечению Славика, внимательно разглядывая его тело и коротко приказывая:
— Покажи правую! Ладошки кверху! Обе! Теперь давай возьмёмся за ноги. Повернись!
В тот миг мне думалось, что мама совершила очень дурной поступок. Нам всегда втолковывала, чтобы не обижали животных, даже бабочек и стрекоз не уничтожали, а сама?
Наконец я взял себя в руки и перестал лить слёзы.
Мама смотрела на меня долго и пристально. Я это уловил боковым зрением, размышляла и уже без угрозы наказания, но твёрдо заявила:
— Понимаешь, Юра, что вас необходимо лечить. Обоих. Иначе лишай будет распространяться и сделает вашу жизнь невыносимой. Вот поэтому я вынуждена избавить вас от источника заразы. Ты уже взрослый мальчик, но поддаёшься эмоциям. Одумайся.
Слёзы у меня полились снова.
И я пролепетал:
— Если он живой, прошу вылечить его. Умоляю тебя, мама!
— Хотя ты и достаточно взрослый, но, видимо, не всё разумеешь. Подрастёшь — поймёшь. А сейчас давай я обработаю тебя.
И она тщательно почти всего меня вымазала зелёнкой. Поворачиваясь туда-сюда, стоя на стуле, я заметил, что и Славик всхлипывает, потихоньку, размазывая слёзы по изумрудным щекам. После мы, голыми, ждали на стульях, пока просохнем, и оба молчком плакали — изумрудного цвета разводы украсили наши лица. А мама уже протирала раствором хлорной извести полы, дверные ручки, и то и дело спрашивала нас:
— А за это вы брались? Это трогали?
Лишь закончив, казалось, бесконечную процедуру, она накормила нас (как она ухитрилась всё это сделать, и ужин приготовить, — удивительно).
После многочисленных треволнений этого дня она заботливо уложила нас спать. И доброжелательно напутствовала на сон грядущий, ранее она это делала в спешке, а сейчас я почувствовал у неё к нам что-то вроде сочувствия. Может быть, она раскаивалась про себя, что так сурово наказала меня?
Утихомиренный, удобно устроившись на прохладной простынке и подложив зелёную ладонь под зелёную щёку, я продолжал думать о вполне вероятном спасении котика, чего, к сожалению, не произошло, — мама не захотела. Запретила. Конечно, она врач, но поступить столь жестоко! Меня отхлестала — до сих пор плечи саднит. Но синяки заживут. А вот того котёнка уже никогда не будет. Никогда. Ну жил бы зелёный котик, ни как все остальные. Почему рыжий или полосатый кот — хороший, а зелёный — плохой? Я радёшенек иметь собственного и зелёного кота. С зелёными глазами. Красивый был бы кот. В траве незаметен. И, несомненно, гроза мышей. Картошку охранял бы в подполе. Да и зелёным не всегда оставался бы. Как и мы с братишкой. Главное, в чём я был «железно» уверен, что котика можно и нужно было спасти. Именно эта мысль терзала меня и не давала уснуть. Я даже немножко молча опять всплакнул, беззвучно сглатывая слёзы, и, наконец, совсем утихомирился. И мягко поплыл куда-то в неведомое. Сон сморил-таки.
…С неделю, а то и более мы со Славиком шастали[10] по улицам пятнисто-зелёными, потому что мама каждый вечер внимательно разглядывала нас, подмазывая из флакона с притёртой пробкой (йод хранила мама в такой же посудине) те места, которые вызывали у неё опасение. И некоторые свободские пацаны, не друзья (друзья-то нам сочувствовали), а соседи из дальних дворов: Толька Мироедов, Витька Назаров и другие, изгалялись[11] над нами. Они нагло расспрашивали о том, как мы лезли в помойную яму спасать котёнка, хохотали, кривлялись, преследовали глупой песенкой:
Эта песенка воспринималась мною с большой обидой. Из-за несправедливости. Что такого нехорошего мы сделали, чтобы над нами столь издевательски подтрунивать? А ещё обиднее и горше становилось от того, что не смог спасти погибающего котика, — ведь он был такой беззащитный, ему необходимо было помочь.
…Слово «умоляю» ни маме, никому другому я почему-то никогда в жизни не повторил. Ни при каких обстоятельствах. Никому.
Даже, когда окровавленные сапожищи оперов в «боксе» Челябинского седьмого отделения милиции курочили[12] меня ночью двадцать шестого февраля тысяча девятьсот пятидесятого года, выбивая признание в несовершённых мною преступлениях. Но это уже другой рассказ.
1971, 1993 годы
Сабля[13]
Меня давно интересовал этот сложенный из серых гранитных блоков добротный двухэтажный дом с парой печных труб, коронованных прорезными жестяными навершиями в виде куполов, чтобы в дымоходы не попали случайные посторонние предметы. Похоже, на этих прорезных коронах или куполах были изображены цифры или буквы, возможно инициалы бывшего владельца. Цифры могли обозначать дату окончания строительства красивого, не казённого по внешнему виду здания. Фасадом оно выступало на улицу Карла Маркса, а одним из торцов — на Пушкина (на эмалированных табличках имя и фамилия первого были указаны, на второй — лишь фамилия. Каждому понятно, кто такой Пушкин). Попасть в него можно было лишь со двора, с улицы Пушкина. Ворота всегда запертые, с калиткой, из неё выступала металлическая клавиша в виде ладони из тёмной бронзы. Но сколько раз я ни нажимал на неё, калитка, запертая на внутренний замок с фигурной, бронзовой же, но не литой, а пластиной-накладкой, не открывалась. К тому же, сверху калитка была защищена от дождя и снега не совсем полукруглой аркой, жесть которой обжимала левый и правый столбы, — я разглядел шляпки кованых гвоздей, опоясывавших поверху оба этих столба квадратной формы.
Зазевавшись на загадочный дом, мне не однажды приходилось опаздывать на уроки, что влекло печальные последствия вечером, после просмотра мамой дневника. Дневник-надсмотрщик рукой учителей фиксировал каждый мой проступок. И всё же частенько мне не удавалось пройти мимо загадочного особняка, чтобы не остановиться и, уцепившись за жестяные гремящие подоконники, не заглянуть: что же там внутри, за непроницаемо серыми от пыли стёклами окон?
Дом можно было признать совсем нежилым, если б не толстенные раскрытые фолианты, поставленные на подоконниках, как я догадался, для просушки. Они-то привлекали моё внимание и всегда вгоняли в недоумение. Это были необыкновенные книги. Чья-то неведомая рука (или руки) время от времени переворачивала огромные, толстой бумаги листы этих фолиантов в коричневого цвета кожаных переплётах, украшенных золотыми тиснениями названий. Переплёты отличались от современных не только несуразной толщиной, но и тиснёнными золотом двуглавыми царскими орлами. А на раскрытой странице, до предела напрягая зрение, я всё-таки разобрал: «Законъ № 1127». Оказывается, вот что значит золочёная надпись на переплёте широченного тома «Свода Законовъ Россiйской Имперiи». Меня поразило количество законов, существовавших при царе. Так, лишь один громадный томина, похожий больше на сундучок или растянутую гармошку, топорщился листами где-то на середине, а законов в нём содержалось более двух тысяч! Если я не заблуждался в подсчётах.
Стёкла двойных рам настолько запылились за многие десятилетия, что выглядели тёмно-серыми. Рассмотреть, что там, внутри помещения, в непросматриваемых комнатах и коридорах находится и кто там есть, было совершенно невозможно.
Конечно, будь я посмелей, постучался бы в окно или массивную дверь с фигурной бронзовой рукой-клавишей. Эта дверь имела полукруглый верх, её закрывала тоже выпуклая крыша, своеобразный шатёр, опиравшийся на витые металлические, но почему-то нержавеющие две колонны, с руку толщиной каждая. Их четырёхгранные окончания были врезаны в массивную, сантиметров двадцать пять — тридцать толщиной, гранитную плиту-крыльцо, заросшую с трёх сторон дикой сорной травой. Это являлось как бы доказательством, что никто в этом доме не живёт. К тому же зимой я ни разу не наблюдал, чтобы хоть из одной трубы шёл дым.
Ещё в прошлом году, проникнув во двор от соседей, я стоял на крыльце перед дверью, разглядывая чудну́ю ручку, и вроде бы услышал внутри дома чей-то приглушённый разговор, но он растворился, и в помещении установилась, как говорится, гробовая тишина. Мне подумалось, что в пустом доме резонировал звук движущегося по улице Карла Маркса трамвая.
Я расхрабрился было постучать в дверь, но остановил руку: что скажу, о чём спрошу, если мне откроют? Хотя мною обуревало жгучее нетерпение узнать, и как можно быстрее, что ещё скрыто в этом тихом, таинственном доме? Почему именно в нём хранятся пудовые фолианты царских законов и даже издания, отпечатанные латинским шрифтом?
Поясню, почему мне, десятилетнему пацану, вдруг стало известно, что книги отпечатаны именно латиницей.
Хотя мама почти ничего нам, сыновьям своим, не рассказывала о своём детстве, о семье, а дореволюционные фотографии, все до единой, отсутствовали в нашем альбоме, да и последующих лет тоже, кроме двух-трёх студенческих. К ним можно присоединить и отцовские, тоже несколько штук, где ему на вид не исполнилось и тридцати, — единственная фотография отцовой матери, и то мутная, любительская, уцелела каким-то чудом. Ну, татарка и татарка. Похожая на нищенку Каримовну, обитающую в бесхозной баньке в отдалённом углу нашего общего двора. Я не сразу поверил, что это моя бабушка. Однако, мама подтвердила. И добавила:
— Большего знать тебе ни к чему. Много будешь знать — скоро состаришься.
Только позднее мне совершенно случайно стало кое-что о ней известно. Ну да ладно, об этом после, в другом рассказе.
А теперь возвратимся на многотонную, серого гранита плиту, под полукруглую жестяную крышу, подпёртую витыми, рыжего металла колоннами.
Я размышлял: если в этом доме, на гробовой плите которого стою, никто не живёт, и голос в пустоте мне только побластился,[14] то кто же изредка, но систематически переворачивает страницы томов, а иногда заменяет и сами книги, кто?
Готического шрифта книги я узнал, потому что таким, очень похожим на готический, почерком писала мама.
— А где ты научилась так писать буквы? — спросил её однажды я.
— Как? — не поняла она.
— Ни как в школе.
И она неожиданно ответила:
— У немца-учителя. В Санкт-Петербурге.
— У немца? — в моём воображении немец — это фашист со свастикой на каске и мохнатыми лапищами с закатанными рукавами, а в лапах — автомат.
— Да. Когда девочкой была. Занимайся своими учебниками. Не прерывай занятия.
Уклонилась мама от полного ответа, но я не оставил «расследование».
Вот почему, обладая столь «уникальными» знаниями, оказался я на гранитной плите перед загадочной крепкой дверью, украшенной бронзовой фигурной пластиной-накладкой со скважиной посередине — для ключа. Ключа к тайне. Но его у меня не было, и поплёлся я по бурьяну, больно царапавшему мои голые ноги, к лазу, вырытому мной черепком тарелки под забором.
Как я мог скрыть всё, что узнал о доме, казавшемся мне порою средневековым замком, от комиссара нашего тимуровского отряда Вовки Кудряшова? Уж если доверить тайну загадочного дома, так только лучшему другу. Вовка — друг, от которого у меня нет и не может быть секретов.
Маме я иногда лукавлю, как это ни постыдно для меня. И дело в том, что взрослые нас, пацанов, часто неправильно воспринимают и понимают. Разное у нас видение. Или не хотят они в нас вникнуть правильно. Или не могут. А Вовка — с полуслова. И другие наши тимуровцы — тоже.
Как-то мы сидели в штабе отряда. Вдруг Вовка ни с того ни с сего заявил:
— Ты, Юра, конечно, не догадываешься. Фамилия моя вовсе не Кудряшов. Честное слово! Это — мамина фамилия. Девичья.
— Я тоже до поступления в школу был Костиным — по матери. Чего ж тут непонятного?
Я всё же удивлён таким откровенным признанием. Выходит, такое недоразумение может случиться и с другими в жизни. Я-то до сего дня не знаю, почему носил мамину фамилию.
— Ну, лады, продолжаем, — спохватывается Вовка.
…Мы обсуждаем план разборки на части тяжеленного мотора, принесённого льдинами в половодье вместе с деревянной платформой откуда-то к каменной подпорной береговой стене, как раз напротив здания без всяких вывесок, откуда постоянно сбрасывали в осоку окровавленные бинты, пробирки и колбочки, — всё это плавало в воде в зарослях травы. Там же водились многочисленные чёрные пиявки.
Сначала мы, блуждая в зарослях тростника в поисках чего-то интересного, неожиданно натыкались на эти не очень приятные предметы. Впрочем, колбы и пробирки, промыв, мы забирали на всякий случай, совершенно не задумываясь, что можем подцепить какую-нибудь заразу. После там же обнаружили три толстенные плахи, похожие на железнодорожные шпалы, скреплённые металлическими скобами. Решили: сгодятся на дрова. Хотя лето выдалось знойное, однако зима не за горами — не зевай. Но как с Вовкой, а после и с Бобыньком и другими тимуровцами ни кажилились, не смогли передвинуть «плот», чтобы вытащить его на ближнюю узкую полоску берега и на твёрдой земле разделать его, — он чем-то цеплялся за илистое дно. Тогда мы, по пояс в грязи, подвели под плот вагу — огромный сук тополя — тоже будущее зимнее тепло, калории (по определению Вовки Кудряшова).
Поскольку дно в том месте не только сильно заилилось, но было усеяно глыбами и обломками камней, сверзившихся с полуразрушенной подпорной стены, то мы, не сговариваясь, додумались эти камни из-под плота вытащить и узнать, чем он зацепился. Пришлось напружиниться, чтобы один за другим повытаскивать из-под плах камни. Устали до изнеможения. Некоторые каменюки даже в воде казались неподъёмными. Как мы с ними справлялись — непонятно. Отдохнули малость, оторвав несколько пиявок, присосавшихся к нашим лодыжкам, и, забросив их подальше загорать на солнышке, поднатужились ещё дружно и перевернули платформу. На ней, к нашему удивлению, оказался закреплённый ржавыми болтами исковерканный мотор. Его следовало разобрать на части, пока другие следопыты не наткнулись на заманчивую находку. Мало ли пацанов шастало по берегам Миасса — могли отнять её у нас.
Плахи мы высушили, притащив волоком домой и, распилив, подвесили к раскалённой штабной крыше. Всем поровну. По справедливости.
Мотор, очень тяжёлый, нам удалось-таки затащить на салазках по лестнице в штаб.
Сейчас мы мороковали, как, используя имеющийся у нас инструмент, разобрать мотор на детали и сдать в пункт приёма утильсырья — металл нужен заводам, чтобы, переплавив, ковать оружие для уничтожения врага.
Когда мы, грязные и потные, справились-таки с этой нелёгкой задачей, последовал законный перекур. Вовка продолжил разговор, о котором, наверное, помнил всё это время, предупредив:
— Только ни единого слова никто не должен от тебя услышать, Юра. Честное тимуровское? Поклянись!
— Во мне можешь не сомневаться — могила!
— Тогда, в тридцать восьмом, мне восемь исполнилось, и я всё прекрасно понимал: отца арестовать пришли. В те годы у нас, в Ленинграде, многих забирали. По ночам.
— И у нас. Только в тридцать седьмом. Я не помню, как и о чём нашего отца спрашивали, — спал, — врезал я свои воспоминания.
— Старший брат проснулся и меня разбудил. Мы из-под одеяла за всем наблюдали и всё видели и слышали. Ничем себя не выдали. Тогда отец, перед тем как его увели, улучил момент и взял с мамы клятву, что она сразу на развод подаст и фамилию сменит на свою прежнюю, которую до замужества носила. И чтобы по тюрьмам не ходила, не разыскивала. От него отказалась бы. И Валеркину с моей фамилии на свою переписала. И квартиру сменила на другую, подальше. И с работы уволилась бы. Лучше швеёй или техничкой устроилась. Поклянись! Я хочу, чтобы вы живы остались. Все.
— А как же энкавэдэшники: они же всё слышали?
— Нет, они в его столе копались, какие-то бумаги искали, книжные полки шерстили. И, говорит, никому ничего ни о себе, ни обо мне не рассказывай. Молчи. И прощай. И чтобы сыновья тоже в рот воды набрали — ни о чём ни слова. Мама поклялась. И обещание своё сдержала. Мы в другую квартиру, однокомнатную, на Васильевский остров перебрались. В окрестные школы нас приняли: меня — в первый, Валерку — в третий. И так — до начала войны. Мама сразу с прежнего места уволилась и в эту контору поступила — уборщицей.
Что после произошло, ты знаешь. Валерку стараюсь не вспоминать. Как он умирал. Всем бы нам на Пискаревском лежать — мама спасла. Упросила с судейскими через Ладогу взять с собой. А я думал: чего она тому начальнику колонны в руку вцепилась, не отпускает. Своё обручальное кольцо ему на мизинец натягивала. Вот почему он раздобрился. Что дальше произошло, знаешь.
— Тяжело было без отца? — посочувствовал я.
— Ещё бы! Он большим начальником служил — по геологии. Кирова обожал, Сергея Мироновича. А всех остальных — не очень. Спорил. Не соглашался. Своё доказывал.
— Так они ископаемые искали?
— Его, наверное, ни за это — большевик он был. Мама после никаких знакомых не посещала. Только вещи потихоньку распродавала. А остатки — во время блокады. За хлеб. На пшено меняли. Что не распродали, всё бросили перед эвакуацией. Мне, Юр, сервант наш часто вспоминается. Как ваше зеркало, маме от бабушки достался. Из наборного дерева и перламутра. С сюрпризом. Ящичек выдвинешь, а там, внутри, — невыступающие кнопки. Нажал, она вдавилась — из стенки маленький ящичек на пружинке — чик! С музыкой. Я в них свои вещи прятал: ра́кушки с Чёрного моря и разные мелкие игрушки, которые нам отец дарил.
Одна игрушка была удивительная: крохотный паровозик и четыре вагончика — первого, второго, третьего классов и для простого люда. С двуглавыми[15] орлами. Железная дорога в круг сцеплялась. Не поверишь, Юр, состав этот был действующий: малюсенькую свечку вставляешь под миниатюрный котёл с водой — тендер на крохотный ключик запирался — пламя свечи нагревало воду в котле, и паровозик начинал крутить колёсики. И вёз состав по кругу. Два семафорчика вставлялись по бокам железной дороги — всё как взаправду. Куколки вот такохонькие сидели в вагончиках, в платьях, шляпах, с зонтиками и кофрами. В каждом вагончике — особая публика. В последнем — бородатые мужики, бабы в платках и даже два ребёночка — один в пелёнках, а другой как бы подросток. Во втором вагоне, кроме господ, — гимназист и гимназисточка в форме. А ещё кондуктор и машинист — тоже в форме, железнодорожной.
— Неужто все они в потайной ящичек влезали? — удивился я.
— Для паровозика и пассажиров, вагончиков и семафора в нижнем ящике я использовал двойное дно. Откидывалось оно тоже нажатием скрытой кнопки. Это двойное дно — подарок моей бабушки маме, когда она девочкой была. Что в нём хранилось — тайна. Можно лишь догадываться, что хранила в потайных ящичках бабушка до революции. Да что там сервант! Живы с мамой остались! Это — главное.
А ещё у брата, Юр, пистолетик был, как настоящий, — маленький браунинг. Струйками воды стрелял. Сначала он подарен был Валере отцом, а после брат вырос и мне передарил. Красивейшая вещичка! Не успел его из заначки достать. Вернёмся, проверю, может, никто не разыскал. Хотя сомнительно, ящики с песком наверняка поубирали с чердаков. Но если разыщу — память об отце и брате. Уверен, он в заначке. Его даже во время обыска не нашли. А уж шманали — даже иголки из подушечки выдернули.
Меня, разумеется, пистолетик весьма заинтересовал.
— Что ж ты его не захватил с собой, когда уезжали? — укорил я Вовку.
— Я ж тебе сказал: он был в заначке, на чердаке, под ящиком с песком для фашистских зажигалок. Если б полез за ним на чердак, машина на сборном пункте дожидаться меня не стала. А мама без меня не поехала бы. Да и не смогла бы — у неё ноги уже были как тумбы: пальцем нажмёшь — дыра в теле. Хорошо, что дома оказался, — повезло нам. Надрючили на себя быстренько, что под руки попалось, — минуты всё дело решали. Мама бархатную подушечку с иголками и золочёными ножничками схватила, с напёрсточком, тоже золочёным, — на глаза попались, я две подушки и два одеяла сгрёб. Они нас выручили, когда колонной по Ладоге ползли. По ледяной колее.
Пришли на пункт эвакуации, а все места в трёхтоннках, всех до единой, заняты. Мама еле двигалась. Не пускают нас никуда сослуживцы. Не пускают — и всё. Мама заплакала. Умоляет начальника колонны. А тот отвечает:
— Недопустимый перегруз. По метсведениям, лёд тонкий, может не выдержать.
И нам:
— Все из-за вас окажутся на дне. Если до того авиация не накроет.
А мама на колени бухнулась:
— Да я всего тридцать восемь килограммов вешу. Сынишка на меня ляжет, ему никакого места не нужно. Богом вас прошу, смилостивьтесь. Пустите в самый уголок. Мы никого не стесним.
А ему конторская начальница, рядом стояла, говорит:
— Это наша уборщица со своим сыном. В списке их нет. Уборщицу мы и на Урале найдём. Кучу уборщиц.
Мама как заплачет, в руку главному начальнику вцепилась и не отпускает. И всё как будто по ладони его гладит.
— Я вас умоляю, — плакала мама. — Если вы нас оставите здесь, мы умрём. У меня уже старший сын умер от голода. Смилостивьтесь над нами!
А сама на руке его пальцы перебирает и не отпускает.
— Ладно, — согласился начальник.
— Пусть в задний правый угол архива лягут. Где документация, — распорядился он.
Еле-еле я с колен поднял маму. Поддерживал её. И помог по накидной лестнице затолкнуть за борт. И тут же вскарабкался вслед за ней. И притулился к маме, чтобы согреть. Потом брезент закрепили. И мы тихо, не подавая звуков, лежали на папках, набитых бумагами. «Дела» какие-то со штампами «секретно». Маму безостановочно трясло — холод мучил. Даже когда брезент нагрелся и ей стало душно. Или от волнения. Нервничала. Боялась, что высадят нас. Когда колонна двинулась, то я приподнялся и раздвинул складки брезента. Не поверишь — мы плыли по воде, окружённой льдом. Вода бурлила из-под колёс.
Когда, Юр, долго вниз смотришь, жуть берёт: кажется, под воду погружаемся. А я ещё вверх поглядывал: не дай бог «мессеры» налетят! Нам повезло. Вниз старался не глядеть — душа в пятки уходит. Я маме подушки под ноги подложил, чтобы повыше им было. Одеялами укрылись. Так и доплыли.
— Повезло нам. Сказали после, потому что день пасмурный выдался. Фашисты любили наши караваны топить при ясной погоде, чтобы наслаждаться, как люди тонут. Что о них говорить — фашисты и есть фашисты. Звери![16]
А доехали до пункта назначения — лафа! Сухой паёк выдали. На поезд посадили — и в Челябинск. У нас серьёзное учреждение — не думай. Я о нём тебе только ничего сказать не могу — у мамы подписку взяли, чтобы молчала, — государственная тайна. Ты тоже об этом никому не проговорись.
— Что ж я маленький, не понимаю?
— Здесь голубями да воробьями маму еле-еле на ноги поднял. Птицы — это тебе не мыши. И даже не крысы…
— А вы что, и мышей — тоже? — удивившись, спросил я. — И крыс?
— Об этом давай не будем, — не пожелал продолжать свой рассказ Вовка. — Я ничего не говорил, ты не слышал, лады? О том, как мы жили в блокаде, нас тоже предупредили не распространяться.
— У мамы ноги ещё больше распухли — как две колоды. И аж блестели, словно глянцевые. Нечаянно поцарапала, так из ранки розовая вода стала сочиться. Я за неё тогда стал кабинеты прибирать — с комендантом договорились. Есть всё-таки ещё хорошие люди, есть. А вообще-то голубки́ и воробьишки нас спасли. Вот такая история, дружище.
Я слушал Вовку, не перебивая или почти не встревая. Думал: нам не особенно сытно живётся, а каково же им в Ленинграде было? Под бомбёжками? Под обстрелами? Без тепла в домах? Сто двадцать граммов черняшки в сутки на человека! И покаялся:
— Ты меня прости, Вова, что тогда из-за воробья подрались. Я ничего этого не знал.
— Не в обиде я на тебя, тоже не маленький, кумекаю. Я тебе многого раскрыть не могу. Что видел, о чём слышал. Нельзя. Ты тоже, о чём я рассказал, молчи. Как рыба. Ни единому человеку, понял?
— Даже маме?
— Даже ей. А то дойдёт до длинных ушей, вышибут отсюда. За распространение панических слухов могут и посадить. Нас всех предупредили.
— Понял. Честное тимуровское — никому! И раз такое дело пошло, я тебе тоже один секрет доверю.
И я подробно рассказал об исчезновении отца в тридцать седьмом.
Ещё до войны, не помню, когда мы со Славкой проснулись утром, а мама — одна… Хмурая. И молчит. Нервничает.
Спрашиваю:
— А где папа? Мы в цирк собирались.
Она отвечает:
— В командировку уехал. Надолго. Больше не спрашивайте. И никому не говорите.
Я так и не понял, что произошло. Сердито так разговаривает. Я больше не спрашивал. Ждал. Когда папа из той командировки вернётся.
Наверное, лето и осень прошли, его всё нет. Зимой я совсем забыл о нём. А он взял и вернулся. Вдруг раскрывается дверь, и входит папа. Весь грязный. Щёки заросли колючей щетиной. В какой-то замызганной серой шинели, оборванной по подолу. Как будто её собаки обкусали. Набросился на маму, стал её обнимать и целовать. И мы сразу в него вцепились, тоже заплакали. И отец — с нами.
Когда эта суматоха прекратилась и мама побежала, утирая слёзы, на общую кухню отцу яичницу готовить, я не выдержал, спрашиваю папу:
— Ты, пап, с войны пришёл? Да?
Про войну я по радио слушал, с какими-то финнами.
Отец не ответил, дескать, не до того ему.
— Где ты так долго был? — настаивал я. — Расскажи.
— После расскажу, — отвечает он. — Когда подрастёшь. А сейчас — некогда.
А мне сию секунду захотелось обо всём разузнать.
Тут мама наше корыто принесла, в котором бельё всегда стирала, и говорит мне строго, она у меня очень строгая:
— Юра, дай честное слово, что ты никому рассказывать не будешь, что отец к нам вернулся!
— А почему? — недоумевал я. — Все его и так увидят.
— Потому что об этом никому и словом обмолвиться нельзя. Иначе ты принесёшь своей болтовнёй много горя всем нам. Проговоришься, я тебя накажу. Нещадно.
— Сам знаешь, как пацану хочется, чтобы его в угол ставили или ремнём отхлестали. — И я дал слово молчать.
Нас со Славиком уложили пораньше спать, чтобы мы не видели, как отец в корыте купается. А утром я его не узнал: во всём чистом, довольный, побритый, весёлый, в отглаженном костюме с искристым бордовым галстуком, в начищенных хромовых сапогах, он пошёл к себе на работу, на нефтебазу. В красивом коричневом плаще с широким поясом и чёрной большой пряжкой. Он бухгалтером был, во!
Гордость переполняла меня: отец с войны вернулся. С финской. Но я об этом никому не проболтался. А очень хотелось всем рассказать, какой у меня папа герой, — на фронте воевал. Вечером я случайно подслушал слова отца, сказанные маме:
— Петухова судили. «Десятку» без права переписки.[17]
Петухов был начальником Челябинского нефтеснаба, где служил отец.
Разочаровала меня бабка Герасимовна. Спросила:
— Отеш-та никак вожвернулша? Выпуштили, штало быть.
— Я вам, бабушка, ничего не скажу. Об этом нельзя говорить.
— Шашливай. У Лиживеты мужика в прошлом годе тоже жабрали. Ахвишером шлужил на герьманьшкой войне. А как в пятнатшатом годе его ранили в ногу, ён не шлужил боле. Лошадиным дохтуром стал. Фершал ён, фершал. Ево ношью, как твово отша, жабрали, штал быть. Ни жа што ни про што. По шую пору не ведает, иде ён. То ли в турме живой шидит, то ли Богу душу отдал. Ни шлуху ни духу боле года, пошитай.
Она утёрла сухим, в синих венах кулачком слёзы, потёкшие по коричневым морщинистым щекам, а я поспешил ответить:
— Мой папа на войне был. В командировке. Он в шинели с фронта пришёл. Вся — грязная, в окопах сидел, — проговорился я, нарушив обещание, данное маме.
— Твой отеш в турме шидел, Гера. Ево тожа ношью жабрали. Ой, лихо-лишенько! Кака напашть на наш народ швалилашь! Накажал жа наше неверие грешных, Бох-от. Ох, накажал!
Разумеется, такую неправду вынести было невозможно. И я пожаловался на старуху маме.
Она выслушала меня и втолковала сердито:
— Почему меня не слушаешься? Накажу тебя, сын, если не угомонишься. Не верь, сынок, никому: твой папа ни в чём не виноват. И вообще, ты ещё маленький, чтобы такие вещи уразуметь. Не слушай никого! Меня слушай. Мама тебя плохому не научит.
Мне исполнилось тогда шесть лет. И я старался понять, что и кто есть вокруг меня. Что происходит везде. Но не всегда мне это удавалось.
— С бабушкой Герасимовной я поговорю, чтобы она детей с толку не сбивала, — пообещала мама. — А ты с ней больше не разговаривай, понял? Ребятам лучше о своих фантазиях рассказывай.
— Ага, — ответил я.
Не знаю, о чём мама со старухой беседовала, только та стала меня обходить стороной и ни о чём бесед не заводила.
После, кажется, даже не в истекшем, а в будущем году, подвыпивший отец во время застолья со своим другом детства, единственным, с кем знался, племянником знаменитого писателя, о котором я ничего не знал и книг его не читал, а успел лишь устно освоить «Муху-Цокотуху», «Базар», «Мойдодыр» и другую классику, Гладковым дядей Лёней, поведал (они вместе ещё в каком-то реальном училище за одной партой сидели), что не выбраться бы ему из тюрьмы, если бы не «семейная катавасия», так отец сам выразился непонятно, однако я догадался, что беседуют они за пивом с варёными раками о тюрьме, о невозможности возвращения домой, если б не выручил его дядя Саня. И другое мне стало понятным: тот дядя Саня — муж старшей сестры папы, тёти Клавы, которая живёт в каменном трёхэтажном доме за мостом в Заречье. Дядя Лёня Гладков уехал в Москву за год до начала войны. С нами со всеми попрощался. И я его, как он тогда выглядел, помню.
Я вспомнил о Гладкове, задушевно беседуя с Кудряшовым.
— Может случиться, что и ты, Юра, останешься моим единственным другом в жизни. Мы, слухи такие ходят, скоро вернёмся в Ленинград. Только ты об этом помалкивай: контора наша, сам видишь, без всяких вывесок работает и охраняется. Вахтёры вооружённые сидят. Круглосуточно. Следят. За порядком.
— Хочешь, доверю тебе ещё одну тайну?
— Ну давай, не томи душу, — с нетерпением выпалил Вовка.
— Мама до сих пор умалчивает о своих дедушках и бабушках. Так, кое-что у неё выскакивает случайно. О своём детстве — почти ничего. Почему? Неспроста.
Но кое-что я всё-таки узнал. Дед, отец мамы, когда-то служил кондуктором царского поезда. Какое-то крушение произошло, и дед получил увечье. Пенсию ему назначили. На эту пенсию они всей семьёй жили в Ленинграде, аж до революции. А после уехали в Саратов. Дед обосновался в своей родной деревне, а мама училась в школе. Семилетней[18] девочкой у немца-учителя овладела таким красивым почерком, как в древних книгах. После закончила девятилетку и два факультета Саратовского университета. Потом в Среднюю Азию поехала, по распределению, там какая-то заразная болезнь у домашних животных выявилась. В Семипалатинске и отец оказался. Они там встретились и поженились. Я в Семипалатинске и родился. Да чуть не умер от разных хворей. Бабушка меня выходила и в подоле в Кунгур привезла. Там я и оклемался. И до поступления в школу фамилия у меня была мамина — Костин. Юрой Костиным меня и звали. А братишка здесь на свет появился. Не поверишь, до сих пор помню, когда у мамы живот большой-пребольшой был. И как после Славку с соски кормили манной кашей с молоком. А что он не съедал, мне доставалось. Бабушка о нас заботилась. В кругленьких очочках — они так у нас и остались. Забыла, когда снова в Среднюю Азию уезжала. К дочерям. Она же киргизка по национальности. А я — русский. А мне — всё равно, какая у кого национальность.
И вот чего до сих пор не пойму: почему фамилия у меня другая была — Костин? Мамина фамилия. Сменили вдруг на Рязанова, когда в школу пошёл. Как ты думаешь, почему?
— Кто его знает. У родителей разузнай.
— У отца в молодые годы денег очень много было. Но когда он с мамой познакомился, ничего не осталось. От деда наследства. Он всё своим детям раздал — у него их, кажись, девять было. А до революции много денег большевикам отдавал. Просто так. На их нужды. Тётя Клава — старая большевичка.
— Он что, кто был? — заинтересованно спросил Вовка. — Дед твой?
— Конями торговал. У него их табуны были. Он ими спекулировал. В степи у родственников покупал, а в городе продавал.
— Значит, купец, — решил Вовка.
— Во-во. У него и дома были. Собственные. Три. В Заречье.
— А где? Взглянуть любопытно, — поддержал меня друг.
— Сколько раз спрашивал отца: «Папа, а где вы жили, когда ты маленьким был?»
— И что?
— Тебе это, говорит, знать ни к чему.
И мама, похоже, не особенно в курсе. Такой папа скрытный. Так и не хотел показать. Я знаю только, где тётя Поля живёт в Заречье. У реки. На берегу. Одна. У неё сын был — артист. Знаменитый в Челябинске. С куплетами выступал. Ковязин — фамилия его. Я у неё афиши видел — «артист оригинального жанра». За те куплеты его и упекли. В сумасшедший дом.
— Не знаю точно, но оригинальный жанр — что-то вроде цирковых фокусов.
— Я тоже не в курсе. Только он с ума сошёл. В сумасшедшем доме и умер. Тётя Поля говорит — уморили. А отец его, тёти Поли муж, знаменитый пимокат, дядя Яков Ковязин. У него даже маленькая частная мастерская в давние годы имелась.
— Он тоже рехнулся?
— Не. От водки умер. Во такой мужик был — два метра. Богатырь! А дед Алексей уцелел. Когда у буржуев стали богатства отнимать, то у деда нашего уже ничего не осталось. На иждивении жил у своей дочери. Тётя Клава тогда замужем была за знаменитым челябинским революционером Авдеевым. Деда поэтому никто не арестовывал. Тётя Поля к нам в гости приходила пельмени катать, рассказывала, что если бы дед большевикам деньги всё время не отдавал на революцию, то его в живых не оставили бы. От неё-то я тогда и услышал, что у деда во владении имелось несколько домов, конюшня да кабак на базаре — для гостей, бабушкиных родственников, киргизов.
— Так ты не русский, что ли? — удивился Вовка.
— Почему? Русский. Дед-то Алексей — русский мужик. Из города Владимира. Знаешь такой город?
— Слышал.
— Догадываюсь, что отца тогда ночью увели из-за деда-буржуя. Но отпустили. Дядя Саня помог, ведь он мужем тёти Клавы, сестры отца был. Дед Алексей совсем больным жил лето у нас в сарайке. Помогал отцу делать пристрой вместо чулана. И вскоре уехал куда-то в Среднюю Азию. К бабушке, наверное. Краем уха слышал: в город Фрунзе. Ты такой город знаешь?
— Нет, — признался Вовка. — О Фрунзе — читал. Герой гражданской войны.
— И я тоже о нём читал. Но что я подслушал в разговорах родителей — дядю Саню в тридцать восьмом, перед войной ещё, расстреляли. А он, как я понял, до революции большевикам деньги добывал. На банки нападал. На богатеев. Да и сам большевик был. Жандармы за это ему яйца прострелили. Мама и отец тоже ничего не понимают: почему его свои убили?
— А жену его, ну, тётю, как её?
— Тётю Клаву. Нет. Она и сейчас в своей квартире в Заречье живёт. Я у неё не так давно побывал. Маме американскую помощь выдали — поношенные огромные байковые штаны, жёлтые-жёлтые. Размером на слона. Так тётя Клава с меня мерку сняла, со Славиком заодно. И сшила нам такие фартовые штаны — залюбуешься. В школу в них пойдём. В обновке. Не могу понять: ведь дядя Саня сам работал в Чека. Даже комендантом арестованной царской семьи был назначен. За что же его расстреляли, если он против белых сражался? Даже ранение имел. Жандармы проклятые инвалидом его сделали. А свои же потом кокнули. Как врага народа.
— Нам этого, Юр, не понять. Не ломай голову. И постарайся об этом дяде Сане не вякать. Всё-таки объявлен врагом народа.
И тут я вдруг вспомнил, увидел в своём воображении серые стёкла двойных рам и стоймя расставленные на подоконниках загадочные книги с золочёными двуглавыми орлами, оттиснутыми на сафьяновых, тёмно-вишнёвого цвета, корешках.
— Вовк, я тебе сейчас ещё одну тайну открою — упадёшь.
— Про родителей? Ясно, что они не из пролетариев. Мои — тоже.
— Да нет. О них я тебе всё рассказал. Об одном доме — загадка для меня. За́мок не за́мок. Но точно старинный. А в окнах — книги. Дореволюционные. Толстенные. Некоторые — не на нашем языке! Похоже, на немецком.
— Божись! — воскликнул Вовка, и глаза его заблестели — это было заметно даже в полумраке чердака (беседовали мы в штабе тимуровского отряда).
— Завёл ты меня. Рассказывай. Не томи душу, — с нетерпением выпалил Вовка. — Где этот дом?
— На Карла Маркса и углу Пушкина, может, видел двухэтажный домище с прорезными дымниками? На них какие-то не то цифры, не то буквы. Тоже прорезные.
— Представь себе — не обратил внимания.
— Из каменных блоков доми́но. Гранитных, что ли. Оч-чень загадочный.
— Ты — короче.
— В окнах его выставлены на показ старинные книги. Громадные. Как сундуки. При царе Горохе напечатанные… С орлами.
— Ну, это уж ты загнул, Юр.
— Честное тимуровское!
— Не может такого быть, — всё ещё с сомнением произнёс Вовка. — Чтобы царские орлы… Сейчас они — контрреволюция.
— Чтобы ты меня фантазёром не посчитал, идём вместе. Всё своими глазами позыришь. Хор? Завтра. По утрянке. Я уже подкоп сделал под забор. Из соседнего двора.
— Ты, Юр, разведчик. В натуре. Давай пять до завтра, — Вовка протянул мне костлявую, но сильную ладонь. Мы пожали руки друг другу и расстались. До грядущего дня.
А утром после осмотра дома решили соорудить коробчатый воздушный змей. Вовка раным-раненько подкараулил расклейщицу плакатов и сообщений Совинформбюро возле щита на нашей остановке трамвая и выпросил у неё отлить из ведёрка в приготовленную банку немного клейстера. Сначала она противилась — из клейстера находчивые люди пекли так называемые листовки, но когда показал бдительной расклейщице нашу продукцию — ли́стовки «Смерть фашистским оккупантам!» и карикатуры на урода Гитлера с берцовой костью в клыках и рядом с ним хвостатую обезьяну Геббельса, тоже клыкастую, которых нарисовал Вовка вместе с Бобылёвым Юркой, — она посочувствовала нам и сдалась, отлила полстакана. Бобынёк прилично рисовал, хотя нигде этому не учился. Самоучка! Талант!
До вечера мы сооружали аппарат из дранок и старых газет — мама их на растопку употребляла. К концу рабочего дня великолепный воздушный змей был завершён. За ночь он отлично просох и стал вполне пригоден к запуску.
Сначала мы подняли в воздух обычного «монаха» — его в пять минут можно свернуть даже из листа тетрадной бумаги, а уже после с его помощью разогнали коробчатый змей. Бичеву раздобыли прочную. Аппарат, взмыв довольно высоко, потащил нас за собой в сторону улицы Карла Маркса. Вовка умело управлял им и дворами нас вывел к бывшей двухэтажной приземистой пивнушке на углу Свободы и Карла Маркса, только с другой стороны. Потом змей рванул вправо — и мы с Вовкой побежали за ним. Неожиданно ветер вдруг стих, и наш рогатый и хвостатый красавец рухнул на крышу того самого дома, о котором накануне я поведал начальнику штаба отряда. Это не входило в наши планы, нарушило их.
Растерявшись от такой неожиданности, я принялся сматывать бичеву на щепку, не зная, что предпринять для спасения аппарата.
Вовка оказался, как всегда, более сообразительным и решительным.
— Судьба, — изрёк он, — а от судьбы, Юр, не уйдёшь. Рок, Юра, лезть нам на чердак этого «замка», как ты его назвал. А точнее: каменного сундука.
— Может, не полезем? Всё равно змей исковеркан — лучше новый сварганить.[19]
— Слабак ты, Юр. Вспомни, как вы взобрались на церковь на Алом поле. Тоже поначалу она выглядела неприступной. Не в наших правилах отступать. Ни шагу назад. Как в бою. Что нам этот каменный сундук? Заодно прочтём, что там на дымниках за буквы или цифры вырезаны.
— Прорезаны, — поправил я Вовку.
Почему-то не хотелось мне взбираться на крышу загадочного дома.
— Уверен, чердак кишит жирными сизарями. Супчик из них получится — пальчики оближешь. М-м-э…
Он приложил пальцы правой руки к губам и чмокнул их будто с удовольствием.
Молча согласился я с доводами начштаба — почему-то не хотелось участвовать в этом стенолазании. И не потому что опасно: сорваться можно, рёбра поломать или руки, как у Тольки Мироедова, а непонятно почему. Что-то противилось во мне. Всё-таки чужой дом. И залезать в него без позволения — нежелательно.
Уловив мою нерешительность, Вовка подбодрил:
— Не бзди, Юр. В случае чего — змей-то наш на трубе застрял. Не мы же его туда посадили. Имеем законное право вернуть свою вещь.
Чтобы не выглядеть трусом, согласился:
— Убедил. Лезем.
— Теперь давай позаимствуем ваши бельевые верёвки — и вперёд!
— Их мама сняла и в ящик шкафа положила, чтобы мы не стырили. Вернее — я.
— Так мы — временно. И по-новой — в шкаф.
Не буду описывать, как мы по водосточной трубе добрались до правого фронтона, если смотреть на дом с улицы Карла Маркса. Лишь на этом фронтоне углядели дверцу посередине его. Предусмотрительно прихваченной из дедовского инструментального ящика отвёрткой — её начштаба укрепил шпагатом у себя на поясе — через щель повернул внутреннюю вертушку, изрядно попотев над ней. И вот неведомый чердак открыт. Я последовал за начштаба.
Но прежде, придерживаясь за край дверцы, убедились, что нам не удастся по ней взгромоздиться на крышу: края её почти на полметра выступали над покатым жестяным надфронтонным навесом, защищавшим дерево от дождя и снега. Если б сохранилась «корона» — сборник влаги, — венчавшая когда-то трубу-водосток, можно было бы попытаться влезть на крышу, но сейчас она почему-то отсутствовала, хотя на противоположенной стороне ещё одна, такая же, держалась.
Короче говоря, в этот раз мы убедились, что не снять застрявшего змея с крыши.
Но разве мог начштаба покинуть незнакомый чердак, тем более после моего взахлёб рассказа о толстенных дореволюционных книгах за оконными стёклами (которые он и сам увидел) загадочного дома, похожего на крепость, не обследовав его? Мне тоже стало интересно и заманчиво убедиться в том, что может находиться в чердачной тьме. Может, такие же фолианты-сундуки. Полные царских законов. Но имеем ли мы право взять их, если обнаружим? Ведь это не личная сарайка. Посоветовавшись, решили, что только посмотрим и всё оставим на месте. Иначе, вполне вероятно, наши находки могут расценить как кражу. А этого мы не можем допустить. Они не ничьи, а кому-то принадлежат. А мы не воры. Разыскиваем ненужное другим, брошенное.
— Юр, тебе не кажется странным, что вертушка была закрыта изнутри? Как это кому-то удалось сделать и наружу выбраться?
— Ума не приложу, — признался я. — Надо подумать.
— Будем рассуждать логически: её, например, лезвием ножа повернули, перед тем как по приставной лестнице, предположим, спуститься с чердака. Второй вариант: с чердака есть проход, через который можно проникнуть в «сундук». Вперёд, Юр! «Логику» изучай. Шерлок Холмс, знаешь, почему успешно разгадывал самые запутанные преступления? Потому что пользовался логикой, наукой правильно мыслить. Вот давай и покумекаем. По законам этой самой логики.
— Я постараюсь, — горячо ответил я.
— Начнём вот с чего: я видел в щёлку, что вертушка зафиксирована горизонтально. И прижата плотно к стенке. Значит, довод в пользу того, что дверцу закрыли изнутри. Каким образом человеку, закрывшемуся на чердаке, из него выбраться? Ответ напрашивается один — удалился он через отверстие в потолке. Логично?
— Логично.
— Ищем. Свечку не предусмотрели. А у мамы есть две — для молитв. Можно было отломить половину. Но всё равно будем искать. Открой-ка настежь дверцу, всё светлей будет. Хотя и так видно: голубочки здесь не жили никогда. К сожалению.
Рассуждая, мы осторожно продвигались внутрь по колючему шлаку, насыпанному вровень с балками. В середине чердачной площади, разделённой двумя массивными печными трубами, не в центре, а чуть справа, мы наткнулись на заполненный пылью квадрат метр на метр. Это углубление находилось над местом, где снаружи располагалась сень на витых кованых столбиках, то есть приблизительно над дверью.
— Вот он, — почему-то шёпотом сообщил Вовка, и мы принялись выгребать пыль из квадратной рамы, сбитой из досок. Очистив площадку от слежавшейся пыли, мы в полутьме разглядели крышку люка, но без кольца или ручки. И отверстий, в которые можно вставить крюки для поднятия её.
— Вот и искомое, — произнёс Вовка. — Логика — великая вещь. Обязательно изучи, Юр.[20]
Я, к стыду своему, «Логику» никогда не читал, и начштаба ещё раз подтвердил, насколько он более знающий. Теперь я не сомневался, что в ближайшее время изучу эту полезную науку досконально. Эта наука, оказывается, дореволюционная. Будет, о чём спорить с пацанами, когда освою её.
— Откуда ты всё это знаешь? — удивился я.
— За прожитые годы, Гер, можно при желании кое-что узнать и кое-чему научиться. За несколько-то лет. Я по Валеркиным метрикам числюсь. Хотя у меня и свои сохранились.
— Ты же меня уверял, что всего на год старше меня? — удивился я. — А сейчас говоришь…
— Дай честное тимуровское, что не проговоришься никому, даже матери родной?
— Честное тимуровское! — выпалил я.
— Пришлось перепутать даты, — сказал Вовка. — Зато работать за маму разрешили… Как взрослому. По Валеркиным метрикам.
Это слово я услышал впервые.
— А что это такое?
— Свидетельство о рождении. Ладно, хватит об этом. Займемся делом. Чует моё сердце, здесь что-то таится. Стоит порыскать.
— Наверное, к люку подведена лестница, — определил начштаба. — Это логично. И люк можно открыть только из нижнего помещения. Если б было посветлее, мы бы обнаружили шарниры. В какую сторону они закреплены, в ту сторону он и открывается — вверх или вниз. Но сейчас здесь ничего не разглядишь. То ли на засов с замком, то ли просто на шпингалеты. Откроем и нырнём, а?
— Ты, Вовка, как хочешь, а я ни за что в него не полезу — это называется проникновение в чужое жилище. Нас за такое дело в милицию потащат. Я хочу отсюда вообще побыстрее смотаться. Голубей тут нет, кругом пусто.
— Не торопись, Юр. Судя по слою пыли, который мы с люка выгребли, здесь нога человека лет тридцать не ступала. Так что поисследуем: вдруг где-то что-то притырино. В шлаке. Клад, к примеру.
— Ты же говорил о голубях, Вовк. А теперь поминаешь о каком-то кладе. Придумал? Рвём отсюда когти, пока нас не застукали.
— Ты, Юр, не бзди. На трубе наш змей застрял. Имеем право мы его вызволить?
— До него не добраться. Да и не на чердаке он, а на крыше.
— Так мы и не пробовали. Не оглядевшись, уходить смешно. А вдруг повезёт?
— Чего искать, Вовка? Тут пусто, сам видишь.
— А трубы?
— Сажу из труб будем выгребать?
— Взгляни, какой они формы. Они имеют наверху, под крышей, плоские площадки.
— Мало мы с тобой грязи из ящика люкового выгребли? И там столько же пыли. Отсюда видно. Глазам своим веришь?
— Доверяй, но проверяй. Слышал такую мудрость?
— Я не полезу на печь — и всё. Честно тебе заявляю. Надоело пыль глотать. Глупо.
— Я полезу, Юр. Ты только мне подмогни.
Духота от раскалённой крыши выжала из нас столько пота, что он струился по лицу, между лопаток, по ногам. После выгребания словно утрамбованной пыли с какими-то песчинками мы превратились в чумазых, не похожих на себя.
Теперь ещё начштаба предлагает обследовать и площадки печных труб. Снизу нам их вдвоём не обхватить, а на высоте двух наших ростов кладка сужалась в пол-объема, и, таким образом, на крышу уже выходила тонкая её часть.
— Лестницы у нас нет, Юр, полезу по тебе. Становись лицом к трубе. Я тебя повыше, достану. А ты меня выдержишь, я нетяжёлый.
— Попробую, — согласился я нехотя, чтобы прекратить эти приключения.
— Ну, лады. Руками в кладку упрись и ноги шире расставь.
Первая попытка не удалась. Ступни Вовкиных босых ног соскользнули по моим бёдрам.
— Иди сюда! — предложил начштаба.
Мы подошли к квадрату лаза, и Вовка с шеи до пят осыпал меня пылью и песком.
— Залазь. Резинку от трусов не порви! А то катастрофа.
— Ты их сними пока. После наденешь.
Опять осечка!
Я тоже натёр друга пылью, вскарабкался на него. Он поддерживал меня за лодыжки, чтобы не сверзиться.
Этот акробатический трюк мне удался: я встал на плечи начштаба и обшарил всю площадку. Ничего. Да и что там могло оказаться?
По Вовкиному скользкому телу съехал на колючий шлак, хотя и на нём пыли скопилось предостаточно.
— Всё? Убедился? — спросил я недовольно. — А теперь — ходу!
— Нет, стой — ещё попытаемся. Юр, по Питеру знаю: нельзя бросать дело, пока не убедишься…
— Ты что, издеваешься надо мной? Лезь сам! Без меня.
— Так друзья, Юра, не поступают.
— Вовк, неужели ты не понимаешь, что это пустая затея?
— А вдруг — нет? Всегда надо использовать самый крохотный шанс и не отступать на краю. Мы с мамой не умерли, потому что следовали этому правилу…
— Ну что ты за человек! Как бабка Герасимовна повторяет: «Хома неверный». Ухамаздался[21] с твоими поисками, аж коленки дрожат. Последний раз!
— А кто меня на эти поиски позвал. Не ты ли? Ладно. Честное тимуровское — последний, — подтвердил начштаба, повернулся к кирпичному кубу, упёрся ладонями в кладку и широко расставил ноги. Я влез на него. Вовка, как мог, помогал мне. Особенно тяжело ему пришлось, когда я обхватил его мокрую голову, коленками упёрся в плечи и попытался распрямиться. Вовка пыхтел, но терпел мои попытки принять вертикальное положение. В изнеможении уцепился-таки за верхний край куба и подтянулся, выкинув одну руку вперёд, чтобы увеличить площадь опоры и… о чудо! — какая-то железяка вывернулась из-под ладони. Еле удерживая тело в равновесии, скинул её, обшарил площадку и ничего более не обнаружил. Когда, обессиленный, скатился со спины Вовки и он не удержался, оба шмякнулись в шлак.
— Ур-ра! — заорал начштаба, как только мы поднялись на ноги, — они у меня дрожали.
Вовка бросился к какому-то ярко поблёскивавшему предмету, валявшемуся вблизи у открытой фронтонной дверцы. Здесь и дышать было легче.
В следующий миг я увидел то, что сбросил с трубы. В правой руке Вовки, словно у фокусника Ван Ю Ли,[22] которого я видел много раз на представлениях в цирке, оказался поблёскивающий синевой кинжал. Вовка оторвал какую-то разноцветную, похоже матерчатую, бомбошку, сплетённую из блескучих нитей, что-то вроде истлевшей малярной кисти, но с яркими золотинками, откинул эту грязную рухлядь, вытер лезвие ладонью, и на нём засверкали отполированные рисунки. Приблизившись к проёму дверцы, мы разглядели, что в грязнущей руке начштаба переливается золотым, серебряным и чернёным орнаментом на витиевато-синеватом металле без единого пятнышка ржавчины сломанный пополам клинок. Сабля! Мы разглядели: это чем-то чёрным, будто тонким пером, нарисованы гривастые кони и на них всадники в чудных одеяниях: в туго облегающих белого цвета штанах и высоких сапогах, в каких-то невиданных допотопных курточках, на плечи накинутых, на голове высокие головные уборы… Где-то в какой-то книжке, а вернее всего — среди изъятых репродукций из журнала «Огонёк», которых у меня набралось в двух папках несколько десятков, я видел портреты героев войны тысяча восемьсот двенадцатого года. Я точно вспомнил портрет бравого усатого красавца в таких же белых рейтузах и со шнурами на груди. Вот это да! На лезвии изображена то ли сцена охоты, то ли баталия. Нет, вернее всего, это боевое сражение — с саблями наголо разве раньше на зайцев охотились?
— Дай подержать, — попросил я.
— Держи! Убедился? Всякое дело надо доводить до конца, Гера. Тогда добьёшься успеха.
И он вручил мне рукоять с полукруглой, литой, из потемневшей меди, крупной сеткой, почерневшей от времени, лишь остатки золота уцелели в углублениях металла.
Я онемел в восхищении. Такого мне в жизни не приходилось видеть. Держать в руках — тем более. А повидал, как мне думалось, я всякого немало.
— Вовк, у одного пацана — на Ленина, тридцать шесть живёт — видел книжку старинную, корочки у неё внутри обклеены белой бумагой с зигзагами, узорами изнутри, как откроешь. Узоры очень похожи на эти, на металле. Только металл какой-то невиданный — синий. И не рубчатый, как на той старинной книжке, а полированный. Ну и штука, Вовк! Хоть и я эту саблю нашёл, но она должна принадлежать тебе. Лично. Без тебя она так бы и осталась пылиться. И найти её могли, когда сундук этот рассыпался бы. А он ещё тыщу лет простоит.
Вовка не скрывал, что польщён столь щедрым подарком и довольно улыбался. Если б не он, никакой находки не состоялось, — это правда.
— А может, по очереди будем носить? Неделю — ты, неделю — я. Без тебя я её не разыскал бы. Логично?
— Ну, в общем-то… И без тебя тоже ничего я не откопал бы.
— Справедливо. А сейчас приступим к поиску обломка. Лады?
Предложение оказалось неожиданным, и во мне опять возникла тревога и сильное нежелание продолжать поиск.
Не раздумывая, решительно выпалил:
— Забирай её себе целиком. Но я искать здесь больше ничего не буду. Ни за какие коврижки.
— Юр, прикинь! Мы с тобой почти у цели. Он где-то здесь — нутром чую, обломок этот.
— Всё. Точка. Спускаюсь первым. Сабля — твоя. Я тебе ничего не должен.
— Значит, мне придётся вернуться сюда одному. Если не передумаешь.
— Вовка, ты же «Логику» изучал. Как найти обломок сабли в тоннах шлака и грязи? Год каторжного труда. Если обломок вообще существует. И находится здесь.
— А ты знаешь, как руду ищут? Берётся ивовый прутик. С расщепом. И над каждым сантиметром земли им туда-сюда водят. Где металл, там расщеп чуть сближается, сужается. Так раньше простой деревянной рогулькой железорудные месторождения открывали. В натуре! Я об этом в одном журнале по геологии вычитал из отцовской библиотеки. Ещё до войны.
— Всё. Спускаюсь, — решительно повторил я и поставил на покатый жестяной выступ ногу, присел на корточки, испытал, крепко ли закреплена бельевая верёвка.
Начштаба молча подстраховывал меня вторым концом верёвки.
Когда я коснулся земли пальцами ног, друг возвестил:
— Держи!
Сверкающий обломок сабли упал, даже не звякнув, в траву рядом с забором.
Я поднял драгоценную находку и при солнечном свете разглядел, что слом тоже синеватый, а металл имеет извилистый рисунок. Удивило меня и лезвие, острое, как бритва. И никаких следов ржавчины. Выходит, уже и тогда, давным-давно, умели делать оружие из нержавеющей стали! И ещё я разглядел: маленькая, чёрными штрихами выполненная крылатая лошадка — у самого эфеса.
— Спускаюсь! — послышался сверху голос Вовки. — Держи страховку!
— Дверцу на вертушку запри!
— Знаю, — ответил он.
Вовка, опустившись на корточки и вцепившись кончиками пальцев в щели дощатого фронтона, отвёрткой пытался крутануть вертушку. Не сразу ему это удалось. После он бросил отвёртку и, вцепившись руками в верёвки, пальцами ног нащупывал выпуклости каменной кладки, на которые можно было ступить. Опускаясь всё ниже, он развязывал узлы верёвки, накинутые на охваты водосточной трубы.
Через несколько минут Вовка, больше похожий на чернокожего, стоял рядом со мной. Цел и невредим.
— Юр, нам, наверное, не отмыться. Ты весь чернущий, как паровозный кочегар.
— Ты бы на себя посмотрел. Тоже не узнал бы.
Я сматывал верёвку в клубок, а друг любовался находкой. Нашлась и отвёртка.
Свои соображения о сабле высказал первым Вовке:
— Она, никак, из нержавейки откована. Разве до революции делали нержавейку?
— Вроде бы это изобретение советских учёных. А впрочем, не уверен.
— И на изломе — металл синий и волнистый, первый раз такой вижу. Странная сабля. Надо бы о ней побольше разнюхать. Но у кого?
— У деда Семёна Васильева, — спохватился я. — Тамарки и Эдки отца. Ему девяносто четыре года. Раньше, до войны, он вечерами часто на скамейке возле калитки сиживал. Бывший фельдфебель. Сорок лет в царской армии отслужил. Красных командиров поджидал, чтобы честь отдать и отрапортовать. А последнее время что-то не показывается на улицу. Даже летом. Дома сидит. В пимах.
— Ты короче давай: он холодное оружие знает?
— Фельдфебель царской армии! Я ж тебе сказал. Он всё знает. С японцами воевал. Ранили его в ногу в четвертом году — до сих пор хромает. С палочкой ходит.
— Да что ты мне про то да про сё? В саблях он толк понимает?
— Ещё бы! Сам подумай — фельд-фе-бель! Это вроде как генерал. По ранению из армии его уволили. У них корова есть. Жена его — Анна Степановна. Тётя Аня.
— Меня его биография не интересует. И корова — тоже. Лишь бы в оружии сёк.
— Не сомневайся. Двадцать пять лет только фельдфебелем отслужил. У него даже какие-то есть медали — старинные. Кресты всякие — за храбрость. Тётя Аня их в коробочке хранит. Из перламутра. Японская. Трофейная, видать. Показала мне. Одевать-то их нельзя. Царские. Но и не отнимают.
Дед Семён меня давно интересовал. И я к нему часто с разными вопросами приставал. Про войну. Интересно!
— Если он белый герой, почему же его в Чека не расстреляли? — задал коварный вопрос Вовка.
— Он против красных не воевал. Когда его ранили, тогда ещё советской власти не было. К тому же он за большевиков. За что его расстреливать? И вообще хороший старик. Заслушаешься, как про войну рассказывает, — сам лично воевал.
— Если он не контра, покажем ему. Разматывай верёвку.
— Зачем?
— Ты хочешь, чтобы я с саблей наголо по улице Пушкина проскакал? Да нас первый попавшийся дядя-гадя сцапает и в отделение упрёт.
— Да, как я этого не предусмотрел?
Вовка аккуратно укутал верёвкой весь клинок, вернее его обломок, и мы, возбуждённые и счастливые, направились восвояси — в штаб отряда. И лишь после — на Миасс — мыться.
При встрече редких прохожих мне очень хотелось задать им один вопрос:
— А вам известно, какое сокровище мы несём? Настоящую саблю!
Но никто из них и догадаться не смог бы о необыкновенной, невероятной нашей находке. И это придавало мне ещё больше гордости. Правда, на нас поглядывали, на чумазых с затылка до пяток мальчуганов. Но меня это не волновало, переполненного восторгом.
Пересилив желание немедленно предстать перед дедом Семёном, мы сбегали на Миасс, искупались, потёрлись песочком, верёвку, как смогли, пожулькали и лишь после, не дожидаясь, когда просохнут трусишки, побежали к старому фельдфебелю.
Тётя Аня заохала и заахала, увидев наши грязные мордашки, их мы почему-то не удосужились промыть, но к деду Семёну пропустила. Он лежал на кровати — недужил. Увидев нашу драгоценную находку, оживился, и мы вручили ему обломок клинка.
— Ба! — воскликнул сипло слабым голосом старик. — Да это же булат!
— А чья она? Небось, генерала царского — Булатова? — почему-то высказал такую догадку я.
— Возможно, хлопчики, и генерала. Сталь такую делали в России в прошлом веке. В Златоусте клинки из булата ковал великий оружейный мастер. Фамилию его дай бог вспомнить. О нём все нынче забыли. А в наше время булатными клинками награждал героев сам батюшка-император. Самых отважных. За подвиги и личную беспримерную храбрость. Взгляни, Юра: на лезвии ни одной зазубрины. А она не раз побывала в деле — вон на эфесе следы ударов. Мастер, что разгадал секрет булатной стали, помер и с собой секрет унёс в могилу. Булатным клинком можно с единого маху железную подкову перерубить, как бублик, а на лезвии даже чатинки[23] не останется. Где это, хлопцы, вы её раздобыли? Как вам удалось сломать клинок? Это невозможно!
— Мы его не ломали, — пояснил Вовка. — Такой нашли. На чердаке одного старинного дома.
— Смотри, какие чудеса в решете! — подивился дед Семён. — Ржа её не берёт — как новенькая, — произнёс дед Семён, очень внимательно разглядывая рисунки на плоскости клинка. — Не многие высшие чины имели такое оружие. Верно, наследственная вещь. Мне не приходилось видывать, да вот сподобился. Кому-то подарена была за особые заслуги перед Отечеством.
Деду Семёну явно не хотелось расставаться с нашей находкой. Но Вовка поторопил, сказал, что нам ещё предстоит помыться в бане.
— Вот. А ты упрямился, — упрекнул меня Вовка. — Никогда дело не бросай неоконченным. Так мне и отец неоднократно повторял: взялся за дело — кончай смело!
Начштаба полез на чердак, а я натянул между двумя столбами мокрую верёвку, на своё место под нашими окнами. После мы побежали на Миасс, на сей раз прихватив обмылок, — чтобы моя мама ничего не заметила. Припустили по щербатым тротуарам, ещё до революции выложенным кирпичом. Теперь на нашем пути торчали только его опасные осколки.
…Как часто бывает в жизни, тем более ребячьей, радость быстро сменяется огорчением.
На сей раз это горе выразилось в довольно долгой и болезненной вздрючке, устроенной мамой, от внимательного взгляда которой не могла ускользнуть (хотя и просохшая и висящая на своём месте) серая бельевая верёвка. Ею она меня и отхлестала весьма болезненно, а после долго отбеливала на кухне в кипятке с каустической содой. И я подумал, что у мамы какое-то помешательство на чистоте, — днём и ночью она всё вокруг мыла, протирала, стирала… Нет чтобы интересные книжки читать. Да вот ещё и меня наказывает. Воспитывает!
Не сразу мне удалось прийти в себя.
Славик, наверное, всё ещё играет в своё удовольствие с малышнёй на тротуаре или в ливневой канаве напротив ворот. Он любит строить дворцы из серого мелкого песка. Это было и моим увлечением в далёкой молодости, лет пять-шесть назад.
Время… В последние дни я стал замечать, что тянется оно очень и очень медленно. Особенно, когда нечем заняться. Мучительными становились не только часы, но даже минуты перед возвращением мамы с работы зимними тоскливыми вечерами: мною овладевало сильное беспокойство. Я куксился и даже иногда рыдал, будто со мной произошло великое несчастье. И Славик подвывал мне. Случалось такое с нами, наверное, от усталости до изнеможения.
Обычно, заслышав плач, бабушка Герасимовна увещевала нас с обратной стороны двери, из коридора, успокаивала. И я, устроившись в углу дивана, обняв братишку, засыпал вместе с ним. Приход мамы и пробуждение становились маленьким праздником — наше гнетущее одиночество моментально покидало нас. И тоска прекращала терзать меня.
После того как кем-то была сделана попытка (только в апреле пятидесятого в тюрьме я узнал, кто был этот злодей) влезть к нам в квартиру, выставив стекло из окна, мама стала закрывать нас на ключ и, вероятно, уносила его с собой. На работу. А когда Славика удалось устроить в детсад на «продлёнку» (мама выхлопотала-таки у начальства какие-то справки, которые разрешали братишке оставаться в нём и поздно вечером), мне пришлось ещё труднее, ещё тоскливее, и я плакал и плакал, захлёбываясь от великой этой тоски и одиночества. И вот вдруг со щелканьем поворачивается в скважине ключ, я бегу к двери, утирая слёзы, а мама и Славик оказываются рядом. Какое счастье! Она вернулась! Мы опять — вместе!
Она ставила на огромный, с раздвижной столешницей, дубовый стол (от бабушкиной мебели остался) алюминиевый судок с сытным, на мясном бульоне, супом и картофельным пюре с настоящим свиным или говяжьим гуляшом — мамин «стахановский» обед, а на самом деле — наш со Славиком ужин.
— Ну, будет, будет тебе, — не всегда дружелюбно успокаивала меня она. Маме почти постоянно было не до нас — её в любое время ожидало множество домашних дел. А я скучал по ней, мечтал о её ласках, которые выражались в поглаживании по голове, о добрых словах, её тёплых шершавых ладонях, хотелось и её пожалеть — она так много работает, чтобы прокормить нас, одеть-обуть, обиходить…
Однако чаще всего я тут же получал шлепки за несделанное то и то, забытое это… Для меня такие минуты становились непонятной обидой: я так ждал, хотел сказать столько хороших слов, что люблю её, высказаться о своих делах, обнять, прижаться…
После наказания за какие-нибудь проступки, часто неосмысленные, мелочные или ни за что — под горячую руку попался, или кто-то что-то дурное обо мне сказал. Из соседей, например. Давно знакомый привычный ком обиды подкатывал к горлу и душил, выжимая слёзы, которые, повзрослев, старался сдержать, скрыть, — ведь на маму нельзя обижаться.
Но сегодня чудесный обломок сабли, а он вертелся в моём воображении, не пропустил давящий ком обиды, и я наслаждался красотой клинка, как бы вновь разглядывая фигурки толстозадых лошадей и воинов в золотых кирасах и киверах с плюмажами. У бравых воинов выделялись лихо закрученные усы. Наверное, все они были героями, отчаянными рубаками. Над войском кучились круглые облака, а под ними, очень далеко, угадывались бугристые горки с ёлочками на них. В общем, гравированная картина произвела на меня сильное впечатление. Вот только, куда оно мчалось, это сказочное воинство, не совсем мне понятно, ведь часть рисунка осталась на отломленном куске клинка.
— Сы́на, — как ни в чём не бывало обратилась ко мне мама. — Принеси из колонки пару вёдер воды, только не полные. Не надсажайся.
Обиду мою как ветром сдувает. Я хватаю гремучие цинковые десятилитровые вёдра и, поспешая, направляюсь к уличной колонке.
Славик, я угадал, сидит в широкой канаве, разделившей тротуар от проезжей части (дороги), и, отбиваясь от комаров, упорно продолжает строительство сказочного песочного дворца…
Опять вспомнилось о сабле. Посожалел, что она принадлежит не мне, а Вовке. Но это справедливо. А справедливость дороже всего. Не только сабли для друга не жалко, но даже пулемёта «Максим». Да вообще — всего. И видение клинка исчезло из моего воображения, уступив место Павке Корчагину с его подвигами. Вот с кем я помчался бы в атаку.
…Утром просыпаюсь рано, Славик ещё посапывает в своей половине кровати у стенки. Сразу звонок начштаба. Примчавшись к лестнице, ведшей на чердак в штаб, вижу Вовкину русую, стриженную наголо голову — в проёме чердачной дверцы.
— Што? — встревожено спрашиваю я.
— В пиратов играть будешь?
— А как же? Что за вопрос! Давно мечтаю.
— Я флибустьер Флинт. Захватываем двухмачтовый торговый парусник с золотом. Мачты кораблей выберем на пару. Нападение — в полдень. Проверь по своим бабушкиным часам. Жду. С боем курантов.
Вот у кого мне следует учиться! Чего хочешь, может добиться! И надо взять его правило — не отступать! Только вперёд! Сокрушать все преграды на пути! Ведь главная жизненная цель — Правда. Правда, справедливость — это всё! Ради них и надо жить!
Не знаю каким образом, но утром уже этого дня все, или почти все знакомые пацаны квартала, были кем-то оповещены о нашей фантастической находке. Под лестницей собралось около десятка огольцов.[24] В штаб вход разрешался лишь тимуровцам нашего отряда. Вовка не позволил проникнуть в свой двор не только приблатнённым соплякам из воровских семей, у которых в тюрьмах и концлагерях отбывают наказание братья или отцы, — мы хорошо знаем, на какие пакости способны их младшие сынки или братишки. Не пустили в Вовкин двор и Тольку Мироеда, и однорукого бывшего вора и солдата-штрафника Лёньку по кличке Бульончик, уверенные, что их старшие «кирюхи» (а Мироед и сам мог) попытаются отнять («казачнуть») нашу находку. Это шакальё частенько грабит младших ребят, особенно тех, за кого некому заступиться, ведь мы, свободская пацанва, хорошо знаем друг друга, кто из нас на что способен, о семьях, в которых живут эти полубеспризорные и всегда голодные ребята.[25]
…Наконец, гурьбой мы укрылись в зарослях жёлтой акации, окружавшей большой дом знаменитой в округе заслуженной учительницы, кстати, замечу: горошины (открытие Вовки), вышелушенные из стручков и разваренные, превращались в отличную, вполне съедобную кашу. В отличие от многих, владелица разрешала нам лакомиться и сладкими цветами этих деревьев, и их плодами. Но это занятие не для нетерпеливых — уж очень муторное. О вышелушивании говорю стручков акации.
В густых зарослях деревьев демонстрация клинка выглядела захватывающе таинственно! Начштаба выхватил из куста саблю, куда заранее её припрятал, и она засверкала в пробившихся сквозь листву солнечных лучах.
Восклики необузданной радости и ликования раздались почти одновременно. Все столпились тесно в кучу. Каждому не терпелось прикоснуться или подержаться за настоящую саблю, боевое оружие, несомненно неоднократно побывавшее в смертельных схватках с врагами. Об этом авторитетно заявил дед Семён Васильев.
Но вот начштаба лихо перекинул клинок в правую руку и с маху рубанул по железной трансформаторной пластине и рассёк её надвое. И тут же показал всем лезвие оружия — на нём не осталось и малейшей зазубринки.
— Зырьте[26] сами. Это не простая сабля — булатная!
Второй восклик восхищения вырвался из зарослей акации.
— Вот это да! Ништяк! А што это — булатная?
— Давай ещё руби, я проволки притащу.
— А броню́ фашистского танка — слабо? — спросил кто-то из восхищённых пацанов.
— Запросто! Жжах! И — башня на Земле! — сфантазировал Вовка. Возможно, он действительно верил в то, что сказал.
Гордый и довольный, наискосок полоснул по стволу деревца, и оно сползло по срубу, как по маслу, свалившись на зазевавшегося Бобынька — Вовку Бобылёва со Свободы, двадцать восемь.
Наше сборище не осталось незамеченным, и вышедшая из дома учительница поинтересовалась, чем мы занимаемся, — ведь акациями была окружена детская игровая площадка с брусом, качелями и песочницей. Для малышей, живших в округе.
— Играем в сыщиков-разбойников, — бессовестно соврал Вовка.
Кое-кто из пацанов, тех, что потрусливее, смылись сразу, не дожидаясь финала.
— Играйте на здоровье, ребята. Но зачем деревья губить? Они для вас посажены. И такими же школьниками, как вы.
Да, действительно, нехорошо получилось. Погорячился начштаба.
Пришлось оставшимся расходиться по своим дворам. Лишь Вовка да я остались, приблизившись к нашему забору из штакетника.
— Мы посадим новое дерево, честное тимуровское, — пообещал Вовка пожилой женщине. И слово, данное соседке, он выполнил: с крыши баньки Каримовны он пересадил кривую березку. Рядом с пеньком, оставшимся от акации.
Лишь когда все пацаны разбежались, мы поднялись в штаб и там спрятали клинок под балку, присыпав её шлаком с помётом голубей, давным-давно изловленных Вовкой и сваренных в консервной банке на карбидной самодельной горелке. Даже электроплитку в кудряшовских хоромах негде было установить — сортир и есть сортир, хоть и с убранным унитазом. А в трубу с помощью слесаря, обслуживавшего контору, недавно ввинтили раздобытый где-то Вовкой водопроводный кран, чтобы на уличную колонку зимой не бегать. Другой жилплощади Кудряшовым, как я уже упоминал, не нашлось в огромном доме. И за это «жилище» Вовкина мама долго благодарила начальство, ведь на первом этаже остался всего один туалет на всех. И это не всем жильцам нравилось — из-за очередей по утрам.
— Капитаном Флинтом я завтра себя назначу, — решил Вовка. — В полдень. Сегодня маме надо помочь. Не здоровится ей что-то.
На том и условились.
— Завтра же пиратский бриг возьмёт купеческое судно. На абордаж. Чёрную повязку я поищу в маминых тряпках. От шитья всякие лоскутки остаются. Вообще-то мама хочет из них лёгкое лоскутное одеяло сшить. То, что вы нам подарили, — тяжёлое для лета.
С разрешения мамы я отдал им старый матрац и ватное одеяло — от деда в сарае остались и лежали без пользы на жестяной односпальной кровати. Как нельзя кстати оказались для Кудряшовых эти старые вещи.
— Наверняка ещё дореволюционное, — высказал догадку я.
— Она его обчехлила. Из лоскутьев же. Что от заказчиц остались. Конторские ничего не умеют. Ножны для сабли надо успеть смастерить. Это уже моя забота. Ну, покедова! До утра, дружище!
И мы расстались.
Не знали, не предполагали, что нас ожидает в предстоящий день, бесконечно длинной, как мне представлялось, жизни. Какое заблуждение!
Долгожданное утро выдалось необычно светлым, радостным и не обещающим ничего огорчительного. Именно такими утрами меня наполняло необъяснимое чувство грядущего счастья — всё кругом выглядело прекрасным, солнце просвечивало каждую травинку, любой древесный листок. И это огромное изумрудное богатство и всё кругом принадлежало мне! И я осознавал себя частью его. Я, десятилетний пацан, чувствовал себя не только абсолютно свободным от чего бы то ни было, но присутствующим во всём, что окружало меня. Странное загадочное ощущение. Будто я присутствовал во всём окружающем — одушевлённом и неодушевлённом. Всё было живое. И я — часть его. Даже воздуха! Ведь я и дышу! И я в нём. И такое состояние накатывало на меня довольно часто, но кратковременно. Сильнее всего это состояние я ощутил, стоя на крыше храма на Алом поле, обуваемый теплыми, животворными ветрами.
В этом восторженном настроении я и встретился с оповещением начштаба — наш «телеграф» работал безотказно, без сбоев. Вовка ждал меня у первой ступени лестницы, ведшей на ставший родным, будто своя квартира, чердачище бывшего неведомого райсуда.
Начштаба стоял в картинной позе, разумеется, с саблей в специально сооруженном дерматиновом мешочке-ножнах (на их изготовление пошла обивка судейского старого стула), чтобы не привлекать взгляды посторонних. Висели ножны на ремешке из того же материала на левом бедре, как и полагается воину. Голову наискось прикрывала шёлковая чёрная лента — перевязь через левый глаз начштаба, по совместительству — грозного пирата капитана Флинта.
— Ну что? Вперёд, на бриг! — басовито спросил меня новоиспечённый капитан, он же старый морской волк. — С песней!
Маршируя, мы вышли на улицу и свернули направо, горланя:
Без перерыва:
С последней (лихой!) песней, которую мы слышали почти каждый вечер, когда по дороге проводили взводами новобранцев, будущих бойцов, обучавшихся в огромном округлом здании цирка, мы промаршировали к высоким тополям.
Я, иногда уложенный мамой в постель, летними вечерами слышал сквозь затянутое марлей (от комаров) окно «Дальневосточную», мне хотелось спрыгнуть с кровати и помчаться вслед за колонной красноармейцев и орать вместе с ними в своё великое удовольствие марш непобедимой Красной армии…
В те блаженные минуты я страстно мечтал завтра же стать взрослым и вместе с новобранцами гордо прошагать по родной улице с чудесным названием — нигде в городе второй такой не могло существовать (вероятно, и в других населённых пунктах тоже).[27] Оно мне так нравилось, это слово, — «Свобода»! Всем знакомым пацанам утром следующего дня увидеть бы, каким бравым стал Юра Рязанов! И очень сожалел, что старый солдат, побывавший во многих сражениях и даже где-то под неведомым Мукденом получивший ранение вражеской пулей, награждённый медалью за храбрость, не заметит меня среди шагающих по родной улице, потому что хворает от немощи и огорчений. В своём воображении я тут же увидел деда Семёна на скамейке возле калитки. А вот он уже вытянулся по стойке «смирно!» и отдаёт мне честь!
Но мираж этот растворился, когда мы с начштаба подошли к пустой скамье. Видать, дед Семён вовсе разболелся.
Начштаба, а сейчас ещё и капитан Флинт, выбрал два самых подходящих тополя: один рос как раз напротив скамейки, которую все называли почему-то лавочкой, а другой — рядом, почти напротив окна дома Бруков, где в малюсенькой угловой комнатёшке (в неё уместились лишь пианино и нарядная, ухоженная, пышная кровать с никелированными шарами на всех четырёх столбиках). Это была «келья» знаменитой челябинской пианистки Матильды Берх, родственницы Бруков. Афиши о её выступлениях я неоднократно видел расклеенными по всему городу. Часто, завороженный живыми звуками, исторгаемыми из инструмента с непонятной иностранной золотой надписью на поднятой крышке, стоял я возле открытого окна и наслаждался волшебными мелодиями, льющимися из-под тонких быстрых пальцев молодой и красивой пианистки. Я даже немного влюбился в артистку, хотя возрастом она, пожалуй, не уступала маме. А выглядела намного младше её. Но звуки, звуки! Они будоражили меня, проникая в закрытые дотоле каналы чувств, в которые сейчас бешено врывались, а иногда тихо и нежно просачивались, заставляя то бурно радоваться чему-то, то грустить неизвестно о чём.
Пианистка разрешила мне даже не только стоять перед окном, но и положить руки на подоконник, а на них — голову. Звуки, резонируя в тесной комнатке, проходили через подоконник, мои ладони и отзывались в голове совершенно непохожими на те, что извлекались из инструмента. Доброжелание пианистки удивляло меня. Не зная, как выразить благодарность, я молчал. Стеснялся. Наверное, я был самым молчаливым поклонником Матильды Берх. Но и самым преданным — не мог пройти мимо открытого окна её «кельи».
Сейчас окно было закрыто, и я с сожалением посмотрел на него — вот увидела бы она нас с Вовкой, как мы будем брать на абордаж чужое «судно».
Потом, слушая музыку из весь день работающего в нашей комнате репродуктора «Рекорд» — круглого, чёрного воронкообразного устройства из плотной бумаги, окольцованного мягкой жестью, с механизмом позади, я часто узнавал знакомые мелодии, слышанные у Матильды Берх, и радовался. Дикторы называли и композиторов: Бетховен, Шопен, Григ, Чайковский, Мусоргский…
А сейчас, когда мы с капитаном Флинтом-Вовкой готовились к штурму, мне не терпелось, чтобы она непременно увидела: мальчишка, частенько торчащий под её окном, — герой, а не какой-то босоногий скромняга. Храбрец! Кровь, казалось, бурлила во мне, вскипая перед схваткой.
…Выбрали мы эти два дерева не просто так, не с кондачка — они ближе всех стояли друг к другу и вытянулись выше других. Чтобы раскачать и сблизить мачты-тополя, желательно выбрать наименьшее расстояние между ними и соответственно приложить минимум усилий. Куском старой толстой верёвки мы намеревались связать обе верхушки — это и означало победу, дерзкий захват «чужеземного судна», нагруженного золотом. Хотя золото для меня лично имело смутное значение — блестящий предмет. И всего лишь.
По-обезьяньи быстро и ловко достигнув прогнувшихся макушек, мы их принялись раскачивать. Напевая весёлую детскую смешную песенку, под которую и начали свой боевой поход:
Мы горланили этот куплет и от души хохотали, не осознавая, что похабничаем. Обломись верхушки деревьев, нам не поздоровилось бы: шмякнуться на булыжную дорогу с четырёх или даже пяти метров — не на пуховую перину, как у Даниловых (приданое тёти Тани), завалиться. Но разве мы думали об этом? Вовка в раже выдернул из ножен булатный клинок, и он засверкал, хотя солнце скрылось за облачками.
Мы забазлали песенку, которую распевали все уличные свободские пацаны от мала до велика, и в такт мелодии раскачивали гибкие верхушки тополей — на сближение.
Песенка эта казалась нам ещё забавней, и мы не жалели своих глоток:
С воодушевлением закончив последний куплет, мы услышали: нас окликает кто-то:
— Эй, певуны из погорелого театра! Кто вас научил петь эту песню? Слезайте немедленно, паршивцы, вниз! Я с вами побеседую.
На тротуаре, напротив нашего «корвета», на котором раскачивался Вовка, стоял по стойке смирно какой-то незнакомый человек. Не очень старый — лет тридцати или сорока. В хромовых начищенных сапогах и заправленных в голенища синих брюках. Заметил я и кожаный широкий ремень с металлической надраенной пряжкой. Застёгнутая у горла рубашка тоже была голубого цвета. По Свободе в «хромачах» обычно щеголяли блатные, но этот не был похож на них.
— А вы кто такой? — крикнул Вовка, не переставая раскачиваться.
— После узнаете. Слезайте немедленно! — приказал незнакомец.
— Я капитан пиратского брига Флинт и плевал на приказания штатских людишек!
— Я тебе покажу, как плеваться на штатских людишек, капитан Флинт! — пригрозил незнакомец, вплотную приблизившись к тополю и задрав голову.
Я разглядел, что подстрижен он под полубокс. Кто это привязался к нам? Этого человека на своей улице я раньше никогда не встречал.
— Где проживаете? Улица, дом, квартира. Фамилии ваши. Как звать? Быстро отвечать!
— Пираты, мои друзья флифустьеры, обитают на Карибских островах, дяденька, — дерзко ответил капитан-начштаба и, к моему удивлению, не вставил в ножны саблю, а взмахнул ею и сразу отсёк две крупные ветки. Они, шурша, упали к ногам незнакомца.
— Что это у тебя? — с опаской и угрозой спросил голуборубашечник.
— Не видите, што ли? Ослепли? — опять почему-то сгрубил Вовка. — Это сабля из булата. Слыхали? Позолоченная! С рисунками баталий. Вот глядите!
И Вовка легко отрубил ещё один толстенный сук.
— Где взяли? — допекал нас настойчивыми вопросами прилипчивый мужик. — Отвечайте! Немедленно! Это холодное оружие! Где взяли, спрашиваю?
— Где взяли? — переспросил Вовка. — Где взяли, там её уже нет. И зачем вам, дядя, об этом знать? Ишь какой любопытный! Шагай себе домой, а мы займёмся своими пиратскими делами.
Тогда незнакомец расстегнул пуговичку на рубашечном нагрудном кармашке и поспешно достал какую-то вишнёвого цвета книжечку. Развернув её и держа в ладони, показал Вовке.
— Видишь? — грозно спросил он.
— Не-ка, — ответил, раскачиваясь, Вовка, и влез почти на самую верхушку, которая уже касалась моего тополя. — У меня слабое зрение. Булатную саблю вижу отлично. А вашу шпаргалку — нет.
— Слезайте сейчас же, а то я сам к вам залезу и стащу за шиворот.
— А это видел? — выкрикнул Вовка. — Она подковы пополам разрубает как кусок сливочного масла.
«Как же он нас стащит за шиворот, если на нас даже маек нет — одни трусишки?» — подумал я.
— Слезайте, прохвосты, или я вас скину! — зло произнёс незнакомец и стал оглядываться: кого бы позвать на помощь.
— Дело плохо, — почувствовал я. — Мы, кажись, попались.
Не знаю, кому и за что, но, похоже, влипли. Наверное, за отрубленные ветки. Деревья нельзя портить. Тем более я в тридцать шестом или тридцать седьмом годах принимал участие в их посадке. В тридцать шестом — точно. Вся улица с тех пор преобразилась — позеленела. А Вовка крушит эти наши деревья. Зачем? Глупость какая. Вот уж чего не ожидал от начштаба.
— Ты нас не скинешь, дядька! Полный вперёд! Гонзалес, за мной, — обратился ко мне Вовка. — Качай мачту на абордаж!
Честно признаться, я не понимал до сей минуты, какую игру затеял Вовка, зачем устроил весь этот спектакль и дразнит мужика, видимо небезопасного для нас. Судя по его поведению. С каким-то удостоверением. Но Вовка продолжал усиленно раскачивать верхушку дерева, и я ему подыграл.
Человек, стоявший внизу, держался за ствол тополя, но не рисковал вскарабкаться на него — мог упасть и расшибиться, тем более такому упитанному мужику сверзиться запросто. Он продолжал твердить, чтобы мы спустились на землю, угрожая «поговорить» с нами «как следует».
Догадался, что под нами милиционер. Но зачем его дразнит начштаба?
Когда уцепился Вовка за ветку «моего» тополя, то шепнул:
— Рвём когти! Как только брошу саблю. Усёк? Я — в восемьдесят первый, ты — в семьдесят девятый. Встретимся у военкомата.
— Вы о чём там сговариваетесь? Сорванцы! — подал голос незнакомец и уцепился за нижний сук.
— Вам нужна наша сабля? Ловите её! — крикнул Вовка. — Мы из бочечного обруча сделаем другую. Ещё лучше! Только не мешайте нам играть в пиратов.
И швырнул клинок. Сверкая в солнечных лучах — солнышко как раз выглянуло, — сабля со звяканьем упала за забор нашего двора.
— Генка! Какой-то мужик саблю хочет отобрать — лови! — крикнул Вовка.
Незнакомец рывком бросился к забору и за ворота нашего двора, там, где-то под домом Бруков, росли высоченные репейники, — за саблей, а мы вмиг оказались на земле и что есть силы, не оглядываясь, задали стрекача через дорогу на противоположный тротуар и припустились через дворы в направлении цирка, влезая на крыши сараюшек и прыгая с них, не разбирая дороги, пока не оказались на параллельной Свободе улице Красноармейской. Я, задыхаясь, обежал здание военкомата и повалился в бурьян. Через минуту увидел и Вовку, бегущего в угол двора. У него тоже, наверное, не осталось сил перемахнуть через забор, и он упал под него в крапиву.
Отдышавшись, я окликнул друга и на дрожащих от перенапряжения ногах поплёлся к нему. И упал рядом. Начштаба лежал с закрытыми глазами и тяжело дышал. Наконец, он очнулся.
Очухавшись, он пробормотал:
— Кажись, ушли. Теперь он нас не найдёт.
— А кто это был? Дядя-гадя?
— Факт, — подтвердил Вовка. — Тихушник.
— Какой тихушник? — не понял я.
— Не знаешь? Выслеживает всяких — и в Кресты. Втихую подкрадываются к человеку — и бац! А «оттуда возврата уж нету». У вас как тюрьма называется?
— Тюрьма. На улице Сталина. Рядом с баней. Наверно, тюрьма имени Сталина.
— Вот. Он оттуда. Ходит по городу и за всеми подглядывает. Хвать! И в Кресты. У вас, может быть, и имени Сталина. Хотя едва ли. Вождь всё-таки.
— Но мы с тобой ничего плохого не сделали. Играли.
— А сабля? Вдруг она какому-нибудь контрику принадлежала? За такие игры, знаешь, куда упекают? И песню про Сарочку пели.
— Ну и што? Её все поют. Вся Свобода. Что теперь? Леонид Утёсов даже воровские песни поёт. Сам у Сурата пластинку слышал… «С одесского кичмана бежали два уркана…»
— Запрещены такие песенки. Понимаешь? Нельзя их петь. И про бедного дядю Лёву — тоже нельзя. Они антисоветские. Нарушение закона.
— Какого закона?
— Не знаешь?
— Не-ка.
— Ну что ты, Юр, как будто вчера родился — ничего не знаешь. Не обижайся.
— Я и в натуре не понимаю ничегошеньки из того, что ты наговорил.
— Сколько людей за такие песенки в тюрьмах оказались — тыщи! А ты: «Не знаю!» Так что больше в жизни таких песенок не пой, понял?
— А почему же ты пел? И мне не сказал ничего.
— Бывает и на старуху проруха. Все поют, и я запел. Забыл, что надо всегда бдеть.
— Понял, Вовк. Саблю жалко. Я бы ни за что не отдал. Какая-то детская песенка — это смешно, Вовк. Саблю-то зачем бросать? Какому-то мужику чужому. Он, может, и не мильтон вовсе, а свистанул. А ты клюнул. Уши развесил.
— Твои слова: «Сабля тебе досталась»?
— Мои. Не отказываюсь от своих слов. Никогда.
— Вот и всё. На этом закончим разговор. Была сабля — и нет сабли. Мы с тобой всё равно друзья?
— Друзья. Навсегда.
— Вот и будем дружить. А сабля, даже булатная, — не главное в жизни. Дружба — вот что самое ценное. Мама мне как-то сказала: нипочём не попадай в милицию. Кого туда забирают — те конченные люди. Пропащие на всю жизнь. Как я могу одну маменьку оставить? Она без меня умрёт.
Возражать я не решился.
…По домам возвращались с оглядками — по Красноармейской, Труда и Пушкина.
Проходя по какому-то двору, Вовка снял чёрную пиратскую повязку с глаза, зашёл в туалет и вернулся без неё и ножен.
— С пиратством покончено, — заявил он. — Забудь.
Ещё долго с сожалением вспоминал я о клинке. Подобного предмета мне в дальнейшей жизни не привелось видеть.[28]
И однажды опять вслух высказал — не удержался — своё недовольство поступком (в моём понимании — неразумным) Вовки: что он метнул куда-то в заросли репейника на поживу какому-то мужику драгоценный клинок — с ним вполне можно было смыться.
Выслушав меня, он сказал:
— Юр, ты любишь всяких животных. Даже скользких лягушек. А я их терпеть не могу. А ты читал об ящерицах? Они, когда им грозит опасность, сами оставляют свой хвост хищникам, напавшим на них. И спасаются, пожертвовав собственной частью тела. Ты у Брема поинтересуйся. Тебе не кажется, что мы тогда поступили, как ящерица?
Вопрос был настолько неожиданным, что я на него не ответил. Лишь удивился сообразительности Кудряшова. Хотя Альфреда Брема «Жизнь животных» я прочёл с увлечением все четыре имевшихся у меня тома, и в одном из них про ящериц, конечно же.
Мне вспомнился эпизод из моего детства — я был уверен, что оно уже давно прошло, — когда со старшей группой детсадовцев летом тридцать девятого года отдыхал в лагере посёлка Каштак (это был первый лагерь в моей жизни). Из любопытства я изловил на тёплой клубничной поляне небольшую ящерицу — не терпелось поближе рассмотреть её. Но серого цвета юркое животное вывернулось из моих ручонок, оставив в ладошке… свой шевелящийся хвост.
…Я не стал больше спорить с начштаба, но так до поры и не оценил, какая опасность нам, а более — нашим семьям, угрожала. Да и сабля принадлежала Вовке, и он вправе был поступить с ней как пожелает. И всё-таки долго не смог смириться с нашей потерей. Но запрещённых песен уже не пел никогда. Зато в другом концлагере — всего через восемь лет, когда стал рабсилой, то есть рабом, — до седьмого пота деревья рубил и пилил на лесоповале, добавляя свои к десяткам и сотням штабелей (рядом, на отработанных лесосеках), уже сгнивших и изъеденных мириадами рогатых жуков, — подневольный труд сонма зеков, получивших свои скудные пайки «черняшки» и порции баланды за изнурительные потопролития, угробившие здоровье и жизни миллионов советских рабов, чтобы воздвигнуть рукотворные памятники большевистскому идиотизму, называвшемуся «строительством коммунизма в отдельно взятой части земного шара».
И каждый раз, когда наши руки двухметровой, умело отточенной зубастой «кормилицей» с шумом и мощным ударом о землю роняли красивую тяжеленную золотистую столетнюю сосну, мне вспоминались отсекаемые бритвенной остроты осколоком сабли ветви захваченного нами «брига», якобы наполненного «золотом».
1975 год. Правка 1980 года
Замазка[29]
В Челябинске на этом месте высится громадное многоэтажное здание. А в то время простиралась городская базарная площадь. Барахолка. Проходя мимо этого дома с высоким и просторным, как танцевальная площадка, крыльцом или поднимаясь на массивные, розового гранита, ступени, мне иногда вспоминается история, приключившаяся здесь в начале лета сорок третьего. Вернее — с нами. Спутником моим подвизался братишка Славик, ему пошёл седьмой год.
…Уходя на работу, мама оставила записку: «Юра, пойди и купи кусок мыла. Деньги завёрнуты в платок. Не потеряй». В узелке обнаруживаю сто пятьдесят рублей. Для нашей семьи это большие и очень нужные для самого необходимого деньги, месячный заработок мамы — восемьсот рублей. Тратить деньги приходилось очень экономно, и в основном — мне. Мамина получка вместе с продуктовыми карточками хранится в незапирающемся — ключи я растерял ещё в далёком детстве — старинном, от бабушки доставшемся, шкафу в пустой, матового стекла, сахарнице, задвинутой для безопасности в глубину верхней полки.
Ежедневная выкупка хлебного пайка и отоваривание продуктовых карточек в магазине, к которому мы прикреплены по месту жительства, — моя забота. Вся ответственность — на мне. И долг перед семьёй.
Маму со Славиком мы почти не видим неделями. Она уходит на завод — мы ещё не проснулись, а возвращается — мы уже в постели: набегавшись за день до изнеможения, спим.
Когда она отдыхает, не знаю. У меня уверенность — никогда. Потому что ночью успевает выстирать нашу одежонку, заштопать чулки и носки и хоть из чего-нибудь сварить, из того, что удалось раздобыть, из подпольных запасов, какую-то еду на следующий день. Или два. Как придётся.
По дому мы сами управляемся: моем пол в оставленной неведомым мне начальством нашей семье комнате, вторую, не до конца достроенную (не отштукатуренную), забрали как «излишки» метража. Стираем пыль с мебели: с венских скрипучих стульев, дубового, несдвигаемого — такой тяжеленный — стола, с огромного, в резной деревянной раме, зеркала — до потолка — с подзеркальником на точёных ножках-балясинах и настенных часов с «музыкой» — тоже от бабушки остались нам. Если б не бабушкина мебель, жили б мы в пустой комнате, так мне думалось. Зимой топим печь и выполняем простые, но важные мамины поручения. В магазинных очередях надо стоять терпеливо, иногда по многу часов, потому что неожиданно устраиваются коварные пересчёты и на ладонях переписываются химическим карандашом новые номера. Кого не оказалось на месте, тот выбывает из очереди. И никаких оправданий, никто тебя и слушать не будет.
Рос я пацаном очень подвижным: заиграешься с ребятами — вернёшься домой с пустыми руками. А на следующий день талоны почему-то объявляются продавцами «недействительными» — просрочены! А ведь хлеба на всех просто не хватало, мало привозили. Кто занимал место в хвосте очереди, тот был обречён. «Порядки!» Знавал я и эти великие огорчения. Забота же о хлебе — только моя обязанность. Славик — ещё малец. С него никакого спроса. Я уже взрослый. В мае исполнилось одиннадцать. И я обязан постоять за себя и братишку, если кто на нас «потянет».[30] Одним словом: старшо́й. Ответственный.
Базар тоже дело ответственное, не раз на нём бывал. В магазинах нужного ничего не купишь. Кроме «сен-сен» в аптеке. Везде всё можно достать лишь по блату, по знакомству, а на базаре, как в сказке, есть то, что пожелаешь. Спасибо старухе Герасимовне, согласилась выкупить и нашу хлебную пайку — упросил.
…На базар отправляюсь вместе с братишкой. Лето нынче палит как в Африке. По булыжникам и опасно выступающим острыми углами осколков кирпичей дореволюционных мостовых, их с тех пор никто не ремонтировал, бежим, взявшись за руки.
Радостное необъятное утро наполнено звонким щебетанием птиц — им-то что, воробьям продуктовые и хлебные карточки ни к чему — природа всем обеспечила.
День только начался, а тротуары успели раскалиться так, что жгут подошвы босых ног. Необыкновенно жарким, знойным выдалось лето сорок третьего.
…Вот он, базар, — бурлящий, бушующий мир, зрелище — интереснее не увидишь даже в цирке. Продираемся сквозь месиво толпы, сами не зная куда. Никакая волшебная сказка, — а я их вместо школьных учебников быстро прочитываю — книгу за книгой, без передышки, за год десятки, часто даже про уроки забывая, — ничто не может сравниться с тем, что здесь, на базаре, увидишь и услышишь.
— Папирёсы «Метро»! — кричит подросток-оборванец возле ворот. — Папирёсы «Метро»! По дешёвке отдаю! Три рубля — штука, пять — пара! Раз курнёшь — в рай попадёшь! Налетай — хватай!
От ворот вдоль забора сидят и стоят торговцы самосадом-крепачком. Пробираемся мимо них. Останавливаемся лишь возле старика — лешего, заросшего дикой серой бородищей настолько, что волосы, не умещаясь на лице, выпирают из ушей и ноздрей.
«Леший» — мастак расхваливать свой товар, от которого дыхание спирает даже у завзятых курильщиков.
— Самосад — ядрец, затянешься — слабаку пиздец! Красненькая всево за стакан! С походом на козью ножку даю! Самосад — што вотка, прочищает кишки и глотку лучче всяких лекарствов!
Понимаю, что употребляет он нехорошее, так называемое матерное слово. Его на улице и раньше слышать приходиось, но смысла не разумею.
Дед оглядывает нас, разинувших рты, жёлтыми прокуренными глазами и шикает:
— А ну, кыш отсюдова, мелюзга карапузая! Товар загораживаетя…
Мы перебегаем на другое место. Худющий и поэтому кажущийся ещё более высоким старик, неподвижный, с большим кадыком, почему-то напоминающим мне гирю настенных ходиков на стене квартиры Вовки Сапожкова, басом хрипло вещает:
— Личения риматизьмы и протчих болезней целительным лектротоком по методу хранцуза профессора Шарко. Пять рублёв сеанец. Палный курс — десять сеанцев. Анвалидам-хрантавикам — льготный тариф.
Слева от старика-«богомола» (вспоминается рисунок из третьего тома «Жизни насекомых» Фабра, ещё дореволюционного издания, купленного мною здесь же, на «развале», у лысого невысокого старичка, недорого, потому что уж очень истрёпанной выглядела книга. О приобретении до сих пор не сожалею — очень интересным оказалось). Но вернёмся к старику-«богомолу», рядом с которым возвышается привинченный к трёхногому штативу лакированный деревянный обшарпанный ящик с застеклённым экраном. Красная стрелка уткнулась остриём в большой чёрный ноль. Над цифрой не очень искусно нарисованная картина изображает богатыря с лихо закрученными усами и прилизанной, на пробор, причёской — невиданно важный господин. Дореволюционный. То ли это портрет француза Шарко, то ли, в молодости, самого владельца чудодейного аппарата, то ли таким может стать любой «анвалид», принявший курс лечения «лектротоком». Даже по «льготному тарифу». Не понимаю, что это за «тариф» такой? Однако спросить не решаюсь — всё это так захватывающе и таинственно. Глаза старика закрывают синие круглые, с пятачок величиной каждое стёклышко, очки в железной оправе. Они придают лицу лекаря непроницаемость и строгость.
Какой-то счастливчик, не очень старый — лет тридцати, деревенского облика, бросает целителю червонец. Сразу за пару сеансов. Как за морс с двойной порцией сахарина.[31] Разувается и становится на подобие деревянных сандалий, обитых снаружи ярко начищенными пластинами жёлтой меди. В руки берёт из того же металла сияющие шары, соединённые, как и сандалии, проводами с нутром волшебного ящика. На боковой стенке аппарата — ручка, а на экране — полукруглая шкала с цифрами. Старик натужно вращает отполированную за десятилетия деревянную ручку. Стрелка пляшет, щекочет усатого Шарко. Толпа стискивает кольцо. Старик трубно изрекает:
— Осади! Аппарат заряженный!
Предупреждение действует. «Заряжен» — все понимают — опасное слово. Окружающие оживлённо обсуждают происходящее на их глазах чудо.
— Што ошушает пациэнт? — вопрошает старик с достоинством циркового конферансье, и кадык-поршень движется вверх-вниз, выталкивая скрипучие слова.
Пациент натужно улыбается и просит:
— Ничиво! Поддай ишшо, на весь червонец. Штобы без сдачи… Штоб до жопы достало!
Старик «поддаёт». У счастливчика испарина выступает на лбу, а глаза вытаращиваются. Но он терпит, твёрдо решив принять целебного «лектричества» на всю десятку — до копейки.
— Помогает? — спрашивают зрители пациента.
— Пр-р-робират, едри ево в корень, — выдавливает из себя пациент. — Аж яйца трясутся!
— А ты покажь! — предлагает кто-то из публики. — Здорово трясутся?
Все окружающие улыбаются или смеются, довольные зрелищем. И шуткой.
Сеанс окончен. Пациент вытирает лоснящуюся физиономию рукавом рубахи. Садится на пыльную землю, чтобы обуться. Осклабясь, сообщает:
— Ох, и пробрало! Аж в жопе свербит!
Все гогочут, ублажённые «остроумием» «вылеченного пациента».
Лишь владелец чудесного аппарата сохраняет невозмутимую торжественность. Он обеими руками ощупывает врученную следующим пациентом пятёрку и засовывает её за пазуху. Да он слепой! Ну и ну… И лечит! Сам слепой, а других лечит… Ништяк![32]
Вот если б у меня, мечтаю, вдруг разыгрался жуткий ревматизм или «протчие» болезни! Исцеление — вещь несомненно полезная. Было бы о чём корешам[33] рассказать. Меня озадачивает другое: старик одет в порыжевший суконный сюртук, в латаные брюки и в… валенки. Видать, от ревматизма пимы помогают слепому другу профессора Шарко куда лучше, чем волшебный аппарат.
И всё-таки электрический ящик заманчиво интересен. Исследовать бы, что там внутри, в чём лечебное электричество хранится. Я бы живо этот ящик разобрал и развинтил, опыт у меня богатый, — да жаль не мне принадлежит — чужой. Однако есть на базаре кое-что более привлекательное. Книги! Вообще-то я беру их читать в детской библиотеке. Или «глотаю» в читальном зале, вместо того чтобы пойти на занятия в школу. Но здесь такое можно увидеть, чего в библиотеке днём с огнём не сыщешь. Например, тоненькие книжечки приключений знаменитого сыщика Ната Пинкертона, безумно интересные журналы «Всемирного следопыта» с фантастической повестью Беляева «Продавец воздуха», с рассказами о загадке века — Тунгусском метеорите и много-много других драгоценностей, желанней которых нет ничего на свете. Торговцы, видя намётанным взглядом несостоятельность пацана, жадно разглядывающего книги и журналы, сердито приказывают:
— Положи на место! И не лапай… Гро́шей не хватит купить.
— Хватит, — хорохорюсь[34] я.
— В твоём кармане вошь на аркане, — подзадоривает один из торгашей.
Так и подмывает развязать платок и показать зарвавшемуся хамюге аж сто пятьдесят рубчиков! Чтобы не скулил,[35] коли не знает. Да нельзя. Кругом шныряют хапалы — вмиг из рук деньги вырвут и нырнут в толпу — ищи-свищи их днём с фонарём.
Да сейчас нам и не до книг. Хотя и мелькнул в людском водовороте знакомый, небольшого ростика, лысый старичок — торговец «беллетристикой» — он не такой злой, как остальные. И не вор. Просто спекулянт. И книголюб. Знаток! Я у него кое-что приобрёл. Мелочь в основном. Брошюрки.
Очень много повсюду встречается стариков, старичков и старикашек. Реже — стариканов. До войны их было значительно меньше. Старух, конечно, тоже хватает. Особенно — в магазинных очередях. Сплошь неугомонная говорливая старушня. Десятки, сотни… Ещё дореволюционные — настолько древние. Война! Все, или почти все, кто может сражаться с фашистами, отправлены на фронт. Он находится где-то не так уж далеко. Мы это живо ощущаем здесь, на Южном Урале. О фронте напоминают школьные подвалы — бомбоубежища, крестообразно наклеенные на оконных стёклах бумажные полосы, заросшие лопухами обезлюдевшие дворы, фанерные или жестяные звёздочки на многих воротах и домах тихих улиц, словно прислушивающихся к чему-то, настороженных, ожидающих. Особенно врезался мне в память на улице Могильниковского, напротив нашей школы номер три, деревянный одноэтажный домик с могильным холмом и памятником-тумбочкой перед окнами. Кто там похоронен? Фронтовик? Или расстрелянный революционер? Храбрости не хватает постучать в калитку и спросить. Да и кого спрашивать — ни разу никого не видел даже во дворе или рядом с домом, окружённым забором из высокого штакетника.
Мальчишескую фантазию подстёгивают и трофейные фляжки, котелки, даже кастрюли, сделанные лудильщиком дядей Яшей из немецких рогатых касок. Видел я у везучих ребят и настоящие фашистские военные ордена — кресты с чёрным нутром, в светлой металлической оправе, сорванные с битых оккупантов под Москвой и Сталинградом. У пацанов много чего диковинного есть!
Не только ежедневные сводки Совинформбюро мужественным голосом Левитана звучат из чёрного круглого «Рекорда», висящего на стенке нашей комнаты. О войне, о всех нас, о моих сверстниках, всенародное ощущение огромной беды, навалившейся на страну, приносит и народная молва — свои, особые, сведения о происходящем на фронте. Совершенно серьёзно я тоже собираюсь на передовую, где день и ночь ведутся решающие сражения, где падают, подкошенные меткими пулями наших снайперов, ненавистные немцы. Точно такие, как на плакатах «Окон ТАСС», — безобразные гориллы с паукастой свастикой на закатанном рукаве, не очень-то и страшные, если разобраться толково, с пониманием. Больше — смешные, нелепые, противные, мерзкие.
О своём заветном намерении братишке я не проговорился ни разу, хотя он тоже собирается на фронт. Я-то понимаю, что его задумка — детская фантазия. Он и автомат не поднимет, слабак. Уж не говорю о «Максиме» — пулемёте, любимом по кинофильму «Чапаев» и, по-моему, самом грозном нашем оружии. Побольше бы таких пулемётов и гаду Гитлеру давно бы пришёл капут! Не успели мы «Максимов» понаделать их столько, чтобы у каждого красноармейца имелся свой пулемёт, — вот в чём беда. Но ничего — всё равно победим. И без Славика обойдёмся. Вырастет, тогда и пойдёт воевать. А пока…
На брата я надеюсь в другом, очень важном деле. Он должен заменить меня дома. Конечно, ему не нравится, когда я заставляю его носить воду из колонки в вёдрах на коромысле. Понемногу. По полведра. Поливать огородные грядки, мыть пол и посуду. Нудное стояние в магазинных очередях тоже необходимо. Не понимает он ещё этой истины. Много им из-за этого непонимания пролито слёз. Но Славка — последний мужчина в нашей семье. Маме без его помощи, понятно, не справиться. Поэтому-то и приучаю его к самостоятельности, готовлю — срочно! — замену себе.
На фронт мы задумали сбежать вдвоём с корешем из соседнего двора.
…Мы прочёсываем базар вдоль и поперёк, однако мыла не находим. Без Славки я шустрее всё обежал бы, да не бросишь братишку. Так и буравим густую толпу: впереди я, он — следом, с зажатой в моей ладонью. В другой крепко держу платочек с тремя синими пятидесятирублёвками. Чтобы не отняли, не вырвали.
Неожиданно оказываемся возле павильона вблизи от выхода на улицу Елькина. В нём продаётся дорогая снедь: топлёное молоко в бутылках разного роста — от чекушек до четвертей. Топлёное молоко жёлтым маслом застыло у горлышка, шоколадными пенками манит варенец, румянятся пирожки с ливером; глаз не отведёшь от ноздреватого — натурального! — пшеничного хлеба, крупных буханок и нарезанного на куски; молочные конфеты-тянучки и божественного вкуса маковники — этакие белые и серые валики с палец толщиной, по пятнадцать рублей пара… Так и тянет хотя бы по одной купить и насладиться. Но отвожу глаза. Усилием воли. Должен же мужчина быть волевым!
Появляться возле павильона — в народе его нарекли «Обжоркой» — со Славкой нежелательно. Он сразу же начинает канючить, клянча купить ему что-нибудь. То бутерброд вдруг приглянется с настоящим жёлтым сливочным маслом (не серым искусственным маргарином), то разварной картофель в крынке, укутанный в старую телогрейку, чтобы не остывал, то американская консервированная колбаса, нарезанная тонкими пластиками, до того солонущая, что после от водонапорной колонки хоть не отходи, — покупатели говорили — сам слышал; то морсу с сахарином, видите ли, он попил бы — не учитывает человек, что деньги можно тратить лишь на самое-самое необходимое, на вязанку дров например. Или на керосин, который продаётся, как молоко, бутылками, заткнутыми жирными газетными пробками. Керосин по молодости лет его не интересует. Ему даже забавнее, когда мы вечерами для освещения жжём лучины над тазом с водой. Электричество у нас давно отключили. Оно необходимо заводам. На них делают снаряды и танки. Самое важное, без чего не добиться победы над врагом.
Возле «Обжорки», чего я и опасался, Славик упёрся и заревел горючими слезами, когда увидел прилавки, заставленные и заваленные яствами и питиями, о которых можно лишь мечтать. Ничего не могу с ним поделать. Упёрся — и всё. Уговоры не действуют. Рыдает: бутерброд с колбасой хочу! Человеку почти семь лет исполнилось, скоро в школу топать. Совсем взрослый! А несознательный.
Вдруг раздаётся истошный вопль. Женский. Толпа тяжело переваливает к месту происшествия. И мы туда же. Не до бутербродов! Интересно же! Что там случилось?
— Украли! Лови падлу! — пронзительно орёт испуганная, полнощёкая молодая баба с выпученными глазами.
Одной рукой она закрепощённо держит небольшую корзину с пончиками, другой вцепилась в лохмотья заросшего грязной щетиной, наголо остриженного, неимоверно исхудавшего молодого мужчины, который и не пытается сбежать, — чего ловить-то его? Что орать на весь базар?!
Он закрыл лицо ладонями, но тут же в изнеможении обессилено роняет руки, а торговка, не спуская глаз с корзины, повизгивая, бьёт его по голове и плечам, и я вижу — он что-то пытается запихнуть в рот.
Впалые глаза у стриженого мужчины неподвижны и словно остекленели. Невидящие. Его бьют желающие развлечься, а он продолжает жевать.
Из толпы выскочил парень в надвинутой на глаза кепочке и одним ухарским ударом поверг незадачливого вора наземь. И, пиная его, приговаривает: «Ух! Ух!»
А лежащий всё равно жуёт, давясь, хрипя и кашляя. И не может проглотить. Задыхается.
Славка заплакал, увидя эту отвратительную сцену.
— Дяденька, не надо! — кричу я что есть силы, а Славик, держась за меня обеими руками, ревёт ещё пуще — от испуга. Хоть видно, как он повзрослел за год, но остался ласковым, дружелюбным, тихим, домашним мальчиком и не переносит подобного зверства. Придёт из садика и сидит в уличной канаве, из песка домики лепит. Даже драться не умеет! Совсем не уличный пацан.
…Избивающий застывает с воздетым кулаком и повёртывается ко мне. У меня от неожиданности подкосились ноги — он улыбается! Во рту его блестит стальная коронка. Или хищная слюна. По внешнему виду — хулиган из Колупаевки. Есть у нас в городе районный — с таким смешным названием, — пользующийся дурной славой гнойник. С колупаевскими почти никто из свободских пацанов не связывается, говорят, они с ножами ходят. И запороть могут ни за что. Потехи ради.
— Ах ты, цуцик! — негромко произносит фиксатый[36] и замахивается на меня. Руки мои сами собой инстинктивно взметнулись над головой, а глаза зажмурились. Славка с воплем рванулся в сторону и повис на ком-то, это я ещё успел увидеть, — страшно!
Но удара не последовало. Когда я разомкнул веки, то передо мной предстала такая сцена: руку улыбчивого истязателя сжимает другая рука, в белёсом обшлаге гимнастёрки.
Мой спаситель стиснул запястье колупаевского ухаря с такой силой, что кулак окрасился в лиловый цвет.
Человек в солдатской гимнастёрке цедит, не разжимая зубов:
— Не тронь детей, мерзавец. Детей и стариков истязают только изверги, фашисты.
— Ты чево, чево? Отпусти! В натуре! Пусти, чево вчепилса? — растерянно повторяет обидчик, оглядываясь. — Псих, што ли? Невменяемый, да? Контуженный, чо ли?
И неожиданно тонким голосом верещит:
— С мотылём набздюм, да? Из одной кодлы,[37] да? — и показывает свободной рукой на лежащего, который корчится в пыли то ли от побоев, то ли от рвоты. Не пошёл ему впрок торговкин пончик.
У меня тоже возникает тошнотное состояние. От увиденного.
— Заткнись, паук тыловой, — побледнев, произносит человек в выцветшей гимнастёрке и с отвращением сильно отталкивает парня. Он, не удержавшись, падает. Под общий смех зевак. Быстро вскакивает, но не скрывается в толпе.
В левой руке невысокого плечистого человека, моего защитника, вижу трость, на которую он опирается. Трость очень красивая — в глазах рябит, набранная из разноцветных полированных колечек оргстекла. Выглядит она весьма увесистой. Обидчик мой от того, несчастного, злобно матерясь, пятится, призывает толпу помочь расправиться с человеком в солдатской форме. Раздаются угрожающие выкрики — откуда-то из-за спин. Но вперёд выступает ещё один человек, одетый в такие же видавшие виды гимнастёрку, галифе и ботинки с обмотками.
— Кому контуженный понадобился? Я контуженный, — заявляет он. В руке у него пара новых байковых портянок и пачка махорки с надписью «Смерть фашистам».
Что есть, тот тем и торгует. На горбушку ржаного, наверное. Вид у этого человека довольно воинственный.
На гимнастёрке ещё одного нашего заступника, слева, нашиты цветные матерчатые узкие полоски — две красные и одна жёлтая. И медаль белого цвета.
— Раненые, раненые, — слышится шепоток из толпы, из-за спин. И громче: —Фронтовики… Смываемся, братва! Их до хера!
— Что тут происходит, браток? — спрашивает продавец портянок владельца разноцветной трости.
— Какой-то подонок самосуд учинил, — отвечает он, и я вижу, что на его гимнастёрке помимо новенькой медали тоже желтеет полосочка.
Я уже обнимаю за плечи зашедшегося плачем братишку. Мы оба изрядно испуганы. Я — не столь угрозой хулигана, как враждебностью толпы: на нас столько пялилось свирепых морд и зыркало волчьих глаз — испугаешься! Стая! Толпа и есть толпа: опасна для жизни — растерзают.
Колупаевец исчез, будто его слямзили.[38] Но продолжает громко кудахтать торговка пончиками, прикрыв на всякий случай корзину широким подолом длинного цветастого платья. Она зло поносит человека с тростью. Требует «уплотить» за пончик.
Но хромой не обращает внимания на наглые приставания и хулу. Сильно припадая на левую ногу, он подходит к лежащему на земле, тормошит его. Окликает. Тот не встаёт. Наверное, у него просто нет сил подняться. Да жив ли он? Пола серого цвета куртки задралась, обнажив шелудивое тело с рёбрами, напоминающими прутья разодранной корзины. Глаза по-прежнему невидящие, остекленелые. Только лицо мокрое — в каплях влаги. Пот или слёзы. Колошматили ведь кому не лень. Пинали! Всю накопившуюся злобу на него обрушили, беззащитного.
Мне становится нестерпимо. Не выношу кровавых расправ, драк. Душа отвергает. Будто не кого-то другого, а меня терзают. Больно! Мне больно становится. Поэтому и драться не люблю. Только вынужденно. В ответку. Когда защититься надо от нападающего.
Схватив Славика за непослушную дёргающуюся руку, устремляюсь почему-то к дальним воротам, выходящим на улицу Кирова.
Братишка перестаёт хныкать и лишь твердит:
— Хочу домой, домой хочу… И пончик тоже.
Побродив по запущенному скверу с огромной бетонной чашей бездействующего фонтана, мы снова выходим на базарную площадь, оглашаемую разноголосым шумом. Кто-то на раздрызганной гармошке наяривает и хриплым голосом выкрикивает похабные деревенские частушки. Матерщинные. Многие их слушают. С удовольствием!
Проходим с опаской по тому месту, где недавно произошла схватка колупаевца с раненым.
Ничто уже не напоминает о недавнем происшествии. Будто здесь и не случилось ничего. А меня мучает, бесконечно повторяясь, один вопрос: почему колупаевский хулиган назвал голодного несчастного вора «мотылём»? Фамилия у него такая? Мотылёк ведь это маленькая бабочка, вечерами их много в стёкла окон бьётся, — на свет летят.
Старик с ящиком француза Шарко замер на прежнем месте и в той же позе. Страшный человек с белыми, наверное от голода выцветшими, глазами, куда-то уполз. Гомон, переругивания, выкрики, матерщина там и сям прорываются, как лопающиеся гнойные нарывы. Мат всегда ранит меня. Вызывает ответную злость — так бы и шлёпнул по опоганенным губам!
…Нашли торговку мылом! Она запомнилась мне на всю жизнь, хотя внешность её на редкость невыразительна. И незапоминающаяся. Таких — тысячи, будто из инкубатора. Курносое широкое бабье лицо, засиженное веснушками. Как у Толяна Данилова. Разве только глаза. Их я рассмотрел и запомнил очень верно. Хотя никогда в «гляделки» не играл — не любил. Девчоночьи глупые забавы!
Как я обрадовался, увидев в пухлой, не очень чистой руке брусок хозяйственного мыла! Не самоварку — с фабричным треугольным клеймом.
Торговка не тараторит складные заученные славословия, как некоторые, нахваливая свой сомнительный товар, а с достоинством, молча демонстрирует его.
На вопросы, что-де за мыло, хорошее ли, с презрением и неизбывным хамством рыночного завсегдатая швыряет:
— Разуй глаза! Довоенное! Ядровое! Двести пятьдесят.
Цена, возможно, и соответствует товару — брусок большой, несрезанный и необскобленный. Хотя столько же стоит и маленькая буханочка ржаного хлеба. Мыло в солнечном луче просвечивает, словно соты, полные мёда, или отцовские янтарные золочёные запонки, променянные весной на ведро мелкой семенной картошки.
С тоской любуюсь мылом, даже не пытаясь рядиться, — такой неприступной и злоязычной выглядит хозяйка. Но она вдруг ни с того ни с сего обратила на нас внимание.
И сама мне предлагает:
— Ну, хлопчик, налетай, хватай, покупай, чего глаза растопырил? Гро́ши есть?
— Есть.
— А ну, покажь!
Оглянувшись и не видя рядом опасности, развязываю платочек, прижав его, на всякий случай, к груди.
Убедившись, торговка, настороженно позыркивая по сторонам, тихохонько говорит:
— Ещё гони сколь-нибудь. Полсотни. По дешёвке. Задарма отдаю. Только тебе как малолетке. Добавь ещё сколь-нибудь, не жмись. Чево жмотничаешь? Давай-давай!
У меня в потайном месте, в поясе истрёпанных штанов, обрезанных из-за дыр выше колен, хранятся накопленные «фронтовые» двадцать три рубля. Вырученные за сданные бутылки из-под вина и водки. Они, как я рассудил, могут понадобиться в нелёгком пути на передовую. Пока на армейский паёк не зачислят. Как сына полка.
Поразмыслив минутку, прихожу к выводу, что имеется ещё резерв: далеко не все железяки сданы в ларёк утильщика дяди Лёвы. Этого добра — таскать не перетаскать. И с большими трудностями извлекаю туго скатанные в рулончик заветные деньги.
Торговка теперь обращается со мной более почтительно. Но бегающий взгляд её совершенно неуловим, словно ощупывает всего меня. Она без умолку убеждает меня, что почти даром отдаёт лучшее на базаре довоенное мыло. В доказательство плюет на указательный палец и натирает им грань бруска. Сразу появляется белая пена.
— Не мыло — сахар. С чаем бы съела, да гро́ши надо. Само моет. У вас стиральная доска есть?
— Есть, — словно заворожённый её прибаутками, отвечаю я.
— Одним этим куском вагон и маленькую тележку шмоток нажамкаете. Бери, не пожалеешь. Ишщо спасибо скажешь за доброту мою.
Мне так нестерпимо хочется купить для мамы это изумительное довоенное мыло, что я теряю способность говорить, а лишь неотрывно гляжу на торговку, пытаясь поймать её неуловимые, маленькие, без ресниц, глазёнки мутного цвета, и на чудесный янтарный брусок. Однако что-то удерживает меня от решительного шага. Сам не пойму. Что-то внутри меня. Будто не разрешает. И даже запрещает. Какое-то нехорошее предчувствие.
— Я бы тебе уступила, милёнок, — ласковым голосом сожалеет торговка, — да мужик мой — зверюга. Вон стоит, буркалы пялит. Убьёт, ежли продешевлю.
Оборачиваюсь в ту сторону, куда кивнула торговка, и мне мерещится, что за спинами людей прячется тот, кто, улыбаясь, недавно истязал несчастного, поверженного в базарную, протёртую тысячами подошв серую пыль, давящегося проклятым пончиком человека в серой измызганной куртке и такого же цвета штанах.
Наверное, тот зверюга, что пинал его, и есть её мужик. Мне жаль добрую женщину — он и с ней может столь же чудовищно расправиться.
В этот момент торговка, словно раздумывая: отдавать — не отдавать, вынимает из плетёной сумки тетрадный лист, лощёный, хрустящий, и тщательно упаковывает в него кусок мыла. Оглянувшись, протягивает его мне, но тут же отдёргивает руку и бросает свёрток в кошёлку. Не иначе мужа своего заметила, следящего за ней, чтобы не продешевила дорогой товар. И, глядя мимо меня, приставляет палец к губам: тс-с!
Я впервые вижу её глаза. В их глубине искрится хитрая усмешка. Похожая на кошачью, когда хищница играет с полузадушенной мышью.
Торговка быстро суёт мне пакет и выхватывает из моих пальцев деньги. Помусолив грязноватый палец, она в мгновение пересчитывает купюры и стремительно ныряет в толпу, предупредив меня:
— Беги, пока мужик не отобрал!
Подхватив Славку, мчусь домой. Всё во мне ликует. Вот мама будет довольна, вот обрадуется!
В тот вечер, превозмогая усталость, беспрерывно потирая кулаком слипающиеся глаза, дожидаюсь возвращения мамы с завода.
Вот она отпирает дверь своим ключом. Бросаюсь ей навстречу.
— Что случилось? Почему не спишь? — с тревогой спрашивает она. — Письмо казённое пришло?
Мама панически боится «казённых», как она их называет, писем. Вернее, какого-то одного, о котором ей мимоходом сказала пришлая востроглазая цыганка, выпросив за предсказание кулёк картошки. Обшарив быстрым взглядом всю нашу комнату, продолжала клянчить ещё что-нибудь у мамы «на её женское счастье», мама ничего ей больше не дала, опомнилась, загородив телом дверной проём. А я цыганёнка ухватил за шкирку, он норовил прошмыгнуть к столу, на котором лежала картошка «в мундирах» и пайка чёрного хлеба, — мы как раз к ужину приготовились, оставалось лишь чайник кипятку с кухонной плиты принести.
Теперь, когда после наглого вторжения гадалки с цыганёнком приносят отцовские треугольники со штампом полевой почты, даже тогда мама бледнеет и несколько минут не может прийти в себя. А чего волноваться? Почерк-то отцовский, аккуратный, округлый — ведь он бухгалтером служил в конторе нефтеснаба в последнее перед мобилизацией время. Даже успел курсы старших бухгалтеров окончить.
— Нет! Да нет же, не письмо, — торопливо отвечаю я и достаю из-под своей подушки тяжёлый пакет. От радости не подумал, почему он такой тяжёлый и промасленный, — ведь довоенное мыло должно быть усохшим, лёгким. Оно таким и было там, на базаре. Тяжёлый брусок приятно волновал меня именно своей весомостью.
Устало опустившись на венский стул, который днём нам служил боевым конём, мама разворачивает хрустящий лист в клеточку, исписанный невообразимо красивыми буквами и помеченный оценкой «отл.», выведенной красными чернилами и таким же почерком — залюбуешься.
— Довоенное, ядровое, само мылится, — выпаливаю я, не в силах сдержаться. И весь напрягаюсь от предвкушения маминой похвалы.
Но во взгляде её — недоумение.
Она встаёт, подходит к столу, вывёртывает побольше фитиль трёхлинейной керосиновой лампы, внимательно разглядывает мыло и… закрывает глаза подрагивающими пальцами. Она плачет!
Ничего не могу уразуметь и продолжаю улыбаться. Но жгучая тоска, приступы которой я испытывал маленьким, когда меня, заболевшего ангиной, занятые работой родители надолго оставляли одного в запертой комнате, эта душащая боль моментально сжимает сейчас горло.
Пытаюсь спросить, почему она плачет, что случилось, но не могу. Не сразу это мне удаётся.
Страдание, которое мучает маму, сразу передалось и мне.
— Мам, а мам, кто тебя обидел? Я? Скажи…
— Никто, — тихо отвечает она, утирая носовым платком слёзы. — Укрой Славика, а то его холодит. Видишь, как он скорчился.
И выходит в общий коридор, захватив с собой мыло. Стирать, наверное, пошла. По ночам всегда стирает, в остальное время — некогда.
Но мама тут же возвращается и спрашивает:
— Сколько отдал?
— Сто семьдесят три.
Проговорился. Ведь те двадцать три рубля — секретные. Фронтовые.
Она дует в пузырь лампы, в темноте раздевается, и в комнате становится очень тихо. Я успеваю подумать: в чём-то, наверное, провинился. Что-то тут связано с мылом. Возможно, переплатил? Так дешевле не было. И никакого другого. Быстро, как на качелях, проваливаюсь куда-то в мягкое и уютное. Открываю глаза — уже яркое утро.
Спрыгиваю на пол и бегу на общую кухню, в коридор — умываться.
Мыла на рукомойнике нет. Осматриваю всё вокруг — тщетно. Случайно замечаю угол знакомого тетрадного листа — в ведре для мусора. И мыло — там же. Как оно туда попало?! Почему?
Вынимаю. Разворачиваю прилипшую промасленную бумагу. Но это что-то совсем другое! Не мыло! Мягкое, тёмно-зелёное, вязкое. И не пенится под водой.
Выходит в коридор сгорбленная в дугу бабка Герасимиха. Спрашиваю у неё, что это такое.
Бабка долго мнёт меж пальцев похожее на глину вещество, нюхает и наконец шамкает:
— Жамашка, мил шын. Окна жамаживать хорошо на жыму. Тепло штобы не убывало. На ваше окно хватит. И на обчу куфню останется. Где доштал?
— На базаре купил, — машинально отвечаю я.
— Молодеш, Егорка. В тепле жыму будете жить.
Не верю бабкиной похвале. Но постепенно до меня доходит, что́ ловко вчера мне всучила вместо мыла торговка. Всё во мне взрывается и негодует. Перед мысленным взором — мамины горестные глаза, подергивающиеся плечи. Из-за моей невнимательности. Ротозейства. Доверился!
Я чуть не кричу от ярости, обиды, злости, бессилия. И жалости. Не к себе. К маме. Как я её подвёл! Это ж надо так попасться! Почему бы сразу не проверить? И оказаться таким профаном! Позарился на дешевизну. Испугался мифического мужика.
…За весь путь до базара не произношу ни слова, только, задыхаясь, «буксирую» за собой Славку.
Во второй руке зажат увесистый вязкий ком.
…Не знаю, как поступлю. Одно желание владеет мной — разыскать вчерашнюю торговку и во чтобы то ни стало вернуть наши деньги. Во что бы то ни стало! Или то мыло, что давала на погляд.
Нахожу её.
Заметив нас, она шарахается в сторону. Но тут же успокаивается: кого ей опасаться? Двух малышей? Ведь мы для неё — детишки неразумные, беспомощные.
Но она ошибается: я — не малыш. Всё понимаю. И сумею постоять за себя. За маму. Торговка всех нас обидела.
Подойдя вплотную, неотрывно смотрю ей в лицо и не могу поймать взгляд, расплывчатый, скользящий мимо. Сейчас я ненавижу эту женщину, ничем вроде бы среди других не выделяющуюся, больше всех на свете. Даже кровожадный, со свастикой-пауком на рукаве обезьяноподобный фашист, самое отвратительное и кровожадное чудовище на Земле, уступает этой упитанной, может быть, даже симпатичной, толстоморденькой бабёнке.
Требую:
— Отдай мыло! Или сто семьдесят три рубля.
Но она уже полностью владеет собой. И готова к отпору.
— Какое мыло? Какие гро́ши? Чего пристаёшь, ширмач? Канай отсюдова, пока по шее не надавала. Мыло ему…
Как я дотянулся, не представляю, но тяжёлый брусок замазки плотно запечатал левый глаз мошенницы.
Взвыв, она хватает свободной лапищей шиворот моей ветхой рубашонки.
Слышу треск раздираемой ткани.
Славик пытается оттащить меня. Заревев, конечно.
Но я не могу совладать с яростью, молочу кулаками во что-то мягкое, податливое, словно в подушку, и впиваюсь зубами в самое ненавистное на свете существо. В ответ — оглушительный визг. Похожий на поросячий. Когда его режут. У соседей однажды видел — тоже отвратительное зрелище! И матерщина. Смрадный мат в мой адрес. Эта она изрыгает.
…Мне досталось, конечно, больше, чем ей. Терплю, сдерживая слёзы. Вцепился и не отпускаю. Как клещ.
Крики, подзатыльники. Я тоже свободной рукой сдаю сдачи. Является милиционер. Нас ведут в отделение милиции.
По пути высасываю кровь из разбитой губы. А «потерпевшая» демонстрирует всем затёкший, покрасневший глаз и пухлую кисть грязноватой руки с чёткими отпечатками моих зубов. Один из которых, кстати, дал в ходе сражения изрядную качку. Ничего! Если выпадет — новый вырастет. Не впервой!
Славик, подвывая, семенит за нами. В отделение милиции под номером семь он зайти побоялся, остался на улице. Милицию все пацаны боятся, даже мальцы. А я не понимаю: чего её страшиться? Милиционеры — наши защитники. От воров, спекулянтов и бандитов охраняют. От хулиганов. Милиционеров за это уважать надо.
Отделение помещается в небольшом двухэтажном доме на улице Елькина. Рядом с многоэтажной школой номер десять, в которой сейчас размещён госпиталь.
Мне предлагают сесть как бы в прихожей на широкую скамейку, устроенную вдоль стены. По ту сторону барьера за столом расположился дежурный — пожилой, очень усталый на вид, с опухшими глазами, с седоватыми усами, подстриженными щёточкой.
Как и полагается сотруднику милиции, он строг и немногословен.
— Как звать?
— Юра. Юрий то есть.
— Фамилия?
— Рязанов.
— Где проживаешь?
— Свободы, двадцать два, «а».
— Мальчик не хочет жить на свободе, он жилает к нам в «малину», — раздаётся чей-то весёлый голос из-за решётки, которой забрано небольшое окошечко в стенной двери напротив меня за спиной сотрудника.
— Гражданин Мироедов, не мешайте работать, не то я закрою кормушку, — невозмутимо произносит дежурный и задаёт мне следующий вопрос. Рассказываю о покупке мыла. Торговка опять визжит:
— Никакова мыла не знаю! Головорез! У него финак[39] в кармане, гражданин начальник! Он меня зарезать хотит! Штопорнуть[40] на гро́ши. Он штопорило! Ево все урки[41] знают, — выдумывает она. — Вы ево обшмонайте, у ево и не то есь. В карманах.
— Успокойтесь, гражданка. Надо ещё разобраться, кто из вас потерпевший, — серьёзно произносит дежурный.
— Резáн, братишке передавай горячий, — с удивлением слышу я тот же голос. Кто это? Не Тольки ли Мироеда брат?
— Во, дежурный, чо я говорила? — торжествуя, орёт торговка.
Меня обыскивает милиционер, а дежурный закрывает зарешёченное окошечко.
Ничего кроме отцовского письма и носового платка в единственном кармане штанов у меня при обыске не обнаружили. Ключ от дверного замка, привязанный к шнурку, висит на шее, под рубашкой. Его не нашли. Или сделали вид, что не заметили.
— Мать где работает?
— На заводе.
— Кем?
— Снаряды обтачивает на станке, — громко, чтобы и торговка-лгунья услышала, отвечаю я.
Дежурный коричневым от махорки пальцем тычет позади себя, не оборачиваясь.
— Сюда поглядел, Юра Рязанов.
На стене висит большой плакат, на котором изображён губастый и глупый на вид человечек, а рядом — другой, с громадным синим ухом и хитро прищуренным глазом. Читаю подпись: «Болтун — находка для шпиона».
— Так ведь вы не шпион, а мильтон, — оправдываюсь я. — И сами первый спросили…
Из неведомого мне помещения, из-за двери с зарешёченным окошком доносится хохот. Надо мной потешаются.
— Дежурный отделения милиции Батуло, — поправляет меня мильтон и добавляет: — Бдительным ты обязан быть везде. Про то, где снаряды делают, — помалкивай. Усвоил? И мой совет: держись подальше от таких, как гражданка э-э-э… (он заглянул в протокол) Погорелова. Слушай свою мать. А деньги ваши вам народный суд вернёт.
Он меня удивил: почти слово в слово повторил мамино наставление. О послушании.
— Да он подзаборник! — неистовствует базарная торговка. — Никакой матери у него нету и не было! Щипач[42] он, хапушник![43] Блатарь! Заберите ево! Посадите! Он мне трамву нанёс зубами, подзаборник!
— Есть у меня мама, есть! — кричу я в ответ. — Хорошая! Это она мне деньги дала мыло купить. А ты обманщица! А ещё такая длинная выросла. И всё врёшь!
— Зинка, шимка, лярва[44] ты моя, куколка, откедова выпала? — весело осведомляется тот же насмешливый голос из-за частой решёточки, прикрытой ещё и дверцей, похоже железной. — Чеши сюда, ненаглядная ты моя профура![45] Поиграем в папки-мамки, захорошит тебя Зинуля. Рачком пристроисся. Ежели мало будет, пожиже разведём. Нас тут вон сколь… И у всех — столбняк.
Базарница будто не слышит ничего, повёртывается к окошку спиной. Зато дежурный решительно опять поднимается и плотно, со скрежетом затворяет на засов дверцу, которую почему-то назвал кормушкой.
— Вот что, парень, — нестерпимо жёстко глядя мне в глаза, произносит дежурный. — Отец твой под Сталинградом кровь проливает, мать работает денно и нощно, себя не щадит, а ты хулиганишь. О чём думаешь, парень? В колонию для малолеток хочешь попасть?
Молчу, опустив голову. Хоть бы сквозь пол провалиться.
Зато опять вмешивается горластая торговка.
— За фулиганку его надо зачалить, по семьдесят четвёртой, часть первая, гражданин начальник. Штобы знал, как на чесную деушку грабки подымать!
За решёткой раздаётся дружный хохот и улюлюканье. Для них, неведомых мне весельчаков, находящихся за дверью, наша беседа — потеха. Цирк!
— Зинка, ну курва,[46] ох уморила! Чесная деушка! Целка — во што бздит! Охо-хо, хэ-хэ! — продолжает изгаляться[47] Мироедов. Значит, слышно всё и через дверцу кормушки.
— Ты чо меня, Мироед, закладываешь мусорам?! — ощеривается торговка, повернувшись-таки к окошку. — Думаешь, голоса твово не расчухала?
— Всем, — приказывает дежурный, — молчать! Не то в бокс переведу. Мироедов Борис, тебя предупреждаю! В последний раз.
В неведомой мне комнате, где заперты весельчаки, становится тихо. Стараюсь понять, что значит «в бокс переведу»? Тот, что в цирке?
Забегая впёред на семь лет, признаюсь, что мне в полной мере пришлось узнать «секрет» милицейского «бокса», при воспоминании о котором более чем через полвека от испытанного ужаса мурашки пробегают по спине. А тогда я точно вспомнил: Мироед — знакомая кличка. Так по-уличному Толяна Мироедова зовут из дома номер тридцать. По нашей же улице. Шпана. А отец его — старый большевик. В какой-то «тройке» работает. Нас, соседских пацанов, тростью понужает, если на пути встретит, — всех без разбора. Не братец ли Толянов, карманник, хохмит за дверью с зарешёченным окошком? Опять попался? Толян очень им задаётся.[48] И пугает, если кто на него «потянет».[49]
Закончив заполнять протокол, дежурный наставляет меня:
— Иди домой и скажи, чтобы мать пришла в милицию. В седьмое отделение к дежурному Батуло. Я с ней побеседую.
— Письмо отдайте, — угрюмо говорю я и встаю. — И деньги тоже — сто семьдесят три рубля. Они у неё. Притырены.
— Возьми письмо. И не позорь больше родителей.
Он протягивает мне истёрханный треугольник.
— Я отсюда всё равно не уйду.
— Как — не уйдёшь? — дивится дежурный.
— Пусть мне эта тётенька мыло отдаст. За сто семьдесят три рубля. Или деньги. Они у нас последние. А до получки ещё далеко.
— Какие гро́ши? Свистит он всё, гнида! — вопит торговка. — У меня не копья, хочь обыщите. Сама — нищая! Сухой коркой перебиваюсь. С голодухи опухла.
— Гражданка… — дежурный заглядывает в протокол.
— Вертидыркина она, — продолжают озорничать в невидимую дверную щель.
— Так вот, гражданка Погорелова, Зинаида Васильевна, с вами мы разберёмся особо, — объявляет дежурный Батуло. — Присвоенное вами взыщем. И возвратим пострадавшим.
— Хрен вы што с меня получите, — огрызается, как её назвал дежурный, Зинаида Васильевна. — От хрена уши.
— Насчёт денег пусть придёт мать. Так ей и передай, Юра Рязанов.
Он уже не столь сурово смотрит на меня.
— Больше сюда не попадай! Ясно? Это место не для таких, как ты.
— До свидания, — говорю я машинально.
Молча выбираюсь из помещения милиции. Славик терпеливо поджидает меня на противоположной стороне улицы, на лавочке.
— Что тебе там рассказывали? — любопытствует он. — Тересно?
— Чего «тересного»[50] могут в милиции сказать? Вот письмо папино отдали. А деньги эта баба захамила, фашистка. Сказали, чтобы мама за ними пришла. Эх ты… Испугался. Нюнить только умеешь. Струсил. А ещё на фронт хочешь, с немцами сражаться.
Журю я брата просто так, без злости. От обиды, что не отстоял своё, — ни денег, ни мыла.
— На фронте хорошо, — оправдывается Славка, — у всех немцев фашистские знаки. Их сразу видно: тр-р! — и всё — наповал!
…Я честно рассказал маме о происшествии. Но в седьмое отделение милиции она не пошла — некогда. Работала по полторы смены в сутки, и за её сверхурочный труд нам выдавали сухой паёк: крупу, суповые концентраты… Да ещё свои обеды приносила домой.
Я со стыдом подумал, что она решила пожертвовать деньгами, лишь бы не объяснять никому эту историю с ненастоящим мылом и моей дракой с базарной мошенницей. И мне, доверчивому и наивному, в будущем наука: мороковать надо прежде, чем решиться на что-то. Не поддаваться желаниям. А то Славку «воспитываю», а сам глупости совершаю. Отвечать же другим приходится. Маме. Своими кровными рублями. Несправедливо.
…Возвратившись домой, братишка долго корпел над самодельным альбомом, что-то старательно рисовал, макая химический карандаш в каплю слюны на столешнице.
Вечером заглядываю в скручивающиеся листы, сшитые из довоенных обоев с отпечатанными на них серебряной краской цветочными виньетками, — для достроя купили, очень красивые. Славка наслюнявленным химическим карандашом изобразил уродливого человечка — других он ещё не умеет рисовать — с квадратиком в руке, больше похожей на клешню. На груди человечка выведена жирная паучья свастика, в которую упирается трасса пуль, выпущенных из «Максима». На щитке пулемёта и стволе красуются звёзды. А на квадратике в руке уродца печатными буквами выведено: «МЫЛА». Причём «Ы» начертана неправильно: сначала палочка, а после мягкий знак петелькой в противоположенную сторону — влево.
Брат ещё не ходит в школу, а поглядывает в мои тетради, когда я над ними тружусь.
1960 год
Человек на кресте!
и Первое знакомство с Одигитрией[51]
Алое поле, сколько помню, всегда манило нас, пацанов, таинственностью, запущенностью и неизведанностью. На заваленном десятками разнообразных по форме мраморных могильных плит и похожих на саранки или какие-то заморские круглые фрукты памятников пустыре мы, стайка свободских ребят, часами разглядывали, разбирали надписи, даты жизни и смерти («почил»), обсуждали, придумывали, какими внешне могли быть те, в чью честь вытесано то или иное красивое надгробие, а они все были красивы и загадочны, каждое по-своему. Только побиты, как будто кто выполнил безумное задание — осквернить их. Хулиганы колупаевские, наверное, сумасшествовали.
Об Алом поле ходили невероятные, кошмарные слухи, от которых мороз по коже драл. Этим нас, верно, и привлекало заброшенное, как нам казалось, забытое всеми кладбище.
И ещё притягивала громадностью и недоступностью многокупольная церковь из тёмно-красного плотного кирпича. Купола на храме не сохранились, а на столпных площадках рос жухлый бурьян и низенькие деревца, которые придавали его виду сугубую древность, — построили ещё в незапамятные, очень давние времена, одним словом — до революции.
С Юркой Бобылёвым (по уличному — Бобыньком) в прошлые лета мы не раз и не два вдоль и поперёк излазили всю территорию парка, исследовали подступы к крепости-храму и его массивные стены, но не нашли щели, через которую можно было бы проникнуть внутрь безмолвного и поэтому ещё более привлекательного помещения.
Лёжа на тёплой плите с вырезанным крестом и датами жизненного пути очень важного, как мы рассудили, толстого, всего в старинных орденах, покойника, я жевал сочный стебелёк, слушал трескотню кузнечиков, их здесь в траве водились миллионы, шагнёшь — взлетают тучей, и смотрел в небо, затянутое лёгкими, просвечивающими облаками, словно кто-то небрежно мазнул гигантской кистью с жидкими белилами по голубому фону. С процессом живописания я познакомился, посетив домашнюю художественную мастерскую Саши Пастухова, сына какого-то большого начальника на каком-то заводе (семья их жила в хорошем новом большом односемейном доме в Плановом посёлке). Саша дал мне возможность рассмотреть чудесную, с золочёным обрезом, монографию Игоря Гребаря о гениальном художнике Михаиле Врубеле (мне врезалась в память чудесная акварель «Роза в стакане») и показал свои эскизы, сделанные масляными красками на холсте.
…Но сейчас я представил себя на знакомом учебном планере, вблизи того марлевого облачка, на летательном аппарате из фанеры, выкрашенном в красный цвет, что недавно сделал вынужденную посадку здесь, на Алом поле, и столь удачно, что даже никаких уличных проводов не задел. Что меня тогда удивило — из кабины вылез планерист, снял очки-консервы, сдёрнул шлем и превратился в… молодую женщину. Через несколько часов планер, к сожалению, увезли на трёхтоннке. Но я успел рассмотреть его досконально, даже внутрь пытался влезть, да планеристка не позволила, выматерила. И сразу перестала быть столь красивой, какой выглядела вначале.
…Рядом пыхтит Юрка. Чем же он занимается?
— Ты чего шебуршишь?
— Ящерка под гроб юркнула — и нет…
Мой друг озадачен. Он сдвинул в сторону небольшой гробик сизого мрамора, надпись на котором извещала, что под ним лежит невинный младенец, проживший на грешном свете месяц и четырнадцать дней.
— Хитрая. Даже хвост не оставила, — сетует Юрка, — выскользнула.
— А зачем тебе её хвост?
— Так просто. У неё же другой вырастет…
— Вот у людей бы этак. Не ходило бы столько безногих инвалидов на костылях. И с пустыми рукавами.
— Скажешь тоже.
— А чего? У ящериц же отрастают хвосты.
— То — у ящериц. Люди не ящерицы.
— Изобрести бы такое лекарство. Представляешь?
— Не-ка…
— Ну, выпил, к примеру, столовую ложку в день, и за неделю — вот она, нога, целехонькая. Новая. Постепенно выросла.
— А если перепьёшь? Как мой папаня до войны водку бутылями пил.
— Тогда одна нога — тридцать седьмого размера, а новая сорок пятого. Или пятьдесят пятого. Пришлось бы у дяди Лёвы Фридмана разной величины босоножки заказывать. Представляешь, как он опупел бы?
— А ему што? Он такой мастер — любого размера что угодно сошьёт. Хочь шисдисят пятого — на слона.
Мы посмеялись вдоволь над придуманной несуразицей, и я спросил друга вполне серьёзно:
— Бобынёк, а что если нам с тобой накачать горячим воздухом воздушный шар и подняться на нём на самую верхотуру: через окошки можно всё разглядеть — что там, внутри церкви. Интересно ведь.
— Легче лесенку сплести. Из веревок. И по ней подняться. Но, похоже, что там ничего нет — пусто. Я слышал от знакомых старух: какие-то такие зубостаты все иконы сожгли.
— Зачем же тогда попы замки повесили? Сам здраво подумай. Там что-то затырено, верняк.
Размышляя, что за железными дверями и коваными оконными церковными решётками может сокрыто, я насвистываю «Священную войну». Мне песня нравится своей торжественностью. Громко напевая её, что стоит любую вражескую цель захватить и поразить?
Юрка прерывает постукивания ногтями по верхним передним зубам. Он здорово наторел в этой музыкальной игре, называемой «зубариками». Особенно хорошо у него получается «Калинка-малинка». Талант!
— Мамка, ещё когда живая была, рассказывала, что в церкви живёт добрая боженька, такая красивая, что глаз не отвести, — восхищённо произносит Юрка. — А когда кого-то злые люди обижают, боженька помогает, защищает от злодеев.
— Когда она тебе так говорила?
— Незадолго до смерти. Мамка в Симёновскую церковь ходила и у боженьки помощи просила. Штобы отец перестал водку пить.
— Почему же ей не помогла «добрая боженька»?
— Не знаю. Отец всё равно пировал. Да с чужими бабами таскался. А она днём и ночью чужое бельё стирала, на хлеб и суп.
Юрка глубоко вздохнул и умолк. Вероятно, задумался о своём, горестном.
Плохо, очень трудно жилось Бобыньку с трёхлетней Галькой после самоубийства матери. Хотя отец и образумился — прекратил пить водку — совсем. Да её-то, маму родную, не вернёшь из могилы.
— А мне мама рассказывала: никакого бога нет. Его попы придумали, чтобы денежку у народа выманивать. Народ тогда неграмотный был, ничего не понимал. Как говорится, жил в лесу и молился колесу. Народ с голоду опухал, а попы пировали, да богатства несметные копили. В церковных подвалах прятали, а по ночам считали и пересчитывали. Ну, помнишь, как у Пушкина, «поп толоконный лоб»? В церкви, в общем, один обман, Бобынёк.
— Какой обман? — недоверчиво спросил Юрка.
— Не знаю, какой, но обман. Эх, поглядеть бы на него, что это такое. Своими глазами. Чтобы убедиться.
И я снова принялся выискивать способ проникновения внутрь заброшенного храма.
Подкоп — бесполезняк. Фундамент наверняка уходит вглубь на несколько метров. Ломать замок или двери нельзя, не разбойники же мы. Подобрать ключ к литому замку, похожему на пятифунтовую гирю, которую мы видели валяющейся в одной соседской развалюхе-сарайке, тоже неприемлемо, — так орудуют жулики. Всякие домушники и скокари. Кирюхи Тольки Мироедова. Нам с ними не по пути.
…От долгого вглядывания в небесную лазурь ощущаешь лишь одного себя как бы растворенным в воздухе, в этом бесконечном просторе. О земном шаре напоминают шум пронёсшегося ветра, стрекотание кузнечиков с жужжанием мух, и больше ничего. Необычное ощущение собственной невесомости, бестелесности — ты превратился в созерцание и слух. Но чуть напряг мышцы, двинулся — и снова возвратился в своё тело, чувствующее очень многое: всё, что вокруг него и в нём происходит, — собственную тяжесть, прикосновение к щиколотке правой ноги какого-то растения, букашку, ползущую по плечу, солнечное тепло и обманчивую мягкость могильного камня. Угол зрения расширяется, и уже различаются многие предметы, окружающие тебя: кусок кирпичной кладки, на её темно-вишневом фоне — контуры матово-сизых, повернутых во все стороны памятников, зелень трав, желтые цветы. Сурепкой, кажется, называются.
Прозрачный шлейф облака мне вдруг представился гигантским хвостом воздушного змея, неподвижно парящего в вышине. Вот такой бы соорудить… Ну, не такой, разумеется, поменьше, но чтобы на нём можно было подняться высоко-высоко. А ведь это замечательная идея… Запуск бумажных хвостатых (из мочалы) воздушных змеев и «монахов», свёрнутых шапочкой из газеты, даже «этажерок», склеенных из дранок, бумаги и с огарком свечи внутри, — моя многолетняя постоянная страсть. Да и не только моя — многие свободские пацаны, чуть подует ветерок, поднимают в небо различной формы змеев.
На сарае, вернее коровнике тёти Ани, я прибил самодельную вертушку — флюгер. Как только он затрещит на ветру, бегу за приготовленным заранее к полёту змеем с аккуратно уложенным мочальным хвостом. Часто друзей вынужден звать на помощь — в одиночку не всегда удаётся запустить. Вдвоём, а то и втроём возможно поднять большого змея размером в газетный лист и с трёхметровым хвостом: один бежит навстречу ветру и тянет за собой суровую нитку, другой, тоже бегом, разгоняет змея, держа его в руках, а после подбрасывает, третий — транспортирует хвост, чтобы не зацепился за что-нибудь на земле, за куст какой-нибудь. Не всегда запуск удается с первой попытки. Зато, когда змей, уросливо[52] вильнув из стороны в сторону, устремится вверх и ты успеешь, не ослабляя нить, «вытравить» такой её конец, что общий наш любимец запляшет на захватывающей дух высоте, тогда исчезнут опасения, что он кувыркнётся и спикирует, упадёт на дерево или, с хрустом ломая дранки, врежется в землю.
Всё выше поднимается квадратный змей с двойным (то есть прикреплённым с правой и левой сторон, соединённым в конце) хвостом. Натянута и гудит от напряжения крепкая нить. Смотри в оба, чтобы напор ветра не оборвал её. Вот уж на катушке почти ничего не осталось. А ведь на ней намотано было, наверное, двести метров! Это ж надо, на какую высоту взмыло твоё творение! По этой нитке, да туда бы, под парус из газетного листа, повиснуть бы, ухватившись за каркас, да взглянуть вниз: как наш город с такой фантастической высоты выглядит. Но не выдержат дранки… Это, понимаю, фантазия. А что если смастерить основание, прочное, из деревянных планок, и подвесить к нему лёгкое, сплетённое из шпагата сиденье, как на качелях? В небе-то подобный воздушный аппарат тяжесть моего тела выдержит, я — не жирный Шурик-Мурик. Как с земли подняться? — вот вопрос.
Можно, например, так. Запускаем огромного коробчатого змея на крепчайшей тонкой бечёвке. Ещё одна бечева пропущена через ролик (раздобыть его не столь уж и трудно), укреплённый на нижней планке аппарата. На конце второй бечевы — грузик. Нет, груза не надо. За её конец держится пилот. Разумеется, я. Второй конец разматывается по мере взмывания змея. Достигнув определённой высоты, сооружение закрепляется, например за бельевой столб. Первый конец бечевы, перекинутый через ролик, продевается в кольцо, пришитое к лямкам, а за второй конец держат друзья Юрка Бобылёв и Игорёшка Кульша. Или, лучше, они наматывают её на специально сделанный ворот. И вот я подтянут под самый парус, на котором нарисована Славиком красная звезда — во всю ширину плоскости. Усаживаюсь в верёвочную, а лучше — лёгкую шпагатную петлю, и озираюсь… Эх, мечты! Вырасту — обязательно в лётное училище поступлю. Что может быть прекраснее парения в небе, над облаками!
— Юрок! Я, кажись, придумал, как подняться на церковь!
— Фу ты! Нарыхал[53] меня. Я же закимарил.[54]
— Как? Ты можешь спать днём?
— А чо? — удивляется Бобынёк.
— Я не могу. В детсаду меня за это всю дорогу воспитательницы наказывали. После я ухитрился глаза держать закрытыми — отстали. По дурости своей придумывают детям разные наказания. Ну, слушай дальше, о главном…
И я с жаром, размахивая руками, сначала сидя, а после — вскочив на надгробие, объясняю, как можно подняться на воздушном змее высоко-высоко. На столько метров, где страшно холодно. В одной книге вычитал, старинной, с твёрдыми знаками: «Человек и Земля».
— А шубу-то с собой возьмёшь? — улыбается Юрка.
— Какую шубу? У нас нет… Телогрейку — можно, — подыгрываю Бобыньку. — Поэтому полёт в стратосферу на воздушном змее «Красная звезда» временно откладывается. Я без шуток.
— И я — тоже. Фантазёр ты, Рязан. Давай лучше подумаем…
— А почему мой план не подходит? Что тебе в нём не нравится?
— Всё глянется.[55] Но где мы такие бечёвки найдём, чтобы твой вес держали, да ещё на такую высоту тебя подняли?
— А что, нет таких? Не разыщем? У дяди Лёвы Фридмана.
— Те нитки — сапожные. Едва ли тебя выдержат. А крепче нету. Толстая верёвка не годится. Разве что шпагат.
— Пожалуй… Да и нет у нас с тобой ни шпагата, ни толстой длинной верёвки. А та, на которой мама бельё сушит, — не подойдёт. Без спроса нельзя брать — влетит. Ещё как!
— Тоже верно, — согласился Бобынёк. — И достать негде. Купить не на что.
Мне подумалось: вечно какие-нибудь мелочи мешают осуществить самые замечательные планы.
Повернувшись на бок, я принялся разглядывать сухую землю, бегающих и ползающих по ней мелких обитателей. Они меня всегда интересовали. С детства.
Вдалеке, в начале парка, возле ленинского мемориала, замелькало какое-то белое пятно. Оно то исчезало, то возникало вновь.
— Идём, покнокаем,[56] что там такое, — предложил я.
Разморённому густым полуденным зноем, не хотелось даже двигаться, тем более вставать из бурьянной, хотя и жиденькой тени под жгучее солнце. Однако я пересилил себя, поднялся и направился к мемориалу. За мной поплёлся Юрка.
Белый предмет оказался платком на голове старушки, сидевшей на земле. Поблизости, на верёвке, привязанной к колышку, паслась пегая крутобокая коза, которая сходу пошла на нас, выставив вперёд прямые и острые рога. Хорошая защитница хозяйки. Мы, не сговариваясь, отбежали на безопасное расстояние.
— Вам чего, хлопчики? — настороженно спросила старушка, поднимаясь на всякий случай с земли и сжимая в кулаке хворостину.
У старушки умные, спокойные и чуть насмешливые глаза.
— Вы чьи будете?
— Мы со Свободы, — с достоинством отвечаю я.
— Ишь откуль вас занесло — с Ключевской, по-старому-то, стал быть. Чего вам здесь надо-ть?
— Да вот, бабушка, — начал Юрка. — Про кладбище спросить хочем, да не у кого.
— Какое ишшо кладбишше?
— Про это вот.
— Не было здеся никакова кладбишша, сроду.
— Как — не было? — не поверил я.
— А эдак. Все энти камушки свезли с Михайловского погоста.
— Какого еще Михайловского? — уточнил Юрка.
— Где чичас кино кажут. Грех-то какой на душу взвалили! Непростимай. Могилки-то порушили, камушки сюды свезли. А кости не знамо куды дели. Увезли, верно. Вместе с гробами. На свалку поди.
— А как кино называется? — продолжал Юрка расспрос.
— Того не ведаю. В ём сроду не бывала. На ево месте раньше церковь стояла архангела Михаила. В ей мово родителя отпевали. В тую германьскую помер, царство ему небесное. Спаси и сохрани его душу.
— Я знаю, что это за киношка, — Пушкина, — догадался я.
Мне вспомнилось, как однажды, давненько уже, какой-то пьяный, не старый ещё, неистовствовал в фойе кинотеатра. Грозился взорвать кинотеатр динамитом, потому что в этой земле была похоронена его мать. Пьяного скрутили милиционеры. Его выкрики я воспринял как бред. А оно вон что. Дебош для пьяного закончился тем, что его, связанного по рукам, уволокли куда-то. А я в семнадцатый раз проскользнул — и опять без билета смотрел мировую кинокомедию «Цирк». С артисткой Любовью Орловой, в которую давно слегка втрескался.
Словоохотливая старушка перекрестилась, поглядывая на обезглавленную церковь.
Юрка подмигнул мне многозначительно.
— А что это за церква? — спросил он.
— Равноапостольного князя Лександра Невского.
Мы с Бобыньком переглянулись.
— Он строил, што ли? — удивился Юрка. — Сам? Мы кино про него зырили, помнишь? Как он с псами-лыцарями здорово сражался. Всем бо́шки поотрубал, и они под лёдом в озере захлебнулись. Дак это он её построил?
— Пошто он? Купец наш, челябинский, строил — Хрипатьев. Во искупление своих грехов тяжких. Совесть-то в ём заговорила. Вот и воздвиг храм. За грех свой, великай, за то, что сироту беззащитну обидел, соблазнил, а она руки на себя наложила.
— Такую агромадную церкву один построил? — изумился Юрка. — Во стахановец!
— Пошто один? Цельна артель, сказывают, три года робила. А леворуция опосля возьми да и приключись. Его опосля и осквернили, храм-от. Порушили. А из купалов золочёных што изделали! Народ плакал, глядючи. Столевцы[57] пьяны напакостили. Мало им всё было. Хозяин завода таку хорошу плату им давал — все в сапогах ходили. Многи дома свои имели. Опосля леворуции, аки взбесились, всё кругом стали рушить. Песни пьяны запели, что весь мир разрушат. Говорят, вином их, германьским опаивали, на нерусскии деньги купленным. И в каку-то немецку веру перешли в карлы-марлы. А христову веру, исконную русскую, отринули и почали церкви ломать. Вот така беда велика на нашу Расею свалилась, по сею пору под знаком антихристовым — звездой кровавой живём. Говорят люди — до второго пришествия мучитьса будем. Вот и храмы порушены стоят, опоганены, пусты и разграблены.
— А в ней осталось што-нибудь? — допытывается Бобынёк. — Што-нибудь хорошее?
— А хто ево знает. Ломали её, да не одолели, вишь. Не допустил Господь.
Старушка, растроенная, уселась на прежнее место, отмахиваясь веточкой полыни от мух.
— А вы крещёные ли? Аль нехристи?
— Я безбожник, — похвастался я.
— А я верю, — неожиданно заявил Юрка и неловко как-то, сикось-накось, перекрестился. — Вот…
— Ты чего? — одёрнул я друга. — Ведь ты пионер!
— Ну и што? Боженьку-то всё одно хочется увидать. А неверущим она себя не кажет.
— Не кажет! — передразнил я Юрку. — Забыл, как того, боговерующего, из пионеров вытурили? «Попика» того…
Мы, конечно же, хорошо помнили то утро, когда на общешкольной линейке, которой властно дирижировала завуч школы Кукаркина, крикливая, всегда злая, школьная пионервожатая, в шёлковом алом галстуке, очень решительная, резкая в движениях, энергичная, хотя уже немолодая женщина. Она вывела из шеренги пятиклассников за руку маленького стриженного наголо белобрысого, курносого пацана, рывком обратила его к нам лицом. Тот смиренно застыл.
Крысовна-Кукаркина по бумажке громко зачитала всем, что потупившийся недоросток предал идеалы юных ленинцев, советской страны и посему не достоин носить высокое звание пионера — он верит в бога, да ещё и молится! Поэтому с него снимается красный галстук — частичка пролетарского знамени, щедро политого кровью наших отцов и дедов, свергших власть кровавого царя, помещиков, капиталистов и попов.
Крысовна визгливо, войдя в раж, выкрикивала ещё какие-то заученные навсегда словеса и лозунги, но я не слушал её, а смотрел на попавшего под её суд. Когда дело дошло до исполнения приговора, случилась заминка, — галстука на «отступнике» не оказалось. Энергичная и находчивая пионервожатая рванула с себя шёлковую косынку и торопливо повязала её «предателю юных ленинцев». Крысовна махнула рукой. С новой силой затрещали умолкнувшие было барабаны, специально извлечённые по этому «возмутительному», позорному случаю из школьной кладовки. Под их трескотню действо продолжилось. Виновник же этого представления никак не реагировал на то, что с ним проделывали. Стоял, как пыльный манекен в пустой витрине окна закрытого универмага на улице Кирова, держа в руках перед собой холщовый мешочек с ученическими принадлежностями.
Вожатая, она же и завуч, повернулась к «манекену» и сдёрнула с его шеи свой галстук-косынку, брезгливо, с хлопком отряхнула ярко-алую шёлковую ткань, а «разжалованного» подтолкнула в спину, и он понуро поплёлся вдоль по школьному коридору.
Явно неудовлетворённая мягкостью наказания, завуч объявила, что экс-пионер будет исключён из школы как «носитель религиозной заразы», чего якобы все мы «терпеть не можем».
Уличенного в вере в бога, его тут же по-детски жестокие пацаны нарекли «попиком», и он сразу превратился в объект бесконечных насмешек всех, кто пожелал над ним поизгаляться.[58] А желающих нашлось немало. Особенно изощрялся двоечник и второгодник Толька Мироедов. Он дурашливо крестился щепотью и кланялся «попику», приговаривая:
— Господи Исуси! Насрал тебе на уси!
Кое-кто из старшеклассников щёлкал оттопыренными пальцами «попика» в лоб (по-уличному такое наказание называлось «щелобаном»), подшучивая:
— Бох терпел и тебе велел…
И я, грешник, тоже глумился над однокашником, подпевая разноголосому хору:
— Поп, поп — толоконный лоб…
Вероятно, ещё дня два-три встречался мне в школе «попик», безгласно терпевший наши издёвки и измывательства. После он исчез. Вскоре о нём все забыли. А сейчас я не мог не вспомнить о «позорном явлении нашей школы» и пожалел — очень даже запоздало — пацана. Потому, наверное, что подобное может произойти и с Юркой. А он этого понять не хочет. Надо срочно разубедить друга, доказать, что никакого бога не существует, а мы произошли от обезьян.
— Нет в церкви никакой боженьки, — высказал я то, о чём думал, не тая. — В цирке видел обезьян? Не будешь спорить, что они похожи на людей?
— А вот и есть! — вскипел Юрка. — Есть Бох!
— Ох и дурачок ты — веришь в глупые бабушкины сказки.
Юрка осерчал:
— Мамке я верю. Она всегда Боженьке молилась. Просила, чтобы отец перестал пить. И он прекратил.
Твой отец перестал пить водку, потому что понял: если будет продолжать, то ты с Галькой с голоду помрёте. А его с завода уволят.
— Вот это ему Боженька и подсказала. Дошли до неё мамкины молитвы. Хоть и поздно. Не дождалась она. Зато сейчас за нас радуется.
— Как она, Бобынёк, может за вас радоваться, если её в гробу в землю закопали?
— А она с неба на нас смотрит. Она на небе теперича.
— Хошь, докажу, что никакой боженьки в церкви нет?
— Как?
— Залезу внутрь.
— А не ботаешь?[59]
— Канаем![60]
Юрка нехотя поднялся с могильной плиты.
— А ежли она тебя покарает?
Я засмеялся. Хотя Юркина боязливая нерешительность и вера в бога меня не поколебали, всё же лёгкое сомнение возникло: а вдруг что-то или кто-то там и в самом деле есть. Ну и пусть! Была не была! Сам убеждение получу. Но едва ли там есть кто-то.
Мы приблизились к храму.
— Надо штурмовать, — сказал я решительно.
— Слабо!
Ухватившись за кованый кронштейн, когда-то поддерживавший водосточную трубу, я полез наверх по углу, образованному пилоном и плоскостью стены. Со стороны это было похоже, наверное, на цирковой номер. Цепляясь за малейшие выступы и кромки кирпичей, я упирался пальцами босых ног и коленями в шероховатые стены и упрямо, хотя и медленно, продвигался вверх — от кронштейна к кронштейну.
— Ну как? — кричит откуда-то из-за спины Юрка. Но я знал, что нельзя оглядываться — сорвусь.
И каждой клеткой своего существа почувствовал самый опасный момент, когда предстояло левой рукой ухватиться за верхний кирпич и подтянуться на узкий надоконный козырёк. Выручил ещё один кронштейн, похожий на ухват бабки Герасимовны, — я встал на него и ощутил прочную опору. Железо кровли, к счастью крепкое, выдержало. Вытянувшись во весь рост, нащупал подкупольную площадку, смахнул с неё землю и какие-то мелкие галечки, подпрыгнул, отжался на ладонях, оцарапав до боли живот о неровности окаменевшего раствора, соединявшего кирпичи, приподнялся на колени, повернул туловище, сел и глянул вниз. Ух ты! Ну и высотища! Аж внутри защекотало. Что со мной стало, если б не удержался? И моментально в воображении увидел свою маленькую, худенькую фигурку, распластанную в воздухе, и её же — лежащую размозженной рядом с чьим-то вычурным, из мрамора, памятником, высеченным в виде высокого пня с отрубленными сучьями. У меня дыхание прервало от ужаса. Чтобы стряхнуть страх, заставил себя думать о другом, принялся насвистывать очень душевную песню «Гибель Варяга».
Я вглядывался в самые дальние дали. Вот это вид! Взлететь хочется — самому, без чьей-либо помощи — и, раскинув руки, ласточкой пронестись над городом.
Рубашонку мою, с отрезанными выше локтя рукавами — они уже не подлежали починке, прилепил к груди теплый верховой ветер, гудевший в ушах. А под стеной, отступив на несколько шагов, приложив ко лбу ладони козырьком, безмолвно уставился на меня игрушечный Юрка, в штанах, закатанных выше колен, и в выцветшей досера, когда-то чёрной рубахе.
— Эй, залазь сюда! — кричу я.
Юрка отрицательно качает головой.
Воробьи беспокойно носятся вокруг меня, тревожно чирикают, прыгают вблизи, смело поглядывая на незваного гостя. Где-то здесь затаены их гнезда, и разыскать их — пара пустяков. Мне, грешному, знаком вкус воробьиных яиц, но сейчас — не до них.
Мною опять овладевает необыкновенное ощущение, я как бы улетучиваюсь из своей бренной оболочки и перемещаюсь в находящиеся вокруг предметы: я — в этих нагретых солнцем кирпичах, в трепещущих мелкими листьями карликовых клёнах, растущих здесь, в отрыве от земли, над ней, в наметённом ветрами слое отвердевшей пыли и песка. Я — и в поющей ветром вышине, и одновременно — вот он я, с коротко остриженными ногтями, со смуглой от вольного загара кожей на руках, ногах; я в воздухе над этой крышей, вон в той дали, в солнечном свете вокруг… Я уверен, что вот так буду существовать вечно. Что я и сейчас в вечности — во всём этом и во всём другом — навсегда.
Опьянение прошло. Налюбовавшись досыта широчайшей, вкруговую, панорамой, осторожно подбираюсь к главному барабану. Вернее — к «шее» барабана, сорванного и низвергнутого когда-то давным-давно колупаевскими хулиганами или теми работягами с Колющенко. Всё, что происходило до моего рождения, всё это было очень давно. Потому что тогда я не существовал. Страшно даже представить, что меня когда-то не было вообще.
Широкие и высокие окна, которыми просечён барабан, с земли кажутся узкими вертикальными щелями-бойницами. Здесь, понятно, всё видится натурально, как есть. То же, что осталось там, внизу, измельчало. Нахожу взглядом старушку в белом платке. А вот козы не видать. Наверное, устроилась в тени и жует себе травку, самоуверенно поглядывая по сторонам, — охраняет свою хозяйку — любого забодает. Да ещё и молоко ей принесёт, горьковатое от съеденной полыни, — вон её сколько вокруг выросло! Меня поили таким ещё до войны. Когда был совсем маленьким.
…Внимательно всматриваюсь в оконный проём. На стенах проступают раскрашенные фигуры со сложенными на груди или вытянутыми вперёд руками. Вокруг голов удивительных фигур, облачённых в какие-то балахоны, круглые жёлтые «блины». Чудно́!
И тут я призадумался: а как спускаться? Хорошо бы найти длинную и крепкую верёвку. Увы, никто её для меня не припас. Правда, приуныть мне не давал верный и терпеливый Бобынёк, устроившийся на памятнике, изображающем большую — с бочку — саранку.[61] С таким другом не пропадёшь. Бобынёк в беде не оставит.
Присев на корточки, я скатился на пятках по раскалённому железу и заглянул в одно из окон. Ура! В узкое пространство вверху между решёткой и оконной аркой я протиснулся без урона — чуть поцарапал об острый наконечник металлического копья заграды грудь. Послюнявив царапину, чтобы не заболела, с широченного подоконника спикировал на дощатый помост, ограниченный со стороны храмового помещения заборчиком из точеных балясин, накрытых перилами. Вниз, наискосок вдоль стены, вела деревянная лестница с частично выломанными у пола и выгнившими от дождей ступенями. Однако подобные изъяны не могли стать для меня помехой.
Самое интересное: на этом как бы балкончике к стене прислонены массивные, с меня ростом и выше, щиты, а к ним притулены[62] размерами поменьше. Один из больших щитов, скреплённых горизонтальными деревянными же клиньями, я с трудом оттянул на себя. Вся плоскость щита была закрыта выпуклым металлическим изображением фигуры — как бы панцирем.
Выпуклостями на металлическом листе была изображена фигура воина в латах, с копьём в поднятой руке и с каким-то круглым предметом в другой. За спиной воина широко раскинулись огромные, тоже выпуклые крылья. Крылатый воин! На месте лица и рук потемневший металл как бы выстрижен. И на деревянном щите сквозь грязь и паутину угадывался цвет. Я послюнявил палец и потёр гладкую плоскость — проглянул человеческий глаз. Он смотрел на меня в упор и так пытливо, что я внутренне содрогнулся, — взгляд показался живым.
Поспешно слез вниз. Метра два лестницы внизу отсутствовали. И я перебрался с уцелевших ступенек на подоконник. Каждое моё движение эхом отдавалось под сводами. Часть взломанного пола, видимо, давно унесли те, кто громил церковь. Может быть, на топливо. Или ещё для каких целей. На всём подушками лежала пыль и валялся какой-то тлен, мусор, да битое стекло хрустело под босыми ногами.
— Не порезаться бы, — подумалось мне. — А то как вылезать отсюда буду? Кровью истечь можно.
Подошёл к высоченной железной двери и постучал в неё обломком кирпича, гукнул:
— Юрка! Бобынёк! Подь сюда…
— Где ты? — услышал я вскоре встревоженный голос друга.
— Здесь. Как отсюда теперь выпулиться?[63]
— А што, страшно?
— Не.
— Боженьку видел?
— На стенах нарисованы всякие. Целая толпа. А один — богатырь с копьём. И со щитом. Наверно, Невский. Бьет пса-рыцаря. А он в виде змея. Во — смехотура! Со скрученным хвостом! Вроде как ящер. Доисторический.
— Ну а Боженька, как мама рассказывала, есть? Такая, что глаз не отведёшь? Красивая такая вся?
— Такой нету. Там, наверху, есть много деревянных картин, большие и поменее.
Юрка замолчал.
— Вишь меня? — послышался голос из-под двери.
Я нагнулся и близко увидел блестящие Юркины глаза в щели между дверью и порогом.
— Держи пять, — он подсунул под кованое, танковой брони, дверное полотнище ладошку. — Не бзди, кореш. Поищи что-нибудь жилезное. Потижилея…
И я наткнулся-таки на тяжеленный лом-гвоздодёр. Остался, видимо, от тех, кто пол и все остальное выламывал. Но дверь не поддавалась. Безнадёжно долбить — гранатой не взорвёшь.
«Сюда я попал через окно. А вылезть?» — посетила меня простая мысль.
Покажилившись,[64] поднял и прислонил вывернутую тяжеленную плаху к стене под нижним окном, вскарабкался по ней, ухватился за кованый четырёхгранный прут решётки и ступил на подоконник. Выдохнув весь воздух, перевалил через завитушки и острые наконечники копий решётки. И вот я уже по ту сторону массивной, может быть более метровой толщины, стены.
— Юрк! Там ещё картины есть. На досках нарисованные. На полатях стоят.
— А что на них нарисовано?
— Мужики какие-то. Бородатые. А один тоняк — Невский. Только с крыльями. Взять, может, какие поменьше? А то они все тяжеленные.
— Тарань[65] сюда! Это иконы! Они ничьи. От попов остались. А их нету давным-давно. Всех изловили. Один батюшка Александр в Семёновской церкви остался. К нему мамка ходила молиться и свечки ставить. Ты, Ризан, хорошенько Боженьку-то поищи, лады?
Как мне ни хотелось возвращаться в пустынное огромное помещение, но пришлось.
Поднявшись с подоконника по лестнице на балкон, я выбрал из доброй полусотни разнокалиберных досок, многие из которых осыпались и зияли белоснежными заплатами, две целые, поменьше размером. Потом прихватил ещё одну. Для старушки в белом платочке. Подарок.
Попытался протолкнуть самую маленькую доску между порогом и полотнищем двери — не проходит. По одной втащил на подоконник, переправил через решётку, сам перелез.
Иконы по одной ловко подхватил Юрка, хотя окно было высоковато. Тогда мне подумалось: зачем было лезть на крышу? Ведь окно ниже.
— Сигай на траву, — предложил мне сообразительный друг, успевший натаскать под окно большую кучу бурьяна.
Я повис на вытянутых руках и прыгнул. Удачно. Лишь малость зашиб левый локоть да пятки заможило, когда приземлился. Но это ерунда. Не в счёт. Мало разве всяких царапин, порезов и ссадин набирается подчас даже за один день — не обращать же на каждую внимание — послюнявишь, и сами быстро заживают.
Травой мы тут же очистили от грязи лицевую сторону разрисованных досок. И я вспомнил, что уже встречал такие картины, а точнее — портреты (прошлым летом).
Мне вспомнились и другие иконы.
…Я прибежал к товарищу и однокласснику Майке Клещёву, который жил в доме, выходившем фасадом на улицу Пушкина, как раз напротив двора, где произошла памятная история с больным котёнком, вытащенным нами со Славиком из поганой ямы за общежитием трамвайщиков.
Май, с которым мы летом общались через открытое окно (его мать строго-настрого наказала никого из своих друзей в дом не пускать — такая недоверчивая была), отсутствовал.
Я припустился к себе домой, но не через двор, где находился барак трамвайщиц, обогнув который, можно было сразу попасть в наш огород. Миновав проезжую часть улицы, свернул направо, перелез через высокий забор, спрыгнул с него в чужой двор, соединённый с другим двором — Свободы, двадцать восемь. Там, в подвале одного из домов, жил мой друг и однокашник Юрка Бобылёв. К нему-то я и устремился, но неожиданно столкнулся с Алькой Каримовым, тоже свободским знакомым пацаном из нищей воровской семьи.
Увидев, что кто-то прыгает через забор, Алька дал дёру к щели в заборе, но, оглянувшись и узнав меня, остановился и выматерился.
— Нарыхал… меня, Рязан! Ты чево тут?
— К Бобыньку бегу. А ты как здесь оказался?
— Святых шмаляю![66]
— Как — шмаляешь?
— Как-как? Из рогатки.
— Ты что — чокнулся?
— А чо с имя́ делать? Тама больше ни хрена нету. Кто-то скок[67] раньче меня залепил в хату.
Двух старушек все знавшие их или видевшие называли монашками и сестрицами. Они всегда ходили только вдвоём, часто — взявшись за руки. Кое-кто из соседей подавал им милостыню. Жили они впроголодь.
Умерли неожиданно, сначала одна, а за ней вскоре последовала и другая. Говаривали и другое: они одновременно вдвоём ушли из жизни. То ли угорели, то ли просто так получилось. Их куда-то увезли (они были одинокие). Ветхий домишко, в котором они ютились всю жизнь до глубокой старости бобылками, какие-то начальники опечатали, и сразу же дом кто-то разграбил. Да что можно взять у нищих? До Альки Каримова эта весть дошла слишком поздно; любители поживиться чужим обчистили осиротевшее жилище с большим проворством, дочиста.
Желающих поселиться в нём не нашлось, якобы потому, что перед смертью старушки-сестрицы, по слухам, кому-то пророчили: кто на наше место придёт, того постигнет та же участь. И вроде бы предсказание почивших якобы вскоре подтвердилось: какой-то бродяга решил переночевать в роковой избушке, и его нашли мертвым на их кровати с истлевшим, наверное дореволюционным, матрацем, который даже воры не взяли. Я не верил в эти бабушкины сказки, но избушки сестриц-монашек сторонился. Алька же Каримов не постеснялся обшарить страшноватое жилище, снял со стенки две закопчённые иконки (я их назвал «картинками») и сейчас наслаждался стрельбой по ним гальками из рогатки.
— Шмальнёшь, Резан. Слабо? — подначил он меня и указал на прислонённые к бревенчатой стене «картинки».
— Не. Поглядеть бы, что на них нарисовано.
Любопытство овладело мною вдруг.
— Не трожь, не греши, — предупредил меня Алька. — Я их надыбал.[68] Хошь, бери. За гро́ши. Сколь дашь?
— Они же чужие.
— Штрунди дуба дали.[69] Теперича они мои. У тебя ашать[70] дома есть што? Цимус[71] какой-мабудь? Бутенброд с тушёнкой?
Однажды постоянно голодный Алька увидел, как я на берегу Миасса во время уженья рыбы подкрепляюсь бутербродом, только вовсе не с жирной американской тушёнкой, а с советской тощей килькой, выкупленной по продуктовым карточкам, как мясо. С тех пор он, наверное, и уверовал, что Рязановы одними деликатесами питаются.
— А за иконы (он знал как называются эти «картинки») жрать тащи чево-нибудь. Набздюм. Пиисят на пиисят!
— Какие пятьдесят? — недоумённо спросил я.
— Ты чо, феню не секёшь?
— Нет.
— Половину бутенброда гони! Аль цельный!
— С чего ради, Алька? Да и нет у нас никаких бутербродов.
— Што есь, то и тащи. Я заявил — мне положено. Жрать охота. Кишка кишке протокол составляет.
— Так бы и сказал, что есть хочешь. У нас лишь хлеб чёрный имеется. Гренками называется. Жаренный на маргарине.
— Сойдет. Только ты кота за хвост не тяни. Я тебя здесь подожду.
— А ты больше в иконы не пуляй. Честно?
— Чесно.
Алька кусочек хлеба, принесённый мною, целиком запихал в рот, продолжая смотреть на меня алчными глазами.
— Ещё есь?
— Нет.
— Божись!
— Чего божиться? Оправдываться, что ли, перед тобой?
— Вы богатые Ризаны. У вас всю дорогу найдётса што пожрать!
— Мама у нас по полторы смены вкалывает. На заводе. А ты думал, нам с неба всё сыплется?
Я не испытывал боязни перед Алькой. Но и понимал, что он голодный парень. И ему надо по возможности помочь. И ворует-то он, чтобы не умереть с голоду.
Сейчас, поглядывая на «картинки», я твёрдо произнёс:
— Никаких бутербродов у нас, Алька, нет. Картошки ещё осталась немного.
— В «мундирах»? Тада и соли горсть.
— Принесу. Одну картошину. Посолю. Подожди только. И не стреляй в картинки.
Я опять вскарабкался на сарай и по крышам помчался в наш двор, преодолевая по пути заборы, — мне это нравилось. А мама часто удивлялась, зашивая дыры и разрывы, что одежда моя, как она выражалась, «горит как на огне».
Дома в кастрюле я нашёл сваренную на обед картошку и сунул несколько клубней за пазуху майки. Без промедления побежал назад, опасаясь, что Алька может не сдержать слово и шмаляет по «картинкам». От него можно было ожидать любой выходки. Неудивительно: отец его, известный авторитет в среде блатных и приблатнённой свободской пацанвы, почти безвылазно сидел по тюрьмам, а его сожительница (дворничиха нашей стороны улицы — от Труда до Карла Маркса) работала, не жалея себя, чтобы прокормить четверых детей, но не в силах была вытянуть непосильную ношу, которую взвалила на неё жизнь.
У Альки мне доводилось бывать раньше довольно часто, но ничего, кроме вшей в обмен за пересказы мною прочитанного (все в этой семье были неграмотны), я из их избушки-самостроя не выносил. Старший Алькин брат, по кличке Юрица (вероятно, у него имелось настоящее татарское имя, ведь и Алька был вовсе не Алька, а Али), и маленькая, младше нас, сестрица Надя. Ещё одна сестра Соня, девица лет девятнадцати — двадцати (когда я знался с Алькой), кормилась «угощениями» солдат. Но ещё более молоденькой я помнил её стоящей по вечерам у ворот. Она окликала солдат из воинской части, располагавшейся в казармах на углу улиц Свободы и Труда, проходивших мимо её двора. Я не понимал, о чём они договариваются, и не догадался даже тогда, когда стал свидетелем сцены, в которой скандальная соседка ругала и оскорбляла Соню за то, что «солдаты ей дырку провертели». У меня такая новость вызвала удивление: как можно в живом человеке отверстие просверлить? Зачем? У Альки я постеснялся спросить, в чём обвиняет Соню злоязычная соседка.
Об Юрице и Альке я ещё упомяну в другом очерке, а о бедной Соне вскоре прослышал от пацанов, что она больна «чихоткой» (туберкулёзом). И мне её стало жаль, потому что уже тогда имел точное представление об этом страшном, смертельном заболевании и какая судьба вскоре ожидает эту девушку. Мне ещё не было известно, что и Алька — тоже туберкулёзник.
Но я забегаю вперёд. Вернёмся к избушке покойных сестричек-монашек (так их однажды назвала Герасимовна). Вероятно, они на самом деле приняли постриг, поэтому и жили столь уединённо и скрытно от всех. Но эта догадка пришла мне намного позднее.
…Он ждал меня на прежнем месте, у стены избёнки, к которой были прислонены две небольшого формата «картинки» (мне больше нравилось называть именно так, а не иконами). Пока Алька жадно чавкал, давясь пищей, я разглядел на одной из них бородатого, лобастого, лысоватого мужичка с небольшой, аккуратно подстриженной седой бородой, на другой — молодую женщину с ребёнком на руках. В общем, не особенно хорошо просматривались рисунки сквозь вековую копоть.
— А где же боги? — спросил я.
— Хрен их знает. Тама, — Алька показал на темные досочки.
— Это портреты.
— Ты, Рязан, не хлызди.[72] Пообещал — гони! Соль где?
— Соли не нашёл.
— Ежли не нашёл — на соль ты у меня в замазке.[73] Завтра отдашь две горсти. Ежли двинешь[74] — щётчик[75] пущу.
— В общем, иди ты от меня подальше со своими картинками. Не нужны они мне. Знаю я ваши замазки. Только палец в рот сунь — по локоть руку откусите.
— Не берёшь?
— Ты что — глухой?
— Смотри, на толковище будем разбираться. Пацанов соберу, Резан.
— Пошёл ты к чертям свинячим со своими пацанами. Я тебе ничего не должен. Ты мою картошку съел и с меня ещё что-то требуешь. И грозишь. Совести у тебя нет, Алька.
— Я по понятиям толкую: где совесть была, там хрен вырос.
— Это вы, блатные, между собой по понятиям права качайте. А я не блатной. Я домашняк.[76] Ты сам говорил. Так что забирай свои картинки.
— Лады, Рязан. Отдаю тебе их за так. Как корешу.[77]
— Никакой ты мне не кореш, если из меня жилы вытягиваешь. Больше от меня ничего не получишь, бесстыжая морда.
— Тебе с горки виднее. Берегись, Рязан!
Ну и свинья ты! — гневно подумал я об Альке и полез на крышу сарая. — А картинки всё-таки краденые. И у кого? У мёртвых! Правильно поступил, что не обменял их. Да и куда я с ними денусь? Домой — нельзя. В сарайке можно затырить,[78] чтобы мама не нашла. А дальше что? Герасимовне отдать или в церковь отнести. От мамы этого тоже не скроешь… Нет.
Куда «картинки» дел Алька, не ведаю. Жаль, если из рогатки расстрелял. Я давно заметил, что он весело любил все ломать и портить. Ничего ему не было жаль. Поскольку не имел никакого своего имущества, всё вокруг — «не моё», бей, круши! И сам ничего полезного для других не сделал. А ведь уничтоженное им кто-то создавал. На благо людям. У него же ничего лично своего нет, чем он мог бы дорожить. Такие Альки всё уничтожают. Что не могут съесть, надеть на себя или продать, чтобы тут же прогужевать.
…И вот новая находка. На одной — на голубом фоне в малинового цвета одеянии, молодая и красивая, как говорит Бобынёк, боженька. Она держит на руках мальчишку в длинной белой рубахе, русоволосого, кудрявого и румяного. На другой — черноглазый черноволосый мужчина с сурово сдвинутыми бровями и поднятым грозящим пальцем, с таким же, как у других, «блином» вокруг головы, только, похоже, золочёным, вернее прилеплённым к затылку, что и на стенных рисунках, взирает на нас строго и пронзительно. И даже гневно. А на третьей художником изображен круглолицый и румянощекий парень с драгоценной коробочкой в руке. И с куриным вроде бы пёрышком в ней. Наверное, писарь. Были же раньше писари, гусиными перьями рисовали и писали царские указы разные. Например, сделать крепостными бедняг-крестьян. Или: отрубить революционеру Пугачёву голову. Во времена были! Царизм, одним словом. Хорошо нам сейчас живётся. При социализме-то.
…Найденное поделили по справедливости — семейный портрет я оставил себе, «цыгана» согласился взять друг, хотя ему приглянулась боженька с мальчонкой. Парня румяного, с коробочкой и пёрышком в ней, мы решили отдать старушке.
Она обрадовалась подарку, заулыбалась беззубо, отёрла доску головным платком, поцеловала и объявила нам, что это икона и мы спасли её из сатанинских когтей. Бабушка теперь будет молиться, чтобы святой Пантеле́ймон нам всем дал здоровья. Я не удержался, загоготал, вспомнив Пантелеймо́на из киношки «Весёлые ребята».
— Господь вознаградит вас, ребята, за доброе дело, богоугодное, — уверила нас старушка. — От радости смейтесь, смейтесь…
О, если б она знала, над кем я насмехаюсь!
Этого я не мог уразуметь: каким волшебством нарисованный человек может наделить нас и бабушку здоровьем? Откуда он его возьмёт и что это такое — назаваемое ею «здоровье»? В чём оно находится — в коробочке, что ли? Нарисованная вещь больше походит на большую чернильницу. В общем, ахинея какая-то. Но картина эта оказалась, пожалуй, самой красочной. При ярком солнечном освещении. И красивой. Завораживали розовые, перламутровые и алые краски.
— А как звать его, этого… парня? — переспросил я.
— Святой Пантелеймон, целитель, дай тебе бох, чего хочется. Господь отблагодарит вас за доброе дело, — растроганно повторила старушка. — Из неволи, из заточения иконы святые спасли.
— Значит, он, доброе дело сделал, что пробрался в церковь и приволок оттуда эти ничейные иконы? — уточнил Юрка. — Его за это боженька не покарает?
— Бох ему судья, — запричитала уклончиво владелица козы. — Бох его рассудит… Всех рассудит на Страшном суде. Каждому воздаст по деяниям ево.
Вот и попробуй пойми её, что к чему: то ли отблагодарит, то ли судить будет. Не народный судья с заседателями, а какой-то неведомый мне бог. И невозможно представить даже.
— Слышь, Юр, я загоготал, когда старушка того парня назвала Пантéлеймоном. Помнишь, в мировой киношке: «Пантелеймóн, вставай!»? И мужик из гроба вылезает и водку хлещет из горла. Шкодный[79] такой!
— Это совсем не то, — возразил Бобынёк. — Ты не путай. То другой Пантелеймон. А этот — це-ли-тель. Помолился ему за себя или за другого, кто заболел, — и как огурчик.
Спорить я не стал, хотя слова Юрки походили на сказку.
— Боженьку дашь мне? — попросил Бобынёк.
— Она мне самому нравится, Юр, — не согласился я.
Бобынёк сразу скис. Напрасно я пожадничал. Да кто знал?
— Бери бога, — предложил я. — С бородой.
— Мне Боженька больше глянется, — настаивал Бобынёк.
— Давай по-честному — метнём, — решил я. — Кому орёл — тому и боженька достанется. Идёт?
— Давай. А гро́ши у тебя есть? — уточнил Юрка.
— В загашнике сорок восемь копеек. Четыре водочные бутылки сдал!
— Я буду метать, — заявил Юрка с поспешностью.
Домой я вернулся с боженькой — не повезло Бобыньку.
Старушка назвала её Богородицей. Странное название: Одигитрия. Ни на имя не похоже, ни на фамилию. Нет, на фамилию смахивает. На заграничную.
Из предосторожности, вернувшись домой, на всякий случай оставил икону в дровянике, предварительно отмыв её от грязи. Икона оказалась невероятной красоты. Она и сейчас, стоит лишь напрячь память, возникает в моём воображении, словно вижу её наяву. От одежд фигур, написанных яркими, сочными красками, исходило почти ощутимое сияние, усиливающееся до золотой густоты вокруг голов. Разве может так быть, чтобы человек светился? — недоумевал я.
Нежный румянец белых перламутровых лиц, словно подсвеченных изнутри, вызывал невольное притяжение — таких людей вживе не бывает. Да разве возможно настолько прекрасно нарисовать обычными красками на обычной доске?! Такие мысли роились в моей голове, когда я принялся внимательно рассматривать икону.
Разобрал кое-как и надпись слева наверху: «Образ Одигитрии», справа: «пр. бцы». Что за непонятные слова такие? Что за «пр. бцы»? Об этом я справлюсь у Герасимовны, она наверняка обо всём божьем знает.
Я продолжал разглядывать волшебную живопись — промыв её ещё раз намыленной тряпочкой — с восхищением, какого ещё никогда не испытывал ни от одной из виденных мною картин. В портрете, а мне думалось, что это именно портрет, сквозили очарование и необыкновенная, невиданная мною дотоле и несравнимая ни с чем и ни с кем красота. Изумляла, завораживала чистота и яркость красок. Но главное — не в них. Картина производила впечатление живого изображения. Словно сквозь невидимое стекло живых людей видишь. Как будто в фотоаппарат смотришь.
Лёгкий разлёт тонких бровей Богородицы, розоватые ноздри, красноватые уголки широко распахнутых карих глаз, глядящих на тебя, с бликом света, исходящего изнутри, из самих очей, смотрящих с затаённым страданием, доверчиво и доброжелательно, — вот, оказывается, какие очи «боженьки»! В самом деле, от таких глаз трудно оторваться. Повторюсь, они притягивают чем-то, чего не объяснишь, что можно лишь почувствовать, чем можно изумляться, восхищаться. В маленьких, плотно сжатых губах затаилась не то вспугнутая улыбка, не то подавленная гримаса, вызванная болью — внутренней болью.
Лицо же младенца выражало недетское мудрое спокойствие. Вызывал недоверие высокий старческий лоб с морщинами и залысинами. Таких лбов у пацанов не бывает.
Что-то очень трогательное чувствовалось в склонённой к ребёнку в белом балахончике — это явно был пацан — фигуре Богородицы. Что-то чуть грустное угадывалось, зато никакого страдания и беспокойства не обнаруживалось в прямом взгляде по-старчески мудрого мальчика — смотрел он словно бы задумчиво, размышляя о чём-то своём, очень серьёзном, по-взрослому важном. Похожее выражение лица я наблюдал у учеников за решением задач в школе. Так то были взрослые ребята, а этот — совсем малыш. И оба эти портрета, несмотря на яркие краски, какими были написаны, выглядели легкими, воздушными, просвечивающими. Такой мысленно я вижу ту икону и сейчас. А раздумывал над ней тогда, уединившись в сарайке.
Вглядываясь в лицо Богородицы, мне порою казалось, что она грустна и весела одновременно. Хотя по собственному опыту знал, что так в жизни не бывает. По крайней мере, в моей, когда меня незаслуженно обижали. Или я чему-то веселился, поглядывая в зеркало и строя рожицы. Удивляло безмерно меня и то, что выражение лица боженьки постоянно менялось, с малейшим картины-иконы перемещением в пространстве. Иным становилось внутреннее её состояние, а с ним и всё изображенное на доске. И от моего настроения, вероятно, тоже. А порою мне казалось, что это чудо вовсе не нарисовано на доске, а как бы парит над ней отдельно. Но так не бывает!
Я мог бы поклясться, что такого чуда, исполненного красками, повторяю, ещё не видывал! Хотя уже обладал толстой папкой репродукций из «Огонька» и других журналов. Даже дореволюционных.
Иллюстрации в книгах, иногда цветные, фотографии, открытки, переводные картинки, плакаты — всё, что я накопил, близко не сравнимо! Даже большущее полотно в затейливой багетной раме, аляповатая копия «Охотников на привале», висевшее в вестибюле бани по улице Красноармейской, дотоле представлялось мне пределом красоты, и я мог разглядывать эту картину часами, выстаивая свою очередь. Даже два запомнившихся мне портрета: «Мальчик с виноградом» и «Женщина в чёрном», висевшие на стене второго этажа продуктового магазина по улице Труда возле каменного моста через Миасс, даже эти очаровательные произведения живописи не могли соперничать с моей находкой.
Не знаю, почему я оставил икону в дровянике, — что-то удерживало меня от показа находки маме. Продемонстрировать бы её Герасимовне, да осерчала крепко она на меня за последний спор, возникший между нами возле куста сирени Малковых. Я разглядывал красивую гусеницу, большую, тугую и рогатую. И не засёк, как старуха, шаркая опорками, подшкандыляла[80] ко мне и, уразумев, чем я столь увлечён, доброжелательно произнесла, без всяких вступлений:
— Вшё энто твари божии… Бог — он и шеловека праведным, Егорка, шождал и в рай помештил жить… Адама-те и Еву. Из глины их шлепил и душу в их вдохнул.
Я её перебил, напичканный передовыми научными знаниями:
— А нам учителка рассказала: человек произошёл от обезьяны. Вот.
Здорово я ей отрезал! С научной точки зрения.
— Этта как жа так? — недоумённо возразила бабка. — Неужто аближьяна могёт шеловека родить? Эдак и кошка шабакой могёт окатитша… Ежли они шпарятша. Кака жа глупая ваша ушительниша.
— Да нет же, бабушка, — блеснул я школьной премудростью. — Сначала на Земле жили обезьяны. После ихтиозавров. Постепенно они стали использовать палки, чтобы съедобные корешки ими выкапывать и лопать. Потом приноровились камни обтёсывать и делать из них ножи и топоры. Стрелы тоже, пики… Словом, оружие.
Бабка терпеливо слушала меня. Хотя и волновалась.
— На диких животных научились охотиться. На львов пещерных, например. На мамонтов. Это слоны такие, лохматые-прелохматые. На снегу спали — и хоть бы хны! Не простывали. Даже не чихали. Не то что какими-то воспалениями лёгких болеть.
— Штрашти-те каки, Егорка, баешь. Этта когда жа и хто из людей шлонов лохматых видал? Шлоны вше лышые. В жопарки шама жрела. Аль их под мышинку обштригали? Как в бане?
Оказывается, Герасимовна, обладала познаниями в истории и умением спорить. Раньше такого дара я в ней не замечал. Конечно, за восемьдесят или девяносто лет можно кое-чему научиться. Она и в зоопарке, выяснилось, бывала! Когда и где, интересно?
— Те мамонты давным-давно вымерли, бабушка. Первобытные люди всех их съели. А недоеденных до сей поры в вечной мерзлоте находят. Огромные скелеты — с наш дом! Вот.
— Да хто тебе про эдаких-то маматов небылиши наплёл, Егорка?
— Все та же учителка естествознания… В музеях их кости хранятся. Даже целые скелеты. Обглоданные теми троглодитами. Так первобытных людей называли. Которые от обезьян произошли. Люди первобытные как на древних слонов охотились? Яму большую-пребольшую выроют на тропе, по которой они на водопой ходят, замаскируют её свежатенкой из лопухов громадных, лакомых. Мамонтам пить охота, они и идут цепочкой, и в ту яму проваливаются. А вылезти-то не могут. Тут всё племя из пещеры выбегает и с воплями мамонта того здоровенными камнями по башке бац! бац! И убивают. Он ревёт, бедный, в кровищи весь, а дикие люди его бомбардируют: хрясь его по кумполу, хрясь! Пока не доконают вовсе. После вытаскивают из той ямы, разрубают каменными топорами и режут ножами — жуткое зрелище! И на костёр. Поджарят и слопают всей гурьбой. Из шкуры же его мохнатой одежду себе шьют — теплотища! Что-то вроде плащей. На ноги — бахилы — никакой мороз не прошибёт. Ведь по снегу приходилось им бегать. Всё это у нас, в Сибири и на Урале, происходило. До сих пор скелеты тех мамонтов обглоданных находят, — для убедительности повторил я.
Бабка притомилась, внимая мне, но не спорила, не опровергала: лишь свою кошёлку рядом поставила. Наверное, промышлять что-нибудь съестное в магазине намерилась, да я её отвлёк.
То, о чём я живописал, словно перед моими глазами всё проходило, словно бы сам всему этому свидетелем являлся, и даже участником!
— Вот как дело с происхождением человека было, бабушка, — закончил я своё вдохновенное выступление, оставшись весьма довольным собой.
— Врешь ты вшё, Егорка. Думашь, я штаруха, дак аближьяну от шилавека не ражлишу? Не штыдна над штарым-те шиловеком ижгалятша? Жнай, меня ш панталыки не шабьёшь! Я ишшо в ждравом уме, шлава богу.
— Бабушка, честное тимуровское, это не я придумал…
— Шлушай меня, врун нешшашный. И помни: первых людей Адама и Еву Бох шатварил. Иж глины шлепил. И в рай пропишал. И жили оне в раю препеваюши. Ан жмей шаблажнил Адама с Евой яблошко отведать, штал быть, ш тово райшкова древа. Они и поддалишь шаблажну-те. Бох ражгневалша на их и ижгнал иж Рая-те. Вот и мыкаютша люди грешны ш той поры на грешной жемле жа Адамов ш Евой грех первороднай.
Конечно, эта сказка выглядела забавно. Однако я нашёл, чем достойно возразить тёмной, убогой старушенции, — не напрасно меня в школе Нина Ивановна Абрамова учила естествознанию…
— Бабушка, да я тебе книжку учёную покажу. С картинками. Там всё напечатано о происхождении человека от обезьяны. И об охоте первобытных людей, которые в пещерах обитали, на мамонтов и других диких животных охотились. И ты убедишься, что я вовсе никакой не врун. Я правду люблю. И старших не обманываю. И вообще никого.
— Ох, не греши, Егорка, и меня в грех не вводи! Вше этти книжки от нешиштава и его нешиштай шилы. Шернокнижники их напишали, штобы людей шмушшать. А шатана ихней рукой водил. Шам подумай, ты паренёк неглупой: как могёт аближьяна шеловеком ражрешитша? Этто едино, што кошка шобакой окатилашь бы. Ох, не шитай ты эдаких грешных книг, Егорка, душу швою не ошкверняй имя. В пешку их брошь.
— Если я так поступлю, бабушка, меня из школы выпрут с треском. А что на это мама скажет? У нас на каждый учебник три ученика приходится. Передаём друг другу. Я прочитал или списал — Юрке отдал, а он…
— Бох ш имя, ш ушебниками. Шмотри, никому не бай, што иштинну божештвенну правду жнашь. Понарошку ушителям швоим бежбожникам мели про аближьян, кои быдто людей народили. Надо жа таку нешуражишу придумать! А шам ты швяты книги шитай. Ума набирайша. Штобы про их нихто не прожнал. Тайком. Я тобе таку швяту книгу дам. Не подкужьмишь, Егорка? Никому не давай, а то шлугам шатаны попадёт, жаарештуют вшех. Ижмахратют по допрошам.
— Нет, не надо мне такую книгу. Она без картинок?
— Не надобно никаких картинок, в ней вша божья правда опишана…
— Неверующий я. Зачем мне такие книжки читать? Я лучше про Робинзона Крузо и Пятницу ещё раз прочитаю, во.
Герасимовна разволновалась, даже лёгкий румянец появился на её дряблых серых щеках.
Увидав, что я решительно отказался взять навяленную[81] бабкой книгу, она пошла в дальнейшее наступление:
— Глумятша над тобой, Егорка, бешы. А ты не поддавайша имя. Уверуй. Они и отшкошут. И душу швою шпашёшь от полымя адшкова. О душе швоей пекишь! Вшё кругом шуета шует и томления духа, Егорка. Помрёшь, Бох-от тёбя жа вшё шпроштит. Ён вшё о тебе жнат. Кажинный шаг твой. От его вшевидяшева ока нихто не укроетша.
— А я вовсе не хочу умирать бабушка, — возразил я. — С чего вы взяли, не пойму.
Заболтала меня старуха. Что-то ничего не могу понять: адский огонь какой-то, невидимка бог, который якобы обо мне всё знает, да ещё и спросит с меня строго после смерти. Чушь! Я же не старик, чтобы умирать.
— Нет, бабушка, не хочу я в твоего бога верить. Это всё сказки про адский огонь и прочее. Для детишек младшего грудного возраста. А мне уж двенадцатый год! Я взрослый!
И подумал дерзко: неужто меня, школьника, пусть и посредственника, какая-то неграмотная старушонка переспорит?
Ответил себе уверенно:
— Я, конечно, мушщина, и умею хранить тайны. Так что, бабушка, не беспокойся: про наш разговор никому ни слова не вякну.[82] Но права всё-таки учителка по естествознанию: человек произошёл от обезьяны.
— Ну, шпашибо на добром шлове, што не выдашь. Дак этто што жа полушатша? И я, штал быть, от поганой аближьяны проишхожу?
— Выходит, так. Все мы от них произошли. Они наши предки, — самоуверенно и даже с некоторым превосходством произнёс я.
— Дурак, ты, Егорка, вот што я тебе шкажу. Ежели такому кошшунштву над божим творением шеловеком уверовал.
Бабка разволновалась ещё пуще прежнего. Но я не мог согласиться с её заблуждениями. Однако старался сдержаться, чтобы не поссориться с несчастной старушкой. Но и она не желала сдаваться: нашла коса на камень.
— То, что я вам, бабушка, рассказал, ученые доказали. Чарльз Дарвин, например.
— Ён шамашетший… Как ево? В шамашедший дом ево нада-ть пошадить, шмутьяна.
— Не получится. Он уже давно умер.
— Этто Бох ево наказал, охальника. Прошти и шпаши, Боже, меня, рабу твою грешную. А тебе, Егорка, ишшо покажу, книги от Боха напишанныя. Иштинны, швятыя те книги.
— Давайте. Мне интересно, что в них ваш бог утверждает. Сам, что ли, он те книги сочинил?
— Пошто шам? Ево пророки, апошталы, швятыя штимыя, жатворники да штолпники…
— Давайте, давайте. Я сам хочу убедиться в том, о чём вы мне рассказали.
Герасимовна оглянулась, хотя рядом по-прежнему никого не наблюдалось, и, приблизившись почти вплотную, прошамкала мне на ухо:
— Те книги — потаённыя. Вот я пойду шлушать, и ты — жа мной. Никому не обмолвишша? А то беда будёт. Больша беда. Жаарештуют.
— За что? — полюбопытствовал я. Мне всегда нравилось всё таинственное, скрытое от других, тайное, что сулило новые откровения, открытия, знания.
— Когда пойдём? — нетерпеливо спросил я.
— Помалкивай. Я тебе шама шепну.
Я кивнул понимающе.
Наверное, чепуховина какая-нибудь. Бабушкины сказки. Но всё равно интересно. Пойду! Насчёт же «заарестуют» — фантазирует бабка. За что? Разве это какие-нибудь фашистские листовки?
— Честное пионероское, никому ни гу-гу, — брякнул я невпопад. — Не сомневайтесь, бабушка.
Герасимовна аж на траву под ноги плюнула.
— Каки пинэры? Ты мене про их не поминай! Видала я, как этти бешовшки отродья швятым угодникам, Матери Божей, другим шудатворным ображам гвождями да иголками оши вытыкали, будь они во веки веков прокляты, порожденья шатаны. А ты, нешай, не пинер ли?
— Нет, бабушка. И не был. Не приняли. За плохое поведение. С учителями спорил, уроки пропускал.
— Богу угодно твоё поведение, — явно с удовольствием сделала вывод Герасимовна. — Шлава Гошподу, шподобил. От беша рагатова ша жвеждой горяшшей адшкой во лбу оградил. Душу не продал Шатане. Бох тебя уберёг.
— Никакой не бог, — опять заартачился я, — потому что все произошло иначе. Пионервожатая меня, зазевавшегося, в строй повела, да так рванула за рукав! Я ей и выпалил: «Вы чего толкаетесь?» А она: «Выйти вон из шеренги! Ты, Рязанов, ещё не достоин стать юным ленинцем!»
— Почему — не достоин? Ведь я не двоешник — возразил я, — а троешник.
— Потому что старшим грубишь. Грубиян ты. И неслух. Вместо того чтобы каждое указание выполнять беспрекословно.
Она при всех принялась меня стыдить. Я тут же с пионерской линейки ушёл. Совсем. Потом ещё в учительской задали мне жару! Учителя словно с цепи сорвались! А я не хочу, чтобы со мной разговаривали так грубо. Да ещё и упрекали.
— Этта тебя Бох надоумил, Егорка. От бешовшины уберёг. Беж ево на то воли ни единый волош ш головы твоёй не упáдет. Вшё делатша по воле Божией на швете и в шарштвии небешном.
Это утверждение показалось мне настолько смехотворным, что я чуть было не расхохотался, припомнив банную парикмахерскую, где меня регулярно подстригали наголо, «под нулевку».
Мне представилась тётя Таня с шваброй в руках, сметающая под руководством бога в кучу волосы клиентов. Их стригут, бреют или заросшими оставляют — не с разрешения ли бабкиного бога? Смехотура!
Однако удержался. Чтобы опять не обидеть старуху и не рассориться с ней надолго и серьёзно. В общем-то она — добрая старушенция. Но уступать ей и признавать явные глупости насчёт какого-то бородатенького бога, который на облаках сидит и за каждым моим поступком наблюдает, я никак не мог. И так, куда ни сунься, везде за тобой наблюдают и поучают, — до тошноты надоело, а тут какой-то бог из сказки ещё ко всем присоединится. Нет, с этим «наблюдающим» я никак не мог примириться, признать его существование. Всё-таки взрослый человек, понимаю что к чему в жизни.
…Хотя подслеповатая бабка Герасимовна (очков по бедности не имела) узрела-таки меня с иконой, когда я её отмывал возле сарая намыленной тряпочкой от въевшейся в краску грязи.
Она шустро подковыляла ко мне, закрестилась, зашептала, поклонилась иконе.
— Милай шын, прошветил тебя Гошпоть, — довольно закаркала бабка и погладила меня по плечу ладонью с шишковатыми суставами пальцев, покрытыми бурой морщинистой кожей. — Швяты-те молитвы жнашь?
— Нет, не знаю. Я же вам говорил, что неверующий. Безбожник.
— Шам не жнашь, што буровишь. Я тебя наушу, мил шинок. Наушу. Шлушай: «Отше наш, еже еши на небеши…»
— Что такое — «отше»?
— Отше наш Гошподь Бох и ешть.
— А «еже еши на небеши»?
— Бог-от на небешах шидит.
— Что он там делает?
— Шмотрит. Он вшё видит. И тебя, и меня, и вшех, и што мы деем.
— Во что же он оттуда смотрит — в подзорную трубу или бинокль?
Бабка непонимающе уставилась на меня. Но по моей лукавой рожице правильно определила:
— Богохульштвуешь, Егорка, лешов шын! Пошто на Бога таки пашкудны шлова вожводишь?
Как ей объяснить, что именно таким я представил бога: чернявым, цыганистым, с морским биноклем в руках, восседающим на ватных подушках облаков. Сказка, конечно. Для малолетних. В моём понимании.
Герасимовна заметно смутилась, расстроилась и припугнула меня:
— Накажет тебя Шождатель, Георгий, ох накажет… Жа твои нашмешки.
Она почему-то назвала меня не Егором, а Георгием.
— За что, бабушка? Я вовсе ни над кем не смеюсь. Не шучу.
— Штраха божиева в тебе нету, охальник.
— Нет. Я бога не боюсь — он не настоящий, а придуманный. Я никого не боюсь. Даже мертвецов, которые в саванах по ночам из могил вылезают и по кладбищам гуляют, не то что какого-то бога. И в школе нам говорили, что никакого бога нет и не было. Это всё поповские сказки. Попы бога и чертей придумали, чтобы народ обдуривать и грабить, во!
— Жгинь, нешиштая шила! — закричала бабка и, гневаясь, стукнула несколько раз палкой о землю. — У-у, варнак! Напашти на тебя нету, лешов шын.
Бабка плюнула себе под ноги и, разгорячившись, как никогда раньше, засеменила от меня прочь, сгорбленная и какая-то очень жалкая и беззащитная. Будто её незаслуженно и сильно кто-то обидел. Этим кем-то мог быть лишь я. В груди защемило от сострадания к ней и какой-то непонятной собственной виноватости. Хотя ничего плохого я не сделал. Мне стало жаль её. И я крикнул вдогонку:
— Бабушка! Не обижайся! Не надо! Я не хотел Вас обидеть и Вашего бога!
Но она, сильно осерчав, даже не обернулась. Как помириться с ней, я не знал. Да и что вообще произошло? Ясно — дурного она мне не желала. Однако и согласиться с брехнёй о чернобородом цыганистом боге, который якобы на небе сидит, я никак не мог — не маленький, чтобы всяким небылицам, разинув рот, внимать. К тому же — пусть я не пионер, но тимуровец! Правда, пионером я себя считал, равно как и тимуровцем нашего отряда. Никто в пионеры меня не принимал, как признался Герасимовне, из-за недисциплинированности. И галстука никогда красного не носил. Хотя он у меня имелся — в третьем томе «Жизни животных» Брема. Не в галстуке главное, а в твоих делах. А в них я старался быть правдивым, справедливым в отношениях со всеми. Так меня учила мама.
…Вскоре бабка остыла. Но при первой же встрече строго спросила, где икона. Я ответил.
— Идём, Егорка, покашь Прешиштую Деву.
Я привёл бабку к сараю, отодвинул проволочным крючком засов-деревяшку, отворил щелястую дверь.
Бабка быстро вошла в дровяник, отыскала глазами икону и принялась креститься и кланяться ей, пришёптывая:
— Упокой, Гошподи, душу раба твоего Ивана, невинно убиенного шупоштатами.
— О ком вы это, бабушка?
— Не мешай… О шыне.
Помолившись, утёрла мокрые глаза и сказала:
— Шашливай ты, Егорка. Отеш-та твой, давеша Надя шкаживала, шулитша шкора ш хронту вожвернутша. А мой Ванюшка шгинул. Никода тепериша не увидать мне сыношка мово, кровинушку радиму. И робятки ево малые широтами ошталишь.
Мелкие бусинки-слезинки скатывались по глубоким ложбинкам вертикальных морщин щёк на крутой выступ дряблого подрагивающего подбородка.
— Ии-их, лихо-то како, милай шын Егорка. Марии-то каково ш двумя робятёнками… Токмо для их и живёт. Беж мужика-те ей ой как тижало… Бедная. Маетша одинёшинька. В гошпитале много мужиков, — словно оправдываясь продолжила она. — Шватаютша к ей. Да ить то анвалид, жа им вшу жишть, как жа малым робёнком надо-ть ходить. То кобели. Бабу им нада. А робят хто штавить на ноги будёт, вошпитывать? А хороших-те иде найдёшь? На улке не валяютша. А боле толку никакова. А шын мой любил её, девоньку, как шветошик обихаживал, вшё для её, для Марушеньки швоёй. Иде ныне таку любов шыщешь? Шатана ныне людями хороводит, вот што я шкажу, потому как Бога иж души ижгнали, шеркви порушили…
Я редко видел мать Валерки и Кольки, тётю Марию, — на работе, в госпитале, она дневала и ночевала — и никогда не задумывался, как всем им, Герасимовым, живётся? Теперь понял — горе у них, большое и каждодневное, повсечастное. Бьются как рыбы об лёд. И ещё подумал: а каково мне было бы, погибни отец на фронте, — представить невозможно. Нет, этого не произойдёт, мы дождёмся его, целого и невредимого.
После этого разговора я старался ненароком не обидеть бабку и уже не дразнил, гримасничая, когда она скрипучим голосом кляла нас за обычные проказы — беготню по жестяной крыше дома например.
В дровянике же она мне тогда втолковывала:
— Нешто дело — швяту икону в шарае неволить? Ить она дигитрия. Ты её в дом, в крашный угол, поштавь…. Она тебя и поведёт по жишти-те.
— У нас все углы белые. Ни одного красного, — пошутил я.
— Глупой, идём покажу.
Зайдя в нашу комнату, она ткнула бугристым пальцем в правый от окна угол.
— Вот туды. Полошку ишделай. Штобы ей благоштна было.
«А почему бы и не поместить сюда такую красоту?» — подумал я.
— Штавь, Егорушка, не шумлевайся, я матери твоёй глажа-те открою.
Приладив икону в угол, я замер в восхищении и восторге от лучезарной её красоты — словно оконце отворил в волшебный голубой и золотистый мир, ничуть не заслонённый двумя прильнувшими друг к другу как бы прозрачными, светоносными фигурами матери и её любимого сына, с которым она страшится расстаться навсегда, хотя и знает, что оно, расставание, предрешено, — так мне объяснила Герасимовна.
Я любовался иконой, и во мне нарастали удивление и восторг от увиденного, как тогда, на водной станции, когда я приплыл к берегу с белой лилией в зубах. Я смотрел на цветок в луче солнечного света и изумлялся: природа создала такую немыслимую прелесть, придав лепесткам чистейшую, радующую, изумляющую глаз и рождающую восторг бархатную белизну… Как это ей, природе, удалось?
— …Посмотри, какую картину я нашёл! — обрадовал я маму, вернувшуюся с работы. — На деревянной досочке нарисована… А как живая!
— Это что ещё такое? — грозно спросила мама. — Икона в нашем доме? Да ты с ума, Юрий, сошёл! Сними сейчас же! Кто это тебя надоумил? Бабушка Прасковья, полагаю?
— Да ты взгляни, какая она красивая, — пытался я отстоять своё сокровище. — Это картина на доске.
— Это мракобесие, — сурово произнесла мама. — И я не позволю, чтобы ты развёл тут поповскую чертовщину. Сию минуту убери её с глаз долой! Накликать беду на нас хочешь, глупец?
— Какую беду, мама? — изумился я.
Она удалилась, кипящая непонятным мне гневом, а я, разочарованный, снял икону и отодрал полочку, которую столь старательно смастерил и прибил к стене. Тут и мама вернулась. С топором.
— Сейчас же руби!
Я онемел.
— Ну?
— Не буду.
Обычно я никогда маме не возражал. Приучила.
— Выполняй немедленно! — приказала мама раздражённо и настойчиво. Очень.
Такой решительной и жёсткой я редко её видел. Только когда шибко[83] напроказничаю. И смотрела она мне в глаза непреклонно — испытующе. Я молчал и к топору не притрагивался.
— Ты меня ещё не знаешь. Я тебя всё равно заставлю это сделать, — произнесла она, и в её взгляде я увидел враждебность. И даже ненависть!
— Ну, долго ещё буду тебя упрашивать?
Я продолжал упрямо отмалчиваться.
— Я лучше Вовке Бобылёву её отдам. Он в бога верит. Молиться на неё будет. Я видел: он креститься умеет…
— Сейчас же в печь! Без разговоров!
— Не буду, — отчаянно заупрямился я.
— Накажу тебя, сын. Очень больно накажу.
Я не двинулся с места.
Тогда она взяла меня за плечи, сильно тряхнула и отчётливо произнесла:
— Я не позволю втянуть тебя в эту заразу-религию. Ни-ко-му! Понял?
— Меня никто и не втягивает никуда. Просто очень красивая картина.
Она молча вложила топор в мою ладонь и яростно прошептала:
— Руби чёртову мазню!
Во взгляде её тёмно-карих глаз, казалось, искры сверкали.
Я ударил по краю и отколол голубую щепку с коричневой каёмочкой.
— Ещё!
— Не буду!
И швырнул топор на пол: со мной произошло что-то необъяснимое — я не подчинился.
Тогда она схватила топор.
— Не надо, мама, умоляю тебя, — сквозь слёзы выкрикнул я.
— Ну, хорошо, — тихо и угрожающе произнесла она, подняла топор и с коротким треском расколола доску надвое.
— Не надо! — опять крикнул я. — Мама, не надо! Умоляю!
Откуда вдруг взялось это слово — не знаю, раньше я его никогда не произносил. И в последующие годы ни разу никому не адресовал.
Не сказав в ответ ни слова, она собрала осколки, прихватила топор и вышла из комнаты. Послышались легкие удары — мама щепила доску на кухне, на железном листе, прибитом перед топкой общей плиты. И каждый удар отдавался во мне острой болью.
Вернувшись, еле сдерживая гнев, я это ясно видел, приказала:
— И чтобы больше подобного безобразия не повторилось! Понял? Ты понял меня? Ни-ко-гда!
Я кивнул в знак согласия, потому что иначе последовала бы «взбучка».[84] Вероятнее всего, она подвергла бы меня порке кавказским ремнём, которую применяла за особые проказы, например за лакомство малиной в соседнем огороде. В этот раз я не совсем уразумел, вернее вовсе не понял, почему мне запрещается любоваться красивыми картинами, почему они — «безобразие»? А картины в фойе бани и на стенах в драмтеатре — не «безобразие»? А в аушевском продмаге?
Выйдя, всхлипывая, в коридор, увидел на плите наш никелированный, когда-то электрический, чайник. Под ним через конфорку просверкивал огонь. Это пылала моя чудесная икона.
Тягостная безысходность охватила меня. Как после безвозвратной потери чего-то очень близкого, дорогого. От сознания своего бессилия изменить что-либо стало ещё невыносимее.
Я вышел во двор, и почему-то слёзы сами потекли…
…Минула четверть века, и судьба вновь свела меня с иконами. Они-то и пробудили во мне то, что как бы законсервировалось в пору бесправного моего детства. Как, впрочем, многих моих сверстников. Пришла пора воздать должное доброй и отважной бабушке Прасковье, умершей в пятьдесят третьем году, в одно время с шестнадцатилетним моим братом Славкой, убитым пьяным конным милиционером, и Анной Степановной Васильевой, скончавшейся от какой-то болезни. С шестьдесят восьмого года я стал рьяно коллекционировать произведения иконописи. Не веря ни в какого бога. Оставаясь атеистом, чего не скрывал ни от кого, пополнял личную коллекцию, своих и случайных знакомых и многих музеев, которые соглашались их брать. И спасение их приносило мне истинное наслаждение и удовлетворение. Почти все мои самые ценные иконы, несколько сотен, я передал безвозмездно многим пожелавшим принять их и в несколько музеев страны — от Подмосковья до Урала, от Тюмени до Петропавловска-Камчатского, а также всем, кто обещал их сохранить.
Тогда я непоколебимо верил, что такая красота должна принадлежать всем людям. Обществу. А не мне одному.
Об этом многолетнем увлечении я написал и выпустил отдельную книгу, опубликовал десятки газетных и журнальных материалов, организовал и провёл три выставки икон и древних русских книг на кириллице.
Цель проведения выставок заключалась в одном: призвать спасти от гибели как можно больше предметов старины, материальных свидетелей нашей истории, прошлого быта русского народа, не дать сгинуть тому, что по счастливой случайности дожило до наших дней. Хотя спасение бесценного наследия прошлых веков оказалось, как это ни странно и даже нелепо, впрямую сопряжено с карой за содеянное. Кстати заметить, содеянное совершенно законно. Хотя именно за это меня многократно пытались «запечатать» в тюрьму, а потом, семнадцать лет спустя, премировали. Но обо всём этом, на первый взгляд и здравый смысл абсурдных деяниях властей, будет рассказано далее. Пусть читатель извинит меня за повторы, но, как говорится: у кого что болит, тот о том и говорит.
А сейчас хочу завершить этот очерк эпизодом, который много лет оставался тайной от мамы, что почти невероятно: она, когда желала того, заставляла меня признаваться во всём, что от неё пытался скрыть и что она узнавала от других или догадывалась по особенностям моего поведения, — проницательная была женщина. И очень настойчивая.
…Так вот, через несколько дней после сожжения иконы, называвшейся Одигитрией, что на русском языке значит «Путеводительница» (о чём я узнал много позже, уже в конце шестидесятых, когда после окончания факультета журналистики Уральского государственного университета работал в областной газете корреспондентом и попутно пристрастился к коллекционированию предметов старины, повторюсь, даже тогда ни с кем из близких и знакомых не откровенничал настолько, чтобы проговориться о сожжении). Рана, нанесённая уничтожением чудесной иконы, понемногу с годами зажила, но образ, теперь уже, увы, несуществующий, часто возникал перед моим мысленным взором, как бы на экране памяти. Или во время повторных просмотров кинофильмов. И эта потеря щемила. Волновала. Я чувствовал себя виновным. Но скрывал я другое.
…Неожиданно Герасимовна встала с крылечка, на котором сидела, видимо поджидая меня.
— Егорка, — обратилась она ко мне, — жнаю, што вы шожгли швяту икону в пешке. Грех-от какой великай шодеяли! Жнаю, Надя на тот великой грех подвигнула и тобя. Но ты не горюй. Идём ша мной. Шпашти твою дущу бешшмертну помощ хошу. Вшё в энтой жижни — тлен, а душа — вешна.
— Куда, бабушка, ты меня приглашаешь? — поинтересовался я.
— Не шпрашивай. И никому не рашшкаживай. Я тобе худа не изделаю. Идём. Ты таку крашату ужришь — вшую жижню помнить будешь. Наде ни жа што не обмолвишь. Айда шмело.
Я ей как-то легко поверил, — я вообще излишне доверчивый, что меня впоследствии в тюрьму завело, — и мы пошли неведомо куда. Признаться, меня предложение Герасимовны заинтриговало. Хотел сперва написать «заинтересовало», тогда такое слово я и употреблял, но сейчас думаю, первое — точнее. Тайна, всё-таки манящая тайна скрывалась в этом слове. И если бы я его знал тогда, то так и подумал. Что она такое хочет показать, чтобы на всю жизнь запомнилось?
А привела она меня в Симеоновскую церковь. Завела в неё и наказала: «Шмотри, и душа твоя ошиштитша». А сама ушла. Вероятно, из-за боязни предстать перед опасными «товарищами» в милицейской форме. Так мне тогда думалось. Хотя в церкви я никого из них не заметил.
Долго глазел на развешанные по стенам иконы. Восхищался некоторыми. Возле многих из них тлели маленькие красные язычки пламени в круглых прорезных, наверное серебряных, чашечках на цепочках. Однако больше всех привлёк моё внимание огромный деревянный крест в правом углу церковного помещения. Не простой крест: вертикальный брусок с тремя горизонтальными перекладинами. На нем изображён, и весьма искусно, выпиленный по контурам тела, как бы прибитый гвоздями полуголый человек с несколько поникшей русой головой и негустой бородкой. Ну и ну! Прибитый большущими гвоздищами, какими, я видел, трамвайные рельсы к шпалам «пришивают»! Их болтами рабочие называли.
Я стал осторожно приближаться к страшной картине.
Когда вплотную подошёл к этому ужасному изображению, то наткнулся босыми ногами на округлое основание, выпуклое, похожее на холмик из камней. Крест оказался вставленным в этот, вероятно вырезанный из дерева, из огромного чурбана, покрашенный в тёмно-охристый цвет, холм. Под крестом же лежали, наверное, приклеенные выпуклые же белые череп и две перекрещённые кости под ним. Как на флибустьерском чёрном флаге. Настоящие, что ли? Мы такими черепами в уличный футбол играли, притаскивая из траншей, вырытых пленными фашистами напротив кинотеатра имени Пушкина. Вообще-то я самих фашистских головорезов-копачей не видел, но знающие ребята — очевидцы рассказывали, что эти траншеи под фундаменты новых зданий вырыли именно пленные немцы. Похожие черепа и кости из траншей я видел на изображениях пиратских флагов в книжках о морских приключениях. Странно!
Рассмотрев всё это, я особенно внимательно вглядываюсь в лицо прибитого к кресту. Поднял глаза выше, и сейчас же из ближайшего окна на крест хлынул солнечный свет (дождик кончился!). Я близко увидел лицо пригвождённого. Оно вдруг засияло, будто подсвеченное изнутри. Цвет тела настолько походил на настоящий — не отличишь. (На Миассе мне встречались мальчишки и девчонки с такими же сияющими телами под яркими солнечными лучами.) Немного склонённая на бок голова уже не казалась безжизненной. И капли крови на чистом лбу, чуть загустевшие от теплоты тела, подтверждали неоднократно виденное мною. У меня самого постоянно кровь из царапин, проколов и порезов быстро загустевала и подсыхала. Выступившие капли крови из-под венка с колючками, на лоб надвинутого, хотелось пощупать, чтобы убедиться, — венок настоящий? И стереть кровь ладонью, послюнявив палец по привычке.
За что столь чудовищную, по-фашистски, расправились с несчастным человеком? Кто? Может быть, его фашисты и казнили? Они и не такие зверства творят! Но церковь-то старая, дореволюционная. Значит, не эти головорезы зверствовали. Надо поточнее разузнать. У Герасимовны.
Внимательнее вглядываюсь в изображённое лицо невиданного доселе человека. Глаза его с непросохшими слезинками в уголках глаз, у переносицы, полузакрыты — так мне увидилось. Из пронзенных ладоней и ступней тоже просочились капли крови, соединялись, стекая струйками.
На левой стороне груди, там, где бьётся сердце, тоже видны алые потёки из раны. Хотя ему, судя по всему, нанесён смертельный удар в сердце, но он, на кого я воззрился, не производит впечатление умершего человека: лицо его спокойно и торжественно. Может быть, его ткнули в грудь не очень глубоко, и он не умер? Похоже, в обмороке потерял сознание.
Кто это, что за человек? Надписей я не нашёл, лишь наверху слева начертано слово «Иис» с закорючками над буквами, а справа — «ХС» с такими же значками.
Я не мог отойти от этой страшной картины, она будто притягивала к себе. Порою мне казалось, что веки этого несчастного человека чуть-чуть приоткрываются и он печально и пристально вглядывается в мои глаза. Жутковато становилось от этого полускрытого взгляда. Вернее — полузакрытого. В пустом-то храме.
Это наваждение кончилось, когда ко мне — в церкви, похоже, и на самом деле никого больше не находилось — подшаркала Герасимовна и почему-то шёпотом сказала:
— Пошли, Егорий.
Проходя мимо большой иконы, закованной в металлический блестящий панцирь, как в той разорённой церкви на Алом поле, старушка шепнула:
— Вот твой швятой и жаштупник Георгий Победоношеш.
— Почему — мой? — мелькнуло в голове. — А, ну да, меня же иногда зовут почему-то Герой, Георгием…
Мы вышли из церкви, и Герасимовна повела меня в бревенчатый дом во дворе, напротив храма, в углу ограды, справа.
Там я встретился глазами с очень строгим на вид попом, с седыми длинными волосами и белой бородой, — ни разу не встречал такого — весь белый. Герасимовна подобострастно назвала его «батюшкой», а затем «отцом Александром».
— Кланяйша, — шёпотом же приказала мне моя спутница. Я не склонил головы. Даже и не подумал: зачем? с чего ради?
За мной наблюдал зорко голубыми глазами, в белых же ресницах, белобровый поп.
Далее под речитатив седовласого и белобородого «батюшки» моя голова под давлением его тяжелой руки трижды окунулась в большой медный чан, стоявший на столе посередине комнаты. Это действо свершил решительно сам «батюшка». На себя я надел алюминиевый крестик на ниточке.
Так свершилось моё второе крещение, о чём стало известно много позднее. Мама раскрыла и этот секрет. Оказывается, бабушка совершила этот обряд, когда я был совсем крохотулей.
Когда мы с Герасимовной вышли из «крештилки», я спросил её:
— А зачем это? Зачем дедушка меня в тазик головой окунал?
— Батюшка тебя крештил. В швятое таиншво пошвятил. Тепериша ты, Георгий, хриштиянин. У тебя ешть швой ангел-хранитель. Ён будёт тобя зашишшать от вшех напаштей. Молишь Богу и ангелу-хранителю и вшем швятым. Шитай молитвы, а в шеркву не ходи, а то иж школы выгонют. Лиходеи неверушшия. Шлуги шатаны.
По пути домой Герасимовна без умолку рассказывала мне о святых, об Иисусе Христе и Пречистой Деве Марии, но я, признаться, понял немногое. Разве лишь то, что пребитый к кресту и есть Иисус Христос. Чьё изображение увидел в Симеоновской церкви. Всё, что Герасимовна мне старалась втолковать, походило на сказки, до которых я был большой охотник и успел перечитать уйму — от уральских до арабских.
Я думал о другом: о прибитом к кресту большими гвоздями человеке по имени Иисус, и никак не мог отделаться от впечатления, что он всё-таки смотрел на меня печальными и одновременно добрыми глазами, почти закрытыми набрякшими веками. Знал, что такого не может быть, а вот мне бластилось — и всё. И тогда же я опять подумал: надо побольше узнать об этом человеке. Задел он меня за живое. Растревожил.
Во дворе, распрощавшись с Герасимовной, зашёл в туалет и снял крестик. Долго ломал голову: куда спрятать? В сарайке нашлось укромное местечко, куда без опасений можно было притырить опасный предмет, — мамы боялся.
Герасимовна, когда не было никого кругом, заговорщически справлялась:
— Молишша ли, Георгий?
— Нет, — честно отвечал я.
— Нишево, наштанет время — уверуешь и будешь ушердна молитша. И ангела-хранителя вспомнишь. Не жабывай: грешить нельжа. Бох, ён вшё видит и жа вшё на Штрашном шуде ш тебя шпрошит. Добро делай вшем. Тады в рай попадёшь. А жло шинить будешь — в ад угадашь.
Но я так и не стал верующим.
В последний раз бабушку Герасимовну я мельком увидел в начале мая пятидесятого года, хотя, стыдясь, старался не смотреть в зал, запруженный нашими знакомыми, родственниками подсудимых, знакомыми знакомых и просто любопытствующими. Случайно заметил сгорбленную, похожую на нищенку старуху, когда вертухаи[85] вели нас на скамью позора. И тут же отвёл взгляд.
Герасимовна провожала меня глазами, полными слёз. И это было для меня мучительно невыносимо. Более, чем видеть маму и Славика с его друзьями.
Я с безысходно запоздалым сожалением подумал: почему тогда, в сорок третьем году, не подарил ей икону Богоматери, а оставил себе, неверующему, и тем самым поступком погубил её? Пожалел, неразумно поступил.
Больше нам свидеться в жизни не привелось. Она умерла, как уже упоминал выше, в пятьдесят третьем году от остановки сердца, почти одновременно с моим братом Станиславом, смертельно раненным «случайно» конным милиционером, находившимся в непотребно пьяном виде. Фактически никакого наказания убийца не понёс. Меня же за кусок съеденной халвы (она, выяснилось в ходе следствия, оказалась украденной с прилавка магазина Серёгой Устюжаниным, «именниником», тем, кто нас ею угостил, празднуя якобы свой день рождения) приговорили к пятнадцати годам исправительно-трудовых, а фактически — каторжных работ в концлагере с вычетом в пользу рабовладельческого советского государства девяноста семи рублей и конфискацией всего моего имущества. А «путеводительницей» моей на четыре с половиной года по скользким от пота и крови ступеням чудовищного советского ада стала тюремная и лагерная охрана, те самые вертухаи, в руках которых находились наши, рабов, жизнь и смерть.
Неисповедимы пути человека. Особенно — советского. Я долго с удивлением размышлял: почему других и меня (кроме виновного, его следовало наказать) осудили, а не освободили? Только в лагере старые зеки разъяснили мне, что существует якобы не подлежащая публикации ведомственная инструкция (или рекомендация) судам и следственным органам — не прекращать, а доводить до завершения уголовные и прочие дела. То есть до тюрьмы и концлагеря. Видимо, эта инструкция и стала моей и миллионов таких, как я, «строителей коммунизма», идейной путеводительницей. Внешне. А на самом деле я всячески сопротивлялся и вертухаям, которых чаще называли «пидарами» за любовь некоторых из них к «петушатине»,[86] и держался в отдалении от блатных, выбравших в жизни профессию преступления, — врагов общества. Даже в концлагере блатные грабили и иногда убивали за неповиновение «мужиков», рядовых зеков (заключённых). Фактическими хозяевами концлагерей и тюрем являлись блатные, отбросы общества, «отрицаловка», человеческая гниль, за ними оставалось последнее слово — жить тебе или умереть. Тюремное и лагерное начальство обычно почти всегда оставалось в «неведении». Им было наплевать на зеков — они жили и действовали по своим правилам и инструкциям, чаще — по своему произволу; блатные — по «понятиям», то есть воровским законам.
«Питательной средой» для блатных, лагерного и тюремного начальства были «мужики». Я все годы каторги оставался «мужиком». Да ещё смевшим вслух не согласиться с блатными, за что они и «проштамповали» по политической статье 58–10 УПК, как «фашиста». Я и на самом деле дружил с политическими зключёнными, несгибаемыми коммунистами.
Не удивительно, что, освободившись в пятьдесят четвёртом году, я подал заявление в военкомат, как и должен был поступить истинный патриот своей Родины. Отслужив положенный (ещё один) срок, теперь уже в армии, где мне оказали редкое доверие и приняли в комсомол. Далее — возвращение в город, который начинал строить в зековском бушлате, а продолжил слесарем на заводе, свободным советским человеком. Со своими незаконченными шестью классами мне удалось с удовольсвтием окончить ШРМ в шестьдесят первом году. Уволившись с завода я наудачу поехал в Свердловск, чтобы попытаться поступить на факультет журналистики УрГУ. Поступил. Этого могло не произйти, если б с моими публикациями не ознакомился преподаватель университета Виталий Алексеевич Павлов. Он поверил в меня и зачислил на очное отделение, хотя приём на него был уже прекращён. Всю оставшуюся жизнь я был благодарен этому человеку.
А об остальном читатель узнает в моих книгах: «В хорошем концлагре», «Наказание свободой» и, если удастся завершить этот цикл, — в «Опущении».
Но сейчас не об этих книгах речь. В дальнейшем мне повезло неоднократно держать в руках Одигитрию. И даже поучаствовать в розыске, полагаю, древнейшего списка, выполненного в технике энкаустика. Об этом поиске мною написал очерк. Название же этих книг идентично названию иконы, некогда спасённой и погубленной мною.
1969–2008 годы
Книга вторая
«ЯСТРЕБОК» ГЕРОЯ
«Ястребок» Героя[87]
Утром пораньше, пока солнце припекает не сильно, мы собрались на чердаке Вовкиного дома, в главном штабе, чтобы продолжить государственной важности дело — печатанье листовок.
Трёхэтажный огромный доми́но, примыкающий к территории нашего двора, конечно, не Вовке принадлежит. В нём проживает много семей, эвакуированных из Ленинграда. Не помню, что здесь было до войны, — какое-то учреждение. Возле дверей всегда много людей толпилось. Вроде — какой-то суд заседал. Бесконечно. Разумеется, от кого мне было узнать, что не пройдёт и шести лет… Но не будем спешить.
…Семье Кудряшовых, а у Вовки осталась только мама, выделили крохотную комнатку на втором этаже в конце коридора — бывшую общественную уборную. Тётя Лена получила эту жилплощадь в награду как уборщица здания. Единственное окошечко размером с носовой платок, да ещё и зарешёченное, обращено в наш двор.
С чердака одноэтажного дома, где я живу, протянута к Вовкиному окошечку медная проволока — срочная боевая связь. Как в любимой нами книжке Аркадия Гайдара «Тимур и его команда».
Вызвать друга в запасной штаб очень просто: надо влезть по наружной (парадной) двери нашего дома на крышу сенок, после перескочить на основную крышу, пробежать до чердачного округлого окна, протиснуться в него, спрыгнуть на пол, засыпанный на ладонь ребром опилками, крутануть специальный штурвал — и всё в порядке: сигнал подан. Ответное подёргивание проволоки — сигнал принят, жди. Через несколько минут в овале чердачного окна появится лохматая голова запыхавшегося Вовки: комиссар тимуровского отряда прибыл! По важному делу. Дисциплина у нас — военная. Как на фронте.
Разумеется, можно просто крикнуть из своего двора: «Вовк! Выходи играть!» — и он услышит. Сортирное окошечко открыто летом круглосуточно, чтобы не задохнуться в кубике метр на полтора, где Вовка устроил лежак на двоих из старого, найденного на свалке дивана, застланного тряпичным половиком неизвестного происхождения. Наверное, выброшенного кем-то за ненадобностью.
Вовке всё годится на поделки. «Телефон» тоже придумал он. Хотя можно обойтись криком. Но разве это интересно? Да и мама не всегда отпускает, если услышит «звонок», — срочные хозяйственные дела всегда тут же находятся. Неотложные. Вовка часто работал за изнемогающую от голодной водянки мать — убирал начальственные кабинеты, мыл полы, протирал столы… Получив же секретный сигнал — бряцанье пустой консервной банки, привязанной к оконной решётке, — Вовка исчезает мгновенно из комнатушки, не вызывая никаких подозрений у матери. Она и спросить-то его не всегда успевает:
— Куда помчался?
Итак, главный штаб замаскирован на чердаке Вовкиного дома, в дальнем левом углу за массивной кирпичной печной трубой. А на нашем — запасной. На всякий случай предусмотрел Вовка же.
Просторный темноватый чердачище Вовкиного дома выглядит, когда в нём дежуришь один, жутковато. Особенно вечером или в пасмурную погоду. Днём же в главном штабе светло — вверху, рукой не достать, находится слуховое окно. Непонятно, почему его называют слуховым: кого, что из него слушать? Ну, если, например, налёт вражеской авиации случится. Такое событие мы, обсудив, напрочь не исключили. Всё может быть. Хотя едва ли добраться до Южного Урала фашистским стервятникам — кишка тонка!
Здесь же, в штабе, у нас и своя типография.
Вовка всего на два года старше меня, но у него богатейший жизненный опыт — лично побывал на войне. Настоящей! Не киношной, где одни весёлости да хохмы. Такие весёлые войны бывают лишь у нас, пацанов. А Кудряшов год промучился в блокаде.
Когда он вспоминает о преодолении их автокараваном Ладожского озера, у меня мурашки по коже бегают — страшно! Даже представить в своём воображении эту картину жутко.
Штаб придумали мы вместе, типографию целиком соорудил Кудряшов. Оказывается, печатаньем листовок он занимался и в блокадном Ленинграде. Там Вовка раздобыл настоящий шрифт — в типографию фашистская бомба попала. Он собрал разбросанные взрывом свинцовые брусочки, и довольно много — больше сотни. Несколько десятков литер удалось привезти в Челябинск — в кармане. Сколько уместилось.
Литеры он хранит бдительно. Не соблазнится обменять ни на какие богатства, хотя из имеющегося шрифта не составляются настоящие, даже небольшие, агитки. Как на щитах Совинформбюро.
И всё равно листовки у нас получаются что надо. Некоторые слова приходится дописывать ученической перьевой ручкой. Клише служит старая резиновая подмётка, на которой в зеркальном изображении Вовка вырезал самодельным ножичком фразу: «Смерть немецким оккупантам!».
Пригодились и два резиновых штампика — давнишние, завалявшиеся ещё с детсадовской поры, мои игрушки. Ими печатаются фигурка красноармейца по стойке смирно и будёновец-всадник на коне с саблей наголо — гроза немецких танков. Недостающую часть композиции, в центре между красноармейцем и всадником, восполняет братишка Славик. Он рисует фашиста, всего изрешеченного пулями. Это коронный номер юного художника. Впрочем, ничего другого он не умеет рисовать столь хорошо. Не научился ещё в свои шесть лет — седьмой пошёл.
Эти листовки мы раздаём в школе, где учимся, знакомым пацанам с соседних улиц. Иногда сбрасываем, забравшись на тополя, как с самолёта. Наша агитационная продукция пользуется заслуженным успехом и спросом. И это вдохновляет на дальнейшую работу. Мы не скрываем ни от кого, что делаем её сами, лично. Не всякий на такое способен.
…Когда листовок наштамповали штук двадцать, — а делаем мы их усердно и почти каждодневно из пожелтевшего от времени рулона старых стенных обоев, из тех, что и альбом Славика сшит, — до нас долетели посторонние звуки: удары в барабан и первые такты духовой музыки. Из слухового окна донеслись. Вот оно зачем устроено, окошечко-то!
Работа приостанавливается, разумеется.
Музыка доносится со стороны бывшего цирка. Но мы точно знаем, что никакого представления там нет и быть не может. В обширнейшем круглом помещении уже давно разместился военный тренировочный пункт, где готовят лыжников-десантников. Там давно проходил подготовку и наш отец. В позапрошлом и прошлом годах. И мы с братом даже побывали у него однажды — тайно пробрались в «зону» — и видели занимавшихся на манеже разборкой и сборкой винтовок красноармейцев. Правда, нас вскоре выдворили, но отца мы повидали.
Сейчас звуки музыки доносились именно оттуда, с того направления. Кого-то хоронят! Из госпиталя, расположенного рядом, в бывшей новой многоэтажной школе.
Типографские принадлежности пришлось временно заныкать.[88] Под потолочную балку.
По широкой деревянной внешней лестнице, по шатающимся дореволюционным ступеням спускаемся стремительно во двор.
Бегом (я вообще не люблю ходить, норовлю, где возможно, рысцой пробежаться) через считанные минуты мы очутились на месте позвавших нас событий.
Народу уже набралось множество. Во дворе госпиталя, что напротив цирка, стоят на костылях ходячие раненые в пижамах. Улица Красноармейская запружена ребятнёй, старухами и женщинами помоложе с соседних улиц. Встречаются и старики. Все высыпали. Знать, не часто такое случается наблюдать.
Военный оркестр, ослепительно блистая под солнцем надраенными медными трубами и оглушая барабанным боем, играет безостановочно. Музыка — торжественная, красивая, печальная. Ясно, не простого рядового хоронят. Наверное, какой-нибудь генерал, грудь которого усыпана орденами. Здесь же красноармейцы с винтовками и несколько воинских, под тентами зелёного цвета, автомашин-трёхтоннок.
Народ продолжает прибывать. Пришедшие стараются протиснуться к бетонному крыльцу, над которым возвышается на табуретах обтянутый красной тканью гроб, а в нём — очень бледный юноша в гимнастёрке с голубыми петлицами. Вокруг стоят, словно окаменев, люди в военной форме с «кубарями» и «шпалами» в петлицах, а один с «ромбом» — командиры! Некоторые из них держат в руках алые бархатные подушечки с прикреплёнными к ним наградами. А у того, что с ромбом, нестерпимо лучится под солнцем гранёная «Золотая звезда» — прощаются с Героем Советского Союза! Нам с верхушки тополя всё отлично видно.
…Хоронят под музыку довольно часто. Из госпиталя — реже. В это многоэтажное, красного кирпича, здание я пошёл в первый класс в сороковом. И вот присутствую на похоронах. Уже в который раз. Но Героя — впервые.
Всхлипывания и громкие рыдания послышались тут и там. Плачут и посторонние люди, при жизни никогда не видевшие того, по ком так искренне сейчас скорбят. И врачи. И стайка медсестричек. И даже — мужественные раненые.
Гибель на фронте, в борьбе с фашистами, охватывает горем не только родственников. Это общее горе. Народное.
Ведуньи-старухи в перерывах между причитаниями истово крестятся, проталкиваются к крыльцу, осеняют крестами покойного, рассказывают друг другу биографию покойного. Якобы наш, челябинский. В сороковом эту школу окончил. И вот, судьба какая, помер от ран. В этой самой школе. И фамилию называют — Луценко.
Старухи — и от кого только разузнали — якобы родственников Героя показывают друг другу. В родственников я почему-то неособенно верю — старухи такие выдумщицы. Меня прельщает другое, поэтому слез с тополя и кручусь постоянно возле оркестра. Старухи в чёрных платках шепчут друг другу, что это родственницы «убиенного». Мне так не думается. На каждой второй старушке такого цвета платок.
Процессия двинулась медленно, торжественно по улице Красноармейской и, свернув налево, прошествовала по нашей, пышной от зелени улице Свободы.
Я вижу многих знакомых — не только свободских ребят, и они меня тоже — шагающим следом за взводом бойцов справа.
Дворовые собаки, не раз замечал, тоже часто сопровождают похоронные процессии. Не знаю, что их привлекает, но они так и шныряют под ногами идущих рядом с процессией или чинно вышагивают рядом с военными. Кто разгадает, что у них на уме?
Мне брезжится своё. В воображении вижу последнее сражение Героя-лётчика. Небо, прочерченное дымовыми шлейфами сбитых им «мессеров». Представляю, как его, в кожаном шлеме с очками, вытаскивают из пробитой снарядами и пулями фашистов кабины краснозвёздного «ястребка» подбежавшие друзья. Впечатляющая картина!
Идём очень долго. Наконец останавливаемся, и провожающие, оркестранты, красноармейцы размещаются в машинах. Влезаю в кузов одной из них и я. Меня почему-то не ссаживают, не прогоняют. Возможно, думают, что я имею какое-то отношение к Герою. Мне это предположение очень даже глянулось. Конечно, будь я на его месте, то гордился бы, что все столь чтут меня, — несомненно!
На кладбище, в народе называемом Митрофановским, в дремучем сосновом бору слышится только шелест вершин деревьев да хруст веток под ногами.
Военный с ромбами в петлицах произносит не очень длинную речь. Меня завораживает салют. Впервые в жизни я слышу настоящие винтовочные выстрелы. Несколько громких залпов!
Тайком подбираю аж пять тёплых гильз, чему, конечно, радёшенек. Они сладковато пахнут порохом и сверкают. Видать, изготовили их совсем недавно.
Почести Герою отданы! Тоже не часто увидишь такое. Не всякому приводится.
Что меня ещё поражает — памятник, установленный красноармейцами дружно и быстро на глинистом бугре.
К дощатой пирамиде, ещё липкой от красной масляной краски, накрепко прилажен настоящий, хотя и поломанный пропеллер. Винт боевой машины, «ястребка» погибшего Героя? Несомненно. Об этом я моментально догадался. Да и чего догадываться, и так ясней ясного!
Этот пропеллер захватил моё воображение. Нижняя лопасть винта зияет недавним сломом. Понятно: лётчик совершил таран. Кончились патроны, вот он и решил: сам погибну, но не пущу фашистскую гадину на родную землю — жжик! — и отрезал винтом у вражеского «мессера» хвост. И тот камнем брякнулся вниз — каюк! В лепёшку! Туда ему и дорога!
Погиб лётчик-Герой, разумеется, не от того, что упал и расшибся. Так герои не умирают. Его тяжело ранил другой фашист, которого лейтенант Николай Луценко тоже сбил, уже падая, находясь почти без сознания. Вот как было дело в натуре. Так погибают настоящие герои!
Пока фантазирую, трогая расщеплённое слоистое дерево винта, глажу и рассматриваю его, все уходят. Бросаюсь к месту, где остановились автомашины, на которых нас привезли сюда. Уехали! Я один. На кладбище.
Жутковато в полном безлюдье среди молчаливых деревянных тумбочек и крестов, будто зовущих, раскинув руки-перекладины, заросших травою безымянных холмов и о чём-то тревожно шушукающих высоченных бронзовых сосен. Но я собираюсь с духом и по незнакомой дороге легко и уверенно одолеваю первые метры — рысцой. Домой. А куда же ещё она может вести? Ведь по ней мы сюда прибыли — другой нет. И она выведет меня отсюда, из чуждого мне мира. И какого-то непонятного.
Сколько бежал, не знаю. Очень долго. Часа два, наверное.
В штабе никого нет. Чердак заполнен липкой нестерпимой духотой, источаемой раскалённым железом крыши.
Мокрёхонький, скатываюсь во двор и несусь к Миассу. Штаб в полном составе купается и загорает. Славка с малышами — у бережка. В изумрудной тине бултыхает ногами и, перебирая руками по дну, делает вид, что плывёт. Юрка прыгает на одной ноге, наклонив голову, — вытряхивает воду из уха после ныряний. А Вовка, окунувшись наскоро в стороне, у водокачки, ловит на удочку пескарей. В ржавой консервной банке трепыхается десятка полтора небольших рыбок — уже натаскал на скромненькую ушицу. Молодец! Хоть какой-то доппаек.[89] Добыча!
Вовка удивительно изобретателен в поисках съестного. Он ловко выдёргивает из ила раков, жадно вцепившихся в пальцы рук и ног, удачливо рыбачит, беспощадно зорит птичьи гнёзда. Мы познакомились с ним из-за воробья, подстреленного им из рогатки. В прошлом году. Летом. Когда он с семьёй прибыл с вокзала на нескольких автомашинах, наполненных различным скарбом. И заселился в бывший домино народного суда.
Покушение на жизнь воробья, случайно увиденное мною, я, безусловно, не стерпел. Ведь птиц, божьих тварей, убивать нельзя — грех. Это я от бабки Герасимихи много раз слышал. И вообще, воробьи имеют право жить. К тому же какой-то чужой пацан охотится в моём дворе! Невиданное нахальство! Нетерпимое!
Незнакомец, хотя и выглядел старше и вымахал выше меня ростом почти на голову, оказался слабаком. И не умел драться козонками. Через пару минут незваный гость с расквашенным носом перевалил через дряхлый заплот на свою территорию. Это ему — за убитого воробья.
Признаться, я не люблю драться. Исключение — только за справедливость. И защищаясь. Избиение людей вызывает во мне тошнотворное состояние. Не от страха за себя. Хотя я отнюдь не храбрец. Внутреннее отвращение и неприятие любого насилия всегда заполняет меня. Они остались во мне на всю жизнь.
Трофей — мёртвого воробья — Славик и я похоронили под кустом сирени в красиво выложенной осколками стёкол могилке.
На следующий день мы с Вовкой помирились и крепко подружились. Новый кореш оказался толковым и верным пацаном, изобретательным на всякие выдумки и игры.
Чтобы всё было по-честному, мы, разделившись на красных и чёрных (ох и не хотелось попадать в чёрные!), пользовались считалкой:
После первой считалки Вовка, сглатывая тягучую слюну (всё ещё от ленинградской зимы не очухался), с азартом произнёс:
— Вот блаженствуют в деревне — каша с молоком и другая вкуснятина! В такой бы деревушке пожить, а? С месяцок, — мечтательно признался мне Кудряшов. — Жирок на пупке штобы завязался. Ништяк, Юра?
— Сейчас и в деревне тоже голод, — ответил я знающе.
— Ну, не скажи, — не поверил Вовка. — В погребах наверняка всего притырено — не сосчитать. Солёные огурчики, маринованные грибочки, варенья из лесной земляники… Сушёное, вяленое… Куркули они, деревенские, вот кто. Несмотря на раскулачивание.
Вовка почему-то подумал: всё съестное деревенские припрятали и не желают с ним и такими, как он, поделиться. Куркули! Это слово он произносил, будто всё перечисленное отняли у нас, у него лично, а оно — общее. И его, Вовкино, кровное.
— Почему же сельские нищие дети, старухи и старики у нас ходят по дворам, побираются?
— Ну… разные люди и в деревне есть, — неохотно ответил Вовка. — Которые ленивые, те лапу сосут, а здоровяки — передовики-комбайнёры — обжираются. Несправедливо. Мало ли что человек слабый, а есть он хочет не меньше. Делиться надо. По справедливости.
— Есть и в городе богатеи, от сала-масла лопаются, — возразил я. — Вот у нас в школе Борька Аверин учился, у него отец — директор «Витаминки»… Так у них сало «Лярд» в кладовке несколько бочек, копчёные туши гусей по стенкам на гвоздях висят, окороки какие-то. Сам видел. Соседка Дарья Александровна Малкова, директор спецмагазина, «Военторг» называется, тоже богато живёт. Когда жарит-парит что-то мясное, у всего дома слюнки текут.
— Давай, — перебил меня Вовка, — напишем письмецо вашему завмагу, припугнём её. Что в милицию пошлём документы, которые уличают её в воровстве. Она испугается и поделится с нами. Ведь ты сказал: от сала-масла лопаются городские богатеи.
— Ты с ума сошёл! — воскликнул я. — Да откуда ты придумал, что тётя Даша ворует? Я ничего такого не говорил. И не знаю.
— Юра, они все, кто в торговле, воры. Только ты один этого не понимаешь.
— Если ты такое письмо напишешь, объявлю тебе войну, — решительно выпалил я. В это мгновение я почему-то представил Милу и добавил: — И никогда с тобой не помирюсь. Учти — ни-ко-гда!
— Лады, — неохотно согласился Вовка. — Не буду. Дружба! Дружба дороже всего на свете.
Я понял: он не хочет терять со мной приятельских отношений. Дружба, понятное дело, дороже всего, он прав.
Не знаю, поверил ли моей угрозе Вовка, но больше о тёте Даше Малковой разговоров не заводил.
…Талантом Кудряшов обладал небывалым. Аж мне завидно стало — со всеми ребятами перезнакомился вскоре. И не только в ближайших дворах проходных. Водились мы и со всякой уличной пацанвой — на одной Свободе живём. Он сразу для них свой стал. И круг наших общих знакомых значительно расширился. И кличку ему дали: Вовка Ленинградский.
…Чтобы всё было по-честному, мы, разделившись, как заведено, на красных и чёрных, стали устраивать «охоты на языков» — тоже полезная игра. Не из простых. Вовка придумал.
Ни на день он не прекращал и ловлю чирикалок. Неслыханное дело — Вовка варил из них супы! И, по его уверениям, необыкновенно вкусные и питательные. Для матери. И называл «королевским деликатесом». Смысла этих слов я тогда ещё не постиг. Догадывался.
Мне жаль птах, поэтому в воробьиной охоте никогда не участвовал. Зато нравилось лакомиться «калачиками» — незрелыми семенами какого-то травяного растения, зелёными горошинками из стручков акации — мы вместе облазили все деревья в округе.
Вовка обычно набирал полную тюбетейку — из Ленинграда в ней приехал — и дома варил кашу. Не в тюбетейке, понятное дело, — в большой консервной банке на электроплитке, сооружённой им самим. К огорчению моего друга, спираль часто перегорала, не выдерживала. Вовка тайно подключил плитку — их дом почему-то не обесточили, как многие, расположенные рядом. И наш — тоже.
Вовка мне объяснял: дома́ в округе — частные, а у них — «учреждение». Государственное. Важное!
— А чем в нём занимаются? Какой работой?
— Я этого не знаю. Пишут что-то. Нам с мамой запрещено о них рассказывать. Я, честное тимуровское, не имею представления. И ты ни о чём никого не расспрашивай, Юра.
И я, каждый раз проходя мимо вахтёра на первом этаже, всегда называл себя и к кому иду — учить вместе с Вовкой уроки. Лгал, прзнаюсь. Кудряшов подсказал.
На чердаке своего дома, открыв замок, висевший на массивной дверце, ржавым гвоздём, он сразу по приезде продолжил охоту на голубей-сизарей, которые на чердаке жили стаями с довоенных времён. Весь чердак был усыпан их помётом.
Постепенно Вовка переловил нехитрым приспособлением из дырявого тазика, щепочки и куска шпагата пернатых аборигенов. Кто не попал в ловушку, улетел куда-то, наверное через слуховое окно, и где-то нашёл безопасное пристанище. Вовка сокрушался об ускользнувшей добыче и всё пытался разгадать, как они от него улизнули, пока я не указал на небольшое полукруглое отверстие в крыше — слуховое окно.
Птичий приварок, к моему удивлению, не сразу, но поставил на ноги Вовкину маму. Когда Кудряшовых привезли с вокзала, тётя Лена и ходить-то не могла от голодной водянки. Еле передвигалась. Лишь с чужой помощью. И это ещё что! В Ленинграде умер от голода брат Вовки, едва не дотянув до шестнадцати. Они с тётей Леной укутали его в мокрые тряпки, чтобы легче было замороженным катить по обледенелым улицам, и Вовка волоком по тротуарам утащил брата на Пискарёвское кладбище. Ведь еды-то ему, старшему, требовалось поболее. Вот он и не выдержал. Калорий, чтобы выжить, не хватало, объяснил мне Вовка.
…Кудряшов со временем обследовал чердаки всех близлежащих домов, куда он мог проникнуть и где водились голуби, а за наличниками окон таились воробьиные гнёзда. И на Свободе, и на Пушкина. Да и на Труда наведывался. Добытчик! Робинзон Крузо!
За вороньими яйцами Кудряшов совершал набеги на остров (который почему-то звали садом-островом), ухитряясь забираться на высоченные вековые тополя, недоступные ни одному из нас. Опасное занятие — вороны могли напасть стаей и сбросить с дерева. Глаза выклевать, например. Я о таком слыхивал. Но Вовка — храбрец! Настоящий охотник. Отважный. Рыбу подсекает на самодельный, выточенный им из куска стальной проволоки крючок даже удачнее, чем иные взрослые на настоящий заводской «заглотыш». Всё у него получается, за что ни возьмётся. Мы почти неразлучны. Встречаемся каждый день.
…После двух-трёх нырков вылезаю на берег и подробно рассказываю другу обо всём, что видел на кладбище. Показываю, конечно, и свои сокровища — гильзы. Делюсь. Со всеми. Чтобы никого не обидеть: ни Бобынька, ни Славика, ни Игорёшку, ни комиссара отряда Вовку.
И тут меня осеняет: а что произошло с самолётом погибшего лётчика? Где он? Винт, ясное дело, пришпандорен к могильному памятнику. А сам «ястребок» куда делся? Если остался на нейтральной территории, то там, следует полагать, до сих пор и находится.
В воображении возникает краснозвёздный серебристый самолёт — без пропеллера. Он одиноко накренился в густой траве на поляне, точно такой, какую я недавно пересёк в бору по пути с кладбища. Нет, «ястребок» притулился возле двух елей, их разлапистые ветви надёжно укрывают боевую машину от чужих глаз — никакой фашист не заметит. К тому же эта местность наверняка уже отбита у врага. Остаётся лишь установить, где она находится. Полагаю, лётчикам, друзьям Луценко, было не до подбитого самолёта — вперёд, только вперёд и как можно быстрее — вот их цель! К победе!
Вовка, поглощённый колыханием пробочного поплавка на мелкой волне, не пытается оспорить меня. Это ещё больше укрепляет мою уверенность, что «ястребок» Героя существует, и его следует как можно быстрее разыскать и отремонтировать. Кому поиском заняться, как не мне? Решено. Еду! Чтобы обнаружить летательный аппарат и занять место погибшего. Хочется верить, что топливный бак миновала шальная пуля и он ещё наполовину заполнен бензином. Так что до ближайшего нашего аэродрома дотяну!
Вот только закавыка: необходим новый пропеллер. Сделать его поможет мне Вовка — мастер на все руки.
Предлагаю другу приступить к делу немедленно — не терплю что-то откладывать на пото́м. Пото́м — значит никогда. И мама так говорит: всегда всё делать надо сразу, как бы сильно ни устал или некогда. Вместе с новым пропеллером на фронт захвачу побольше листовок. Чтобы разбрасывать из своего самолёта. Вижу — мысленно — большой заголовок в центральной газете: «Юный лётчик громит фашистов». Это обо мне!
…Итак, удочку на плечо, забираем улов и червей в баночке и приступаем к самому важному сейчас в моей жизни делу.
Но прежде всем штабом бежим на Митрофановское кладбище. Вовка тщательно измеряет тёти-Лениным портняжным метром, захваченным в последнюю минуту из ленинградской квартиры вместе с золочёными напёрстком и иглой в бархатной алой малюсенькой подушечке и миниатюрными, тоже позолоченными, ножницами — в кармане халата оказавшимися. (Её теперь они спасают — дают возможность немного подзаработать.) Начштаба сейчас винт набрасывает на клочке обоев — чертёж будущего изделия, точную копию. Толковый парень! Напрасно я с ним поначалу повздорил. Верно он рассуждает: здоровье мамы дороже воробьёв и голубей. Если б их в Ленинграде водилось столько, сколько в Челябе, брат остался б жив… Да и не только он.
…Не столь просто раздобыть подходящего размера деревянный брус. Но мы нашли. Его лишился один дальний забор. На другой улице. Нам брус нужнее. Да и через день хозяева дыру залатали — никто в обиде не остался.
Мастерскую устроили в нашем сарае. Как нельзя кстати пригодился дедовский плотницкий инструмент. Все рубанки, ножовки, стамески, коловороты и прочие бесценные богатства мы нашли в образцовом порядке — лежали, засолидоленные, в специальном большом чемодане и висели в настенных, из засохших кожаных ремней, держалках над верстаком. Вовка, оказывается, умел и столярничать: в Ленинграде ещё до начала войны в модельном кружке «Умелые руки» занимался.
Винт получился на загляденье. Два дня по очереди шлифовали его наждачной шкуркой. На покраску вымакали почти бутылку красных чернил — Вовка в бывшем судейском чулане нашёл. Сейчас они никому не надобны, а нам… К тому же — ничейные.
Одно лишь меня смущало — пропеллер великоват. С меня ростом.
— Ништяк, — успокаивает Вовка, — зато нетяжёлый. Липа. Дотащишь. До фронта не так далеко. Если к воинскому эшелону подцепишься удачно, то через несколько дней — на месте. Порядок! Тебе повезёт, уверен, — вдохновляет он. — В таком деле не может не повезти. Дело-то наше правое. Значит, мы победим во всём, за что возьмёмся.
Развёртываем школьную карту СССР, размечаем с Вовкой согласно последним сводкам Совинформбюро. До фронтовой линии действительно не так далеко — напрямую всего около шестнадцати сантиметров.
— Вот где «ястребок» Героя, — уверенно произносит Вовка и ставит наслюнявленным химическим карандашом жирный крестик. — Здесь ищи! Партизаны пособят. Несомненно. Дело важное. Они поймут.
Самое главное — скрыть отъезд от мамы.
…Трамваем добираемся до железнодорожного вокзала. На разведку.
После городского базара это самое завлекательное место в Челябинске. Чего только, если послушать, от людей здесь не узнаешь! А что увидишь!
Двухэтажное каменное здание вокзала, до отказа набитое переселенцами, пассажирами и всякими бездомными, заброшенными сюда войной невольными путешественниками, всегда манило нас. Поглазеть. Здорово интересно! Много от них услышишь такого, чего ни в газетах, ни по радио никогда не сообщают. Страшного. Жуткого. Не оторваться! И всё — о войне.
…Пассажиры по-семейному расположились даже на привокзальной площади — ведь лето. Люди сидят на булыжной мостовой, лежат, едят, спят, отдыхают, чинят одежду, «ищутся»… А дети играют в догонялки, прятки, и какие же без этого могут быть игры, конечно же, в «войну»!
Почти голые смуглые малыши, похожие, по-моему, на чёрных жуков, из раскинутого здесь же табора похлопывают себе в такт ладошками по втянутым животам, напевают:
И клянчат, не пропуская никого:
— Дай копеечку! Дай кусочек хлеба!.. Дай… Дай…
Причём здесь арбуз с дыней? И синее пузо? Глупость какая-то. И голые животы их не синие, а грязные.
Монетки попрошайкам кидают. Даже бумажными деньгами одаривают. А вот хлеба… Редко у кого лишний кусман или сухарь вдруг окажется. Хлеб — жизнь. На земле не валяется. На уме голодных только хлеб.
…Все ожидают своих поездов. Неделями. А то и месяцами. И живут здесь, на площади.
…Воинские эшелоны почему-то проходят мимо, не останавливаясь.
— Где же они загружаются? — спрашиваю друга.
— Задай вопрос полегче, — озабоченно отвечает Вовка. — Не бзди, разыщем. Я хоть и не разведчик, но точно предскажу: где-то здесь, рядом. Только замаскировались. Сразу не обнаружишь. Надо разнюхивать. Осторожно. Чтобы не засекли.
И мы отправляемся на поиски.
Долго бродим между товарняками, пролезаем под вагонами. Едва убежали от стрелочника, приметившего нарушителей железнодорожных правил и пытавшегося ухватить нас за шкирки, — непорядок по путям шастать каким-то подозрительным пацанам.
Мы изрядно измазались в мазуте и, вконец отчаявшись, ни с чем вернулись домой.
Теперь нам предстояла нелёгкая задача: очистить извоженную нашу одежонку, просушить её, кроме того, справиться с повседневными домашними делами и неотложными поручениями — не фунт изюму, как говорит Герасимовна.
Наша затея — затесаться в воинский эшелон отпала сама собой: «площадка», несомненно, охраняется стрелка́ми. И освещается прожекторами ночью.
Остаётся ещё один путь на передовую — «зайцем». Пассажирскими поездами. Он намного сложнее, труднее и длиннее. Придётся рискнуть. Цель стоит того.
Решаем: в дорогу следует скопить еды. Насушить незаметно сухарей, например. Хотя бы немного. Вовка божится, что снабдит меня вяленными на солнышке чебаками и ершами. Без соли.
Так бы и ринулся в манящий путь в перешитых гимнастёрке и галифе (подарок маме за помощь госпиталю). Мне они нравятся именно тем, что имели заштопанные и зашитые мамой дырки от пуль и разрывы от осколков фашистских снарядов! Я её не променял бы на новенькое обмундирование. Надев форму, чувствую, словно сам побывал в том кровопролитном бою. И вышел победителем.
Рассудительный начштаба доказал мне, что необходима в экипировке и телогрейка. Таковая нашлась в нашей сарайке — висела там на гвозде в углу. С довоенных времён. От деда осталась. Её никто после него не надевал — уж очень неказистой выглядела. Но почему-то не выбросили. Среди всяких запылённых, ссохшихся вещей, которые мама называла «хламом для печки», нашлись и сапоги. Тоже дедовы. Они оказались велики и приобрели каменную твёрдость. Не обувь — колодки.
— Ништяк, — удовлетворённо произнёс Вовка, оглядев обутку, изготовленную, может быть, при царском режиме. — Смажем их машинным маслом, и станут как хромовые.
Обнаружились и портянки, которые я привёл в порядок, отстирав на речке. И ветхая большая, не по голове, шапка, которую мы всё-таки заменили старой великоватой кепкой, сошла за неимением другой. По сезону. А шапку — про запас, в матерчатую сумку с продуктами питания. Под голову подложить, если на голой земле придётся спать. Вещи, как мы догадались, когда-то принадлежавшие деду Лёше, уехавшему в тридцать восьмом году к одной из дочерей в Среднюю Азию, стали ничейными, их можно было взять без спроса.
Итак, я капитально «экипировался», как сказал Вовка, и вполне подготовился к предстоящим подвигам.
Трофейную фляжку предусмотрительно приобрели заранее — выменял у Каримова Альки, пожертвовав лучший на улице Свободы панок — биток для игры в бабки. Тяжёлый, залитый свинцом, он не знал промахов. Я им выиграл несметное богатство — не меньше двух ведёр бабок. По уговору Альки все они отдавались ему впридачу. Не напрасно уличная кличка Альки была… Впрочем, я не могу назвать его кличку точно, потому что сразу подпаду под беспощадный, всерасплющивающий молот Закона, направленный против терроризма и ещё более страшного преступления — расовой дискриминации. Неназванное мною слово, кстати, вдохновенно распевает в наши дни на всю страну свердловский бард Александр Новиков в песне об извозчике и булыжной мостовой, будто никакого Закона нет и не было. Но автор этого рассказа — не поэт, не шансонье, а журналист, и посему, повторюсь, попадёт под многотонный каток этого Закона, вплоть до пожизненного заключения.
Чтобы попытаться дожить последние дни не в полосатой робе, придётся погрешить против истины и назвать Альку Каримова хотя бы Жмотом. Сразу хочу предупредить читателя: та, не мною придуманная, кличка не имеет никакого отношения к национальности Альки (Али) Каримова. Вся улица знала — родился и жил он в воровской татарской семье. А кличку ему приклеили за жадность. Проявил он её и при обмене. Но я за фляжку ничего не пожалел, отдал то, что Алька потребовал, — иначе, какой боец без фляжки? Путь может оказаться нелёгким. По выжженной фашистами местности, где ни речки, ни ручья, ни дерева, ни кустика даже. Коричневые людоеды уничтожают всё, что попадает в их когтистые лапы.
Хотя художник Славка и принят в состав штаба, в сокровенные, особо секретные, планы мы его не посвящаем — по молодости проболтается чего доброго. Маме, например. И крах нашим детально разработанным планам.
Кудряшов тоже жаждет податься на передовую, за погибшего брата отомстить, но на кого оставить мать? У меня — другое дело. Славик растёт не по дням, а по часам. Домашние заботы после тренировочной подготовки ему уже вполне можно доверить.
Наконец наступил тот долгожданный, необычный в моей жизни день. Проснулся настолько рано, что слышал, как мама встала, вскипятила чай на примусе в кухне, торопливо позавтракала ржаными лепёшками, испечёнными на сковороде почти без маргарина, и поспешила на работу.
Очень хотелось попрощаться с ней. По-мужски, как отец тогда, перед отправкой на фронт (оказалось, в учебный центр, где он проходил курс молодого бойца). Он крепко обнял, поцеловал нас всех и сказал:
— Я вернусь. Ждите.
И мне со Славкой:
— Мать берегите.
И мне:
— Юряй, помогай матери. И за Славкой присматривай, не обижай. Ты теперь старший из мужиков в семье.
Нет, я не заплакал, поглядывая на маму, которая не сдержала молчаливых слёз. В меня тогда вошли спокойствие и уверенность отца. А если что с ним случится, сказал он, вся надежда на нас. Мы будущие красноармейцы. И защитники мамы. И во всём помощники её.
Сейчас же мне стало настолько тоскливо, что стоило открыть полностью глаза и взглянуть на маму, — не выдержал бы, слёзы комком стояли в горле. И тогда важнейшее дело жизни, всей моей жизни — рухнет! Я не совершу своего главного поступка, который, может быть, всего однажды в жизни и выпадает. Если очень повезёт.
Во мне напружинился каждый мускул, каждый нерв.
Как только затихли мамины шаги и хлопнула «парадная», она же уличная, дверь, вскакиваю с постели и быстро одеваюсь. Но так, чтобы не разбудить братишку. По двери взбираюсь на крышу. Из штаба посылаю сигнал. Вовка что-то мешкает. Он появляется с ещё одной связкой вяленых пескаришек. На правой Вовкиной щеке отпечатался затейливый узор. От подушки — мешочка, набитого сеном, свою он продал — пуховая! И купил матери костей с хрящами — бульон сварил. А для подушки я ему с разрешения мамы мешочек отдал. Раньше в нём крупа хранилась. Я его у мамы за ненадобностью выпросил. Старую подушку деда Лёши тоже Кудряшовым подарили. Тётя Лена на неё ноги кладёт, чтобы не так сильно болели и за ночь не опухали. В общем, помогали чем смогли.
— …Атанда, — шёпотом произносит друг, лёжа пластом на гремучей жести крыши. Начштаба помогает собрать вещи. Я их перебазировал на чердак. Теперь надо спуститься вниз.
Внизу надрывается карканьем бабка Герасимиха.
— Лешевы дети! Вшу крышу ижмутужили! Бегають, как лошаки по улке! Шлежайте щаш жа, не то мильшанера пожову!
Мы спрятались, распластавшись, за коньком крыши. Ждём.
Дежурного (или начальника, точно не помню) Батулы из седьмого отделения нам только не хватает! Того самого, что меня «воспитывал» за замазку.
Вообще-то бабушка Прасковья Герасимовна — добрая старуха. Заботится о крыше, чтобы мы её не прохудили, — жесть ещё дореволюционная, древнющая. Но крепкая. Дом наш якобы построили при жизни Герасимовны. Тётя Таня по секрету нашёптывала соседям, что старуха жила здесь и до «октяберьской леворуции». При прежнем хозяине. Кто он был — никто не ведает. Богатей какой-то. Гневалась, что не расстреляли. Хвасталась Иваном, мужем своим, который в гражданскую войну их, буржуев, «кучками к стенке ставил». И патронов не жалел. Может быть. Сколько я его помню, молчаливого и угрюмого, он в глаза никому не смотрел. И не здоровался ни с кем.
Откуда-то тётя Таня узнала или придумала, что хозяин дома за границу драпанул. И все денежки, народным потом заработанные, с собой в чемоданчике прихватил. Словом, «обобрал трудовой народ до нитки». Ясное дело — буржуй. А как и кем при нём Герасимовна жила — неизвестно. Прислугой, наверное. Неграмотная-то! Так и не научилась газеты читать. Вот что царизм с ней сделал. Искалечил. Это были мои догадки. Предположения. Я ошибался — Герасимовна умела читать, но почему-то числилась неграмотной. А в газеты — это правда — не загладывала. Никогда. Она и так всё обо всех знала. От таких же старух в магазинных очередях.
…Пережидаем напасть. Старуха, выдохшись, бредёт на великое стояние в очереди в орсовский магазин на улице Пушкина. За хлебным пайком. Через огород и смежный двор. По нами, пацанами, протоптанной тропинке.
Спокойно спускаемся с округлой крыши сенок по двери, и Вовка предлагает полакомиться варёными раками. Прощальная трапеза. И откуда только словечко такое выудил — «трапеза»?
— Кремлёвская жратва! Только соли нет. Но мясо рачье — сладкое. Пальчики оближешь, — бахвалится Вовка.
— Я бы не прочь. Но где эти чу́дные раки? Их ещё предстоит наловить. А «ястребковое» время идёт неумолимо.
— Пора шевелиться, — отвечаю. — Не до раков.
— Уже! Как голубчики, с нетерпением нас поджидают. Я и раньше их хрумал, да стеснялся тебе предложить. Когда в блокаде, как в капкане, очутились, то собак и кошек всех поели. Я сам в мышеловку длиннохвостых заманивал. Плохо почему-то ловились. Хитрые. На сало шли, бестии. Да на мертвечину. Слухи ходили: с поличным цапали людей, которые человеческие трупы ели. Говорили, что людоедов на месте расстреливали. Чтобы они и на живых не повадились нападать. Только ты об этом никому ни гу-гу. Не подведёшь? Нас всех предупредили, чтобы мы молчали. А кто проговорится — под суд. За распространение ложных паникёрских слухов. Раки тоже всякую падаль жрут. Но вкус у них — а-ри-ста-кра-тический! Ты не бзди, мы же их распотрошим, всю дрянь из них вытряхнем. Я подумал: вдруг ты брезгливый, откажешься, — разоткровенничался Вовка.
Я поклялся, что никому его слова о людоедстве не передам. Ужас какой!
А насчёт раков сказал: он ошибается. Они разными мелкими речными животными питаются. И напрасно обо мне так думает, что я такой привереда.
— Никакой я не брезгливый. И вообще, отец до войны, когда пиво пил, то раками закусывал. Солёными. С дядей Лёшей Гладковым. Племянником знаменитого писателя, который «Цемент» написал. Я не читал, но из их разговоров понял.
— Хорошо. Тогда — арш! На Миасс. К заводу «Ка четыре». Где мы бутылки вылавливаем. Там нас ждёт царский прощальный обед. Точнее — завтрак, — пригласил начштаба. — Лады? И сразу на фронт!
Мы посеменили по улице вниз, туда, где вплотную к воде, окружённые заборами, стоят корпуса завода, о котором пацаны судачили, что он «секретный». Но что для нас, будущих разведчиков, эти «секреты»! Мы точно знали, что на нём производят оргстекло. Для танков. Пуленепробиваемое.
…Незаметно подобравшись к кромке забора и воды, Вовка откуда-то из-под доски вытащил мешок и заявил беспрекословно:
— Я всё сам! Я угощаю!
Он вынул из него (ведь где-то, не в первый раз удивляюсь, разыскал!) несколько пустых консервных банок. Дно самой большой проткнуто гвоздём десятки раз. Как решето. Или тёрка. Извлёк заранее припасённые плоские речные гальки. После развязал тряпицу, в которой оказалось две-три пригоршни серых колотых камушков карбида. Пошарил в недрах мешка и снова всё сложил в него.
— Щас. Ноги бы не распороть… Кана́ем,[90] друг.
За забором, покосившимся в сторону Миасса под напором горы бутылок — с двухэтажный дом, мы, преодолев метров пять — шесть, пристроились. Каких только здесь во время ранишних посещений не обнаруживалось сосудов по цвету и объёму! Много дореволюционных. Например, из-под коньяка некоего господина Шустова. Такие, кстати, в ларьках сбора стеклотары не принимали, уж мы-то знали. Откуда такие древние сосуды сюда попали — загадка. Некоторые очень красивые: коричневые, красные, зелёные, витые, пузатые, графины в мелких трещинках — прозрачные, словно хрустальные.
Часть стеклотары при пополнении переваливалась через забор в Миасс. Она считалась нашей законной добычей. Мы вылавливали сосуды, гоняясь по реке за торчащими из воды горлышками. Утонувшие бутылки нащупывали пальцами ног в иле и вытягивали их из мягкого, бархатного дна. Если же сосуд плотно засасывало, приходилось нырять, хватать его за горлышко и быстро выкапывать из грунта. Сколько раз мы резали при этом пальцы рук и ног! У меня кровотечения быстро останавливались, а у Вовки… малокровие! Нелегко они нам давались, эти бутылки, — кровью. Правда, и деньги за них платили немалые — двенадцать копеек штука! Если хорошо потрудиться, то можно быстро приличную сумму скопить. И на эти денежки купить на базаре интересные книжки.
У кромки воды, под забором, на растрескавшейся изогнутыми лепёшками полоске суши, мы облюбовали укромное местечко (нас видно было только с реки), выбрались на этот крохотный сухой участок, и Вовка категорично повторил:
— Я всё сам сделаю. На прощанье.
К перечисленным ранее мною вещам из мешка ещё кое-что добавилось: серого цвета пятнистый камешек — «огниво», кресало из куска напильника и трут в медной трубке, которую, пускаясь в плаванье на наш островок, начштаба держал в зубах, чтобы не замочить.
Друг приготовил поистине роскошное лакомство: проволочную сетку, сплетённую им собственноручно, полную поживы, опустошили почти целиком, оставив на берегу горку красных панцирей и клешней да залитые остатки костра из щепок, настроганных с верхних, сухих, частей досок забора самодельным тесаком. Вовка его из бочечного обруча выточил.
…Возвращаемся домой. Про себя я опять думаю: вот друг у меня — натуральный Робинзон Крузо: попади один-одинёшенек на необитаемый остров — с голоду не умрёт! Мне есть чему у него поучиться. Тем более что путь предстоит, наверное, неблизкий, и никто меня пирогами встречать не будет.
— Юра, я решил тебе свой компас подарить. Он у нас в тайнике, в штабе. Карта и компас точнёхонько до цели доведут. Гарантирую. Из Ленинграда привёз. С типографией. В карманах.
— Я перед тобой в неоплатном долгу, Вовк. Первый сбитый мной Фокке-Вульф, считай, и твой, — растрогался я.
— Не сомневаюсь в твоём успехе, — уверяет Вовка. — Главное — отремонтировать машину. У партизан всё нужное для ремонта найдёшь — в бывших МТС. А управлять ею научишься в два счёта. Сообразишь что к чему: на приборах всё написано.
Примчались восвояси воодушевлённые.
Славика застаём с малышнёй в ливневой канаве напротив наших ворот. Он строит из песка очередной дворец. Старается. Архитектором будет. Несомненно. Тётя Люба Брук предсказала.
…С этой канавой и у меня связаны самые отрадные давние воспоминания. После дождя, тем более обильного, она переполняется и, можно сказать, выходит из берегов на тротуар, бурливо неся мутные потоки в Миасс. Тогда мы, соседские мальчишки из разных дворов, выводим на её ребристые просторы целые флотилии кораблей: от сделанных из клочка газеты или куска коры дерева до парового катерка, котёл которого работает от горящей под ним свечи. Этот красно-синий катер — мечта свободских пацанов — принадлежит Мишке Сурату, сыну закройщика, знаменитого на весь город.
Сураты богато, на зависть всей улице, живут в собственном большом бревенчатом доме через дорогу от наших ворот. И никто к ним никаких эвакуированных не приводит, не «уплотняет». Летом у них всегда открыты окна и постоянно звучит патефон. Вот и сейчас писклявый старушечий голос дребезжит сердцещипательный романс. «Ветерокъ чуть колышитъ цветочекъ» — так написано на дореволюционном диске. Пищит какая-то госпожа Вяльцева. Наверняка горбатая старушенция лет эдак под сто. И чего хорошего Сураты в этом писке нашли? «Ветерок чуть колышет цветочек» — она, наверное, сама раскачивается, как тот цветочек. Вот Шаляпин поёт «Очи чёрные» — в ушах звенит! Не голос — оркестровая труба!
Мне иногда самим хозяином, Самуилом Яковлевичем, оказывается великая честь (ведь с Мишкой мы друзья), стоя за подоконником, в палисаднике, крутить ручку музыкальной машины. И я упиваюсь мелодиями Штрауса, Легара, Кальмана, чуть хрипловатыми, но всё равно прекрасными песнями в исполнении Лемешева, Козловского, Петра Лещенко, ариями из опер в исполнении Шаляпина, Собинова… Всё разрешает начальство знаменитому закройщику, даже, со слов уличных пацанов, блатные одесские песенки Леонида Утёсова.
…Пока Славик лепит стены и башни волшебного замка, я написал и положил записку в матового стекла сундучок-сахарницу, тоже от отцовой мамы нам осталась — её приданое.
Я бабушку свою смутно помню. Мама, когда разговор о ней заходит, напоминает, что она меня от смерти спасла. Я в Семипалатинске, где родился, воспалением лёгких и малярией заболел, когда совсем малышом был. Бабушка выходила меня и в Кунгур привезла, где мы тогда временно у маминой сестры тёти Лизы жили.
Но вернёмся в жаркое лето сорок третьего.
Записка получилась короткой:
«Мама, я ушёл на фронт. Не ругай меня. Славик будет тебе помогать. Он научился хорошо поливать огурцы и мыть посуду. Я вернусь с Победой.
Юрий».
Чтобы братишка не увязался за нами, пробираемся дворами, тропками и закоулками, известными только нам, протискиваемся в дыры заборов, а кое-где даже перелезаем через заплоты, пробегаем по крышам пристроек и сараев — такими тайными путями можно оказаться где угодно, на любой улице окрест, в любом дворе.
Кудряшов помогает нести часть вещей до вокзала. Мы прощаемся возле него, крепко пожав друг другу руки. Я обещаю писать с передовой (с «передка»).
— Встретимся на фронте, — заверяет меня друг. — Только маманя бы оклемалась как следует. — Воробьи, трепещите!
Вовкина мать действительно никак не может окончательно оправиться от ленинградской хвори: что-то неладно стало с почками. Когда ей становится невмоготу, то слабость не позволяет подняться с топчана. Кудряшов подметает и моет километровые коридоры и лестницы во всём доме — за неё. Ведь должность тёти Лены — уборщица. Вовка считает, что его матери редкостно повезло — не на земляные работы направили, пожалели. Начальственные жильцы её тяжёлое состояние понимают и не запрещают Вовке исполнять служебные обязанности матери. Вот и сейчас Вовка вспоминает о маме и своей работе. Мы прощаемся. Коротко. Как полагается мужественным бойцам. Защитникам Родины.
…День в вокзальных мыканьях проходит тягостно, медленно, однако благополучно. Милиционеры не обращают на меня внимания. Дважды воинский патруль, оцепив площадь, проверял документы и уводил с собой каких-то взрослых мужчин. Кругом поговаривают, что это дезертиры. Или даже шпионы. Всё возможно — война!
Встаю в очередь за кипятком, наливаю из крана полную фляжку. Выпиваю её не спеша, похрустывая сэкономленным сухариком: последние дни я питался только картошкой, хлеб «гоношил». Сейчас наслаждаюсь новым своим положением — почти фронтовик! Доброволец! Если пофартит[91] — будущий пилот «ястребка»!
С молниеносной быстротой разносится среди пассажиров весть: скоро отправится поезд на Москву. Его почему-то все называют «пятьсот весёлым».
Толпа валом катит на перрон. Со скарбом и грудными детьми. Я затесался со своим пропеллером в шумный людской поток. Винт тщательно обёрнут старыми афишами со щита Рекламбюро и перевязан шпагатом. Всё это раздобыл Вовка. Чтобы я без начштаба делал! Без такого друга… Настоящего!
Видимо, с поклажей я очень похожу на настоящего пассажира. Никто не догадывается, куда и с какой целью я устремился. Пусть для всех это останется тайной. После узнают.
Однако ни в один вагон меня не пускают. Хотя я усердно лгу, что е́ду с родителями и что они где-то здесь, в «пятьсот весёлом». «Ищи», — советуют мне. И выпроваживают. Похоже, все они давно знакомы друг с другом — долго дожидались этого поезда, скорешились,[92] знают в лицо. И некоторые, чтобы избавиться от меня, доказывают, что этот поезд совсем не «пятьсот весёлый».
Посадка и погрузка тянутся долго, но мне не удаётся пристроиться, и я почти в отчаянии. Останавливаюсь возле группы подростков и двух-трёх взрослых сбоку пыхтящего паровоза. Весь состав теплушек прошёл — бесполезно.
Мне тотчас становится известно, что они безбилетники. Такие же, как я. В отличие от меня — бродяги бездомные.
— «Заяц»? — спрашивает меня костлявый парень в грязной, засаленной кепке, надвинутой на глаза. Или нарочно натянутой так низко, чтобы скрыть лицо.
— По фене ботаешь? — шепчет он.
Не приняв вопроса, не отвечаю.
— А это у тебя што за бандура? — развязно пристаёт тощий парень и щупает винт грязнейшими пальцами с белыми ногтями.
— Не лапай, — ощетиниваюсь я. — Не твоего ума дело.
— Чево рыпаешься?[93] — шипит парень, встав в угрожающую позу и озираясь по сторонам. — Чево на меня тянешь?[94]
Я по-прежнему отмалчиваюсь, не залупаюсь.[95] Надеюсь, отстанет.
— Хошь, распишу? — свирепо шепчет он. Меж пальцев я вижу зажатое лезвие безопасной бритвы, и меня пронзает сознание тревоги: хулиган! Может, и того хуже — бандюга.
— Попробуй тронь, — огрызаюсь я. — У меня кореша есть.
Да и в руках моих более мощное оружие: если хорошо размахнуться, можно этого дохляка одним ударом с ног сшибить. Парень это понял и прячет лезвие безопаски в рот, за щёку, блеснув фиксой, выточенной из пистолетной мелкокалиберной гильзы и надетой на зуб. Такие самоделки надрючивает себе приблатнённая шпана, подражая авторитетным уркам, любителям драгоценных металлов и изделий из них: цепочек, колец и в первую очередь «рыжих» — золотых — зубных коронок.
…Смеркается. Поезд наконец-то медленно-медленно трогается. На ходу подаю кому-то пропеллер, карабкаюсь по железной лестнице. Через минуту я в угольном тендере, где уже собрались подобные мне «зайцы». Забираю пропеллер, прижимаю к груди.
Все разместились. Кто сидит, согнувшись, а кто распластался на угольных глыбах. Лица наши быстро становятся серыми, а руки — чумазыми, как у того фиксатого с бритвой за щекой.
Упругий неукротимый ветер треплет мои короткие волосы (кепку снял — сорвёт) и полощет под просторной телогрейкой рубашонку. Колючая угольная пыль из паровозной трубы, ещё горячая, иногда хлещет по подбородку и шее — приходится защищать голову ладонями, ложась на пропеллер.
Неожиданно начинается сильный дождь. Он неистово барабанит в спину. Хорошо, что дедовскую телогрейку надел. Укрыться — некуда. Так сидим и лежим, напрягшись, и нас нещадно секут проволочные дождевые струи.
Открылись створки люка. Вижу кочегара, выгребающего уголь лопатой из тендера. Кочегар работает, не глядя на нас. Из-под кого стекает уголь, те отползают к бокам и в конец тендера.
Хочется туда, в жаркое нутро паровозной кабины. Тело ноет от ветреной стужи и сырости, но никто не пытается покинуть холодную железную грохочущую коробку, соскочить на ходу в убегающую назад родную Челябу. Нельзя! Не имею права отступать.
Приходится терпеть. Теперь я обязан сносить все неудобства и трудности, холод и голод. Ради великой моей цели. Ради «ястребка».
Постепенно меня укачивает.
Очнулся от резкого толчка в бок. Дождь прекратился, пронизывающий ветер — это летом-то! — свищет со всех сторон. Рядом, нос к носу, рожа того, фиксатого, парня. В руке у него опять блестит лезвие.
— Эй ты, домашня́к, гони гро́ши! — сипит он.
— Какие гро́ши? У меня нет никаких денег. Отстань.
По моему телу уже шарят холодные липкие пальцы-присоски. Как у осьминога. Из третьего тома «Жизни животных» Альфреда Брема.
— Что тебе от меня нужно? Отстань, а то кореша на помощь позову! — отчаянно сопротивляюсь я, не выпуская из рук своё сокровище.
— Ша! — шипит грабитель. — Шнифты вырежу!
Бритва мерцает у самых моих глаз. Это кошмарное видение исчезает так же внезапно, как и появилось. Мне становится страшновато. От студёного одиночества и незащищённости. Крепче обнимаю пропеллер, который вроде бы источает тепло. Он и на самом деле согревает меня. Вдвоём с пропеллером мне уже не столь боязно и одиноко. Я готов к отпору тому гопстопнику[96] с мертвецки холодными пальцами-присосками.
Так мы трясёмся всю ночь.
Утром состав замер. Посредине поля. Слезаю с тендера. С натугой. Закоченел.
Из теплушек выскакивают пассажиры, оправляются и бегом назад.
…Лежу лицом вверх на тёплой, раскачивающейся, влажной земле. Голубой, бездонный простор опрокинулся на меня — без конца и края. Прохладное дыхание по́ля обвевает мои горячие щёки. Белёсый ковыль качается под дуновением воздуха. Зелёные упругие травы шелестят, даже позванивают чуть слышно. И такой кругом покой! Только шипит пар, вырывающийся из согнутой трубки внизу, под брюхом локомотива, в нескольких шагах от меня.
Какое-то странное состояние овладевает мною — лёгкость. Не чувствую своего тела. Мои мысли, ощущения окружающего мира словно витают надо мной, вне меня. Не могу понять: сон то, что я вижу и чувствую, или явь. Нет. Действительность. Только странная какая-то. Непривычная.
…Белое облако-танк беззвучно нагоняет какое-то многоголовое чудовище. Они расплющиваются в схватке, и из горы белой ваты невидимый фантастический скульптор вот уже вылепил могучего грудастого коня с гривой, распластанной по небу и кое-где просвечивающей голубизной.
К осознанию происходящего вокруг меня возвращают крики:
— Поехали! Пое-е-ехали!
Поднимаюсь, преодолевая в себе невероятное сопротивление чего-то, что давит на грудь и раскачивает из стороны в сторону. Хватаю винт и бегу, вихляя, на подсекающихся в коленях ногах к тендеру. Преодолеваю, запинаясь, совсем небольшое расстояние, но до чего же крута насыпь! Успел! Покатили дальше!
Главное — пропеллер цел. Пакет листовок за пазухой — тоже. А вот сумки с сухарями и Вовкиной рыбой — нет. И фляжка почему-то пуста. Во рту — Сахара.
Смутно припоминаю, как ночью меня обшаривали холодные, липкие, как присоски осьминога, пальцы фиксатого парня. Исчезновение сухарей и рыбы — его поганых рук дело. А воду сам выпил. Но меня продолжает терзать жажда. Губы потрескались и болят. И глаза режет, будто в них песку сыпанули. Надуло, наверное, ветром.
…Как будто из вмиг растаявшего тумана возникает крутой земляной откос и уходящая в самое небо лестница из деревянных плах, врытых в заросшую травой насыпь. Кто-то соседей по тендеру произносит слово: «Уфа».
— Уф-фа, уф-фа, — раздаётся в ушах, пульсируя в такт ударам сердца.
«Это Уфа? — недоумеваю я. — А говорили: поезд — московский». Слезаю. Невероятно трудно. Колени дрожат и подсекаются. Соображаю плохо: что же со мной происходит? где я нахожусь?
Бреду вдоль железнодорожных путей. Слева — длиннющий состав теплушек. Возле зелёного пассажирского вагона стоит военный в очках. В начищенных хромовых сапогах. Подхожу к нему:
— Дяденька военный, меня звать Юрий, мне обязательно надо попасть на фронт. Можно — с вами? Я по очень важному делу. Пропеллер везу. К «ястребку».
Он удивлённо смотрит на меня. Долго. Очень долго. У него внимательные, изучающие, карего цвета глаза. С горбинкой нос. Я рассказываю, торопясь. Обо всём. О подвиге лётчика, Героя Советского Союза Луценко, о его похоронах, о сломанном пропеллере… Только не очень связно, видать, у меня получается.
— Откуда ты, мальчик?
— Я не мальчик. Мне двенадцатый год, — с достоинством отвечаю я.
— Из какого города?
— Из Челябинска, Свободы, двадцать два.
— Это что у тебя? — спрашивает военный, поправляя очки на переносице движением указательного пальца.
— Я же сказал: пропеллер к «ястербку». Новый. С другом, Вовкой Кудряшовым, сами выстругали. По его чертежам. И Славик нам помогал, братишка… Чтобы самолёт в небо поднять.
Достаю из-за пазухи пакет с листовками и свёрнутую вчетверо школьную карту с проведённой химическим карандашом линией фронта и крестиком, обозначающим место, где приземлился «ястребок» лейтенанта Луценко. Компас цел, но я его не вынимаю.
Рассказываю, как удалось мне у санитарки тёти Марии, соседки, она работает в том челябинском госпитале, где умер от ран герой-лётчик, установить это место, причём точно. До миллиметра. По карте. И показываю её моему новому знакомому, которому сразу доверился… Серьёзный товарищ.
— Вот что, друг, имя своё и фамилию повтори, — говорит военный, и на петлицах его тёмно-зелёной гимнастёрки я замечаю эмблему, уже не раз виденную: вазочка, в которую сунула голову змея. — А ну-ка, дружок, влезай сюда.
И военный подсаживает меня на высокую подножку.
— Так, Рязанов, говоришь, Юра? А сколько лет тебе? Десять? Одиннадцать? Двенадцатый, утверждаешь.
Пропеллер застревает в дверях, и я оставляю его, по предложению спутника, в тамбуре. Мой новый знакомый заверяет, что пропеллер останется в целости и сохранности. Как в аптеке. И что я за него могу не беспокоиться. Он приводит меня в купе и предлагает раздеться. По пояс. Я подчиняюсь. А он слушает через трубку с раструбом, как я дышу, даёт градусник, велит зажать его под мышкой.
Закончив эту процедуру, врач-военный (я вмиг догадался, что это именно врач) разрешает мне одеться, вызывает молодую женщину в белом халате, надетом поверх военной формы, и что-то говорит ей. Я не улавливаю смысла их беседы. Наверное, разговор касается меня.
— Иди за мной, — приказывает женщина в белом халате, тоже, вероятно, врач. И я следую за ней. Выпив горький порошок, которым она угостила меня, запиваю стаканом воды и прошу:
— Можно ещё?
— Пока хватит, — отвечает она. — А сейчас пойдёшь и отдохнёшь, Рязанов Юра. Педикулёза у тебя, случаем, не обнаружится? — строго спрашивает она. — Давай-ка я тебя обработаю на всякий случай.
— А что это такое? — пытаюсь разъяснить я, хотя слово-то знакомое, мамино.
— Раздевайся. Всё снимай.
Я выполняю приказ. Она уносит куда-то мои вещи и вскоре возвращается с ними.
— А теперь голову покажи. Всё в порядке.
В купе заходят ещё какие-то девушки. В форме и халатах. Думаю, посмотреть на меня. Чего интересного они во мне нашли?
В нашем купе, на нижней левой полке, лицом к стенке, с храпом спит военный, но уже другой, в шерстяных полосатых домашних носках.
Появляются и уходят какие-то женщины, тоже в форме и с вазочками в зелёных петлицах. Расспрашивают.
Ещё и ещё повторяю им то о герое-лётчике и сломанном пропеллере его «ястребка», то об отце, то о друге-ленинградце Вовке, который пока не может уйти на фронт из-за немощности мамы, — они чудом вырвались из блокады. По Ладожскому озеру. На грузовике. По воде в ледяной колее. Одна из врачей (а кто же ещё это может быть?) говорит другой: «Проверьте его на педикулёз. В случае положительного результата — обработайте».
— Будет сделано, — отвечает она.
— Меня уже проверили, — слабым, не похожим на мой голосом говорю я.
Меня слушают, прижимая трубку, внимательно разглядывают. Наверное, опять ищут педикулёз.
…Военный в очках, который встретился первым, берёт мою руку, держит за запястье и решительно произносит:
— Вот что, дорогой. Пока на фронт тебе нельзя. Подлечиться надо. После — на передовую, пожалуйста.
Врач, он, наверное, в этом поезде старший, опять предлагает мне снять рубашку и приставляет к спине щекотно-прохладную деревянную трубочку, слушает, как я дышу с музыкальными хрипами. Да я и сам их слышу.
Странно изменился мир вокруг: от голосов у меня больно дребезжит в ушах, предметы кажутся движущимися и мягкими. Полка, на которой сижу, словно горбом вдруг выгнулась, и я валюсь набок. Руки и ноги, ставшие какими-то ватными, не держат меня. Беззвучно ударяюсь головой о крашеную, в светлых разводах, полку, и наступает полная тишина.
…Поезд, мне так кажется, рванул с места настолько резко, что меня подбрасывает на стыках рельсов, трясёт беспрестанно. Мороз пронизывает и скручивает тело в клубок. Мне грезится, что я опять в железном ящике паровозного тендера, а кругом бушует вьюга, и откуда-то с неба прорывается голос:
— Мони́я, мони́я, мони́я…
— Ну как, фронтовик, дела? — передо мной незнакомое мужское лицо. Только глаза я вроде бы уже видел. Наверное, очень давно. Когда был маленьким. И что это за «мони́я»? Верно, мóлния. Но причём здесь молния?
— Ожил, храбрый воробей? — снова спрашивает незнакомец и надевает очки, поправляя их указательным пальцем. Доктор!
Нижняя полка напротив опять занята. На ней в такой же позе — лицом к стенке — спит другой человек. Без носков, с жёлтыми пятками.
Сильно пахнет карболкой.
Подрагивает и поскрипывает полка подо мной, на столике тонко звякают какие-то склянки.
Спрашиваю, а не слышу своего голоса. Пытаюсь подняться. Большая ладонь ложится на мою грудь.
— Лежи, лежи. Передохни немного.
— Куда мы едем? — спрашиваю громче.
— Много будешь знать, скоро состаришься, — шутит доктор. — Прими-ка.
Пью какую-то кислую микстуру. Меня опять клонит ко сну.
Тем временем санитарный поезд медленно движется между скал. Их я вижу мелькающими за стеклом окна, когда открываю тяжёлые веки.
На остановках выгружают людей на носилках — в окно всё видно, даже ночью. Вносят каких-то других.
Военврач подолгу отлучается: конечно же, лечить раненых. С тоской жду его возвращения. Осознаю, что плохо без него мне. Будто он давний и хороший знакомый. Человек, делающий мне добро. Понимающий меня. Не упрекающий ни в чём.
…Полка внизу напротив никогда не пустует. Сюда приходят отсыпаться после дежурств усталые и молчаливые люди — санитары и врачи, наверное.
Дверь нашего купе не закрывается, и я часами наблюдаю, как по коридору пробегают, проходят, снуют люди, часто — в белых халатах, с носилками, с бидонами и разными другими поносками в руках.
Из обрывков разговоров мне становится ясно, что едем не на передовую линию фронта, а наоборот, в тыл. Но почему-то обрадовался, когда военврач объявил мне, что завтра будем в Челябинске. От собственного малосилия, наверное, не огорчился. Меня кормят наравне со всеми. Кашами. И хлеб дают. И даже компот из сухофруктов. И какие-то таблетки. Такие толстые, что еле пролезают в горло.
Восторженность вскоре сменяется виноватостью за причинённые медикам хлопоты и неудобства — ведь я занимаю чьё-то место. И за всё происшедшее со мной. Стыдно. Уши обжигает, когда представляю возвращение домой. Я даже всплакнул втихомолку. Под одеялом. Чтобы никто не заметил. Как всё нелепо произошло! Стремился сделать хорошее, героическое дело, а случилось совсем другое, непредвиденное. В общем, ничего не получилось.
— Подготовили документацию в семьсот сорок первый? — спрашивает военврач какую-то женщину в халате с пачкой бумаг в руках.
— Так точно, — отвечает женщина.
— Прихватите ещё вот этого хлопца. Он рядом с госпиталем живёт. Доставьте по адресу: улица Свободы, дом номер двадцать четыре. (У нас почему-то табличку вдруг сменили, о чём я, наверное, врачам и сообщил).
И тут я снова слышу знакомое: «Не-мо-ни́-я». Слово это относится явно ко мне. Это мой спаситель объясняет женщине.
— Будет выполнено — решительно отвечает женщина. — Какие ещё будут распоряжения, Михаил Абрамович?
— Всё. Можете идти.
Женщина поворачивается и выходит из купе.
— Дяденька… Товарищ военврач, а как же пропеллер и листовки? — робея, спрашиваю я.
— Об этом, герой, не беспокойся. Листовки передам в воинскую часть, на самую передовую. Все до единой «Смерть фашистским оккупантам!» попадут, куда надо. А пропеллер… Его тоже передам по назначению.
Я сразу ему поверил. Такой человек не может солгать. На сердце у меня отлегло: хоть часть задания выполнена. С помощью вот этих людей, ставших мне близкими и уважаемыми за их труд, — ведь сам видел, как они спасают раненых. И мне помогли. Особенно военврач с очками на горбатом носу. Если б не он, что со мной сталось бы?
Попрощаться с моим спасителем не удалось — поблизости не оказался. Не встретился. Чем-то важным занят был. А хотелось поблагодарить. За всё.
Встреча произошла через десять лет. И совсем в иной обстановке. Об этом удивительном событии поведаю в одном из следующих рассказов. А может, в нём ничего удивительного нет? Кто знает?
…В машине с обтянутым брезентом кузовом, заставленным носилками с ранеными, меня подвезли к знакомому школьному крыльцу. И опять вспомнилось незабываемое начало сентября. Сюда, в школу номер тридцать шесть, в последний предвоенный год в сопровождении мамы я пришёл, гордый и радостный, в первый класс. И здесь в нетерпеливом ожидании стоял, чутко прислушивался: не пропустить, когда учительница назовёт мою фамилию, откликнуться.
— …Рязанов! — это строгий голос той женщины, которой военврач поручил «доставить меня по назначению». — Можешь передвигаться самостоятельно?
— Могу. До дома дойду. Тут недалеко, спасибо всем вам. — Отвечаю я и слезаю на школьное крыльцо, где не так давно стоял на табуретах алый гроб с бледным юношей в новенькой гимнастёрке с голубыми петлицами. Эх, не удалось провиражировать на его «ястребке»! Сквитаться с немецкими асами, погубившими Героя.
Сильно мотнуло в сторону, но я удержался на ногах.
— Получи, — протягивает мне строгая женщина конверт.
В нём обнаруживаю рецепт с печатью и потёрханное отцовское письмо из-под Сталинграда, полученное ещё весной. Как оно туда попало? Сам, наверное, отдал. А врач сохранил и возвратил.
До родного порога — всего полтора квартала — добираюсь невообразимо долго. Как будто и без того медленно текущее время растянулось ещё длиннее. Уж очень легко мне вдруг становится несколько раз, того и гляди взлечу. А ноги еле передвигаю. В дедовских сапогах. За стены домов и заборов хватаюсь.
…До самой двери мне никто из соседей не встретился. Я этим несказанно доволен. А то: вопросы, расспросы, упрёки, нравоучения… Лишь лицо тёти Тани мелькнуло за отдёрнутой и тут же задёрнутой занавеской на кухонном окне.
Ключ лежит, как всегда, под половиком у порога.
На столе рядом с кастрюлей, укутанной в бывшее Славкино байковое одеяльце, лежит на виду записка: «Юра, ешь картошку с хлебом и жди меня, не уходи никуда. Славик гостит у тёти Поли».
Полина Александровна — родная тётка отца. В Заречье живёт, в своей избушке. Купила, когда у них конфисковали каменный дом. А сына, артиста-куплетиста, упекли в дом для сумасшедших, где он и умер. За те самые куплеты, им же сочинённые. Тётя Поля проговорилась. Это случилось давно, в тридцать седьмом. Я в их каменном доме не бывал и сына тёти Поли никогда не видел. А вот за что «уморили» в доме для умалишённых сына тёти Поли, я после ещё много раз от неё слышал, до войны, когда она приходила к нам в гости, а точнее — пельмени стряпать (отец любил пельмешки, сделанные именно руками тёти Поли, — никто так вкусно, по его утверждению, их готовить не умел), и с плачем причитала о своём неутихающем горе вечном. Ведь муж её пимокат Яков Ковязин тоже почил. От пьянства. Запил после смерти сына.
В сахарнице с мельхиоровыми ободками и «лапками» на следующий день обнаружил адресную телеграмму: «Надежда Фёдоровна сын Юрий вернётся несколько дней военврач Тасгал». Фамилию врач неправильно указал, у мамы была другая: Костина. И у меня до поступления в школу — тоже. Почему при перекличке оказалось двое Костиных и ни одного Рязанова. Лишь со сменённой фамилией меня приняли в первый класс.
Много лет спустя мама поведала мне, почему отец не хотел, чтобы оба его сына носили фамилию Рязановых. Но вернёмся в конец лета сорок третьего.
…В сахарнице мы храним самое драгоценное — хлебные и продуктовые карточки. И мамины зарплаты, без которых тоже не выжить. Деньги лежали на месте, а карточки отсутствовали. Я сначала всполошился, но понял: за меня в очередях теперь маются отцова тётка Полина Александровна, тётя Поля, вдова пимоката Якова Ивановича, как уже упомянуто выше, не выдержавшего ареста и смерти сына и вслед за ним погибшего от запоя. Она осталась одинока. Конечно, тёте Поле сейчас не так печально жить со Славиком. Но всё равно мне стало ещё муторнее.
И моё сознание заполонил стыд — столько хлопот и беспокойства причинил многим родным людям. И маму заставил переживать. Чувство собственной вины усугубилось, когда прочёл мамино неотправленное письмо на фронт.
Я изначально сам писал отцу, но о получении моих посланий он сообщал лишь маме и всегда одними и теми же словами напоминал, чтобы я слушался и хорошо учился да по дому помогал. На мои вопросы и просьбы он никак не откликнулся. А я не хотел до сих пор принять, что ему там, под Сталинградом, не до моего любопытства.
Своих писем к отцу мама нам никогда не показывала, хотя они очень сильно меня интересовали. Это я прочёл.
«Миша, родной, здравствуй! Долгожданный твой треугольник получили. Весточки от тебя — моя радость и мука! Ожидаю их как подарок судьбы или удар рока. И когда эта пытка кончится?! О твоём возвращении лишь и думаю днём и ночью. И надеюсь, дождёмся тебя живым и здоровым. А случись, ранят тебя или покалечат, не отчаивайся, знай и верь, мы тебя никогда не оставим в беде, родной наш, что бы с тобой не произошло.
Живём мы нормально, как все. Я работаю всё там же, старюсь трудом своим помочь нашей родной Армии бить врага до победного конца.
Слава заметно вырос и повзрослел, вернёшься — не узнаешь. А Юрий, даже затрудняюсь, что тебе о нём написать».
На этой фразе письмо обрывалось. Не решилась, видать, мама сообщить о моей самовольной выходке — побеге на фронт. Поэтому и не закончила своё письмецо. А отец ждёт, волнуется наверняка, приготовившись к атаке с друзьями в окопе.
Я подвинул белую фарфоровую чернильницу-непроливашку, достал из своей матерчатой сумки пенал с карандашами, ручками, перьями номер восемьдесят шесть, ластиком и старательно вывел после маминых слов: «Папа, обо мне не беспокойся и не сомневайся. Я тоже фашистов ненавижу и хочу сражаться с ними. Я хотел на фронт поехать, но простыл и заболел. Врач сказал — я скоро поправлюсь. Поэтому не волнуйся. Я себя буду хорошо вести и маме во всём помогать. Твой сын Юрий».
Перечитал приписку. В ней чего-то явно не хватало. Подумав, понял, чего. И вывел старательно: «Пионер и тимуровец». Хотя ни тем ни другим не являлся — не приняли. За моё непослушное поведение, которое почему-то пионервожатой и учителями воспринималось в штыки. Особенно завучем по кличке Крысовна. С ней я спорил, когда она поступала несправедливо, как со своими, лично ей принадлежащими рабами. И злилась. И вообще обещала меня из школы вытурить. Но я всё равно спорил. Потому что нет ничего дороже в жизни справедливости. А её надо отстаивать. Даже перед завучем.
Это все свободские пацаны знают. А Крысовна, то есть Александра Борисовна Кукаркина, не знает. И знать не желает.
Но ни ей ни другим и в дальнейшем я не уступлю. Даже если меня из школы вытурят.
От мамы, конечно, попадёт — ещё как! Но я должен вытерпеть всё. И не уступать никому, если уверен, что прав. Вот Луценко знал, что он прав, сражаясь с врагом. Погиб, но не отступил. И я не буду отступать. Ни перед кем!
1963 год
P.S. Воинственное моё настроение, привезённое из неудачного похода на фронт, мальчишеская самоуверенность борца за справедливость, желание отстоять свою правоту, правду во что бы то ни стало — во всё это я поверил в первые же минуты после возвращения домой. Разумеется, эти мысли пришли не вдруг, они бродили во мне и раньше, но сейчас выстроились, как перед боем. В те блаженные мгновения под стук маятника вечных бабушкиных настенных часов я вдруг отчётливо осознал, чем предстоит мне заниматься в жизни. Это был сильный прилив, толчок, ясное видение грядущего, в нём лишь отсутствовали те последствия, которые сопутствуют любому поставившему пред собой цель: бороться и не сдаваться. Если б я их, эти последствия, и увидел тогда (что, конечно же, невероятно), то всё равно не изменил бы жизненной цели. Но, к сожалению, сколько раз приходилось мне отступать под ударами жизненных обстоятельств. Неизменным оставалось одно — я продолжал двигаться к ней, к цели, вернее, к целям. Одну из них принял уже взрослым человеком — спасение (тоже целенаправленно) уничтожаемых, уцелевших, благодаря народному сопротивлению, предметов древнерусского искусства, вернее, того, что от него осталось. Это и был мой «ястребок», пусть маленький, по силёнкам, к которому приладил-таки пропеллер и запустил в небо. Небо нашей жизни.
2007 год
Гудиловна
После неудавшейся попытки пробраться на фронт я тяжело хворал воспалением лёгких. Но не столько горевал о том, что болею и теряю драгоценное время, как о том, что приключилась это не вовремя, — кончается знойное лето, все соседские ребята с утра до вечера пропадают на берегу Миасса, купаются и загорают, устраивают грандиозные сражения на острове, промышляют рыбу и раков, а я вынужден лежать в постели, изнывая от безделья, липкого пота и гнетущей комнатной звенящей тишины и пить отвар каких-то корешков дикой травы, которые собирает для меня где-то в лесу, на только ей известной поляне, бабка Герасимовна. Мама сходила в госпиталь, и ей выдали бесплатно какие-то таблетки. По рецепту Михаила Абрамовича. Их, говорят, ни за какие мильёны нигде не купишь — американское лекарство. А по рецепту военврача Тасгала — выдали. Так что лечат меня разными способами. Нестерпимо долгие часы коротаю один-одинёшенек. Лишь регулярный бой больших настенных часов (приданое бабушки) напоминает, что время вязкое, как битум, разогретый летним зноем, беспрестанно и медленно течёт куда-то. Неизвестно куда. В пустоту, окружающую меня.
Лишь призывно-задорное щебетание воробьёв иногда доносится через открытую форточку да слышится собачий дальний лай.
Спасают меня от непереносимой, нестерпимой, гораздо хуже хрипучей болезни и скуки друзья-книжки. И отважные, а то и забавные, герои этих книжек. Точнее, неунывающий, прикидывающийся дурачком, а на самом деле проказник и плут, Йозеф Швейк, фантастический обжора Балоун и другие персонажи.
Иногда появляется Вовка Кудряшов, товарищ мой верный. Встречи с ним — самые отрадные минуты. От него, всегда бодрого и делового, узнаю ребячьи уличные новости. Это вести из моего, но недоступного сейчас, бурлящего вокруг мира. Без книг я, думается, не вынес бы пытки нудной болезнью. Наверное, она тянет меня перечитывать сказку Волкова «Волшебник изумрудного города», чтобы целиком погружаться в неё. Тогда и хворь как будто исчезает.
Однажды Вовка сообщил, что с чердачного наблюдательного пункта замечен мой новый сосед — прихрамывающий военный с тростью. Трость очень красивая, разноцветная, это было видно даже издалека в самодельную картонную подзорную трубу без стёкол.
Вошёл он, открыв дверь ключом, в квартиру Гудиловны, до тех пор пустовавшую, — хозяйка её пропала вместе со своим облезлым, хитроглазым муженьком-немтырём и толстяком-сыночком Шуриком ещё в апреле.
Исчезновению свихнувшейся от злобы и природной дурости Нины Иегудиловны предшествовала потрясающая, до жути захватывающая сцена.
Об этом невероятном событии узнали не только все жители улицы Свободы, но, наверное, и дальнего кирсарайского посёлка. Столь широкое оповещение следовало поставить в заслугу бабке Герасимовне.
До войны у нашей семьи в общем жактовском доме была однокомнатная квартира с чуланом, имевшим самостоятельный выход сбоку во двор направо. Взамен этого вместительного, ещё «барского» (дом до революции принадлежал сбежавшему за границу биржевому маклеру — кто такой «маклер», я представления не имел, но бронзовую именную печать его мне повезло нащупать и вытащить из-за наличника кухонного подоконника). Вместо чулана, мрачного угла моих «ссылок» за детские проказы и непослушание, отец в тридцать седьмом году вместе с дедой Лёшей затеял постройку жилой комнаты. Строительством пристроя занимались менее года дед Алексей, который владел плотницким делом, и наёмные рабочие. Они уже успели — с моей помощью! — обить дранкой стены и потолок, два воза прекрасного мелкого песка заготовили, извести несколько мешков закупили. И тут случайно отец столкнулся с бывшим дворником и уборщиком их дореволюционной усадьбы Гаврюшей, который сразу вцепился в отца с торжествующим воплем:
— Попался, барчук! Держите ево, граждани! Это Мишка Рязанов! Мы ево сичас к стенке поставим, котрреволюционнова элемента! Завите-е милицию! Евоный отец меня иксплутировал!
Гаврюша забыл, что его, малость придуркавастого, ещё мальчишкой, дед Лёша подобрал — голодного, завшивленного и оборванного — на улице. А сейчас вмиг нашлись доброхоты расправиться со скрывавшимся «контриком». Отца, разумеется, тут же арестовали. С год, кажется, он числился для меня в «командировке». Спас его муж сестры Клавы — старый большевик Александр Авдеев, — уничтожив липовое дело: отцу во время октябрьского переворота минуло всего двенадцать лет. Но самого дядю Сашу Авдеева расстреляли как врага народа в тридцать восьмом палачи из новой, молодой волны чекистов. До начала войны с фашистами отца больше никуда не вызывали и не трогали. Но вот фашистская Германия напала на СССР. Отца вскоре вызвали в районный военкомат и в декабре мобилизовали. Комната так и осталась неоштукатуренной. И её реквизировали как излишки жилплощади. Мы втроём опять стали жить в одной комнате.
Помнится, тогда же, в сорок первом, осенью и зимой, в город начали прибывать первые эшелоны эвакуированных.
Беженцев расталкивали по квартирам — «на уплотнение». «Уплотнили» и нас. Реквизированную комнату отштукатурили и заселили. Мама отнеслась к вселению эвакуированных с пониманием. Она близко к сердцу принимала чужое горе и вообще всё происходящее в стране, в мире. Но не всем это «подселение» нравилось в нашем доме. Тёте Даше Малковой, например.
Бабка Герасимовна объявила маму «шамошедшей», после того как она зимой сорок первого, когда немцы подошли к Москве, подала заявление в военкомат с просьбой о зачислении в действующую армию. Отказали. Мама переживала, что её «отстранили».
Герасимовна же на весь общий коридор рьяно осуждала маму, обвиняя её в том, что она «хотит швоих единокровных робят малолетних», то есть меня и Славика, «оштавить широтами», да ещё почему-то «круглыми». Как накаченные мячики, что ли? Будто не видела, какими худыми мы с братом выглядели.
Я не представлял, кто такие «круглые» сироты, но почувствовал несправедливость бабкиной нападки — я и Славик никак не могли ни с того ни с сего стать шарообразными — и попытался защитить маму.
— Мама нас любит, — громко объявил я бабке. — И никакие мы не «круглые». Не мячики.
— Иди, Юра, в комнату, — строго приказала мама. — И никогда не вмешивайся в разговоры взрослых.
Я повиновался, и чем закончился их спор, не знаю. Но тогда был уверен на все сто, что права была мама. Мне и самому казалось, что несколько лет (год — два, пока идёт война) мы можем пожить и в детдоме. Это даже интересно — там уйма ребят.
Ничего она не понимала, эта затюканная, скрюченная, ещё дореволюционная старуха, — думалось мне. Невдомёк ей: кто же откажется, кто не мечтает попасть на фронт? Ведь это так увлекательно и почётно — воевать. За свою Родину. За улицу Свободы. За маму. И вообще — за людей. И лишь позднее я понял: мама на фронт просилась, потому что чужое горе воспринималось и её горем, а судьба страны — и её судьбой. И для блага Родины была готова на любую жертву. Как и все, разумеется, настоящие советские люди. И я так думал. И по репродуктору много раз слышал. Это мои мысли повторял диктор Левитан. И всех других.
До войны мама работала санитарным и ветеринарным врачом на горхолодильнике, а после размещения привезённого с Запада механического завода пошла на это производство: в громаднейшее, только что построенное на месте уничтоженного городского «собора» оперного театра здание. Стала токарем, точила гильзы для крупнокалиберных снарядов. Вот какая у нас мама. Только она ничего такого не рассказывала никому из соседей. Она вообще о себе и своей жизни не любила распространяться, отговаривалась: ни к чему всё это. Когда повзрослел — узнал: опасалась, что упекут в тюрьму. Отец её служил в своё время кондуктором взорванного революционного царского поезда, но после этого случая вышел на пенсию, получив инвалидность. На что и жили в Петербурге всей семьёй.
…Когда её наградили медалью «За доблестный труд в Великой Отечественной войне», она плакала от счастья и переживаний, накопившихся за четыре напряжённейших, без продыха, года. А медаль ни разу не надела. В коробочке так и хранила. Необыкновенная скромность её, мне хвастунишке и выдумщику, была странной. Я её себе не мог объяснить. Как и жестокость наказаний, чаще по жалобам и нашёптываниям соседок. Иногда виноват бывал я, а иногда — нет. Доверчивость её подводила. Полагаю, эту особенность её характера — без наказаний — унаследовал и я.
…Событие, о котором намереваюсь рассказать подробнее в одном из следующих повествований, произошло после запомнившегося мне навсегда Дня Великой Победы невиданным по яркости и обилию красок салютом и всенародным многотысячным столпотворением на главной площади Челябинска, с всеобщими радостью и ликованием, разделившими нашу жизнь на две части — ту, что было до, и после. Но вернёмся в сорок второй.
…Сначала в неоштукатуренной до конца комнате поселилась семья ленинградцев. Исхудавший юноша, похожий на белую тонкую личинку, — я их выковыривал из-под коры расколотых чурбаков, вялый и слабый, он почти не вставал с постели, сооружённой при моём участии из кирпичей и досок. Мать и бабушка приносили ему из обкомовской столовой в судках питательные, как они говорили «высококалорийные», спецобеды, которые получали по каким-то особым талонам. Мать Володи была каким-то партийным начальником и чем-то занималась в том же обкоме. Там, наверное, и жила. А где обитала бабка — не знаю. Возможно, их расселили по разным квартирам. Оклемавшись, юноша куда-то переехал. Но перед этим произошла трагедия, которой я так и не нашёл объяснения.
Продолжавших прибывать в наш город эвакуированных поселяли не только к тем, кто желал принять, но и в приказном порядке. Если позволял метраж жилплощади.
Гудиловна тоже была эвакуированной. Первая моя встреча с ней произошла так: вернувшись из школы (я уже к этому времени достаточно окреп), увидел в открытую в общий коридор дверь кухни Малковых сидящую на плетёном небольшом бауле чернявую, одетую в лёгкое, как его называли взрослые — демисезонное, пальто и в накинутой на плечи белой ажурной шали женщину с тёмными, на выкате, настороженными глазами, похожую на цыганку. К нам во двор забредали эти гадалки-обманщицы. Я остановился — из любопытства.
«Цыганка» терпеливо сносила ругань разгневанной тёти Даши, вдавив себя в угол небольшой комнатушки, словно приклеившись к нему.
— Меня это не касается, куда ты пойдёшь! — кричала Малкова. — Откуда припёрлась, туда и проваливай! Хоть к чёрту на рога!
Такой разъярённой и грубой тётю Дашу я ещё не видел.
— Я одинокая, — тихим печальным голосом убеждала женщина, не двигаясь с места. — Я устроюсь вот тут, на своём сундучке.
— А я не желаю, чтобы ты тут оставалась, — хамила завмаг. — Вас только на порог пусти, вы, как клопы, расплодитесь и из дому вы́живете… Проваливай! Чтобы я твоё мурло больше не видела.
Женщина упорно продолжала сидеть на своём бауле, жалобно убеждая Малкову, что от неё никаких неудобств хозяйке не будет, наоборот, они станут подругами, а она, «цыганка», постарается ей во всём помогать.
Завмаг не сдавалась: «Иди ты к чертям со своей помощью! Мне никакая твоя помощь не нужна. Понятно я говорю? Убирайся!» Незваная гостья ссылалась на то, что вселили её в квартиру Малковых по распоряжению военкома как эвакуированную, показывала тёте Даше какую-то бумажку.
Вот в чём дело! Её, эвакуированную, не пускает тётя Даша!
— Вон к Рязановым иди жить! У них целая комната пустует, — сказала зло завмаг, заметив меня.
Женщина пронзительно посмотрела на меня, и я сразу как бы ослабел от её чёрного, мне показалось, бешеного взгляда.
— У нас уже живут. Ленинградцы, — поспешил пояснить я. — Вот мне даже партийный билет Володина мама подарила, — похвастался я.
И я показал алого цвета кожаную обложку с золотыми буквами «ВКП(б)».
Я не был против, чтобы и она поселилась в нашей комнате. Вместе с Володей. Если жить негде. Не на улицу же её выгонять. Да и Володины мать с бабушкой квартиру нашу посещают лишь днём.
Препирательство эвакуированной с тётей Дашей завершилось тем, что негодующая Малкова, закрыв дверь на ключ, ведшую в большую комнату с лепным потолком и апельсинового цвета абажуром над столом, смоталась в райвоенкомат на улице Красноармейской, и пришедший вместе с ней человек в военной форме увёл куда-то женщину с баулом, помогая ей тащить оказавшийся тяжёлым и громоздким груз.
А ранним утром, выйдя в коридор умыться, я застал возле малковского рукомойника высокого широкоплечего красавца в синих галифе и сверкающих хромовых сапогах. Оголённый по пояс, он громко фыркал, обливая себя холодной водой, черпая её ковшом из ведра.
— Иди, иди, чего встал? — раздражённо понукнула меня тётя Даша, вынесшая умывшемуся богатырю большое махровое полотенце с вышитыми разноцветными птицами — красота!
Но любопытство моё было слишком велико. Я не повиновался приказу соседки.
Несколько минут спустя богатырь вышел от Малковых в коридор уже в гимнастёрке — обмундирование на нём было новенькое и броско облегало атлетическую фигуру. В каждой петлице я узрел по две шпалы: ого! майор! командир!
В тот же день я спросил у Милки Малковой, кто к ним в гости утром с фронта приехал. Она пояснила, что это был сам военком майор Шумилин. Я тогда Милке, честно признаюсь, позавидовал. Особенно когда она показала оставленный гостем настоящий охотничий нож, острый, как бритва, с продольной ложбинкой через всё лезвие и с рукоятью из натурального оленьего рога. Гость забыл драгоценную вещь после обильного угощения — Милка перетирала на кухне тарелки, рюмки и прочую посуду — свидетельства пиршества.
Хотя Милку мать с вечера отправила к тётке, жившей в соседнем дворе, и она лично с майором увиделась только утром перед школой, поговорить им, понятное дело, подробно не удалось, и всё-таки я считал девчонку везучей. Тем более что им такой трофей достался — фашистский охотничий нож! Наверное, бравый майор добыл этот трофей у диверсанта.
Вскоре ленинградцам, как уже упоминалось выше, дали другое, несравнимо благоустроенное жильё в большом доме — тогда, пожалуй, самом высоком в городе, по улице Цвиллинга, тридцать шесть — и они переехали. Точнее — ушли, поддерживая за локти юношу — им нечего было перевозить. Бледный до белизны юноша, его звали, как я выше упомянул, Володей, к тому же опухший, еле передвигал ноги в распоротых тапочках — ступни не влезали в них. Как у мамы Вовки Кудряшова.
В бывшей нашей комнате вдруг как-то незаметно очутился невзрачный, лысоватый, бессловесный человечек. Он не здоровался ни с кем, проходя мимо. Да и появлялся среди жителей дома крайне редко. Служил человечек, как утверждала Герасимовна (и где только разнюхала!), «ишпидитором в орше». Я так и не понял, кем он работает, смысл первого слова был тогда мне неведом. Знал только, что хлебные магазины, где мы выкупаем пайки хлеба, — орсовские.
Комнату срочно дооштукатурили и побелили, в окно рабочие вставили металлическую (я её назвал «тюремной») решётку с прутьями в палец толщиной, а на дверь навесили широкую накладку полосового железа с пробоем — винтовым замком. Крепость!
Сразу явилось семейство бессловесного человечка, которому мы уже с Вовкой придумали кличку, — Немтырь.
Нина Иегудиловна, жена Немтыря, та самая женщина с огромным баулом, её мы окрестили Гудиловной, сразу же стала всеобщим нашим бедствием.
Такой напасти в нашем дворе не видывали никогда.
Гудиловна возненавидела жителей нашего двора. Не считая ненаглядного своего толстенького сыночка Шурика, да, возможно, мужа. Остальных — всех без исключения. Но пуще, лютее — Милку и её мать. Наверное, за то, что завмаг не пустила её в свою комнату и даже с кухни выперла.
Видно было, что Гудиловна боится Малкову, поэтому избегает стычек с ней. Но зато какой только пакостной напраслины она не выдумывала и не распространяла о Милке и её матери через тётю Таню, а та «по секрету» взахлёб расшептывала злобные вымыслы Гудиловны всем в округе. И тёте Даше пересказывала на ухо.
Злобы Гудиловны с лихвой хватало на всех, кто ей встречался на пути.
…Вот она выбегает на середину двора, как на цирковой манеж клоун. Голосом, отчётливо слышимом даже на ЧТЗ, взывает:
— Люди! Вы побачьте тилько, што зробыли ции вражины! Штоб они все до одного околели! Измазали моё самое красивое, дорогое, шикарное, единственное платье! Я покупала его ещё в Житомире! В комиссионке! Они испачкали его кошенёнковым дерьмом! Бандиты! Уголовники! Они прожгли его, изверги! Вот две дирки!
Увидев нас, Гудиловна бросается ловить предполагаемого злоумышленника, чтобы расправиться с ним. А подозревает она всех нас. Весь штаб тимуровской команды.
Я закрываю дверь — вдруг ворвётся!
Мы тоже дружно ненавидим придурковатую Гудиловну, а расплачивается за это чаще её сынок, толстяк, паинька Шурик. Безобидный увалень, которого мы прозвали жвачным животным. Или: Жэжэ.
Заботливая мамаша — вот тебе и одинокая! — пичкает своё чадо непрестанно булочками и бутербродами — даже с вареньем из вишни! Шурик лишь послушно и лениво поглощает всю эту вкуснотищу. Один! А нам, честно говоря, завидно. Ведь у нас совсем иначе заведено, мы привыкли делиться из того немногого, что имеем, а лакомствами — обязательно. Выпросить же что-нибудь у жвачного Шурика-Мурика невозможно — свои бутерброды он доедает в безопасном от нас отдалении, под бдительным присмотром подвижной, как ящерица, мамаши.
К тому же Гудиловна запретила сыночку играть «со всякой шпаной», с нами то есть. Это мы-то, тимуровцы, — шпана?! Да она спятила! Не разбирается ни в чём и ни в ком. Всех облаивает и грызёт. Мы, выходит, шпана, а её сыночек — хороший? Ну, Гудиловна, подожди, докажем тебе, кто такие мы! И что такое твой закормленный хомяк Шурик-Мурик.
Надо ли говорить, что семилетнему Шурику попадает от ребятни часто, и как никому другому. Иногда и ни за что. За Гудиловну.
Услышав вопли обожаемого ею дитятки, составленная вся словно из мячиков, выскакивает она за ворота — на потеху обывателям, грызущим семечки подсолнечника на уличных скамеечках, — на проезжую часть улицы, потрясая кулаками и брызгая пенистой слюной, проклинает нас.
Я, когда на ногах, спасаюсь от взбрендившей[97] Гудиловны на высоком тополе возле наших ворот. Она не может взобраться на дерево, слишком толстая, хотя бегает удивительно быстро. Горе ждёт настигнутого ею — измолотит, защиплет, уши искрутит так, что вспухнут, как пончики.
Зато, уцепившись за согнувшуюся дугой вершину тополя, можно спеть потешно прыгающей внизу Гудиловне куплет, специально сочинённый для неё:
Песенка на нехитрый уличный мотив получилась нескладушкой, но, за неимением лучшей, своим самодеятельным вокалом мы платим Гудиловне за незаслуженные обиды, за её безумную несправедливость. Мы уверены в своей правоте в борьбе с Гудиловной. И это нас вдохновляет на придумки. Жаль, что хворь временами совершенно обессиливает меня, — в такие минуты я могу только лежать, тяжело дыша, и поэтому не всегда принимю участия в этих потешных, почти театральных, уличных представлениях. Но иногда…
…С весёлым шумом и гвалтом прошла разыгранная на полянке возле дома, где живут Бруки, сочинённая по ходу действия сценка «Кормление Шурика».
Сначала мы просто дурачились, с гиканьем гоняясь друг за другом. Кроме меня — не до прыганий иногда становится, хоть уцепиться за что-то да не брякнуться наземь.
— Давай, — предложил я Вовке, — ты будешь Шуриком-Муриком, а я — Гудиловной. Я буду тебя откармливать.
Вовка охотно согласился изображать пухлощекого и жопастого[98] — словно два резиновых мячика в широкие штаны затолканы — белотелого сыночка Гудиловны: мало кто из соседских ребят на него походил, кости да кожа. Да жилы вместо мускулов.
Вовка надул щёки, вытаращил глаза, а я принялся усиленно потчевать его «пирожками», свёрнутыми из листьев подорожника и начинёнными канавным песком.
— Не жалаю пирожков, дай шиколада! — верещал Вовка, брыкаясь, и противно блеял шуриковым голосом.
А я его увещевал:
— Ну слопай вот этот пудовый кусочек, чтобы толще был твой толстый задочек, сожри банку свиной тушёнки и ведро варёной пшёнки.
Все подхватывали хором: «Пшёнки, пшёнки и кукур-р-рузы!»
Вовка же как заблажит:
— Ой, пузо болит, ой, лопнет! Не надо ведро пшёнки, дай ведро касторки! Ой, караул! Запор!
И закувыркался на траве под дружный хохот зрителей. Раззявив беззубый рот со стёртыми дёснами, беззвучно закатывалась и сидевшая на крылечке Герасимовна, утирая иссохшим кулачком слёзы.
Пока Вовка мучился несварением желудка, я смотался в сарай и вернулся с клаксоном.
— Нету касторки, — трагически заламывая, как в настоящем театре (а я в нём бывал однажды, в драматическом, на нудной и фальшивой пьесе «Партизанка Юля»), руки, возвестил я. — На ней пончики поджарила. Сейчас мы тебе клизму поставим… и от смерти лютой избавим.
Вовка же, увидав в моих руках чёрную резиновую, вместимостью не менее литра, резиновую грушу, вскочил с диким воплем и сиганул в лопуховые джунгли.
В следующий раз мы этот весёлый спектакль разыграли с настоящим Шуриком. Роль не по уму заботливой мамаши исполнял Вовка, мы помогали ему: и зрители и актёры.
Позднее, вспоминая те забавные представления, до меня, до моего сознания докатилось, насколько мы, пацаны, жестоки были: ну в чём перед нами провинился мальчишка, чтобы так издеваться над ним? Чужой боли ещё не научились чувствовать, сопереживать чьим-то страданиям. И раскаялся в когда-то содеянном, в чём принимал участие. Но что было, то было. Этот случай навсегда утвердил во мне жизненный принцип: не обижай никого!
…Шурик затравленно пищал, распятый на поляне. Вовка зачитал «рецепт» о принудительном (понарошку, разумеется) лечении Шурика клизмой от обжорства. Учуяв неладное, наш «пациент» заверещал отчаянно и дико. Мгновенно, словно из-под земли выпрыгнула Гудиловна, озверелая и стремительная. Зрители и артисты едва улепетнули от мегеры с растрёпанными, засаленными, давно не мытыми патлами, паранджой завесившими её толстощёкую физиономию.
Подпрыгивая в каком-то дикарском, невообразимом танце, она извергала на нас библейские проклятия и бесчеловечные угрозы. А нам было смешно — хохотали!
В тот же день Вовка изобрёл новую игру — «Прожектор». В солнечную погоду с наблюдательного пункта мы светим настольным зеркалом Бобынька в тюремное окно Гудиловны — пускаем зайчиков.
В конце концов, обезумевшая Гудиловна со стенаниями выкатывается из своего логова. Тут в действие вступает другой «прожектор», поменьше, с крыши сарая в соседнем дворе налево (если смотреть с нашего крыльца).
Самой большой удачей мы считали момент, когда «прожектористы» захватывали беснующуюся Гудиловну наперекрёст, то есть двумя зеркалами с обеих сторон одновременно, а «гранатомётчики» приступали к обстрелу ослеплённой цели бумажными пакетами с песком — «бомбами».
Малы мы ещё были и не могли искоренить терзавшее нас Зло, но каждый из нас обострённо его чувствовал и яростно, без оглядок сопротивлялся, веря в свою правоту и непобедимость. Нас было немного в тимуровском отряде, который возник, как нам верилось, сам по себе. Но нас существовал и действовал легион, бесчисленный, ибо мы осознавали себя пацанами не только родной улицы Свободы — всей своей страны. Всей.
Да, мы жестоко мстили Гудиловне за её бесовскую придурь. Ведь она не беспричинно надрывается сейчас о прожжённом платье. Это Вовка по-пластунски подполз с тыльной стороны к заборчику, на котором просушивались её вещи, и умудрился не только измазать недавно вычищенную одежду — с неё Гудиловна глаз не сводила, — но и линзой через щель между досками прожечь пару отверстий в платье. Сполна была отомщена незаслуженная обида — натрёпанное накануне Гудиловной ухо нашего славного начштаба. Она оскорбила не только Вовку, но и всех нас.
Вообще-то наш отряд совершал не только подобные безобразные, как позднее я их оценил, поступки, но и немало добрых дел. Особенно для семей фронтовиков и погибших на войне. С несправедливостью бороться мы тоже не боимся. А Гудиловна для нас — зримое воплощение Зла.
Она каждодневно учиняет скандалы — так просто, для прочистки глотки. Над взрослыми напористая и воинственная Гудиловна быстро одерживает победу, и для нас эти схватки не представляют особого интереса. Нам даже стыдно за взрослых «слабаков». Что они ей, нахалке, уступают.
Нас же злодейка одолеть не может. Не в силах. Потому что с нами справедливость, а она — дороже всего в жизни. Правда и справедливость. Как мы её понимаем.
Однажды Вовка, опять пострадавший от кулаков и щипков нашей мучительницы (никак не мог он избавиться от голодной блокадной зимы сорок первого — сорок второго годов и бегал медленнее нас, поэтому вёрткая Гудиловна ловила его чаще других), предложил выпустить специальную листовку «Смерть Гудиловне!». Посовещавшись, мы решили, что листовки «Смерть немецким оккупантам!» — важнее, и не стали напрасно тратить бумагу.
— Вот что, ре́бя,[99] — объявил на одном из штабных совещаний Вовка. — Вы не задумывались, не может ли быть Гудиловна… шпионкой?
Нет, мы не задумывались. Поэтому вопрос вызвал всеобщее наше изумление.
— А как ты узнал? — спросил Юрка.
— Проще пареной репы. У нас в Ленинграде шпионов и диверсантов было полно — фашисты пачками их забрасывали. Всех перецапали. Мы, классом, на Невский ходили их ловить.
— Ну и что, имали? — подивился Бобынёк.
— Ещё бы! Одна девчонка на Невском же дежурила, заметила длинного такого, в клетчатом костюме иностранном и в крагах.[100] Краги его и выдали. Она — шасть к милиционеру и шепнула. Тот его остановил и с ходу: «Гражданин, ваши документики!» А у него и документов нет. Его — цап-царап! — и в первую попавшую военную машину затолкнули. И увезли. Девчонке той благодарность объявили на заседании домсовета. За бдительность. Так она потом по всему городу рыскала: кто в крагах, высматривала.
— Так Гудиловна-то не в крагах, — усомнился я. — Да и у моего отца краги были. Мы их на семенную картошку променяли. Как же так?
— А вещи у неё какие на заборе сушились, не засёк? — наступая, вывернулся Вовка.
— Шубы — две, пальто — одно, платья, костюмы… А на костюме том, под воротником, пришит пароль иностранными буквами и орёл.
— Орёл… это не фунт изюма! — поддержал Вовку Юрка. — Факт!
«Фунт изюма» он у меня перенял, а я эти слова услышал от Герасимовны.
— Смякинили, что за Гудиловной надо установить тайное наблюдение?
— Что же получается: Шурик-Мурик тоже диверсант? — стал рассуждать я, недоумевая.
Но Вовку мой вопрос не застал врасплох.
— А может, он лилипут? Подделывается под пацана. Я о таком лилипуте в Питере в листовке читал — немецким шпионом оказался. На боевых позициях его и накрыли — план чертил… В ученической тетрадке. Для отвода глаз.
Своими сногсшибательными разоблачениями Вовка нас прямо-таки обескуражил. Во разведчик! Но и сомнения кое-какие возникли.
— А как же быть с бородой и усами? Я читал, что у карликов бороды растут, — сказал я.
— Броется он, — догадался Юрка. — Да ты, небось, в сказке вычитал?
— У меня папа брился, — поделился я своими воспоминаниями. — Утром побреется, а вечером — щетина. А у Шурика никогда щетины нет.
— Давайте вечером попутаем[101] его и мурцалку[102] потрём ладошкой. Если колется, значит — лилипут. И шпион, — уверенно заявил Вовка.
— Факт, — подтвердил Юрка.
Безукоризненно проведённая операция поимки и пленения Шурика окончилась для Вовки полным конфузом: мордуленция возможного диверсанта, как мы её ни тёрли, как пленённый ни визжал, никаких признаков щетины не обнаружила, она остававалась безукоризненно гладкой. На вопросы Вовки, «броется» ли он, Шурик завизжал, как ноябрьский поросёнок, а слёзы струями брызнули из его выпученных от страза глаз. Мы сразу разбежались врассыпную, не дожидаясь Гудиловны, которая не заставила себя ждать, — опять словно из-под земли выскочила.
Вовка, несмотря на провал силового расследования, установил за квартирой Гудиловны наблюдение — с крыши своего дома, из штаба. Как дело личной чести понял он необходимость доказать свою прозорливость. И опытность бывалого ленинградца-блокадника.
— С Шуриком всё понятно, а кто же в самом деле Гудиловна и Немтырь? — ломал голову и я. — Какое-то слово непонятное: орс. Что это такое? Да и магазины от орса бывают. А вдруг это не то, а шифр? На вопрос, что такое «орс», мама дала простой ответ: «отдел рабочего снабжения». Вот куда ужом пролез Немтырь.
О результатах своих наблюдений Вовка доложил нам на следующем штабном совещании, дня через два-три.
— Гудиловна и Немтырь капитально замаскировались. Но ничего, у нас в Питере и не таких разоблачали, — заверил он нас. — Переносим энпэ поближе к противнику, за заборчик. Дежурить попеременно, по графику. Вскоре они выдадут себя — язык выдаст.
Как раз напротив Гудиловниного крылечка, впритык к забору, соорудили небольшой — на одного разведчика — шалашик. Но и тут нас постигла неудача.
Гудиловна сидела на крыльце и разделывала рыбу, кляня мух, и не как-нибудь, а словно они были враги подстать соседям. Вовка же глаз с неё не спускал, прильнув к щели в заборе. И надо же, именно в этот момент у него защекотало в носу. Засвербило нестерпимо. Он, как ни корчился, сдерживая дыхание, всё-таки чихнул. И не раз.
Гудиловна резво сорвалась с крылечка, заглянула за забор, опрометью бросилась в свою комнату и выкатилась оттуда с полным помойным ведром. Вовка и сообразить не успел, что происходит, почему на него хлынул вонючий поток. Допёр[103] начштаба, что его энпэ рассекречен противником, сразу выполз из шалаша и спрятался за куст акации. Повисшая на заборе Гудиловна посылала вслед неудачнику-разведчику плевки, едкие ругательства и обещания жутких кар. Нет, разведчиком надо быть, чтобы даже не чихать. И всё же…
Не таким был Вовка, чтобы отступить, потерпев незначительное (как он объяснил нам) поражение. После отмывания под уличной колонкой на внеочередном штабном совещании он высказал новую идею. По его наблюдению — вот зачем ему понадобилась продырявленная соломенная шляпа, найденная в ничейном пустом сарае, — следует изменить до неузнаваемости свою внешность. Итак, по его рассуждениям, Гудиловна каждое утро, как на работу, шляется на базар и покупает там самые изысканные продукты питания: мясо, масло, соленья-варенья, муку и прочее. Вовка лично своими глазами видел и даже реестрик покупок составил, что почём. И сумму жирно вывел.
— Какая у Немтыря может быть зарплата? — рассуждал вслух Вовка. — Рублей семьсот. Ну, тыща… с приворовыванием. А она за один набег больше тыщи транжирит. Чуете, куда дело клонится? Несомненно, и Немтырь — шпион. У него и вид — вылитый эсэсовец. Мы и до него доберёмся дедуктивным способом.
— Ну ты, Вовк, как Шерлок Холмс, раскусил их, — не удержался я от похвалы.
— А счас помножим тыщу на месяц, сколько под чёрточкой? — тоном учителя спросил Вовка.
— Тридцать тысяч, — сосчитал я молниеносно.
— Вот оно — доказательство. Ты, Юр, говорил, что в прошлом году…
— В позапрошлом, — поправил я друга.
— Никакой разницы. В позапрошлом году эта Гудилолвна, которая прикинулась одинокой овечкой и мылилась к завмагу втереться: пустите бедную цыпу на шесток, у меня всего один чемоданчик пустенький…
— Плетёный баул у неё был. Тяжеленный.
— Не имеет значения. Теперь такой вопрос: с каких шишей у бедной эвакуированной овечки… Не знаешь, откуда она пригребла?
— Из Харькова, кажется.
— Откуда, повторяю, у бедной эвакуированной цыпы из Харькова такие шальные деньжищи?
Мы молчали.
— Ясно как день: диверсантка. И деньги они сами печатают. Чтобы подорвать наше государство.
Вовка ненавистно сжал зубы и процедил:
— Я знаю, куда о таких «фруктах» надо сообщать… Но прежде она с нами поделится своими преступными дивидендами.
— Какими дивидендами? — переспросил я. — Что это такое?
— Синенькими, с портретом Владимира Ильича. А то их у неё плесневеет неимоверно много, на чемоданах замки трещат, расстёгиваются, того и гляди — вывалятся.
— Ничего ты у неё не выпросишь, — убеждённо сказал я. — Корку сухую не даст. Легче на помойку выбросит. Не видишь, что ли, какая она жадница и ненавистница?
— Вижу, не слепой, какая у неё толстая задница, — сострил Вовка. — Сама отдаст, как миленькая. И столько, сколько мы назовём. Скромно: по десять тыщ на нос хватит.
— Не даст, — упорствовал я. — У неё и снегу зимой…
— Положитесь на мой жизненный опыт. Мы в Питере и не таких жмотов заставляли раскошеливаться… Не одна она жрать хочет. А у неё явные излишки красных бумажек. Знаешь, что такое излишки?
— Откуда мне знать, — ляпнул я, поспешив с ответом, и тут же вспомнил, как под Новый сорок второй вечером в нашу дверь кто-то постучал.
— Войдите, открыто, — откликнулась мама.
Вошла толпа незнакомых людей, среди них — тётя Таня как представитель общественности и один неприметный мужчина среднего роста, которого я не заметил сразу.
— Мы комиссия по выявлению излишков продуктов питания, — назвалась женщина с тетрадью в руке.
— Можно мы осмотрим помещение? — вежливо спросила другая.
— Пожалуйста, — разрешила мама.
Ничего, конечно, что их интересовало, не обнаружилось — никаких излишков у нас никогда не водилось. Жили мы без всяких запасов, кроме мешка картофеля и всяких солений в погребе.
Но молчаливый, худощавый, какой-то очень безликий мужчина взглянул на него и в ту же секунду улетучился из моей памяти, вроде бы и не принимавший участия в осмотре человек-невидимка указал глазами одной из спутниц на верх голландки — там давно, с довоенных времён, лежала, понемножку накапливаясь, может ни один год, четверть мешка твердокаменных чёрных сухарей — их мама толкла в медной ступе для поджаривания котлет. Мы со Славкой об них дёсны до крови обдирали в последний год, когда карточную систему ввели. Мама давным-давно, ещё до начала войны, насушила их из огрызочков, из обеденных остатков — чтобы не выбрасывать. На какой-то «чёрный день». И этот день наступил. Вернее, вечер.
Мешок шустрые члены неизвестно откуда взявшейся комиссии «по изъятию» достали, взвесили на безмене, имевшемся у одной из участниц, вписали в тетрадочку — только мы те сухари и видели — унесли вместе с мешком.
Как-то незаметно, спрятавшись за остальных, видимо, первым выскользнул из комнаты тот глазастый мужичок.
Мама вроде бы и не очень расстроилась.
— А что нельзя на «голландке» сухари сушить, они излишки, да? — допытывался Славик.
И меня этот вопрос занимал. И почему их назвали «излишками», эти обкусанные недоеденные чёрствые кусочки хлеба?
Мама ответила сдержанно:
— Значит, нельзя. Всё-таки комиссия. Начальство. Им лучше знать.
— Лучше бы мы их схрумали, — объявил несознательный Славик. — А куда их денут? Эти тётеньки доедят всё до крошки?
— Голодающим отдадут, — ответила мама.
— А мы неголодающие? — спросил я.
— Нет, — сказала мама. — Мы сытые, пайки по карточкам получаем. Идите спать, чем приставать с ненужными расспросами.
Мы умолкли, чтобы не злить маму, но я так и не понял об «излишках».
— …Были в Ленинграде мародёры и кулаки, — продолжал Вовка. — Натаскали к себе в норы разного добра: сахару, масла, круп, консервов — из разбомбленных складов да магазинов. А мы научились выслеживать этих мародёров. Выследим — и ультиматум: поделись, или заявим куда следует…
— И делились? — спросил я очень заинтересованно.
— А куда им деться? Как миленькие.
— И что же они тебе дали? — спросил Юрка.
— Мне? Ничего. Ребята рассказывали. Им можно верить. В общем, так: пишем Гудиловне ультиматум. По десять — согласны?
— Ух ты! Неужто по десять кусков? — удивился Юрка.
— А чего мелочиться? У неё их куры не клюют, этих денег.
— Мне такие деньги не нужны, — заявил я. — Ни копейки.
— Как это? — не поверил Вовка.
— А так. Сам говоришь — нечестные те деньги…
— Ну и что? Это ж, считай, трофей.
— Мне такой трофей в глотку не полезет, — упорствовал я, понимая, почему противлюсь.
Вспомнил: мама запретила ко всему нечестно добытому прикасаться.
— Слушай сюда, Юр. Представь себе: наши у врагов отбили мешок денег. Что они с ними сделают? Пустят в оборот. Верно?
— Факт, — подтвердил Бобынёк, которому, видать, очень не терпелось заиметь кучу дармовых денег.
— И мы пустим, — сказал Вовка. — Не хуже других распорядимся. И другим нуждающимся поможем. По-честному поделимся.
— Ну, если и другим, — неохотно сдался я, разоружённый логикой Вовкиных рассуждений. — Тому, кто голодает…
И вспомнил того давившегося пончиком на городском рынке. И глаза его остекленелые.
Начштаба сразу приступил к изготовлению письма-ультиматума, причём рисовал буквы печатными, а часть оттискивал литерами, привезёнными из Ленинграда, — для конспирации и солидности.
— Слупим с неё тридцать тыщ, — объявил Вовка. — А если ты от своей доли откажешься, мы её бедным раздадим — под двери будем подсовывать, в форточки из рогатки пулять.
В назначенный Вовкой день и час наблюдение велось всеми нами со штабного чердака.
Гудиловна вышла из своей квартиры, огляделась и, не увидев никого или сделав вид, что не заметила наших мордашек, приблизилась к условленному месту, где под забором Вовка выкопал ямку, а в неё опустил старую эмалированную кастрюлю, прикрытую дырявой крышкой.
Мы видели, как Гудиловна нагнулась, что-то сунула под крышку и, ещё раз осмотревшись и заглянув за забор, удалилась к себе.
— Мирке, той девчонке, что «фрукта» в крагах поймала, дали премию, — сказал Вовка. — Считайте, это тоже премия нам — за находчивость и бдительность. И ум! В жизни всё надо делать с умом.
Я молча кивнул, хотя вся эта операция мне почему-то не нравилась.
— Главное, ребя, не в деньгах, — продолжал Вовка, почувствовав, видимо, неловкость, робость остальных или сомнительную честность нашего поступка. — Если Гудиловна нам их отдаст, значит, уж точно шпионка. У кого, скажите, как ни у врага, могут быть такие бешеные деньги? Вот для чего они нам нужны — для подтверждения. Ну и на расходы тоже. Вон у нас с мамкой ничего из вещей нет. Как погорельцы. Или нищие. Всё в Ленинграде осталось. А на денежки Гудиловны и прибарахлиться[104] можно ништяк.[105] Видали? Положила! Я же говорил: куда она денется? — торжествовал Вовка.
Теперь задача состояла в том, как положенные в тайник деньги взять и остаться незамеченным.
— Всё продумано, — заверил Вовка.
Место тайника под забором он выбрал с учётом, что оно не попадёт под обзор из угрюмого, зарешёченного окна Гудиловны.
— Поплыл за денежками, — весело произнёс Вовка и стал спускаться по штабной лестнице.
— Смотри в оба, — напутствовал его Юрка. — Мешочек не забыл?
Вовка похлопал себя по поясу.
Мы сверху наблюдали, как начштаба подполз к заборчику и тут же опрометью бросился назад, к кустам акации. Готово! Ох и голова у Вовки — арбуз, а не голова! Идей в ней больше, чем семечек в этой ягоде.
— Ну как? — нетерпеливо тормошил Вовку Бобынёк, когда тот влез на чердак после обследования сейфа-кастрюли.
— Я ей ещё покажу где раки зимуют! — зло прошипел Вовка, обнюхав свою ладонь, уже вытертую лопухами.
На крылечко мячиком выкатилась Гудиловна. Она подбежала к тайнику, присела на корточки, выпрямилась и захохотала басом. Смех её казался сумасшедшим, необъяснимым. А Вовка упорно не хотел отвечать на наши домогания, что же там было, в кастрюле. Но мы и сами догадались — по отвратительному запаху, исходившему от Вовкиной ладони, которую он усиленно оттирал потолочным шлаком.
— Га-га-га! — зашлась Гудиловна. — Кому ещё нужно? У меня их много, этих карбованцив! Полный сортир! А-ха-ха!
Так сорвался Вовкин гениальный план быстрого нашего обогащения и всеобщей помощи нуждающимся и голодным.
Под вечер зазвонил штабной «телефон» — вызывал начальник штаба.
И я, и Юрка прибыли немедленно, вскарабкались по крутой лестнице трёхэтажки на чердак. Я, старожил, и то до недавнего времени не знал, что до войны в этом здании размещался и действовал районный народный суд, а Вовка разнюхал. От него и все узнали.
Вот почему в единственном, размером с носовой платок, оконце их помещения была вставлена металлическая решётка с прутьями в палец толщиной. Чтобы судимый, самый что ни на есть коротышка, не смог, даже перепилив решетку, сбежать из сортира. Спустившись, например, как в приключенческом романе, по шёлковой лестнице, умещающейся в горсти. Но то, о чём нам рассказал Вовка, могло показаться фантастикой.
Эту операцию он тщательно продумал вчера вечером во время бессонницы. Раздобытая им некогда во дворе трамвайного управления на улице Труда испорченная электрокатушка от какого-то прибора пришлась как нельзя кстати. Встав пораньше, когда мать уже уковыляла с ведром и тряпкой приводить в порядок начальственные кабинеты, Вовка с самодельным кинжальчиком, сделанным из найденного где-то обломка полотна ножовки, и катушкой проволоки отправился сооружать «маскхалат» из лопухов. Через полчаса — час он превратился в человечка-лопуха и залёг напротив окна Гудиловны, в заросли зелени, и принялся наблюдать за всем, что можно было увидеть (и услышать) в комнате через решётку из вертикальных прутьев, продетых в пластины нержавеющей стали, — ни у кого в нашем доме не имелось подобных тюремных украшений на окнах. И никогда не существовало. А Гудиловна отгородилась от всех, не квартира, а неприступная крепость!
От зоркого взгляда Кудряшова не ускользнула и эта деталь.
— Если люди ставят в окна решётки и бронированные двери, им есть что притыривать от чужих глаз. Логично я рассуждаю?
Мы все были поражены недюжинными способностями Вовки — ему бы главным сыщиком всего города быть. Да что там города! Едва ли в Челябинской области найдётся такой сыщицкий талант! Возрастом лишь не вышел — всего тринадцать, четырнадцатый пошёл. Конечно, тоже уже не пацан несмышлёный. Вполне взрослый. Как и я. Только посмышлёней.
— Ты какие книжки читал? Про Шерлока Холмса и доктора Ватсона, наверное, не раз рассказы прошерстил? — поинтересовался я.
— Причём тут Шерлок Холмс? Свою голову надо иметь, чтобы шарики в ней бегали. Но возвратимся к делу. По солнцу, часов в одиннадцать, объект, то есть Гудиловна, вышла из квартиры и плеснула из ведра помои — на ноги мне попала. Лень ей, шпионскому отродью, до общей выгребной ямы донести — под забор плещет, мух разводит. А мухи, между прочим, переносчики всякой заразы. Это диверсия. У неё окошко марлевой сеткой изнутри защищено, ей дизентерия не грозит. А все остальные? Все мы беззащитны перед её провокациями. Поэтому с ней надо бороться.
— Ну ладно, что меня не заметила. Ноги под колонкой вымыл. Но что дальше, пацаны, произошло, не поверите. Голову на отрез даю: ни слова не выдумал. Приблизительно через час, честно говоря, я уже уползти раздумывал: из окна такой вкуснятиной, жареным-пареным, запахло — никакого терпенья. Это она для своего Шурика-Мурика и агента по кличке Лысый обед готовила на керосинке — я по нюху определил.
И вдруг с нашего двора через забор какой-то лысый тип — назовём их «Банда лысых», — невысокий шкет,[106] тихонько перелез и за собой верёвкой перевязанный поднял вот такой фанерный ящичек, килограммов на пять. По нюху — натуральная селёдка. Лысый три раза в дверь стукнул, и Гудиловна открыла её сразу нараспашку. Лысый спрпшивает:
— Вы мадам Белосвинская?
Она, заметьте, на каком-то языке, но не на русском, отвечает:
— Я Белосиньская. Или Белоссынская.
— Не расслышал: тихо говорили.
— Это пароль у них, так я додул.[107] Ну, она этот ящичек сграбастала, кругом зырк-зырк своими лупоглазыми шариками — нет никого. Захлопнула дверь, а Лысый — тем же ходом назад.
— Я тоже, не будь лыком шит, прямо в масхалате диранул. Зырю, а он к дому учителки под акациями пробрался. Как ни в чём не бывало через наш двор пошастал — к воротам. Я на ходу масхалат[108] скинул — и вслед за ним. Так он ещё полквартала пешедралом[109] к речке шкандылял,[110] после на другую сторону перешёл и сел в грузовушку — вот я номер записал. Во работают, а! А на меня он ноль внимания и фунт презрения — не заметил даже.
— Теперь у нас ценные разведданные о незаконном получении Гудиловной от неизвестного подозрительного лица лысой наружности ящика селёдки. Точное время укажем, сбегай, Юра, на бабушкины часы позырь — сколько там на них, запишу вместе, автомобильчик с номером и марку — «ЗиС». Теперь проследить бы, куда плывёт краденая ценнейшая продукция — селёдка. И мы разоблачим целую шайку фашистских шпионов — диверсантов и спекулянтов в нашем тылу. Такое дело может потянуть если не на орден, то на медаль — точняк.[111] Об этом даже в газете могут напечатать. Тогда нам с мамой правительство может вместо одинарного сортира на втором этаже большую кладовку на первом выделить. Она всё равно хламом завалена, какими-то пыльными папками. Чуете, пацаны, чем дело пахнет? В той кладовке пока дела лежат, из Питера привезённые, их можно и в наш сортир перетащить. А мы в кладовке зажили бы как короли.
— Так значится. Конкретное задание Юре Рязанову: проследить куда денется селёдка.
Бобынёк, которому в этой операции не досталось должного занятия, ни слова не вымолвив во время обстоятельного доклада начальника штаба, уверенно заявил:
— Дак сожрёт. «Набздюм» с Лысым номер один — своим неуловимым мужиком. Я об селёдке беспокоюсь.
— Вот это ты ценнейшую мысль высказал: всех «лысых», которые будут прибывать к Гудиловне, номеровать. Тот, что прикидывается мужем, — номер один, селёдочный агент — номер два, и так далее.
— Вовка, — взял я слово, — я выполнил твоё задание и всё время посматривал на Шурика-Мурика. По-моему, ты ошибаешься — он натуральный пацанишка. Ему лет семь-восемь. Он, как и Славик, с тридцать шестого или тридцать седьмого года — только жадюга.
— Эх, Юра, жареный петух тебя в попу не клевал. Пожил бы с моё, не порол бы такую ерунду: «пацанишка»! Ты просто не знаешь, как враги умеют маскироваться. У нас в Ленинграде случай был: клацает[112] по Невскому этакая цыпа на высоких каблуках. Ну, её останавливает патруль: «Ваши документы!» Она будто в сумочку полезла и — бах! — того патруля начисто положила. Но не дали ей разгуляться. Тут же, на месте, скрутили. Брякнулась она, юбочка задралась, а из-под неё хрен по колен висит. Вот тебе и «дамочка»!
— Шурик-Мурик в натуре лилипут. В цирке видал? Вот такой. Но мы и этого коротышку разоблачим.
Вовка выступал очень убедительно, но насчёт Шурика-Мурика у меня давно возникли серьёзные сомнения, потому что я своими глазами видел, как Гудиловна на солнышке купала своё чадо в новом цинковом корыте, которое принесла с рынка. И он, обнажённый, вовсе не походил на цирковых лилипутов. Ну не походил, и всё тут. Однако спорить с начальником штаба не стал — всё равно не переубедишь. Насмотрелся в Ленинграде разных страстей, и теперь его трактором не сдвинешь. Да и к тому же начальник штаба — чин, а я рядовой командир. Мы все командиры.
На этом заседание штаба закончилось. Вовке требовалось быстро пару воробьёв ощипать и суп из них в консервной банке сварить — тоже дело важное для семьи. Хотя мне по-прежнему было жаль подстреленных из рогатки птах. Но Вовка давно убедил меня, что выжить им надо во что бы то ни стало. А без приварка — ноги протянешь. Он таких «жмуриков» повидал в Ленинграде якобы сотни. Я допускал, что он несколько преувеличивает, — не хотелось верить в такой чудовищный ленинградский мор. Но всё равно уважал Вовку как настоящего героя — выжить в ледяном аду, под постоянными бомбёжками и обстрелами, далеко не всем удалось. В этом не приходилось сомневаться. Начштабу я простил не только охоту на воробьёв и голубей, но и помогал ему ловить их. Без особого желания. И матери его становилось всё легче, ноги перестали настолько опухать, что уборку помещений она могла проводить не в распоротых тапочках и наконец-то зашила их.
Но вернёмся на чердак Вовкиного дома через несколько дней. События к этому моменту развивались так: Гудиловна начала продавать рыбу соседям. Тётя Таня наскребла на пару селёдок, и Толян настолько объелся с голодухи, что его стошнило. А может быть, тут повлияла и подпорченность продукта. Герасимовна тоже обогатилась невиданной вкуснятиной, и, хотя поедание селёдок прошло без особых происшествий, её только прополоскало, бабка всё приговаривала:
— Шелётка хороша, шлов нету, но ш душком.
Обменяла Гудиловна пару рыбин на молоко тёти Ани, но та на следующий день выкинула их на помойку. Молча. Ничего не произнеся в адрес воровки — ведь ясно было и грудному ребёнку, что ящик рыбы похищен «лысым» мужичком номер два. Супруг же Гудиловны, лупоглазый, занимал место какой-то «шишки», а вернее всего — «шестёрки», в орсе на каком-то военном заводе.
— Так, всё понятно: шайка фашистских шпионов, пробравшихся в руководство, действует подлыми диверсионными способами — рыбу воруют с государственного склада, потом её доводят до протухания и этой вонючей селёдкой травят простых советских рабочих, чтобы ослабить наш трудовой народ. Это факт. И я его заношу в протокол. Кто «за»?
— Вовка, так ведь никто не умер от отравления, — возразил я. — Она просто воровка и спекулянтка, эта Гудиловна.
— Извините, подвиньтесь! А кто Толяна Рыжего отравил? Он блевал, как гадкий утёнок? А если бы он вкалывал на том заводе военного значения? И от него зависело, к примеру, изобретение нового, сверхубойного оружия? Родина ждёт знаменитого изобретателя Толяна, как его фамилия? (Это вопрос ко мне.) Вот именно — Данилова. А он лежит на железной кровати и рыгает в ведро в предсмертных судорогах. Это как называется? Диверсия! С помощью тухлой селёдки. Ты, Юра, не обижайся, но очень плохо разбираешься в людях. Особенно в тонкостях вражеской разведки.
— В общем, товарищи тимуровцы, медлить нельзя. Надо приступать к действиям. Кто против?
Все были «за». Даже Славик.
…Не знаю, Вовкина ли в том заслуга или всё произошло случайно (либо по чьей-то воле, не знаю).
В апреле, когда солнце иногда уже припекало по-летнему и под заборами роями высыпали бурые букашки с чёрными пятнышками на спинках, пацаны их «солдатиками» прозвали, мы большой гурьбой сбегали в далёкий и дремучий парк культуры и отдыха имени Горького и впервые в наступившем году искупались в бывших каменоломнях, летом кишащих лягушками и пиявками. А сейчас лёд опустился ко дну всего метра на полтора-два, сверху вода солнцем прогрелась, а нырнёшь — скользишь по нему животом. Вылезешь на тёплые камни, и ещё долго дрожь тебя сотрясает. Согреешься — разомлеешь. Блаженство! А произошло это победное для всех нас событие в день, положивший конец игу Гудиловны, когда мы вернулись из парка.
…К нам во двор въезжает автомашина — явление чрезвычайное. Автомобиль зелёного цвета с ребристым остовом, обтянутым брезентом с защитным маскировочным рисунком, а в кузове — солдаты с винтовками, в кителях с голубыми погонам.
Вопль Гудиловны, истошный и протяжный, — так, вероятно, воют голодные кровожадные волчицы — раздался, когда вместе с понятыми — вездесущей бабкой Герасимовной и не упустившей такой редкой возможности домкомом тётей Таней — приехавшие приступили к обыску нашей комнаты, доставшейся почему-то семье Немтыря и его семейке.
— Ой, нема у нас ничо́го! — притворно голосит, обливаясь слезами мордастая и лупоглазая Гудиловна. — Мы бедные эвакуированные. Чего вы от нас хочите? Мы бедные, нищие люди…
— Да что же это такое, люди! — вопит она, воздевая полные руки с тяжёлыми кулаками. — Дивитесь, люди добрые, что они с нами робят! Цэ — погром! Клянусь дытиной своим, нема у нас ничего! Хочите — на колени встану? Тилько не ищите ничо́го!
И она бросается на карачки перед солдатами и ещё какими-то людьми не в военной форме.
Как она мне мерзка! Вытаращенные глаза проявляют ещё более заметно сходство её с чернобрюхой лесной паучихой.
А солдаты делают то, что им приказано, — сдвигают в сторону пузатый буфет (не наш, а неизвестно откуда появившийся — сооружённый «лысым» номер один) и открывают крышку подпола.
Когда извлекли чемоданы, ящики со свиной тушёнкой и консервированной, в квадратных банках, американской колбасой, бочонок лярда (свиного жидкого сала, тоже импортного), Гудиловна замолкает.
— Шклад, шельный шклад! — горестно качая головой, шушукается с тётей Таней Герасимовна.
Я во все глаза разглядываю консервированную колбасу. На кубической формы банке изображена лошадь шоколадного цвета и на ней гордый, выпятивший грудь в белом мундире всадник в широкополой шляпе с пушистым плюмажем. Эх, хоть пустой мне досталась бы! Красивая до чего! Но от Гудиловны ни за что не принял бы!
Вскрывают один из чемоданов, вызволенных из подпола. Гудиловна вовсе отворачивается к стене. И Шурика повёртывает, чтобы не увидел последующего.
А происходит следующее: чемодан, оказывается, полнёхонек пачек тридцатирублёвок, красных, в банковской полосатой упаковке.
Герасимовна, разглядев всё это, обомлела. Она, с отвисшей челюстью, безумными глазами, воззрилась на раскрытый чемодан.
— Шволоши! — хрипит она. — Шволоши! Лешевы дети! Тута ради кушка шорного хлеба пошледние шибалы ш шебя продаёшь, а они, у! ироды проклятые! Вона школь награбили!
Старуху трясёт от гнева. Складки бурой кожи на её щеках подёргиваются. Она готова броситься на Гудиловну.
Успокоившись малость, Герасимовна громко сообщает охающей тёте Тане:
— А я, мила дощь, примешать штала: хто этто в уборну курины кошти, штал быть, брошает… А этто они, кровошошы, кажиннай день курей жрали… Ироды проклятые!
— По блату ить, всё по блату достают… — опасливо озираясь на Гудиловну, шепчет тётя Таня.
Герасимовна, до которой зачастую криком кричи — не докричишься, расслышала шепот соседки и опять забурчала:
— По блату, иштинная правда — по блату. И шлово-то како погано, матершинно придумали — блат… Не рушко шлово-то, германьшко, штал быть. Укупанты ево и придумали, штобы у наш вшё отнять и голодом уморить…
И в пухлую спину-подушку Гудиловны:
— У-у, укупанка! Вшё укупила за ворованы-те деньги…
Гудиловна молчит и лишь, обхватив сзади Шурика, шепчет ему:
— Не смотри туда, не смотри!
Но Шурику очень хочется увидеть, что там такое делается, и он поворачивает голову, косит большой, чёрный, как у воронёнка, глаз.
Неожиданно Гудиловна резко повёртывается к нам, крутанув Шурика, истерически рыдая или, похоже, притворяясь, театрально верещит:
— Дывись, сыне, — запомни, что они с нами робят, враги наши! Куска хлиба лишають! Последнее виднимают!
— Шама ты вражина, укупанка! — ощетинивается Герасимовна, подняв сухонький кулачок с налепленными жгутами фиолетовых вен, и гудит хриплым басом: — У-у-у!
— Бесштанную команду — вон! — приказывает старший, в новом кожаном пальто и такой же фуражке.
Нас всех бесцеремонно выпроваживают из комнаты, затворяется многопудовая, обитая изнутри листовым железом дверь.
Мы прилипаем носами к окну. Через двойные рамы ничегошеньки не доносится, лишь мелькают фигуры солдат да растёт гора тридцаток на столе — деньги, видать, подсчитывают.
…От бабки Герасимовны улица «по секрету» узнала, что деньги в чемоданах — «школь мильёнов» — «фальтшивыя», «германьшкии» и наштамповал их будто бы сам Гитлер. На них-то и скупала Гудиловна незабвенных курочек, предел бабкиных мечтаний.
Это была та самая, потрясающая, новость.
Гудиловна на радость всей округе исчезла в тот же вечер. И Шурик-Мурик — тоже. И Лысый более не появлялся.
И тут же откуда-то пополз слух, будто за «бешеные» деньги Гудиловна приобрела двухэтажный дом-дачу в Плановом посёлке и зажила там припеваючи. Я этому слуху не верю. Даже если это и случилось бы, всё равно я остался удовлетворённым, что Гудиловне и их воровской банде пришлось расстаться хотя бы с частью неправедно нажитого, ведь не могли же ей всё изъятое возвратить. Я верил в справедливость. Она должна восторжествовать!
Но (если не обознался) не с ней ли мне пришлось опять встретиться уже в Свердловске в тысяча девятьсот восьмидесятом году? И не только с ней. На трамвайной остановке «Гостиница «Исеть». Они ликовали с Анной Романовной Пинус, только что с позором изгнавшей меня, оклеветав, из краеведческого музея, где я трудился над ненавидимыми ею древними русскими книгами и иконами. Они-то и породили дикую ненависть ко мне заведующей дореволюционным отделом — она была откровенной русофобкой. Рядом с Пинус я с невообразимым удивлением увидел Гудиловну — глазам своим не поверил. Рядом с ней пританцовывало ещё одно знакомое существо, как и все они, усатое и с лёгкой кучерявой бородкой. Половую принадлежность определить было затруднительно — по одежде она являлась их подружкой. Да и не столь много времени минуло с поры увольнения меня из Челябинской картинной галереи, чтобы забыть её отвратительную, похожую на сатанинскую морду. Это была одна из многочисленных пешек, которых временно ставил подиректорствовать мудрый начальник областного управления культуры — готовил себе тёпленькое пенсионное местечко. Что в конце концов и осуществил успешно. Как истинного партбюрократа его должны были вынести только вперёд ногами — чудовищной силы хватка.
Однако это эпизод уже из другого рассказа.
1980–2010 годы
Шайтанов антрацит[113]
Вскоре после таинственного исчезновения Гудиловны произошла и знаменитая антрацитная история.
Лысый Немтырь устроился капитально не только в нашей комнате. На задворках плотники возвели ему тесовый сарай, дверь которого запиралась тоже накладкой полосового железа с винтовым «пробоем». Приступом не взять!
Сарай, со слов бабки Герасимовны — «шельны хоромы», стал предметом нескончаемых обсуждений соседок, в том числе и тёти Тани Даниловой. Она жила вместе с рыжим сыном Толькой, пятью годами старше меня, в однокомнатной квартире — недострой у них почему-то не реквизировали и не уплотнили эвакуированными. Зарабатывала она на жизнь уборкой в банной парикмахерской и стиркой чужого белья. Мужа её, Толькиного отца, младшего политрука запаса, призвали в армию в первые дни начала войны, и он сразу же пропал без вести. Тётя Таня с фронта и единой строчки не получила. Ничего ей не могли или не хотели сказать и в военкомате. Однако она была уверена, что её Иван жив. Да и как не быть убеждённой, коли игральные карты каждый раз доказывали — живой! Гадала тётя Таня, разложив замусоленную колоду на пёстром лоскутном одеяле, ежедневно.
То же самое предсказывали ей и захожие вороватые цыганки, выманивая у неё последние копейки. И каждый раз сулили скорое возвращение мужа. Возможно, со слов тёти Тани, «ранетым». Отрицали лукавые гадалки в грязных широких юбках, под которые можно спрятать даже маленького слонёнка, — никто не заметит, — что Иван убит, заявится «с хронту» калекой, но живым. И тётя Таня верила. Тем и жила. Я не любил востроглазых воровок и обманщиц, часто дразнил их, за что неизменно получал взбучки от Толяна, всегда готового подраться с младшими, в добавок ему тоже очень хотелось опять обрести отца. Он считал, что я своими насмешками мешаю его мечте. И расстраиваю мамашу.
Жилось Даниловым очень трудно. Ржавец, так по-уличному звали Тольку, худющий парень, похожий на белый весенний картофельный росток из подпола, тогда учился в старшем классе школы — в восьмом или девятом, и за учёбу надо было платить. А жалованье тёти Тани — кот наплакал. Попрошайки и чистильщики обуви, обосновавшиеся возле пивнушки, больше её за один день, чем она за месяц, заколачивали. Словом, бедствовали мои соседи. Картошкой и пайковой ржанухой питались, шестьсот граммов работающему и триста — детям и учащимся, да другими пайковыми продуктами, столь же скудными.
Упоминать о Даниловых не было бы надобности, если бы не антрацит.
Полнёхонький короб этого изумительного по красоте чёрного и блестящего угля привёз на телеге старик в клеёнчатом фартуке и под надзором Немтыря выгрузил в свежебелый, из ошкуренных горбылей, сарай. Бабка Герасимовна сразу же очутилась тут как тут — по старой памяти — ей удалось поживиться щепками и стружками на строительстве «хором». Она смела в кучку упавшие наземь комочки угля и суетилась с детским совочком и метёлкой возле телеги.
Меня сюда привлекло иное. Нарвав огородной травы, кормлю лошадь. Чуть боязно, когда она хватает вместе с травой и мои пальцы, — вдруг откусит? Но умная скотинка чутка и добра ко мне. Как и корова тёти Ани. Глажу бархатистую тёплую морду, напряжённую шею под гривой. Лошадь ласково смотрит на меня большущим карим глазом и громко фыркает, наверное, благодарит за мой подарок или просит ещё дэпэ.[114] И я даю. И наслаждаюсь общением с ней. Даже неухоженная, в репейниках, низкорослая работяга, она мне нравится.
Этот эпизод с привозкой угля имел необычное продолжение. После того как наступили в нашем дворе мир и тишина, я ни разу не задумывался о судьбе Немтырёва антрацита, хотя и знал цену топливу. Прошлой зимой, когда у нас кончился торф, выданный по карточке как семье красноармейца, и в квартиру тихо вползла стужа, я и мама седыми сумерками пошли через весь город в парк культуры и отдыха, разыскали там сухую лесину, спили её и уже затемно принесли на своих плечах домой по два чурбана. После, утром следующего дня, уже со Славиком на санках приволокли и остальную часть сосенки. А вскоре нам и уголь подвезли. Объяснили: по разнорядке. Что это такое — «разнорядка» — для меня осталось загадкой. Уголь оказался низкого качества и лишь тлел. Не выдержав квартирного холода, погиб наш фикус — обмякли и обвисли его глянцевые толстые листья-ладони, и мы истопили деревце вместе с кадушкой, в которой он жил много лет и дорос почти до потолка. Тепла от фикуса получилось мало — чурбачки шипели, пузырились белым, как сметана, соком, а гореть не хотели, не то что каменный уголь, если он не окаменевшая глина, а антрацит — от него дверца топки раскалялась докрасна.
Антрацит, между прочим, продавали и кровососы-спекулянты на колхозном рынке вёдрами и кучками, но по недоступным для нас ценам. А нам привозили пайковый, бурый, уголь с кусками породы сизого цвета, на которых отпечатывались листья папоротников и других доисторических растений, похожих по рисунку на те, что возникают на замёрзших оконных стёклах. И за то мама благодарила государство, за его заботу о нас. Хотя низкокачественный уголь, повторяю, не горел, а лишь тлел. Мне особенно нравилась порода: разглядывая её, можно помечтать, как много-много миллионов лет назад, когда ещё и людей-то на Земле не было, в ручей, на дно, в синюю глину, упала сломленная ураганом ветвь пальмы (у нас тогда в районе посёлка Коркино росли такие экзотические растения!), а сейчас шахтёры вырубили этот кусок окаменевшей глины, мы как семья фронтовика получили его бесплатно, и я любуюсь отпечатком древнего растения. Здорово! Как хорошо всё-таки жить и узнавать о чём-то фантастическом!
…В тот вечер в наружных дверях (их почему-то называли «парадными») общего коридора я столкнулся нос к носу с Толькой. И сначала не узнал его. Передо мной оторопело стоял негр. На лице его, блестящем и чёрном, как новая галоша, ярко выделялись только белки глаз. Натуральный негр!
«Негр» грубо оттолкнул меня, оставив на майке грязный отпечаток ладони, и молча шмыгнул в квартиру Даниловых, где сразу послышался булькающий голос обеспокоенной тёти Тани:
— Дур-р-рак! Кому попался?
— Да — Юрка, — небрежно ответил «негр» голосом Толяна.
— Чёрт его носит, — сердитым голосом сказала тётя Таня. — А ты дурачина! Не подождал. Надо было спрятаться.
Утром, что не могло ускользнуть от зорких мальчишеских глаз, мы с начштаба заметили угольные крошки на пространстве между бывшими «хоромами» Гудиловны и даниловской завалюхой-времянкой. Прильнув к щелям, углядели, что возле стены, в дальнем углу стайки[115] Даниловых, чернеет пирамидка антрацита.
С Вовкой мы вскоре обнаружили подкоп под хоромы, замаскированный гигантскими листьями уже увядших лопухов.
— Ништяк, — удивился видавший виды начштаба. — Во клад!
— Ворованный. Гудиловны, — возразил я.
— Недотёпа. Гудиловна — тю-тю… Значит: чья потеря — мой наход, в Чёрном море пароход…
— Ржавец первым нашёл. «Пароход» тот, с углём.
Но Вовка помороковал малость и изрёк:
— Пока Ржавый всё к себе не утаранил, надо ему свистануть, что днём приходила Гудиловна, а вечером вернётся за углём — на драндулете[116] прикатит. Военная хитрость, Юр.
Вовка сам осуществил свой план. Толян ему поверил. Заметно было: здорово Ржавец струхнул.[117] Он прекрасно представлял, кто такая Гудиловна и насколько опасно с ней связываться.
Судьбу антрацита в тот же день мы решили на штабном совещании.
Я высказался, что справедливо будет, если остатки «клада» достанутся Каримовне. Хотя есть и другие, кто тоже нуждается в топливе. Бабка Герасимовна, например.
…Бабушка Каримова, а попросту — Каримовна, живёт в самом дальнем правом углу огорода, в бывшей барской бане. Когда и как старуха там обосновалась, никто толком не знал. А сама Каримовна об этом не рассказывает. Она вообще по-русски почти не изъясняется. К тому же стара очень. Лет сто ей. Ходить может, лишь опираясь на палку. А пропитание добывает милостыней. Прочёсывая всю округу — несколько кварталов. Так и ковыляет изо дня в день, по всем домам и дворам.
Эта жалкая старуха-побирушка неизменно напоминает и выхватывает из моей памяти ссохшийся трупик летучей мыши, найденный мною под стропилом на одном далёком чердаке, который мы обследовали в поисках сизарей, как всегда, с Вовкой. Но об этом я помалкиваю — вообще о своих ассоциациях — никому ни слова.
Нищенка давно возбуждает наше любопытство и воображение. Ведь она совсем не такая, как остальные: живёт одна в заброшенной бане, заросшей кругом непроходимым бурьяном, колючим репейником.
В начале минувшей зимы, когда у Каримовны кончилось топливо, она перебралась на нашу общую кухню, спала под столом в углу.
Завмаг Малкова пыталась вытурить старуху, но за неё вступилась наша мама с Герасимовной и даже тётя Таня. Тогда же и выяснилось, что сын Каримовны — оказывается, у неё был сын — якобы на фронте, и два внука тоже.
— Вот пусть и уматывает к своим родственникам, — бушевала Малкова, — а то вшей тифозных нам тут наплодит…
Но старуху отстояли. Тётя Таня сводила её в баню, где все лохмотья пропустили в «прожарку», и Каримовна вроде бы прижилась у нас в коридоре, а как только потеплело, возвратилась в свою баньку.
Разумеется, мы, ребята, не могли — из любопытства — не побывать в жилище загадочной старухи. Оно, кстати, и не запиралось.
Странное это было жильё.
В предбаннике слева от входа — большой ларь для угля. Он пуст. И без крышки. В нём валяются старый тупой колун, ржавое ведро и лопата.
В мыльной, где когда-то парил своё толстое изнеженное брюхо биржевой маклер, владелец нашего дома, — да и не только, наверное, одного нашего, — на пологе возле печи лежит то, что служит хозяйке постелью, — разная рвань, к которой и прикасаться-то противно. И нет никакой мебели. Скамеек, например. Истопила. В очаге стоит пустая посуда — чугун с ухватом, непривычной формы красной меди чайник или умывальник — на кувшин похож, но с изогнутым носиком. Единственное оконце, с букварь величиной, заслонено с внешней стороны бодылями,[118] поэтому здесь всегда, даже в солнечные летние дни, сумрачно. Если заглянуть в окошечко со стороны огорода, ничего не увидишь — тьма. Как можно жить в таком помещении? Но живёт… Сколько лет обитает.
…Антрацитное совещание нашего штаба проходит бурно. Юрку Бобылёва мы чуть не исключили за то, что несколько раз замечен в недопустимом, — дразнил Каримовну. Решаем взять её под свою защиту. Юрке поручается вырезать из фанеры, покрасить красными чернилами звезду и прибить к избушке Каримовны. Чтобы все знали: здесь живёт семья фронтовика. Вовка берётся разузнать, получает ли старуха письма с фронта, кто ей их читает и ответы пишет. По его же предложению мы признаём Гудиловнин антрацит трофейным. Единогласно.
— Даниловы уже сами отоварились, — докладываю я обстановку. — У Герасимовны только один человек на фронте — дядя Ваня, а у Каримовны — аж трое. Конечно, её надо в первую очередь обеспечить трофейным антрацитом.
— У неё и ларь пустой, не углинки, — поддерживает меня Вовка.
— Вот его-то мы и насыпем дополна. Чтобы надолго хватило, — подводит итог Юрка.
— И я тоже хочу, — подал голос Славик.
Желание его было уважено. Для немощной старухи будет стараться. Это почётно.
Как только стемнело и над нашим домом зажглась большая, любимая мною Голубая звезда, мы не пошли по домам, а собрались за сараями, заранее предупредив маму, что будем играть допоздна.
Переговариваемся шёпотом. Обстановка, понимаем, почти боевая. Попадёмся — не расхлебаться.
— Не шебурши, — шикает Юрка на Славика, старающегося пролезть вперёд со своим игрушечным ведром.
Расширяем подкоп. В вырытую яму струится, блистая гранями, поток жирного антрацита. Большую застрявшую глыбу вытаскиваем, обхватив вдвоём, после неудачи — втроём, упираясь в землю коленками. Вытянули.
От хоромов Гудиловны до бывшей бани метров двадцать пять. Половину пути приходится преодолевать на корточках, а то и ползком — под окнами бабки Герасимовны.
Вовка черенком лопаты подпирает дверь в мыльное отделение, чтобы Каримовна (она вернулась с дневного обхода и лежит на пологе) с испугу не выскочила и не наделала бы шуму.
С грохотом ссыпаем в ларь ведро за ведром. Каримовна и в самом деле встревожилась, слышно её невнятное бормотание.
Мы так увлечены своим делом, что не замечаем, как припозднились.
И вдруг слышим сильный настойчивый голос мамы:
— Юра, Славик! Где вы? Домой!
Мама кличет, обратясь к дому Вовки, а мы орудуем в противоположенном конце двора. Она думает, что мы у него заигрались.
— Ладно, идите, без вас закончим, — отпускает нас начштаба.
— Не забудьте черенок лопаты убрать, — предупреждаю я Вовку.
Мы наскоро умываемся в большой жестяной бочке с дождевой водой, стоящей на углу дома рядом с окном Богацевичей. Я влезаю в открытое наше окно, помогаю вскарабкаться братишке. И — под одеяло.
Прижались друг к дружке, ждём возвращения мамы. Она всё ещё кличет нас. Сердится, наверное. Трепещем — ох и попадёт за самовольство! Она всё ещё нас ищет. Вернувшись, застаёт нас в постели. Сердится, разумеется. Стала укладывать нас и продолжает браниться. Мы пуще всего боимся разоблачения.
И точно. Нас выдала наша одежонка, вид которой расстроил маму более, чем запоздалое возвращение.
Приходится во всём признаваться. Но трёпки мне, кажется, на сей раз не предвидится.
— Юра, ты ведь уже совсем взрослый, и отлично знаешь — нельзя брать чужое.
Она сделала ударение на слове «нельзя».
— Антрацит — не чужой, а трофейный, — оправдываюсь я.
— Мы его по-пластунски таскали, — поясняет Славик.
— Нельзя этого делать, понимаете — не-ль-зя, — страдальчески произносит мама. — Если бы отец был… — она не договаривает фразу до конца, рыдания сотрясают и душат её. Она лишь повторяет: — Юра-Юра, что вы натворили… Какой позор…
Для меня остаётся непонятным, почему плачет мама. Разве мы совершили что-то плохое? Но слёзы её на меня подействовали, и я больше никогда не подходил к сараю Гудиловны.
Рано утречком мы со Славкой сбегали в старинную баню по улице Красноармейской, отмылись, а после забрались в главный штаб. Доложил о вчерашнем разговоре с мамой. Вовке и всем остальным, кто присутствовал.
— Женщины все такие, — уверенно подытожил Вовка, — чуть что — сразу в слёзы. Им нельзя доверять настоящих дел. Они нас не понимают. Не могут понять. Слишком большие мы выросли. Самостоятельные.
С доводами начштаба мы согласились. Но маму всё же было жалко. Заставил её переживать. И плакать. Не понимаем мы друг друга, это правда. И возможности нет доказать мне свою правоту.
Вовка с честью выполнил поручение. Ему удалось выведать у родственников Каримовны, как звать её сына и внуков. Писем с фронта она почему-то не получала вовсе. Это было несправедливо. Мы сами сочинили прекрасное послание с передовых позиций — от всех троих бойцов Каримовых.
В нём подробно рассказывалось о многих подвигах, якобы совершённых сыном и внуками Каримовны. Авторы письма своей волей сформировали из них экипаж танка с сокрушительным названием «Капут Гитлеру!». Машина силой нашей фантазии оказалась несгораемой, непотопляемой, броню не пробивал никакой фашистский снаряд, отскакивая наподобие резинового мяча. От выдающегося нашего изобретения и приключений лихого каримовского экипажа мы развеселились.
Вовка прочитал всё послание с выражением. Юрка и я настояли, чтобы он дополнил рассказ несколькими эпизодами, почему-то ранее не придуманными. Мы с Юркой не сомневались, что Каримовы захватили в плен фашистского генерала — весь в орденах — от горла до пупа, а также из зенитного пулемёта сбили два или даже три Фокке-Вульфа — три, точно.
Вовка дополнил шестилистовое письмо, свернул его треугольником, а я намусоленным химическим карандашом вывел адрес: «г. Челябинск, ул. Свободы, 22а, банька в огороде, бабушке Каримовой. С фронта».
Следующим утром мы подкараулили Каримовну, которая направилась в очередной обход сердобольных соседей.
Сначала она испугалась нас, даже запричитала что-то, замахала кривой палкой-тросточкой, но дипломат Вовка моментально разрешил назревающий конфликт. Он вытащил из-за пазухи две печенки и вручил их Каримовне. Печенками мы называли картофелины, зажаренные вместе с кожурой в золе костра или в печке. Вкус печенка приобретала необыкновенный, пальчики оближешь, только горелое следовало соскоблить.
Каримовна приняла щедрый дар, поверила, что мы не враги ей, и согласилась выслушать. Она села на корточки и замерла, прикрыв коричневыми веками мутные от старости глаза.
— Бабушка Каримовна, — начал торжественно Вовка, — тебе с фронта лично прислали письмо.
Вовка показал пачку листов.
— Его написали герои-танкисты Абдул, Карим и Фарид Каримовы, славный экипаж боевой машины «Капут Гитлеру!».
Вовка декламировал с воодушевлением. Видно было, что он не последнее место занимал в школьном кружке художественной самодеятельности и что чтение доставляет ему удовольствие.
Старуха едва ли по достоинству оценила блестящий Вовкин артистизм, лишь шептала сизыми пятнистыми губами:
— Абдулка, Каримка, Фаридка… ульды.
Слёзы заполнили её глубоко запавшие глазницы, но она не вытирала их.
Когда Вовка закончил чтение, старуха с трудом распрямилась, сначала встав на колено (она сидела на корточках), и произнесла только одно слово:
— Бельме.
А мне так захотелось, хотя и был уверен в несбыточности своего желания, чтобы она из сгорбленной, окостенелой и неуверенно держащейся на синих отёкших ногах развалины превратилась бы в шуструю девчонку, такую, как её родственница Надька по кличке Опайка, сестра Альки Каримова.
И я уже начал высчитывать, в какие же времена ей было десять-двенадцать лет, при каком царе, и мне вспомнились Жилин и Костылин и гибкая девочка-татарка из толстовского «Кавказского пленника». Уж не она ли той девочкой была?
До сего момента все люди, каких я видел и знал, казались неизменно такими, какими представали предо мной в воображении. Ни разу я не попытался представить, как выглядел кто-то из взрослых, когда был маленьким, в это даже и верить не хотелось. Это являлось ещё не открытой мною возможностью познания людей, мира, ведь все предметы, окружавшие меня, когда-то выглядели не так и даже были другими предметами — по форме и по составу… Об этом я догадался, когда прочёл первую книгу о сгинувших с лица земли государствах, некогда могучих и огромных.
От этих рассуждений меня отъяла та же удаляющаяся чёрная фигурка нищенки, одинокая, беззащитная, слабая, но упорно продвигающаяся куда-то вперёд, к спасению, к продолжению существования. Она уже ничем не походила на лёгонький, словно бумажный, трупик летучей мыши с коготком на крыле. Сейчас Каримовна, приблизившись к калитке и став на её фоне невидимой, растворилась, превратилась в печальную серую музыку, звучавшую в моей голове.
Мы смотрели ей вслед, недоумевая, а после заспорили, что такое «бельме». Бельмо? Так причём тут глаза? Нет, это что-то на татарском языке. И мы, конечно же, узнали, что значит это слово. И я предложил Вовке перевести письмо на родной язык Каримовны — татарский.
К сожалению, моё пожелание не было выполнено, как говорится, по независящим от нас причинам: переводчика найти оказалось для нас делом неосуществимым. Надька не захотела нам помочь. Да и родной язык она знала не очень хорошо. Алька и говорить не захотел с нами на эту тему.
Через день начтаба проведал место подкопа. Он оказался заровненным, на месте его как ни в чём не бывало зеленела травка. Кто-то уложил здесь — Вовка утверждал, очень аккуратно — куски дёрна.
А когда наш командир заглянул в щели даниловской стайки, то убедился, что пирамида антрацита в углу намного выросла. Выходит, Толян не зевал. Ночами вкалывал.
…Невероятную, сногсшибательную весть мы узнали от соседей. Каримовна сама им поведала о страшном происшествии: ночью к ней явился сам шайтан.[119] Он громко стучал в дверь, а когда ушёл, то после него остался уголь, появившийся в ларе. В подтверждение, что всё происходило именно так, Каримовна приглашала соседок к себе и показывала ящик, полнёхонький антрацита.
У каждого из нас на попечении уже есть по старухе. За мной закреплена Герасимовна. Я ей воду помогаю носить из колонки. У Юрки тоже старушка-соседка, окно её крохотной комнатёнки отделяет не более метра от кирпичной стены дома, стоящего рядом. Так всю жизнь, наверное, она в эти кирпичи и смотрит. Старушка одинока и бессловесна, какая-то безнадёжно пришибленная. Но Юрка с ней ладит. Для Вовки не нашлось старухи в своём дворе, он отыскал подходящую на другой стороне улицы, и тоже странная бабка. Мы её приметили, потому что она выходила на уличную лавочку с подушкой, привязанной к голове, чем поначалу немало нас смешила. А когда Вовка познакомился с бабушкой поближе, то выяснилось, что она больна. Головными болями. Инвалид.
Теперь ещё и Каримовна к ним прибавилась. Она будет четвёртой, нашей общей. И все мы хоть чем-то ей да поможем. Ведь делать это так приятно и совсем нетрудно.
1970 год
Часы со светящимся циферблатом[120]
Квартира Гудиловны простояла несколько месяцев нежилой. Ставни плотно закрыты на накладку с болтом, дверь — тоже.
Но вот какие-то люди из домоуправления, чтобы попасть в квартиру, перепилили ножовкой накладку и выковырнули ломиком хитроумно устроенный внутренний дверной замок.
В комнате — шаром покати, только мусор по углам остался от постояльцев. Хозяйка, видимо, никогда её не подметала. Проникнув в помещение вместе с домоуправленцами и вездесущей бешено-деятельной общественницей тётей Таней Даниловой, я удивился: где же вещи, которыми она была уставлена и на которые я глазел в день обыска? Где отделанный дорогими сортами дерева генеральский буфет, обвешанный бронзовыми ручками, где настенное овальное зеркало в золочёной резной оправе, связки книг в кожаных тиснёных переплётах и с золочёными обрезами, кресла с изогнутыми спинками и ножками, обутыми в бронзовые, тоже золочёные, львиные лапы, с подлокотниками, обтянутыми алым бархатом и завершавшимися литыми львиными головками? Куда делся круглый малахитовый столик на бронзовой подставке, на котором возвышались огромные часы под стеклянным колпаком и с блистающим золотом фигурами по обе стороны круглого циферблата: тётенькой в широченном — колоколом — платье и дяденькой в штанишках и чулках?
А чемоданы, наполненные золочёными ножами, вилками, ложками, хрустальными рюмочками, какими-то сосудиками, — красноармейцы чемодан поднимали — кряхтели. Зачем всё это понадобилось Гудиловне и Немтырю, разве недостаточно, как у нас, для каждого семьянина по одной вилке и ложке? Кто и когда успел всё виденное нами сначала натаскать откуда-то, а после увезти, и куда? И на чём?
Тогда, во время обыска, я недоумевал: каким волшебством сказочного Аладдина вдруг заполнило невероятное обилие драгоценностей бывшую нашу комнату? Я не видел, чтобы Немтырь что-нибудь приносил с собой или привозил, хотя и встречались мы очень редко. По ночам, что ли, ему все эти сокровища доставляли?
Герасимовна лишь ахала, вертя туда-сюда похожей на птичью головой, — без зубов нос на худом лице выглядел подобием клюва.
— Мы при барыне жили до леворушии, в Твершкой губернии, дак у её в ушадьбе менее богатштвов было, право, поменее. Уж не барыня ли Гудиловна? — допытывалась она у тёти Тани.
А у бедной тёти Тани глаза разбегались, и она, задохнувшись от увиденных сокровищ, онемела. Напрочь. И долго не разевала рта.
…И вот появился теперь хозяин нашей бывшей комнаты.
Герасимовна, хотя и жаловалась на слабость зрения и отсутствие по бедности очков, а разглядела: из вещей хромой новосёл принёс с собой «папку ш гумагами, полеву шумку на ремне и шинелишку. Стару».
— На ней, видать, шпит, шердешнай, ею и укрыватша, — сочувствовала соседу бабка.
Присутствие, со слов бабки, «квантиранта» я почувствовал тоже: за стеной кто-то есть — постоянно слышались постукивания. Это беспрестанно вышагивал по комнате, как его назвала бабка, «ранетый анвалид». Притащил он к себе, как всем нашептала тётя Таня, «каку-то бандуру, деревянну».
…Несмотря на постоянно открытую форточку, мне душно, и я выбираюсь на крыльцо, на свежий воздух. Устраиваюсь на завалинке, запахнувшись в порыжевший мамин плащ, — меня иногда знобит. Но я с удовольствием всматриваюсь в громадное окно Мира, удивляюсь всему необычному. А оно — на каждом шагу.
Изумрудная, просвечивающая в солнечном луче рогатая гусеница, тугая, с белоснежной манишкой, ползёт к сиреневому кусту, собственности завмага, «милой дошери Даши». Так ласково называет Малкову, кланяясь, сгибаясь чуть ли не в дугу при каждой встрече, и без того горбатая бабка Герасимовна. Горб у неё вырос от тяжёлой работы, а в молодости, с её слов, она «рашкрашавиша» была. Привыкла дореволюционной своей барыне кланяться, так и завмаг для неё — великая госпожа. Противно на них обеих смотреть. А по мне, явись хоть самый большой начальник, ни за что не поклонюсь. Я свободный советский человек и никому ничем не обязан. Только маме. И Родине. Когда потребуется защитить их от врагов.
А бабка перед какой-то завмагазиншей унижается. Тёмный, затюканный человек.
…Гусеницу я не решился раздавить — уж очень красива. Может быть, она и не вредитель. Травку хрумает. Её кругом уйма. Пусть живет. Окуклится — красивой бабочкой из своего коричневого панциря вылетит.
На полянке сам с собой играет молодой кот Васька, чёрный, как пантера, о которой я вычитал в толстенном томе «Жизни животных» Альфреда Брема, моей любимой книге. Этот кот принадлежит бабке. Чем он питается, для всех загадка, мышей в доме, несмотря на сетования тёти Тани, уже не водится, а Герасимовна его не кормит — нéчем. Да и котишко-то, в общем, не бабкин — подкинул кто-то. Он из всех обитателей дома почему-то выбрал её, увязался за старушкой и прижился. Потому что Герасимовна его иногда гладит и ласковые слова говорит. А нам со Славиком мама запретила к бродячим животным прикасаться. После того как мы вытащили из помойки котёнка, а он оказался заразным. И нас лишаем одарил. И всё равно жаль его. Не повезло малышу жутко.
…Появляется наш новый сосед. Я узнал его сразу. Невысокого роста, плечистый, с залысинами, с резкими морщинами на лбу. Он!
Поднимаюсь с завалинки и здороваюсь.
— Здравия желаю, чапаёнок. Ты чего так укутался?
— Простыл. А вы меня узнали?
— Как не узнать. Это ты к отцу на фронт сбегáл?
— Не к отцу. Отец у меня под Сталинградом. А мне надо было совсем в другом направлении…
— Направлении. Драть тебя некому. О матери разве можно забывать? Настоящие мужчины матерей в беде не бросают. Надеюсь, ты это знаешь и помнишь?
Не нахожу, как объяснить случившееся. Тем более что человек он малознакомый, видел его всего один раз, и я стесняюсь. Про «ястребок» язык не поворачивается упоминать. Это моё личное дело. Заветное. Вернее, тимуровское. Да ещё вдобавок столь неудачно закончившееся. Ну ничего, поправлюсь, ещё попытаюсь. Со своим личным автоматом. На свалке металлолома разыщу. Отремонтирую. И вперёд!
Сосед, хромая, направляется к себе, но останавливается, не дойдя до угла дома, и произносит уже миролюбиво:
— Приходи ко мне, когда поправишься. Я тебе кое-что любопытное покажу. Может быть, заинтересуешься.
Приветливые слова меня ободрили, а ещё более — само приглашение. Я даже не огорчился, что он запамятовал меня. Не удивительно — столько времени с той поры минуло. Да и видел-то он меня мельком.
Вспомнился городской базар, корчащийся на чугунной земле в перетёртой тысячами подмёток пыли человек с остекленелыми глазами, кулачище над моей головой, намертво перехваченный в запястье могучей рукой моего теперешнего соседа. Как его не узнать! Вот так встреча! Нарочно не придумаешь.
Захотелось об этом открытии рассказать комиссару отряда Вовке и возвратившемуся с сестрёнкой от родственников из районного городка Пласта Юрке Бобыньку (там живёт его тётка, мамина сестра, с домашним хозяйством — козой и курами), и Славке — вот удивятся! Однако мгновенно навалившаяся усталость тащит меня в комнату, на кровать. Еле доковылял, опираясь о стенки. Но приглашение затеплило радость предстоящей встречи. Что там такого у него интересного? Может быть, пистолет подарит? Трофейный.
Следующим утром бреду в гости к соседу.
— Уже оклемался? — удивлённо справляется он.
— Я крепкий. Уралец. Выдержу, — уверенно заявляю я.
— Молодчина! Не сдавайся! Биться надо до последнего вздоха.
Я оглядываю бывшую нашу комнату.
У окна возле стены стоит невиданное, пахнущее свежим деревом сооружение — мольберт с большим полотном, вернее мешковиной, натянутой на подрамник. Мешки со штампами — чёрная свастика в когтях взъерошенного, зловещего орла-стервятника — встречались мне и ранее. С лицевой стороны холст (мешок) загрунтован и прописан. Наверное, фашисты в таких сидорах[121] всё наше советское добро намылились к себе в Германию перетаскать. Раскатали губу, грабители! Не удалось! Фигу им с маслом! Теперь этот мешок в полезное дело употреблён.
Картина ошеломила и взбудоражила меня. На ней изображён момент затишья после страшной битвы. Дым, тяжело поднимающийся клубами к небу, чадящие, обугленные остовы вражеских танков. На переднем плане — окоп, а на бровке — боец, словно спящий на вытянутой вперёд руке. Взгляд зрителя притягивает именно его фигура. Он не спит. Такими бескровно-белыми лица у спящих не бывают. Распластавшийся в последнем рывке боец вызвал недавно виденное: сверкающая медь оркестра, гроб в кумаче на школьном крыльце и спокойное лицо лётчика в скользящих солнечных бликах, пробившихся сквозь листву высоких деревьев.
Рядом с бойцом, в нескольких метрах от него, накренившись, застыл оплывший вражеский танк, огромный, как доисторическое чудовище. Из-под стальной гусеницы (я и не сразу заметил) выглядывает кустик крохотных голубых цветов — незабудок! Не раздавило их чудище! Чёрные облака дыма и копоть заслонили часть горизонта, но зато остальное небушко — ярко-бирюзовое и светоисточающее. Хотя само светило лишь угадывается за смрадом догорающего страшилища. Но скоро развеется эта грязная вонь от бывшего «тигра», и солнце засияет вокруг снова. У меня слабое обоняние, но чувствую этот омерзительный запах и вижу изображённое словно явь. Как в кино.
Пальцы погибшего в роковой схватке бойца крепко держат автомат. А на запястье тикают часы. Время идёт, несмотря ни на что. Время, которое он приблизил к Победе.
Безмолвие… Всё мёртво на поле боя. Даже земля, перепаханная снарядами и гусеницами танков, выжжена и затоптана насмерть — ни травинки, а незабудки, беззащитные полевые цветы, чудом уцелели. Живут! И часы бойца — идут. Они продолжают отмерять время так же, как до сражения. Тогда был жив и здоров решительно готовый к неравной схватке красноармеец, а танк с белым крестом на броне — подвижен, как огромный голодный хищник, изрыгающий смерть. И грозен. Но не испугался его боец с автоматом и связкой гранат. Он знал, во имя чего жертвует своей жизнью, что больше никогда не увидит неба, солнца, землю и этот кустик полевых голубых цветов с прекрасным названием «незабудки». Наверное, они будут расти даже на могиле героя, и многие люди, благодарные за его Подвиг, придут туда, где его похоронят, и произнесут хорошие, душевные слова в его честь, в его вечную память. Как на могиле лётчика Луценко на Митрофановском кладбище.
— Это вы нарисовали? — спрашиваю я.
Он согласно кивает головой.
— Точнее — написал. Масляными красками. По памяти воссоздал. Как было.
— Это вы всё своими глазами видели?
— Меня санитары после откопали из завала. А Серёжа…
— Ништяк![122] — восхитился я.
— Что за «ништяк»? — уцепился за незнакомое слово собеседник.
— Хорошо. Это мы так говорим. Пацаны.
Мой взгляд останавливается на ручных часах, но не тех, что так тщательно выписаны на полотне, а на точно таких же лежащих на полочке мольберта — с зеленоватыми стрелками и такого же цвета точками по краю циферблата.
Составив ладонь домиком, заглядываю в него: светящаяся минутная стрелка движется, и точки видны, словно матовые крохотные лампочки. Цифр нет, как на наших больших настенных часах, но и так понятно. Выходит, по таким часам точное время можно узнать и ночью.
— Трофейные. Их мой друг добыл. В бою. Мне подарил.
— Где сейчас ваш друг?
Художник глазами указал на полотно:
— Под Сталинградом. Остался навсегда. В братской. А у тебя, Юра, есть друг? Настоящий? С которым ты пошёл бы в бой?
— Есть! Вовка Кудряшов. Он эвакуированный. Из блокадного Ленинграда. Верный друг! В беде не оставит. И я — его. Мы корешá. Жаль, уедет скоро… Как только блокаду снимут, а это, говорят, скоро произойдёт. Юрка Бобылёв… Ещё Игорь Кульша… Товарищей много. Хорошие ребята. Честные.
— А у меня теперь нет никого. Я заметил, Юра, в смертельной борьбе за правое дело гибнут самые лучшие люди. Самые верные. Кто Родину любит беззаветно. И людей. Больше собственной жизни. Как говорили раньше, готов жизнь за друга своего положить. Пока такие люди есть среди нас, нам никто не страшен. Так что береги друзей, Юра. А тру́сы и негодяи отсиживаются в тылу. В тёплых конурах. Как клопы в щелях. Они любят только себя и больше всего на свете ценят свою поганую, никчёмную жизнь. От таких добра не жди.
— А как их узнать? — полюбопытствовал я напористо.
— На фронте. На передовой человек виден, как на ладони, — не скроешь ничего.
— Мне бы на фронт. Хоть на полгодика… Повоевать по-настоящему.
— Мой тебе совет: живи в Челябинске, помогай матери, учись в школе. Придёт твой час, дадут тебе в руки оружие. Вот тогда старайся оправдать доверие Родины. Узна́ешь, что такое боевые действия, война. Но лучше тебе и всем живущим этого не знать.
— Почему? — искренне удивляюсь я.
— Подрастёшь — поймёшь. Нет ничего страшнее войны. Люди должны жить в мире. А сейчас давай о чём-нибудь другом поговорим.
— А вы моего папу, случайно, на фронте не встречали? Вот письмо, он из-под Лапшина сада написал…
— Как его фамилия?
— Рязанов Михаил Алексеевич, артиллерист. А сначала был лыжником-диверсантом.
— Нет, не пришлось. Я пехотинец. А друг мой Серёжа — детдомовец, сирота. После войны разыщу его могилу и цветы на ней посажу. Незабудки. Их много цвело на том поле.
Придерживая негнущуюся ногу, сосед садится на ящик из-под консервов, видимо доставшийся в наследство от Гудиловны и её орсовского муженька-хапуги.
— Ну вот, а теперь давай знакомиться. Меня звать Николай Иванович.
— А меня Юра. Герой пацаны зовут. Или Гошей.
— Это что же за имена такие?
— От Георгия.
— Георгий — это хорошо: воин, землепашец, защитник земли русской, — произносит Николай Иванович и задумывается. — А то слышу: Юра да Юра. А ты Георгий.
Наверное, в эти минуты он вспоминает о погибшем друге. А может, о том, когда перестанет болеть нога и он снова вернётся в свою воинскую часть.
— Давай-ка вот что, брат. Надоело мне жить в этой гауптвахте. Инструмент у вас какой-нибудь имеется? Топор, например.
Я хвастаюсь, что есть даже коловороты и фигурные рубанки, а ножовок — четыре, и все разные. От деда всё осталось.
Направляемся в сарай. Николай Иванович выбрал гвоздодёр (похожий на сердито вытянутую гусиную шею), кованые клещи и топор. Пришлось нам с соседом потужиться, прежде чем решётка поддалась. В основном он орудовал, я ему лишь чуть-чуть помог.
— Ну вот, теперь и дышится легче, — вытирая платком потное лицо, говорит Николай Иванович. — Только сердце закололо — рядом с ним осколок железа сидит. Жду, когда его вытянут врачи.
Решётка оказалась тяжеленной. После мы, пацаны, вчетвером еле доволокли её до ларька утильсырья, к дяде Лёве.
С тех пор я, когда удавалось преодолеть бессилие, захаживал к соседу. И очень гордился нашей дружбой. Конечно, и Юрка Бобылёв и Вовка Кудряшов мне завидовали: не у всякого найдётся такой друг — фронтовик, к тому же ещё и раненный в бою. В настоящем бою — не случайно, как моего одногодка Женьку Глатёнка, во время бомбёжки эшелона, шедшего на Урал из Ленинграда. Женьке тогда руку оторвало осколком фашистской бомбы по самое плечо. В школу он ходил с протезом. Стеснялся. Чтобы не дразнили. Но если задевали, натягивал свинцовый кастет, и хватало одного удара, чтобы дразнивший навсегда забывал слово «рука» или «однорукий». С Женькой я дружил, хотя он был парень очень суровый и спуску никому не давал. Но мы ладили.
Я снова у Николая Ивановича.
Выспросил, что обозначают две жёлтые матерчатые ленточки, нашитые на его гимнастерке. Тяжёлые ранения. А красного цвета — ранения лёгкие. Это я и без него знал, хотелось, чтобы о своих подвигах рассказал, но он не захотел вспоминать. Тяжело.
Притихнув, наблюдаю за неистовым трудом художника. Какая же это для него изнурительная работа — писать картину тонкой лёгонькой кисточкой! По нескольку раз переписывает, на мой взгляд, прекрасно отделанные места полотна. И меня просит ни о чём не расспрашивать. Не отвлекать. Я сижу на волоком притащенном мною табурете тихо, молча. Провожаю взглядом каждое движение руки художника, стараясь понять, как ему удаётся из крохотных мазков разных по цвету красок лепить осязаемый холм земли или скосившуюся башню ненавистного танка-убийцы. Удивительно!
Николай Иванович старательно избегает рассказывать мне о войне. Это умалчивание ещё сильнее распаляет моё любопытство.
— Война — это не для детей, брат, — каждый раз повторяет он.
— Как это не для детей? Но разве не дети партизанят, разведывают и взрывают вражеские эшелоны?
А Николай Иванович хмурится и гнёт своё:
— Война не игрушка. И не детская забава. Война — кровь и смерть. И давай о чём-нибудь другом… Лучше я тебе о прекрасном художнике Левитане расскажу. Он русскую природу писал чудесно! Никто, пожалуй, с такой тонкостью и полнотой не постиг саму душу пейзажа с его невероятно богатейшим колоритом… Не понимаешь?
Это-то я понимал, но не сумел разговорить настоящего фронтовика, не сумел. И жажда моя узнать что-то ещё новое о борьбе с фашистами от него осталась неудовлетворённой. А об участии пацанов в войне я держался прежнего мнения. И в правоте своей был уверен — непоколебимо. О Левитане Николай Иванович меня своим упоминанием заинтересовал, но, честно признаться, мне остались непонятны некоторые его суждения. Лишь через несколько лет в мои руки попала книга об этом великом рсском художнике. Я вспомнил Николая Ивановича и осознал, в какой чудесный мир направил меня раненый солдат — в искусство.
…Кажется, наступало настоящее лето. Днём жарит так, что хоть на макушке блины пеки. Вечерами же на город низвергаются ливни — великая ребячья радость. Тротуары и даже дорога превращаются в сплошной поток. В канаве не устоишь, вода — по пояс, бурлит и тащит.
Но я лишён этой благодати — бултыхаться в канаве. Понимаю — нельзя. Сижу дома. Не высовываюсь, во время дождей и гроз канава манит, но временами меня охватывает непонятная слабость, будто меня сразу покидает всякая сила. Приходится отказываться даже от участия в гонках корабликов по океанским просторам уличной канавы. Зато Славик шлёпает за своей флотилией аж до улицы Труда. Повезло человеку — здоров. А я стал каким-то хиляком. Обидно.
…Постепенно болезнь отступает. Я это чувствую. Меня выздоровление радует — скоро заживу настоящей жизнью. Как все пацаны. И уже пытаюсь подольше гулять во дворе. Всё чаще в хорошую погоду выхожу даже за ворота и радуюсь: скоро поправлюсь.
Ведала бы мама, сколько страданий принесёт ей маленькая уступка! А у меня одно желание — помочь ей. Мне думалось, что болезнь где-то уже позади. Минула.
Ничто не предвещало каких-либо неприятностей. Тем более что я маме дал честное слово — не купаться. Вернее, она брала меня на речку с таким условием — не лезть в воду. И не произошло бы ничего, если б не случайность.
Мама ещё и госпиталю помогает. Безвозмездно. Мало ей своей стирки. В свободное время — и как ухитряется его выкраивать! — приводит в порядок воинское обмундирование. В корыте на общей кухне, близ наших дверей. Дом все жильцы почему-то называют коммунальным. Это и значит — наш. Всех. Вот почему нам хорошо живётся.
Стрекочущий звук белья, трущегося о стиральную волнистую цинковую поверхность доски, слушаю подолгу, лёжа в постели, ослабленный прилипшей хворобой, время от времени сваливающей меня внезапно наповал.
Полоскать выстиранное обмундирование и нижнее бельё мама носит на реку, к камушкам возле насосной станции. Они гладкие, плоские, для полоскания удобные. Мы их уже давно облюбовали.
В этот раз бренчанье стиральной доски неожиданно прервалось, и раздался слабый вскрик. Я, опираясь о стену ладонями, направляюсь к двери. Чую недоброе. Что-то случилось. Что?
Мама стоит, наклонившись над корытом, а в нём на намыленной рубахе алеет кровь — прожгла пышную белую пену.
Такое бельё попадало и раньше — простреленное и прожжённое раскалённым металлом, окровавленное, запёкшееся, похожее на чёрный картон. Мама, видя его, иногда не может сдержать слёз.
Но сейчас на белой ткани расплывается розовое пятно. Свежее. Мамина кровушка.
Герасимовна выглянула. Спрашивает: — Што штряшлощя?
Квартиры наши — дверь в дверь: всё, что у соседей происходит, слышно.
Мама разжимает ладонь, и я вижу развороченный раной палец, с которого тонкой струйкой, прожигая белоснежную пену в корыте, стекает кровь.
— Вот, — растерянно говорит мама. — Не заметила.
— Шего жа ты штоишь-та, дурёха? — ворчит бабка и бредёт за йодом и бинтом. То и другое у Герасимовых нашлось. Да ведь и у нас всё это есть. Бабка просто хочет побыстрее помочь маме.
Выяснилось: осколок, острый, как лезвие охотничьего ножа, застрял в шве гимнастёрки. Он и распорол маме палец.
— И ждеша доштала тебя вражья пуля германьшка, — причитает бабка. — Будь они трижды прокляты, анафемы! Гореть им в пламени адшком!
— Не пуля, а осколок снаряда или мины, — со знанием дела поправляю я бабку. — Или бомбы. Возможно, и осколочной гранаты.
— Не пуля, это точно, а осколок, — вытащив из шва рукава гимнастёрки кусочек металла, уточняю я.
— Какая ражниша-те? Вшё едино — оружия, — сердится бабка. — Штоб тебя, треклятущий хвашишт, на том швете шерти на угольях шпекли!
Это она Гитлеру. Лично.
«Вот чёртом бы стать, — мечтаю я. — Уж я бы его, Адольфа Шикельгрубера, поджарил за мучения нашего народа!»
…Последние два-три дня мне полегчало.
На Миасс я напросился с умыслом. Хочу подсобить нести выстиранное бельё. С забинтованным пальцем не шибко поработаешь — ведь гимнастерки и порты отжимать надо. Моя помощь не лишняя. Да и чувствую себя вроде бы покрепче.
Вещей набралось — таз и полное ведро. Таз понесла мама. А остальное разложили в два цинковых ведра, которые я поволок на коромысле. Славик несёт на плече жмакалку[123] — плоскую, с метр длиной вместе с ручкой, деревянную штуковину, сантиметров десять шириной, специально сделанную, чтобы бельё сушить (отжимать) битьём. Её ещё и рубелем зовут. Мы этим старинным инструментом пользуемся для отжима влаги из выстиранных вещей.
Моя ноша, чем ближе река, тем тяжелее. Несколько раз останавливаюсь перевести дыхание. Креплюсь. Лишь бы мама не заметила мою хилость. А то чего доброго домой отправит как слабака. Взмок, но донёс-таки до водокачки.
Как ни соблазнительно нырнуть в освежающую воду, лишь помогаю полоскать, закатав штанины и всего-то по щиколотку войдя в тёплую воду.
Но и этого мне вполне хватило.
Ночью подскочила температура — тридцать девять с десятыми. Дышать трудно. Задыхаюсь.
Мама — в отчаянье.
Заходит Герасимовна. Она решительно советует напоить меня каким-то отваром, от которого «вша болешть харшком отходит». Какой-то «шладкай корень», который у неё припасён «на оказию».
Кто-то из сердобольных соседок, кажется тётя Лиза Богацевич, подсказывает отправить меня в больницу. Бабка шикает, машет на советчицу морщинистыми, словно в не по размеру просторных перчатках, руками. А маме внушает:
— Не вждумай, дурёха ты эдакая. Жаморят парнишку. Покойника из больнишы-те привежёшь… Да нешто тебе швоё-те дитё не жалко? В больнише и ждаровый ноне помрёт.
Бабка сварила медную, наверное, литровую кружку какой-то отравы, до того горькой и противной, что скулы судорогой сводит после первого же глотка. Внутри всё обжигает. Но жар этот отвар за ночь, обливаясь липким потом, сбил. И мне на следующий же день опять полегчало.
Герасимовна, подперев дряблую щёку толстым, с одеревеневшими мозолями, пальцем этак складно и безостановочно сказывает:
— Егорию баршущьево бы шала ш мёдом. По лошке в тепленько-то молоко. Он живо на ноги-те подшкошил бы и побёг.
Но где взять драгоценное барсучье сало, да ещё с мёдом-молоком? Если продать на барахолке всё, что имеем, кроме, разумеется, огромного бабушкиного зеркала, настенных часов да серебряной ложечки — память семейная, — с неё меня и Славку кормили, и то на барсучье сало не хватит. Без мёда и молока.
И сознание невозможности помочь мне терзает маму до стона. Да и на работу ей завтра пора бежать, иначе — беда. Прогул. Суд. Тюрьма. Время-то военное.
Герасимовна корит её:
— Дурёха ты, Надя, дырявая твоя голова, пашто жолотоя обрушально колешко отдала? Шийшаш на ево баршука и укупила ба. И-ы-ы… Два нивиршитету коншила, а ума не нажила. Бох ума не дал тебе, как жить надо-ть не простодырой. Потому как в Бога не веруешь.
Мама и вправду отдала своё кольцо, когда собирали средства на строительство Уральской танковой колонны. Больше у нас никаких драгоценных вещей не осталось. Только упомянутая чайная серебряная, мама называет её «десертной», ложечка с тонкой витой ручкой. Как её-то не отдала. Да ещё от отцовой мамы уцелела стеклянная сахарница в мельхиоровой оправе. Были у нас и настольные часы с красивой музыкальной мелодией, да я их по винтику разобрал ещё маленьким — не терпелось узнать, кто там внутри сидит и музыку играет, какой сказочный гномик? А бабушкино, до потолка, зеркало в деревянной резной раме и настенные, в резном же корпусе, часы с боем продавать почему-то нельзя. Кто-то, по приметам, умрёт. Глупость, конечно, тёти-Танина. Но маме этого не скажешь — она отца с фронта ждёт.
— Жеркало продай, вот жиру-те баршушьего укупишь. И шына шохранишь! Живого-невредимого. И шашы ш боем продай. Шын, шай, дороже.
Услышав совет Герасимовны продать зеркало и часы закройщику Скурату («А у кого боле денежки-те водятша? Ён вона каков маштер: рубли лопатой гребёт. Ему и отдай за школь тыщ. Што бы на большу крынку баршущева шала хватила. Жижня, она дороже, её ни на каки жолоты шервоншы не укупишь. Кады комунижму жделам, вешшей энтих шулят ражных — пруд пруди. Продавай, Фёдоровна, не шумневайша»), я вспомнил наказ отца перед уходом на призывной пункт: ничего не разбазаривать из материнского наследства (бабушкиного).
И я вмешался в разговор взрослых, хотя родители ещё давно строго-настрого мне запретили так поступать.
— Мама, ты обо мне не переживай. Я сильный, справлюсь. Сам.
Она молча выслушала мой сиплый голосишко, лишь промокая впавшие глаза в тёмных кругах (только сейчас заметил, какая она худющая).
— Выздоравливай сынок. Не огорчай маму. Ей без тебя будет очень плохо.
Иногда она говорила, «воспитывая» нас, о себе в третьем лице.
— Будь уверена, мама, — выздоровлю.
Мне и в самом деле без сомнений верилось, что преодолею хворь. Нет, не могу я умереть, как некоторые другие, — постоянно в округе кого-то хоронили. А я обязательно должен выдюжить. И остаться живым. Ведь это так интересно… Чем лежать в гробу. Дел всяких — уйма. Кто их за меня выполнит?
Мне даже повеселело после этого разговора и размышлений.
Помнится, я сразу крепко заснул и спал долго-долго. Аж до позднего вечера. Пока мама с работы не вернулась.
— Ешь, ешь досыта, — приговаривала мама, выскребая ложкой картофельное пюре из судка.
— А Славик? Ему не достанется…
— Он уже поужинал, — сказала мама, и мне почему-то подумалось, что она говорит неправду. Но я не стал её опровергать.
Проснувшись на следующий день, почувствовал, будто сил прибавилось. Прихромал, наконец, ко мне в гости Николай Иванович. Маме очень неловко. Она не знает, куда деть свои руки, красные, с потрескавшейся глянцевой кожей, от стирки наверное. Она угощает художника фруктовым чаем из отжимков груш, неописуемо вкусных, — по карточкам недавно получили. Вместо сахара. Сосед нахваливает чай. А я рад-радёшенек.
Николай Иванович сидит на краю моей постели, вытянув вперёд негнущуюся ногу, беседует со мной, чиркает что-то на квадратике ватмана огрызком моего красного карандаша, штрих за штрихом, получается чудесная роза. Он дарит рисунок мне. Цветок как живой. Так мама отзывается о рисунке после ухода Николая Ивановича. Тогда живых роз я ещё не видал. А маме приходилось. Потому она столь уверена.
Впрочем, может быть, и видел малышом, когда жили в городе Кунгуре. Вокруг дома, в котором обитала семья тёти Лизы (маминой старшей сестры, тоже врача, но по человеческим болезням), был разбит большой палисад с обилием цветов — маки, бархотки, ещё какие-то, да не обратил внимания, не запомнил — всё-таки мне тогда четыре года всего исполнилось. Зато сейчас могу любоваться цветком сколько захочу — не увянет и не опадёт. Много лет рисунок этот мелькал в комнате там и сям и в конце концов, к сожалению, затерялся.
…Мама буквально столбенеет, когда Славик приносит банку американской тушёнки и кусок шоколада — почему-то совсем несладкого. Даже горького. Это подарок Николая Ивановича мне как больному.
Но не помог подарок. Вскоре я почувствовал себя совсем худо. Помню лишь глаза мамы, наполненные чёрной жутью, и то, будто марлевая занавеска временами опускалась между нами.
Выплывали из серой мякоти полузабытья какие-то другие лица: бабки Герасимовны, Славика, ещё чьи-то — незнакомые. Среди них, кажется, и Николая Ивановича.
Я умирал, хотя этого просто не понимал. И поэтому никакого страха не испытывал. Спасло меня чудо — заграничное лекарство. Достать его тогда практически было невозможно. Его не было ни в каких аптеках. Кроме воинских госпиталей.
Лекарство раздобыл Николай Иванович. И не взял с нас никакой мзды. Обо всём этом узнал позднее. И вовсе не от спасителя моего. Я снова ожил.
Остатки лета, осень, всю зиму я почти не поднимался с постели. Уроки выполнял, сидя на койке и положив тетрадь на толстый том «Жизни животных» Брема.
Не часто ко мне наведывались друзья — Игорёк Кульша и Юрка Бобылёв. Каждого из них не отпускали свои неотложные каждодневные заботы. Вдобавок к ним у Игорёшки имелся младший братишка Генка, у Юрки — сестрёнка Галька.
После снятия блокады Вовка и мама его уехали вместе с конторой в Ленинград. Мы даже с ним не попрощались. Вероятно, очень спешил Кудряшов. А у Юрки на попечении находилась Галька, и он по хозяйству выполнял всё. Даже «стирался». Ему тоже стало не до меня. Отец Бобынька неделями не выходил с завода. Он делал танки. На ЧТЗ.
В один день за стеной стало тихо. Надолго. Я понял: там снова никто не живёт. Всезнающая Герасимовна сообщила, что «шушеда» положили в госпиталь — на операцию. Из госпиталя художник в свою квартиру не вернулся. Неизвестно, почему. Хотелось думать, что его долечивать отправили в другой госпиталь.
А я очень ждал его появления. Чтобы поблагодарить за доброе отношение ко мне.
Весной сорок пятого мы со Славиком, когда мама была на работе, разобрали кирпичную кладку, заполнявшую дверной проём. У нас опять стало две комнаты, как до войны.
В жилище Николая Ивановича я не нашёл ни мольберта, ни картины на нём. Комната была совершенно пуста и чисто подметена. Как будто в ней никто не квартировал.
Прошло ещё сколько-то времени, может быть месяц или больше, и я отважился спросить бабку Герасимовну, куда делся наш бывший сосед, раненый солдат, которому должны были сделать операцию на сердце. Чтобы она через тётю Марию узнала.
Бабка долго и молча смотрела на меня, словно вспоминая, о ком я ей припоминаю, а после выпалила:
— Ой, никово я, Гера, милай шин, не жнаю…
Её ответ оставил меня в недоумении. Чувствовал: слукавила бабка, не хочет сказать правду. Но меня не это донимало. Я внутренним необъяснимым чувстьем понял, что с Николаем Ивановичем больше никогда не увижусь. А ведь он столько доброго сделал для меня. Почему я его не поблагодарил, не сказал хотя бы спасибо. Не подумал даже. И эта несправедливость, совершенная мною, тревожила меня. А теперь уже поздно. Я был абсолютно уверен, что он где-то очень далеко от меня и совершенно недоступен.
Бабка поспешно ушлёпала в свою квартиру, а я так и не решился расспросить её подробнее, чтобы она хорошенько вспомнила или выведала у тёти Марии, — уж она-то могла бы по спискам проверить, потому как работала медсестрой в операционной госпиталя.
Честно признаться, мне было даже страшновато разузнавать у них о Николае Ивановиче. Опасался ответа, о котором догадывался. И поэтому не настаивал, не надоедал. Так он и остался в моей памяти: живой, возле своей картины, изображавшей последний их бой, и часами со светящимся циферблатом, лежащими внизу, на полочке мольберта.
А чистое бирюзовое небо во всю ширину полотна над погибшим солдатом я в своём воображении представляю сознательно. Хочу, чтобы оно всегда оставалось таким. Всегда. А на поле голубел не один кустик незабудок, а от края и до края.
1975 год
Книга третья
ПОЛУТОРКА ЗАМОРОЖЕННЫХ «МОТЫЛЕЙ»
Полуторка замороженных «мотылей»[124]
Этот потрясший меня эпизод я долго не мог изгнать из своего внутреннего видения — вот привязался! — случай, напугавший меня во время вечернего подкатывания[125] на улице.
…Полуторка неслась по улице Труда от цирка и, не снижая скорости, свернула на нашу, Свободы. Я, прекратив дыхание, рванул по обочине дороги так, что тополя замелькали справа, и закинул-таки длиннющий проволочный крючок за болтающийся дощатый борт нагнавшего меня грузовика, когда-то покрашенного в зелёный цвет. Сильно бросило вперёд. Почудилось, что я полетел по воздуху. Толчок — за ноги будто кто назад дёрнул, — но я устоял на округлоносых «снегурках». И в этот миг задний борт расхлябанного кузова, грохнув, неожиданно откинулся. Вероятно, он был плохо закреплён и открылся от моего подцепа. Тут полуторка тормознула на перекрёстке улицы Маркса, и я влепился в болтающийся борт грудью.
Перед моими глазами предстала страшная картина: кузов был заполнен замёрзшими трупами. Они лежали штабелем в два ряда (причём к голым ступням были привязаны фанерные квадратики), дергаясь, двигались туда-сюда стриженые, пробитые чем-то головы, а по ним хлопал край грязного рваного брезента, прикрывавшего этот ужасный груз. На перекрёстке машина ещё притормозила, и голые мёрзлые мертвецы надвинулись (так мне показалось) на меня. Ужас обуял всем моим существом — сильнейший, неосознанный, стихийный. Как я ещё не заорал от страха! Такого я не испытывал в жизни!
С огромным усилием — меня, словно гвоздь мощным магнитом, притягивало к борту — отчаянным рывком оттолкнул себя и, уронив крючок, прыгнул через высокий и глубокий сугроб, отгораживавший дорогу от тротуара, выбрался на прохожую часть, повернул назад, к дому, и сиганул что есть сил, не замечая ничего вокруг. На противоположном углу улиц Карла Маркса и Свободы одумался, вернулся и подобрал валявшийся крюк.
Не сразу пришёл в себя. Кошмарное видение не отпускало меня. Попутно каждый раз вспоминался и тот стриженый, которого били и топтали на городском рынке за украденный им пончик. Странно, с перепугу, что ли, однако я никому-никому и словом не обмолвился о полуторке, наполненной мертвяками.[126] Меня это видение стало преследовать неотвязно, и я тщетно убегал от него, словно в страшном сне, из которого невозможно вырваться: ты улепётываешь, а нечто стремящееся поглотить тебя всё равно близко, за твоей спиной. И лишь огромным усилием воли или ещё какого-то механизма мозга удаётся разорвать, казалось, непреодолимые путы и, раскрыв глаза, оказаться в привычном, твёрдом, безопасном, реальном мире, в котором жил всегда, — какое счастье!
На мучительный вопрос, заданный себе множество раз, где столько одновременно умерло людей, я тогда так и не смог ответить. И ещё: почему у всех пробиты головы?
Неожиданное, стремительное возникновение истощённых трупов, почти скелетов, подпрыгивавших в кузове на дорожных ухабах, словно их трясла лихорадка, пока я не отцепился от борта машины, явилось как бы посланцем из другого, зловеще-неизвестного, мира — о нём я ничего не знал, но он, этот страшный до дрожи мир, где-то существовал. Где-то… Может быть, совсем недалеко… И я позднее решил-таки выяснить, откуда полуторка везла замороженных людей. Никто из ребят ничего толком не знал. Предположение: собирают из больниц умерших, не имевших родственников, — к такому выводу пришли и Юрка, и Игорёшка, и другие. На том я и остановился, если б не проговорился Альке Каримову. Он поведал совсем другое:
— Доходяги? Как шкилеты? С бирками на ногах?
— Вот с такими фанерками. Квадратиками, — уточнил я.
— А номера на них были, химией[127] нарисованные?
— Не заметил. Перепугался, честно признаться, — столько мервяков! И все с пробитыми черепами…
— Эх ты, фраер! Да эта жа полну машину «мотылей» тартали[128] из тюряги. Зеки тама дохнут, как мухи. На баланде и пайке посидишь — быстро копыта отбросишь. Откедава полуторка чесала?[129]
— По Труда. От цирка.
— Точняк — из тюряги. Аль из итээл. Не, из тюряги. В яму сбросят. В поле, за городом.
— А черепа у них почему пробиты?
— Чтобы за жмуриков не косанули.
— Как это?
— А так! Заместо дохляка лягет темнила, а опосля с полуторки, за зоной, чесанёт — и аля-улю! Потому вертухаи имя всем бошки кувалдами пробивают. С дырявой башкой далеко когти не рванёшь. Понял? Вертухаи дело знают туго. Лупят, што мо́зги у «мотылей» из нюхальника соплёй висят.
Какой ужас!
Мне вспомнилось, как на базаре, ещё в сорок втором, «мотылём» обозвал озверевший колупаевский хулиган избиваемого за пончик воришку.
Помараковал и согласился с Алькой, не спросив, что такое «итээл», чтобы он опять не обозвал фраером. Да ещё и «штампованным».
…Много раз я пробегал мимо старинных, из красного кирпича, корпусов со стороны бани на улице имени Сталина, опоясанных массивными, той же кладки, стенами с колючей проволокой поверху, но никогда не задумывался, что там томятся и умирают люди. И вот встретился. И никогда мне, разумеется, в голову мысль не приходила, что всего через пять лет, когда достаточно подрасту, чтобы выполнять рабский труд на «комсомольских стройках», сам окажусь в этих казематах. Да ещё и пыткам в смирительной рубашке подвергнусь. А мама, которая возила нас, маленьких, на санках в эту баню (когда наша, на Красноармейской, закрывалась на ремонт), будет приносить мне «передачки»,[130] чтобы я не превратился в мёрзлого «мотыля» и не проследовал тем же маршрутом по улицам имени Сталина, Труда, Свободы и далее — в яму.
Вполне вероятно, что та же полуторка по пути к яме свернула бы на улицу Коммуны, налево, и сдала заказанный (по заявке) труп юноши лет восемнадцати, давно ожидаемый студентами и студентками мединститута. Вполне вероятно, что студентке второго курса Людмиле Малковой пришлось бы выполнить на моём трупе практическое занятие по анатомии. Вот была бы встреча! Ведь в то время, когда мне шёл восемнадцатый год, я любил эту девушку больше всех и всего на свете (да и сейчас, в старости, это чувство «во мне угасло не совсем») и постоянно мечтал лишь увидеть её, мою самую сильную, самую страстную, на всю жизнь, мечту — Милочку. Правда, увидел её я через много-много лет. Издалека. После отбытия каторжных работ в концлагерях, названных в декабре семнадцатого создателем их, — не исправительными, а именно так — концентрационными. На самом же деле их следовало назвать тем, чем они сразу стали, — карательными, или, на фене зеков, «мясорубкой».
…Меня вертухаи вполне могли превратить в «мотыля» и двадцать шестого февраля, и восьмого мая пятидесятого года, но судьба оставила в живых. Жена утверждает, что это вовсе неслучайности, а божье провидение. Кто его знает? Я в существование бога не верю, и никогда не верил. Мне ближе другое понятие — случайности, совпадения. Но вернёмся в начало сорок пятого года. Перескочив через трамвайные рельсы на улице Карла Маркса, я очутился возле приземистого двухэтажного здания пивнушки, отдышался малость и сиганул по «своей», левой, стороне тротуара домой, но возле дома номер тридцать, где жила (точнее — выживала) семья Сапожковых, оглянувшись направо, увидел такое, что заставило меня остановиться.
Дымящиеся тёмно-коричневые буханки шмякались на грязный обледенелый снег. Некоторые булки от удара лопались, верхние поджаристые корки отскакивали прочь, а Федя Грязин продолжал швырять хлеб наземь. Потом он на ходу прикрыл створку ящика и повесил на прежнее место замок.
Сопровождавший хлебный возок охранник в заиндевелом тулупе с поднятым высоченным воротником ничего не заметил, потому что справа, почти вровень с мордой низенькой лохматой лошадёнки, бежал на «дутышах» Алька Жмот, брат Юрицы, закопёрщика этой «операции», и отвлекал внимание небдительного возчика. Возчик держал кнут наготове, чтобы хлобыстнуть Альку, если он, например, ухватится за оглоблю, желая подкатиться задарма.
— А ну с дороги, фулиган! — гаркнул возница из покрытого густым куржаком[131] воротника и щёлкнул кнутом. Алька, оглянувшись, прибавил скорость, некоторое время бежал впереди лошади, а затем съехал на тротуар и повернул назад — он своё задание выполнил.
Тут возчик почувствовал беспокойство, повернулся направо, кнутовищем отогнул воротник, взглянул на дверцы ящика и замок, висевший там, где ему и положено быть. Довольный результатом проверки, он огрел рыжую кобылёнку одеревеневшим на морозе кнутом (утром наружный термометр, прикреплённый двумя шурупами к раме нашего окна, упирался красным столбиком со спиртом в цифру сорок, поэтому я законно не пошёл в школу, а решил покататься на коньках), крикнул на неё матерно-свирепо и помчал дальше.
Тем временем Федя Грязин (имя и фамилию оставляю подлинными), озираясь, собирал и засовывал в мешок скользкие мокрые буханки.
Подхватив два или три хлебных кирпича, улепётывал в опорках на босу ногу Вовка Сапожков. А я растерялся и наблюдал эти стремительно развивающиеся события, остановившись с длинным проволочным крюком в руках посреди дороги.
— Чего встал? Хватай!
И Федя подпнул мне и без того развалившуюся от падения на дорогу ржаную буханку.
Я нагнулся и поднял из наезженной колеи, наполненной серым, залощённым санными полозьями снегом кусок булки, прижал его к груди и припустил за мелькавшей впереди фигурой расхристанного Бобки с голыми грязными пятками. Вообще-то по-настоящему его звали Вовкой. Не знаю, кто придумал ему такую собачью кличку, я его всегда называл только по-человечески, а не по-уличному. Кое-кто называл его Гаврошем.
Не знаю почему, но я прокатился на своих «снегурках» до открытой двери в полуподвал, спрыгнул на ступени, с них — на бетонный пол общего коридора и процокал направо, в большую комнату, в которой обитала семья Сапожковых — тётя Паня, Вовка, мой сверстник, и Генка, одногодок моего братишки Славки.
Когда я ввалился, громыхая «снегурками», в полуподвальную комнату Сапожковых, то Вовка, в распахнутой, без единой пуговицы, просторной замызганной телогрейке, подпоясанной старой, дыра на дыре, шалью тёти Паши, стоял возле столь же невообразимо грязной большой постели и толкал в рот горсть хлебного мякиша. Исхудавший до голубизны младший брат Генка, по прозвищу Гундосик, рвал мелкими зубами заляпанную снегом подгоревшую корку.
— Здорово, а? — с восторгом прошамкал Вовка. — Ништяк вертанули, а?
А до меня только сейчас стал полностью доходить ужасный смысл содеянного нами — ведь мы ограбили хлебный возок! И я участник!
Вовка спешил, давился, стараясь проглотить побольше, не жуя, — от одной из трёх лежавших на столе буханок уже мало что осталось. Бросив «подкатной» крючок в угол, я над столом разжал варежку, и на столешницу, которая была ещё грязнее, чем постель, плюхнулось то, что подобрал в дорожной колее, — липкий, бесформенный шматок.
— Жри, — пригласил Вовка. — Шамай,[132] Ризан!
К шматку потянулся худой давным-давно не мытой рукой Генка, но я почему-то приказал:
— Не трогай!
— Тебе чо — жалко, ли чо ли? — обиделся Вовка и воинственно размазал замусоленным рукавом телогрейки густую влагу под носом.
Генка растерзал следующую буханку, ещё не остывшую, даже горячую внутри. В нетопленной комнате Сапожковых от булки струился пар и пахло свежим хлебом так, что слюни сразу заполнили рот.
— Не трожь этот хлеб, — выкрикнул я.
Вовка вытаращил на меня глаза, выгрызая мякиш с корки.
— Ворованный…
— Ну и чо? — удивился Вовка. — Не у тебя жа спиздили…
— Мы его украли, понимаешь? — громко, почти закричал я.
— Не… — замотал головой Вовка. — Мы ево вертанули. Эти буханки — верчёные[133] из повозки. А не у людей…
Дверь неожиданно и широко распахнулась. Генка мгновенно сунул свою краюху под большую подушку цвета затоптанной земли. Я обернулся: на пороге в клубах морозного воздуха стоял ухмыляющийся Юрица Каримов, один из самых отчаянных блатарей нашей улицы, старший брат Альки. Несколькими годами старше нас с Вовкой, он не якшался с нами, «мелюзгой». У него имелась своя компания, но сегодня мы оказались его сообщниками.
— Здорово, шпана,[134] — поприветствовал он, ухмыляясь, и «золотая» коронка сверканула в темноватой комнате.
— Дверь-то, закрывай! — пропищал Генка. — Холодно, чай. Не лето!
— На улице теплея, — пошутил Юрица и передвинул губами из одного угла рта в другой папиросу «метр курим — два бросаем» с длинным мундштуком — дорогую казбечину. Такие продавались на толкучке парно по пятнадцать рублей.
Я затворил дверь. Оказалось, в ней даже замка нет. Продали, наверное.
— Сколь буханок приволок? — спросил он Вовку.
— Не зна… Я щитать не умею…
И это была правда. Я убедился давным-давно, что Вовка ни читать, ни считать не может — таким родился.
— А ты?
Я молчал.
— А он — нисколь, — ответил за меня Вовка.
— Жухнул?[135] — нахально спросил Юрица и ощупал мою грудь рукой с перстнем на среднем пальце. — Куды притырил?[136] Колись,[137] куды заныкал?[138]
Юрицу мы, пацаны помладше, боялись. Блатяра! Он был скор на расправу, если с ним не соглашались, не отдавали по-хорошему то, что он собирался казачнуть,[139] перечили или не подчинялись его повелениям. Причём избивал жертву безжалостно и весело — такая у него была манера. Иногда бил мальчишек просто так, ради своего удовольствия — потешался. Алька не был таким жестоким, хотя дрался и казачил[140] часто — было кому за него заступиться, поэтому «имел право».
— Ну, ты, маменькин сынок, колись, где черняшка?
Он пятернёй с колечком на пальце, украшенным голубым камушком, сгрёб воротник моей телогрейки под подбородком и надавил на шею. Я поперхнулся.
— Сшамал? А ну открой хлебальник!
— Вон лежит, — просипел я.
Юрица взял со стола липкий шматок, подкинул на ладони и сразу шмякнул им о столешницу.
— Эх, испортил товар… А ты сколь, говоришь, хапнул?
— Не зна… — повторил Вовка.
— Не темни, гнида! Половина — моя доля. Мы вертели — нам положено. По закону. Набздюм.[141] — Он сграбастал оставшуюся буханку. — Гони другую. Давай, давай, не жмись. Чо, очко[142] заиграло?
Вовка подал Юрице надкушенный ломоть.
— В замазке, — сказал Юрица Вовке небрежно.
— Ты — тожа, — ткнул он мне пальцем в грудь, и сиреневого цвета камень в перстне опять полыхнул разноцветными искрами, радужные светлые полосы скользнули по серо-жёлтой стене.
— В какой замазке? — недоумённо спросил я.
— Эх ты, фраер… Бобик, растолкуй ему. И больше не вздумайте жухать. Не то правильником[143] из задней кишки вытащу, слышишь, сопля? Через очко достану. Больно будет!
— Угу, — поддакнул старший Сапожков.
Юрица вынул изо рта казбечину, приладил окурок к ногтю большого пальца правой руки, прижал безымянным, прицелился в обрамлённый узкой деревянной, чёрного цвета, рамкой фотографический портрет тёти Паши, когда, с её слов, «мущины по мне с ума сходили», матери Вовки и Генки. За ним хранились, об этом Юрица не догадывался, а то отобрал бы, хлебные карточки. Фронтовые письма Сапожкова-отца, находившиеся там же, едва ли его прельстили б, и щёлкнул. Мундштук прилип ко лбу неправдоподобно красивой, с нарумяненными щеками и малиновыми губами, тёти Паши — именно такой изобразил её мастер-фотограф, когда по челябинской «артиске варьитэ» «мущины с ума сходили», как она сама мне однажды пояснила.
— Ну, ты, чево плюваешся? — задиристо пропищал Генка.
Но Юрица не обратил на его протест внимания, а, засунув руки в карманы шикарной драповой «москвички», насмешливо произнёс:
— Паше привет… от старых щиблет.
Прилипший к портрету окурок весьма забавлял Юрицу. Он чувствовал себя в квартире Сапожковых полным хозяином. Любуясь блудом руки своей, он ощерился, довольный, и золотые огоньки вспыхивали и переливались во рту — это бликовали недавно вставленные для форса[144] коронки, выточенные из мелкокалиберных пистолетных латунных гильз и надраенных толчёным мелом.
Юрица ушёл, поскрипывая новыми белыми фетровыми бурками, сшитыми на заказ знаменитым челябинским сапожником Фридманом. В левой руке Юрицы был зажат обыкновенный мешок из сермяги с пахучим тёплым ржаным хлебом. И все мысли мои были о нём, о хлебе.
Сидевший под ветхим одеялом Генка после ухода Юрицы вскочил на кровать, смахнул окурок с фотографии, спрыгнул босыми ногами на ледяной бетонный пол и предложил:
— Давайте слопаем этот кусман, — и он показал увесистую горбушку.
Генка разломил хлеб на три куска. Вовка поспешно схватил тот, что лежал с моего края. Он показался Сапогу больше, чем другие. Сапогом Вовку иногда дразнили пацаны, но он никогда не обижался ни на кого. Возможно, он не всё понимал, о чём ему говорили другие. Из-за природной, врождённой тупости его не приняли в школу. Вовка не знал даже, сколько ему лет.
Я не притронулся к хлебу. Вовка заметил это моё бездействие, кивнул головой на стол и заявил:
— Ну и дурак. Подыхай с голодухи!
— Это… это я подобрал, — хотел возразить я, но не находил нужных слов. — Чтобы машины не раздавили. Нельзя, чтобы хлеб на земле валялся.
— Мамане оставлю. Нажрался до отвала, — сказал Генка, показав брату обгрызенный со всех сторон кусочек с пару спичечных коробков величиной, и спрятал его под подушку.
— Ну и дурак, — повторил Вовка, только теперь уже брату. — Она щас на донорском пункте кровь продаёт, придёт и всё схамает.[145]
— Пойду, — сказал я и забрякал коньками по бетону пола, но, не дойдя до двери, вспомнил. — А что за замазка, про которую Юрица мне талдычил? Не оконная же?
— Замазка? А это когда ты должо́н. В карты проиграисся или вещь возьмёшь носить. Или деньги. Должок, значит, за тобой, — разъяснил Генка.
— Я Юрице ничего не должен. Так ему и скажи…
— Сам ему кажи, ежли не бздишь, — ответил Генка.
— И скажу. Скажу, что мы хлеб украли. Нас за это в тюрьму надо посадить.
— Малолеток в тюрму не содют, — поправил меня Генка. — Нам ещё нет двенацати. Нас не в тюрьму, а в детскую колонию отправют, в Атлян.[146]
— Откуда ты знаешь? — не поверил я.
— Лёнчик трёкал. Залётный щипач. Он у нас ночевал. С мамкой спал. Позырь-ка, что он мне дал. Насовсем!
Генка извлёк из-под той же единственной грязнущей, залощённой до блеска большущей подушки и показал раскладное, с многочисленными отделениями, кожаное портмоне. И тотчас спрятал туда же — под подушку. Там хранилось всё его состояние — мелочь от сданных в приёмные пункты пивных бутылок, выпрошенных у подвыпивших.
«Зачем я это сделал, зачем?» — задавал я себе мучительный безответный вопрос, выбираясь по обледенелым ступеням из полуподвала. Мне стало так неуютно и одиноко в этом насквозь промерзшем, окружавшем меня мире. Не радовали перламутровые тополя, наклеенные на густую синь неба, зябко прижавшиеся друг к дружке заиндевелые дома с бельмами окон, звенящий от холода воздух, сверкающие в матово-голубых сугробах живые снежинки-светлячки — ничто не радовало меня, даже такая красота. Ноги мозжило от усталости и неудобства. Коньки я прикрутил к валенкам верёвками, поэтому на ступни давило, хотя и не очень больно, но постоянно и нудно.
Случай с «верчением» настолько расстроил меня, что это заметила даже мама, но я не посмел признаться ей во всём, что со мной произошло. Позорно соврал: устал. Больше двух месяцев я не выходил кататься на коньках. И видеться с пацанами не желал — книги читал. Одну за другой.
Зима выдалась настолько суровой, что в феврале и даже начале марта ещё стояли крепкие морозы. И я потихоньку стал выскакивать на улицу — прокатиться. Велик оставался соблазн промчаться по укатанной дороге мимо знакомых домов, ворот нашего дома, зная, что скоро ты в него вернёшься, и стремительность движения, смешанная с радостью, что всё это есть и сам ты существуешь, словно переносит тебя в другой мир ощущений… И вдруг… Ох уж эти «вдруг», перебрасывающие нас в другой, неведомый, неожиданный и нежданный мир, иногда непонятный, а то и страшный.
Спотыкаясь, я кое-как доковылял до дома, до нашей светлой и чистой комнаты, в которой было тепло и спокойно, — сюда не ворвётся наглый и рукастый Юрица. Мне хотелось навсегда забыть о произошедшем, как будто этого ничего и не было, но память упрямо воссоздавала с беспощадной правдивостью эпизоды ограбления хлебной повозки, и в ушах звучало навязчиво: «Зачем ты это сделал? Зачем? Как у тебя рука поднялась взять чужое? А если кто-то из знакомых либо соседей видел? Герасимовна или тётя Таня? Позор! А если — Мила?»
От одной этой мысли, что Мила могла стать очевидцем нашего беспутства, меня бросило в жар. Я сразу взмок, представив себя бегущим с прижатым к животу шматком ржанины, а Мила с изумлением и презрением смотрит на меня с тротуара. Этого я не должен был делать — ни за что! Я обязан был крикнуть что есть силы: «Дяденька! У вас хлеб воруют!»
Вот что я обязан был сделать! Но так не поступил. Не сообразил. А следовало сделать именно так — окликнуть возчика.
За что Юрица меня, наверное, убил бы, но зато я поступил бы честно, как настоящий пионер, как Павлик Морозов. А теперь Вовка с Генкой, несомненно, растрезвонят обо всем Юрке Бобыньку (так мы звали Бобылёва), ведь он их сосед, живёт в комнате через стенку, только вход с другого коридора. Вот стыдобушки-то не оберёшься! За такое и из штаба могут погнать — какой же я после этого тимуровец? Если и выгонят — поделом!
Больше всего меня мучил один вопрос: признаться ли в своём мерзком, отвратительном проступке Юрке и Игорю Кульше, новому члену нашего штаба, или умолчать. Умолчать — нечестно. Придется обо всём рассказать.
Я тщился дочитать увлекательнейшую книжку с показавшейся странной фамилией автора — Додд — «Серебряные коньки», которую мне дала на несколько дней Мила, но сейчас смысл повествования ускользал — подобного со мной раньше не случалось. В голову постоянно лезла расплющенная ржаная лепёха.
Мама премного удивилась, убедившись, что в последующие вечера, вместо того чтобы гонять по улице на коньках, я сижу дома, присосавшись к пятому толстенному тому довоенного издания «Жизни животных» Альфреда Брема.
— Почему не гуляешь? — спросила мама. — В духоте киснешь… Покатайся на коньках, если домашние задания выполнил.
— Горло болит, — слукавил я. — Немного. Только ты меня не лечи — само пройдёт.
Истинная же причина, которую я скрыл от мамы: очень не хотелось встретиться с братьями Сапожковыми и ещё более — с Юрицей. С чего ради он возомнил, что я ему что-то должен? И что именно? Хлеб? Так я его и щепотки не съел. С грязной колеи подобрал, чтобы проезжающие автомашины не смешали его с грязным снегом, чтобы полозьями не размазали по дороге сани. Лично у него я ничего не брал. Поэтому и ничего не должен. И пусть он от меня катится колбаской…
И всё-таки встречи с Юрицей избежать не удалось.
— Эй, архаровец! — поманил он меня пальцем, остановившись на тротуаре возле наших ворот.
— Юра меня звать, — сказал я хмуро, предчувствуя неприятность. — Рязанов.
— Канай сюда, Резан. Буханка чернухи за тобой. Когда отмазываться будешь? А то должок растет. Каждый божий день по соточке.[147]
— Ничего я тебе не должен, — решительно заявил я.
— Грубишь взрослым? Не отмажешься — коньки срежу.
Он откинул за спину длинный конец вязанного из козьего пуха белого шарфа и, попыхивая дорогой папиросой с длинным мундштуком, воткнутой в золотое хавало,[148] вразвалочку продолжил прогулку по Свободе, улице, на которой блатарь по кличке Юрица в моём восприятии превращался в подобие курицы, и я видел его (мысленно) большой уродливой квохчущей хищной птицей, готовой исклевать кого угодно в любой момент.
Всем своим видом, разболтанной блатной походкой, властным обращением с другими, младшими по возрасту, пацанами, и расправами с ними по поводу и без Юрица нагло утверждал себя хозяином нашей улицы, а мы, ребята помладше, должны были, по его понятиям, беспрекословно выполнять волю «пахана», «шестерить» ему, потому что он вор.
А я с этим не мог, не хотел согласиться и смириться. С какой стати он возомнил, что вправе помыкать мной? Кто он такой? Подумаешь — блатной! Блатарей шляется по Свободе — не пересчитать. Что ж теперь всем подчиняться? Да пошли они к чертям свинячим!
Когда ожесточение во мне созрело, то и необходимость рассказать о случайном, как мне думалось, участии в «верчении» буханок друзьям уже не угнетала, как в первые дни, и я решил признаться во всём, что произошло со мной.
На сей раз мы собрались в зимнем штабе — «эскимосском чуме», сложенном нами на огороде из снежных глыб-кирпичей. Для крепости и теплоты мы обрызгали снаружи наше сооружение водой. Внутри «чума» выложили стол и сиденья, тоже из плотного снега.
Я рассказал всё как было.
— Ни кусочка не отщипнул? — уточнил Юрка Бобылёв.
— Ни крошки. Вовка может подтвердить.
— Мы тебе и так верим, — высказался Кульша.
— А ещё так будешь делать? — сурово спросил Юрка.
— Никогда!
— А если Юрица заставит? — не унимался Бобынёк.
— Как он меня заставит, если я не захочу? Не буду, и всё, — заявил я, ликуя от собственной храбрости и решительности.
В этот миг, чтобы доказать друзьям, что они не напрасно поверили в мою честность, я, не раздумывая, вышел бы один на один против Юрицы, хотя для победы у меня не было ни одного шанса. Я, несомненно, обрёк себя на верное поражение, лишь бы очиститься от скверны, тяготившей меня.
В «чуме» стояла стужа, а я весь взмок — от переживаний. Ох, как непросто признаться другим в гадком своём деянии, тем более если эти другие — твои лучшие друзья!
— Матери-то не рассказал? — поинтересовался Юрка.
— Знаешь, что она мне устроит, если я признаюсь? Отколотит и после побежит к Каримовым. И в милицию. Такую кашу заварит — не расхлебаешь!
Друзья со мной согласились, что взрослым не следует выбалтывать лишку. Они только навредят. Такое мнение у пацанов существовало давно и постоянно подтвержалось фактами. Сами после разбирались в произошедшем.
— В случае чего мы тебе поможем, — заверил Бобынёк.
Я в их словах не сомневался, и уверенность в дружеской поддержке успокоила меня. Лишь не мог представить, каким образом они это смогут сделать. Но уже не столь опасными представлялись возможные встречи с Юрицей. И я точно знал, что не поддамся запугиваниям уличного пахана — выстою!
А вскоре произошёл вовсе необыкновенный случай. Скрипя коньками по утоптанному снегу — стоял уже не такой жгучий, всего двадцатиградусный морозец, — я подкатил к нашей калитке, но она вдруг со стуком распахнулась от сильного удара, и во двор ворвался Юрица в расстёгнутой «москвичке». Он показал мне кулак, обогнул сугроб напротив дома, где жили Бруки (Мальцевы куда-то уехали), и упал под него. В тот же миг в проёме калитки возникла фигура молодого мужчины в кубанке, тоже в «москвичке», и… с наганом в руке.
— Где он? — запыхавшись, спросил меня преследователь. — Куда побежал?
Увидев наган, я развернулся и что есть духу припустил к своёму дому. Домчавшись до стайки тёти Ани и не слыша за собой погони и выстрелов, оглянулся. Мужчина в кубанке по глубокому снегу пробрался к забору, отделявшему наш двор от территории Бруков. Вот он ухватился за верхние доски, перемахнул через них и скрылся в высоких кустах сирени, — видать, туда вели чьи-то следы.
Юрица, выглянувший из-за сугроба, поднялся и устремился в мою сторону. Я снова дал дёру, но на крыльце почувствовал себя в безопасности и остановился. Юрица в тот момент перескочил через низкий заплотик возле сарая-склада во дворе, где до отъезда в Ленинград жили Кудряшовы, и рыскнул туда-сюда в посадках акации, а там и до его хатёнки огородами рукой подать. Вскоре поблескивавшая хромовым верхом его шапка исчезла из виду.
«Зачем тот дядька с наганом догонял Юрицу? — размышлял я. — Наверное, тоже шпана. Что-то, верно, не поделили. Или во время картёжной игры поцапались».
Постепенно я успокоился. Похоже, ни Юрица, ни гнавшийся за ним не собирались возвратиться в наш двор. С опаской приблизился к воротам, шагнул на улицу — там всё выглядело мирно. Разбежавшись, я выкатил на проезжую часть. В конце квартала, направо, маячил Толька Мироедов. Я часто с ним не ладил, но наступали периоды, когда мы мирились. Он сейчас тоже с длинным проволочным крючком для зацепа за борт автомашины или за перекладину саней ждал попутку. Я жиманул к нему изо всех сил.
Тольку мой взволнованный рассказ не удивил. По его словам, он и не такое видывал, а наганов у него от дяди Бори, брата старшего, что в тюрьме сидит, якобы осталась куча. Врал, конечно.
Дня через два-три мы играли, гоняя по дороге палками и проволочными клюшками замёрзшие конские катыши. Юрица окликнул меня и подозвал к лавочке, где сидел и лузгал семечки вместе с черноглазой весёлой красавицей Розкой, совсем сопливой девчонкой, лет десяти — двенадцати.
— А ты молоток,[149] Резан. Не заложил[150] меня мусору. Держи.
И Юрица протянул горсть жареных подсолнечных семечек. Я машинально подставил обе ладони.
И, обнимая румянощёкую и счастливую Розку, галантный кавалер хвастливо поведал ей:
— Тихушник[151] рвал за мной с дурой наголо. Я думал: шмальнёт начисто…[152] Еле ушёл. Мазульку[153] за меня поддержал Резан.
— Бандитик ты мой фартовый, — засюсюкала нарочито Розка и длинно поцеловала Юрицу в щёку.
Так вот, оказывается, в чём дело: за Юрицей гнался вовсе не ширмач,[154] а милиционер.
— А почему же мильтон был не в форме? — спросил я Юрицу, когда Розка отлепилась от него.
— Тихушник, из уголовки, — охотно разъяснил Юрица и повторил: — А ты молоток. За это тебе должок скащиваю![155] Хотя ты и бздиловатый![156]
— Вовсе я не бздила, — взъерепенился я.
— Божись, что поканаешь с нами «горбушки» вертеть.
— Не пойду.
— Что — мамка письку надерёт?
И они обидно засмеялись, а Розка запела:
Юрица подхватил:
— Как тебе не стыдно? — притворно сердито воскликнула девчонка. — Будем целоваться! — и она захохотала. А Юрица ещё теснее прижиался к ней. Но Розка решительно отодвинулась и заявила:
— Ты меня, Юрчик, не фалуй,[157] а то я Арончику трёкну.[158]
— Ты што — дура? Шуток не понимаишь? — уже другим, оправдывающимся, тоном продолжил любезную беседу Юрица. Испугался! Арон Фридман слыл непререкаемым блатным. Юрица, очевидно, опасался брата Розки, дерзкого и скорого на расправу.
Я отошёл от скамьи, разжал кулаки и высыпал семечки на снег. На них тут же набросились воробьи.
— Ты чево, Резан? — увидев, что я бросил семечки, нахраписто спросил Юрица.
— Не хочу быть в замазке, — ответил я.
— Фраерюга штампованный! Я жа от души…
— Ты меня тоже от души терзал за краюху, которую я лишь поднял с дороги, — съязвил я.
— Смотри, тебе с горки виднее, Резан. Не промахнись.
При последующих встречах Юрица шутил издевательски и всегда одинаково подначивал:[159]
— Эй, мамкин сынок, когда побежим черняшку вертеть?
Что мне было ответить? Не умел я тогда найти точных смелых слов, чтобы дать понять насмехавшемуся надо мной уличному «хозяину», что не в маминых запретах суть, а в том, что мне нестерпимо стыдно признаться даже себе, что участвовал в краже хлеба, — ведь кому-то его не досталось, кто-то голодным остался. И со мной не раз такое бывало — торчишь, маешься весь день в очереди, а хлеба почему-то не подвезут или передо мной последнюю буханку разрежут. А со стены магазина, из-под потолка, ухмыляясь во всю розовую рожицу — рот до ушей, толстощёкий пекарь протягивает поднос, полный булок, ватрушек, кренделей и пирожных. Разумеется, этого балагура-кондитера нарисовали на стекле ещё до войны, но не знаю, как у других, а у меня голодные спазмы в животе начинались, как только я поднимал глаза и невольно принимался разглядывать пышную стряпню, вкус которой, кажется, давно забыл.
Вот и плетёшься тогда домой с пустой торбочкой — слёзы на глаза наворачиваются мутной пеленой, а на уме те разноцветные пирожные и пышные шаньги.
С горечью я однажды признался себе: значит, и я оставил кого-то без пайка. И представлял в воображении, как какой-нибудь голодный пацанёнок возвращается из магазина с пустыми руками, и не находил себе места… А тут ещё Алька Жмот подошёл к нам и торопливо выкрикнул:
— Созорок одизин!
Мы с Юркой Бобыньком, накатавшись на коньках до горячего пота, стояли у ворот его двора и грызли зелёный, тоже пайковый, жмых, голодные до дрожи в коленях — устали. Молчали.
— Сорок один! — уже нормально повторил Алька и протянул тёмно-серую кисть руки с розовыми кончиками пальцев.
Ещё прошлым летом Алька научил нас тайному языку, с помощью которого мы могли изъясняться, не опасаясь, что нас поймут другие. Новый язык был прост: к каждому слогу последовательно прибавлялось по слогу «за» либо «зо», «зе», «зу» и другие буквенные сочетания. Моё имя выглядело так: «Юзарказа». Или: «Изидезём наза резекузу». Я даже Альке с обидой заявил: «Чего обзываешься!» Алька хихикнул. Попробуй пойми, что тебя на Миасс приглашают, на реку.
— Тызы глузохой, штозо лизи? — разозлился Алька.
— Не дам, — воспротивился я. — Шиш тебе!
— Пошто? — возмутился Алька.
— Почему я должен тебе что-то отдавать? Каждый раз выпрашиваешь. А то же самое по карточкам получаешь. Надоел.
Юрка с любопытством наблюдал нашу стычку.
— Жмых стибрили?[160] — сощурился Алька.
— А тебе какое дело?
— А такое: половину отдай — положено. По закону.
— С какой это стати?
— Юрица — блатной. А я евоный братан, во…
Меня Алькина наглость так взбудоражила, что я пошёл на небывалую дерзость:
— Иди ты со своим Юрицей знаешь куда? К чертям свинячим. Блатные… Ему работать надо, на заводе, а он блатует, паразит! Да ещё ты попрошайничаешь, нахал.
Алька изумился моему безрассудству. Но изловчился и вцепился в кусок жмыха, который я сжимал в кулаке. Однако хапком отнять жмых ему оказалось не по силам. Тогда он просипел:
— Отдай — не греши, а то харкну на тебя — сразу сифилюгой заболеешь.
И, поняв, что не сумел запугать, добавил:
— И чихоткой!
Однако я вывернул свой кулак из скользких, сырых Алькиных ладоней, а его оттолкнул с силой. Алька растянулся на тротуаре, раскисшем кое-где под пригревом февральского солнышка.
— Ну, Резан, всё! На блатных руку поднял, да? Юрица тебя заделает… Кранты[161] тебе!
— За брата тыришься?[162] А ты честно, один на один выйди…
— Ты ещё нам попадёшься! В тёмном местечке.
И Алька, разозлённый, смотался в свою подворотню на Свободы, двадцать.
— Сейчас Юрицу позовёт, — сообразил Бобынёк. — Идём домой. Ну его…
Признаться, вовсе не хотелось встретиться с Юрицей: было ясно, что не только мне, всем штабом с ним не справиться: с ним целая хевра,[163] а он её повелитель.
И мы разошлись по домам. Оставшись наедине, я поразмышлял над произошедшим и сказал себе: ты струсил! Поэтому и сбежал с улицы. И мне стало ещё горше.
Первые дни я опасался встречи с Юрицей, а после утвердился в решении: пусть он изрежет меня финкой (наборная ручка её из разноцветного оргстекла всегда торчала за голенищем его правого бурка), пусть! — но «вертеть» ни за что не пойду. И то, что о нём думаю, прямо скажу в глаза. И прощения у Альки просить не буду. Тем более что жмых Юрке выкупил отец — на кровные деньги. По карточке.
С каким трепетом и отчаяньем я ждал этого дня! И он наступил. Я ожидал худшего, но, вопреки моему ожиданию, Юрица не набросился на меня, не побил и не зарезал. Он лишь ухмыльнулся, когда я ему заявил:
— Ты вор! А я не хочу воровать. И не буду…
Думал, он взбеленится — кому охота услышать столь позорное обличение, а он залыбился,[164] похоже, довольный услышанным. И гордый. И лишь сплюнул сквозь «золотые» зубы презрительно:
— Фраерюга… Маменькин сынок, Резан. Бздишь: сику мамка надерёт?
— Никого я не боюсь. И тебя тоже, — отчаянно ответил я.
Повернулся и пошёл к своей калитке. С моих плеч словно гора свалилась.
А весной, уже тополя клейкие листочки развернули, эта история с «верчением» хлеба неожиданно и трагически закончилась. Мусора кого-то из свободской шпаны грохнули.[165] Высказывали догадки, что наконец-то выследили и застрелили неуловимого скокаря-вертилу[166] Федю Грязина.
За несколько дней до последнего нападения Феди на продуктовую автомашину, когда он «вертел» под присмотром Юрицы хлебную повозку, я видел его в окружении каких-то чужих взрослых парней с очень решительным жестами. Они устроились на лавочке у ворот соседнего дома, где жили Сапожковы, и по очереди курили огромную трубку с длинным, больше метра, изогнутым мундштуком и гоготали.
Прохожие, завидев издалека буйную компанию, переходили на противоположный тротуар. Я даже не попытался проскочить мимо незамеченным, и Юрица, который находился в этой хевре (Федя, как я уже упоминал, жил с Сапожковыми в одном дворе), засёк меня, но не выкрикнул свою дежурную шутку насчёт того, когда же я вместе с ним «побегу вертеть» или мамка все ещё мне не разрешает. С независимым видом, не спеша я прошёл до своей калитки, так и не ответив на новый вопрос Юрицы:
— Резан! Хошь курнуть «травку»? Сразу обалдеешь! Угощаю!
А днём позже, выстаивая очередь в хлебном магазине на пару со Славиком, услышал новость: вчера в недостроенном кирпичном доме по улице Пушкина, напротив этого магазина, к которому мы «прикреплены», участковый милиционер Косолапов в перестрелке убил бандюгу. Его давно и безуспешно пытались изловить на месте совершения преступления. А их он всегда безнаказанно творил: обычно на ходу ловко, моментально грабил хлебные повозки.
Мы, несколько пацанов из очереди, тут же обсудили неслыханное происшествие и высчитали, что стреляные гильзы мы можем попытаться отыскать. Уверовавшие в удачу, полезли на заброшенную стройку, превращённую в свалку нечистот жителями соседних домов, осмотрели все закутки возведённого в предвоенный год первого этажа большого кирпичного дома, но никаких гильз не обнаружили. Зато в угловом помещении с зияющим захламлённым подвалом мы сверху, со стены, узрели валявшуюся помятую буханку хлеба. Никто из нас троих не отважился спуститься вниз, чтобы подобрать находку, — уж очень зловещей она нам показалась.
А ещё день спустя от Вовки Сапожкова я узнал, что исчез Федя Грязин. Но вместе с ним будто испарился и вездесущий и привязчивый Юрица. Подтвердил это и Алька Каримов, что брат «слинял».[167]
А я не хотел верить, что вот так вдруг испаряются люди, словно их и не существовало. Ну не может такого быть. Но есть! Отца Брони забрали ночью, весь дом переполошили, так громко стучали в дверь, а Богацевичи не спешили почему-то открывать. Не до конца проснулись и мы с братишкой, когда пришли к нам с обыском в тридцать седьмом году. Помню смутно какие-то фигуры, словно возникшие из тумана, приглушённые голоса. Но вскоре мы уснули под уговоры мамы. На следующий день я задал вопрос, который в те годы задавали многие дети:
— А где папа?
— Уехал в командировку, — успокоила мама, и я поверил ей, потому что отец, работая бухгалтером-ревизором, и раньше часто уезжал в командировки. Только на сей раз она затянулась, наверное чуть не на год.
И тут вспомнилось, казалось бы, прочно забытое, один «секретный» разговор бабки на общей кухне. Она, шепелявя, нашёптывала маме о невероятных злодействах: будто у нас «ни жа што ни про што берут и раштреливают». Где «у нас», так и не догадался.
Из поддувала золу выскребая, прислушивался, бабке с мамой и невдомёк, что я весь напрягся и ловил каждое слово. Частенько взрослые недооценивают любопытство и способность их несмышлёных детишек многое улавливать из разговоров взрослых и понимать сказанное верно.
— Вздор всё это, — резко и громко ответила тогда нахмуренная мама бабке. — Это злостные наветы врагов народа. Так у нас не может быть. У нас справедливая советская власть!
Мама сделала ударение на слова «у нас».
— Што ты, Фёдоровна, баешь — иштинна правда, — защищалась Герасимовна.
А я подумал: «Во глупая старуха. Наслушалась в очередях всяких сплетен и несёт околесицу. И не понимает того, что сплетни выдумывают и распространяют в очередях переодетые шпионы. Чтобы боевой дух советского народа подорвать. Но не на тех нарвались!» И я полностью согласился с мамой, которая демонстративно повернулась спиной к бабке, не желая продолжать вздорный разговор.
Позднее, когда воедино собралось виденное и слышанное: грузовик трупов, ночной увод бывшего царского офицера Богацевича, «командировка» отца, исчезновение Феди Грязина и Юрицы, нашептывания Герасимовны, — всё это требовало ответа на вопрос «как так? почему?». Но спросить было не у кого. Да и кто стал бы меня, пацана, слушать? Да ещё и растолковывать.
Но на том загадочная Федина история не закончилась.
Летом свободские ребята зачастили на улицу Коммуны, в медицинский институт, эвакуированный в Челябинск во время войны из Харькова. Приклеившись носами к стёклам окон первого этажа, одноэтажной пристройки на задах института, мы заворожённо наблюдали за всем происходившим в анатомичке. Там, в просторных залах, в ваннах, наполненных раствором бурого цвета, лежали страшные, чёрные покойники, с которыми отважно общались бесшабашные студенты в белых халатах, клеёнчатых фартуках, резиновых перчатках, деловито раскладывая трупы на узких оцинкованных столах. Они расшнуровывали вспоротые животы, что-то отрезали у трупов, отпиливали ножовками конечности, — ужасное, захватывающее зрелище!
Время от времени нас отгонял от окон обросший дикой щетиной прозектор в клеёнчатом фартуке до пят, но мы тут же опять возвращались и приникали к стёклам.
Однажды мы наблюдали действо, от которого мне стало дурно и чуть не стошнило: за какие-нибудь полчаса энергичный прозектор разделал только что привезённую мёртвую, лет восемнадцати, девушку с коротко, «под нулёвку», стриженой головой. Но это была именно девушка или молодая женщина, уж кто есть кто мы вполне могли отличить. От всех других трупов, на которых тренировались студенты, тело её отличалось белизной. Она внешне ничем не отличалась от живых людей, от всех нас. И вот через несколько десятков минут от неё не осталось ничего. Голову, отделённую от туловища, положили в какую-то большую банку с прозрачной жидкостью и унесли. Жуть! Однако я перемог своё предобморочное состояние и лишь гадал, откуда привезли эту девушку. Видимо, из больницы. Родственников не оказалось, вот и забрали в анатомичку. Страшная судьба!
Меня буквально потрясла простая догадка: неужели и со мной вот так обойдутся, если умру? Но я тут же отринул эту невероятную мысль: нет, мама не отдаст меня прозектору с зажатой в резиновой перчатке никелированной ножовкой.
И всё же во мне клокотали негодование и протест: как так можно — распилить мёртвого человека на части и разнести по разным углам? И нет человека! Совсем! С этим я никак не мог смириться. Скончался или скончалась — должна лежать в своей могиле. Хотя и в ней не курорт — черви съедят. Бр-р!
Какое-то время я всячески избегал подобных зрелищ, но, чтобы ребята не заподозрили во мне слабака, снова стал наведываться на задворки мединститута: жуть происходившего в анатомичке отвращала и притягивала одновременно.
Не знаю, кто первым из нас приметил прислонённую к боковой стене мертвецкой… «мумию». Мумия эта была ничем иным, как усечённым наполовину трупом, без ног, будто мертвец вылезал сквозь пол и застрял. Страшное это было зрелище! Особенно оттого, что кожа с одной половины лица была снята и фиолетово темнели мышцы, окружая жёлтый оскал зубов, которые спереди были выбиты. Или щипцами удалены. Я после этого зрелища не мог уснуть, каялся, что смотрел долго и подробно, и теперь мертвец стоял перед глазами, и открытыми и закрытыми.
Но на следующий день мы со Славкой опять торчали у окна и снова разглядывали «мумию» — она стояла уже в другом месте. Видно, студенты изучали по ней что-то.
А через несколько дней после этого «мумию», полагаю, за ненадобностью вынесли во внутренний, наглухо загороженный дворик, в который мы проникали через хлипкий забор, чтобы занять свои позиции у огромных окон.
Спрыгнув с забора и озираясь, чтобы не изловил прозектор, я подкрадывался к «мумии» возможно ближе и с тошнотной дрожью разглядывал и разглядывал, пытая непосильную для меня тайну смерти… И когда страх накапливался до предела — я стремглав бросался к забору и в мгновение ока взлетал на него. На заборе я чувствовал себя куда увереннее. Потом я тихо, опасаясь уже не мертвеца, а того же прозектора, сползал с забора и нёсся домой.
Раз от разу я стал сознавать, что́ притягивает меня сюда и мучает, — не одно любопытство, а какой-то неуловимый и загадочный намек на сходство «мумии» с кем-то. С кем? Словно бы я запамятовал — где и когда видел в жизни кого-то похожего… Но кого? Смерть, конечно, любого может исказить до неузнаваемости. Я знал об этом. И всё-таки сходство имелось. И однажды меня ударило — это же ОН! Я даже про себя не смел назвать его по имени, а пошёл к ребятам и поведал им о своём невероятном предположении. Мы отправились за Алькой Жмотом, которого раньше с собой не брали. По дороге подготовили, как могли. С моей помощью он вскарабкался на забор и бесшумно соскользнул по ту сторону. Я перелез за ним. Мы по стенке приблизились к «мумии»… Алька замер. Я следил за ним с какой-то двойственной надеждой… А вдруг не ОН?
Всегда чумазое лицо Жмота вытянулось и посветлело от внезапно накатившей бледности. И, прижав к губам свой грязный кулак, Алька просипел:
— Он это… Федя!
Ему можно было поверить: Федя и Юрица корешили. В каримовской хибаре они и водку пили и с девками шухарили.[168]
— Почему его не похоронили, а отдали сюда? — спросил я Альку. — Ведь у него мать есть.
— Нету у него никакой матери. Она в тот день дуба секанула.[169] Узнала, што Федю шмальнули, и серса разорвался.
Вот почему тамбур Грязиных в бараке давно наглухо закрыт. Одно время на дверях была наклеена какая-то бумажка. А сейчас, может быть, и живёт кто-то. Другой.
И ещё мне вспомнилось, как летом сорок первого на крылечке этого тамбура сидел и навзрыд плакал пьяными слезами нестарый мужчина, кудрявый (Федя внешне походил на того рыдавшего), завтра он должен был пойти на призывной пункт. Вероятно, это был Федин отец.
В те июльские дни в нашем и прилегающих к нему дворах почти не осталось никого из мужчин призывного возраста. Кругом всегда ходило много народу и вдруг стало почти пусто. Старики — немного, старухи и ребятня… Женщины на работе.
И ещё я подумал: полуторка с мёрзлыми трупами — не завернула ли она в мединститут, когда я отцепился от неё, миновав перекрёсток Свободы — Карла Маркса? Неужто она и привезла Федю Грязина?
От свободских пацанов слышал, что он (ему исполнилось лет пятнадцать-шестнадцать к моменту исчезновения) охотно делился хлебом и иными крадеными продуктами питания с теми, кто обращался к нему с просьбами помочь. Поэтому его на Свободе «уважали». И вот это «уважение» чем закончилось…
Даже стало жалко его. Того молодого кудрявого парня, каким он запомнился мне. Ему бы ещё жить и жить. Может быть, из него неплохой человек мог получиться. И мать не постиг бы роковой удар — разрыв сердца. Не случись этой трагедии, был бы опорой матери. Как она металась, не получив ни единой весточки от мужа, отца Феди, в первые дни войны отправленного на фронт. Будто предчувствовала надвигающуюся неминуемую беду. Несчастная женщина! И сколько их…
Да что я всё: бы да бы… Жизнь, как мне стало известно, сослагательного наклонения не имеет, и ты принимаешь то, что тебе уготовано, и становишься тем, кем должен стать. Даже замороженным «мотылём». А для полуторки, чтобы отвезти тебя и сбросить в яму, в стране всегда бензин найдётся. И квадратик фанеры, который привяжут к ноге и выведут на нём роковой номер. Перед последним же путешествием вертухай молотом пробьёт тебе череп — с такой гарантией не совершишь побег. И яма — сколько тысяч их выкопано на просторах несчастной России и всего СССР со дня провозглашения нашей могучей державы самой свободной и счастливой в мире — примет тебя в свои вечные объятия, в обещанный коммунистический рай.
1960–1981 годы
Мировой салют
— Фюллер подох! — что есть силы гаркнула в открытую дверь нашей квартиры Герасимовна. — Удавилша, как Юда Шкариотшкай. Тьфу ему на поганую евоную могилу! Шлышь, Егорка, вшех хвашистов ижвели под корень в Берлине ихнем, проклятушшем. Коншилась война! Дождалиша, шлава Богу…
И она быстро зашаркала опорками-развалюхами по коридору, спеша оповестить остальных соседей. А я раньше о долгожданном событии узнал, от самого Левитана, — круглый, с прорванной, из чёрной бумаги, диафрагмой «Рекорд» мы не выключали, чтобы не пропустить важных новостей с фронта. Они все были важными, но эта! Мы её ждали каждое утро, и всё же известие об окончании войны прозвучало будоражаще — неожиданно.
Утром этого светлого, мне показалось, необыкновенно яркого майского дня я поднялся ни свет ни заря, словно заведённый, и братишку растолкал, когда услышал о капитуляции, чтобы и он не проворонил самое-самое важнейшее событие всех лет, начиная с июня сорок первого, когда, играя на полянке под окнами квартиры Богацевичей, впервые донеслось до слуха не очень меня пугавшее слово «война».
…Да неужели в такой день за уроками усидишь дома?! На улицу, быстрее! Ведь наступил день, который я уже давно ждал и представлял важнейшим в моей жизни, как самый-самый. Даже определение не мог подыскать, каким словом назвать этот самый-самый день.
Утро выдалось чудо какое славное, золотисто-голубое и прозрачное, обрамлённое свежей нежной зеленью.
Исполнилась моя самая желанная мечта — ничего я так сильно не жаждал, как Победы и возвращения отца домой. Мне мнилось, что жизнь вокруг изменится сразу, ибо у всех с плеч упадёт многолетняя изнурительно-тяжелая ноша, тягостное бремя, народ возликует и радость никогда не иссякнет. А люди будут жить, постоянно улыбаясь друг другу. Ох и житуха настанет! Как до войны! Или ещё лучше, чем в фильмах «В шесть часов вечера после войны» и «Свинарка и пастух».
Я смутно помнил, как жилось до войны, но верил, что очень хорошо. Мама иногда угощала меня и Славика настоящими шоколадными конфетами «Красный мак». Отец спелые огромные арбузы покупал.
…Соседи уже высыпали во двор. Во всём, в каждом слове и жесте людей чувствовались возбуждённость, торжественность и умиротворённость. И невыговоренная радость. И дружелюбие. Все выглядели совсем иначе, не как позавчера, вчера. И хотелось петь, кричать, прыгать.
«Вот оно, это самое-самое время! Наконец-то наступило!» — окончательно утвердился я.
И подошёл к азартно беседующим соседкам. Меня привлёк табурет с даниловским синим патефоном. Смотри ты, голодали, а не продали, не променяли. На нашем круглом «венском» стуле аккуратной стопой лежали грампластинки. Ясно — будет большой, общесоседский концерт. Даже лучше, чем те, что устраивал у себя закройщик Сурат. А вот и Толян ещё пластинки прёт. Прижал к животу, кричит мне:
— Подмогни, чего пялишься!
Да я с удовольствием! Раз, два, три, четыре… Все знакомы, наизусть знаю — неоднократно у Скуратов слышал. Вот любимая: «Спят курганы тёмные». Марк Бернес поёт. Здорово! Никто лучше него не умеет петь, особенно песенку из фильма «Истребители»: «Любимый город может спать спокойной, и видеть сны, и зеленеть среди весны…» — вот и настали первые минуты, когда все наши города, все мы можем спать спокойно. Хоть сколько. Даже целыми днями.
— А ты ить помнишь, Татиана, кады война-те нашалашь? Я ить баила: ох, больша беда грядёт! А Ванька-то, мужик твой, эдак ответил:
— Мы его, энтово хвашишта, на гранише раждавим, как шервяка. Шапками шаброшам. А ить как полушилось — пошитай шетыре года ш шервяком отвоевали, ш гнидой. А этта гнида вот какой вшой обернулашь… Школь крови народной выпила.
И бабка растопырила руки.
— Ну что, Герасимовна, поминать прошлое? Кабы один Иван Петрович, а то ить все эдак думали.
— А я жнала. Ишшо по той герьманьшкой. Та тожа школь лет была — народ вешь оголодал и обношилша. Ш голоду в деревнях-те мёрли шемьями. Лебеду ели. Лошадей дохлых… Ох, вшпомнишь, и то тяжко…
— А в нонешнюю разве мало померло народу? — подхватила тётя Таня. — Из бани сколь раз дохляков увозили. Всё больше в халатах ватных, в тибитейках — трудармейцы…
Она понизила голос, но я всё равно расслышал её слова.
— С голоду пухнут, а в халаты зашивают тыщи. Пайки продают свои, всё деньги копят… Куды, спрашиватца, те деньги? Слухи ходили: жанится хотели, кода к себе вернутса. Мало им одной бабы, гурт надо-ть.
— Да, да, — поддакивала бабка. — Вот она, жадношть-те до шего шеловеков доводит… И вшё потому, што не по жаветам гошпода Бога живут.
Ну и бабка, всё зло видит она лишь в неверии, свихнулась прямо-таки на своём Господе Боге.
— Да Бог ш ними, нехриштями, — продолжала бабка. — Ты, Татиана, на Бога уповай — Иван твой и вожвернетша. Да и куды ему детша опошля-те войны? И буде тобе шлёжки лить… В гошпитале мужик твой лежит. Паметь ему, шаю, отшибло бонбой. Да ить ошухаетша ён и придёт домой.
— Знаю, знаю, что придёт, — утирая кончиком головного платка глаза, бормотала тётя Таня, — да ить поскоряя хотца… И в хозяйстве помог бы. Без мужика-то чижело. А от Тольки пользы, как от козла молока, — робёнок ишшо. В школе учитса. И Толькю ишшо подымать надо-ть на ноги… За школу платить. Я-то с каких вшей уплачу? А мужик у меня, Герасимовна, ох и работящий, на все руки, и домовитай! И примусы, и карасинки чинил, и плитки липестрически, и энти, как их… В обчем, всяки жилизяки паял и лудил. Да чево тебе говорить — сама знашь.
И она принялась расхваливать, какой у неё выдающийся мужик. Как приглядел её деревенской сопливой девчонкой босоногой, после кадровой службы в Красной Армии приехал за ней в Катав-Ивановский район, в соседнюю деревню, откуда сам родом, сосватал, «женилси» честь по чести, а посля, када Толькя родилси, им и «фатеру» дали. Когда на ЧТЗ поступил слесарем. А то в «обчем» бараке как «квантираты» жили. Слесарем-ударником на ЧТЗ Иван-от работал, а она дома хозяйничала. И стали они жить-поживать да добро наживать. Патефон купили, справили ей шубу «под котик», боты на красной байковой подкладке и туфли на «хранцуском калбуке». Кровать «никелированну варшавску» с панцирной сеткой приобрели, стол «под дуб» и «кустюм» уже Ивану присмотрели, «тройку», а тут — на тебе! — война…
Ничего, почитай, тётя Таня не распродала, с голоду опухала, однако «вешши», мужниным трудом нажитые, сохранила.
Теперь, ежли Иван вернётся, а вернётся он по её великой вере непременно, то не попрекнет, — всё нажитое на месте в целости-сохранности.
— Да уж што и говорить, икономная ты женшина, Татиана, — расчувствовалась на похвалу бабка, — хожайштвенна…
А тётя Таня млела от бабкиной похвалы и оглядывалась. Ей хотелось, чтобы слова Герасимовны слышали и другие.
Весь разговор, мирный и даже дружественный, я слышал, меняя одну за другой пластинки — шепелявые и с заиканиями — под неотступным присмотром тёти Тани. А пока голосистая Русланова на всю округу горланила «Окрасился месяц багрянцем» или сладкопевец Козин надрывно прощался с цыганским табором и ворковал о Любушке-голубушке, я усердно точил на дяди-Ванином бритвенном оселке патефонные иголки, — работа очень ответственная, её придирчиво принимал Толян, который в честь праздника и по величайшей моей просьбе доверил мне заточку патефонных иголок и сам концерт. И вел себя сегодня очень мирно, ни разу под бок не саданул.
Я ставил на синего цвета суконный круг все пластинки подряд — «Спят курганы тёмные» в исполнении того же Бернеса и нарочито картавое, под малыша-детсадовца, чтение стихотворения «Дело было вечером, делать было нечего» Риной Зелёной, которую я неизменно представлял сухонькой и очень зелёной, похожей на кузнечика старушкой. Дважды прокрутил затёртую частым употреблением пластинку с «Калинкой-малинкой», густо исторгаемую дружным хором имени Пятницкого. Потом звучала весёлая песенка Эдит и Леонида Утёсовых, призывающих жить богато, потому что они уезжают «до дому до хаты». Все эти песни мне несказанно нравились, и слушал я их с откровенным удовольствием, но упоминание Герасимовны о первом дне войны заставило и меня вспомнить тот день.
Первое известие о начале войны, как я уже сказал, меня ничуть не взволновало, ведь и до этого случались войны — финская, с самураями на озере Хасан, и везде мы легко и быстро побеждали. Такое, по крайней мере, у меня сложилось представление. Да с прославленным во многих кинофильмах чудо-оружием, знаменитым пулемётом по имени «Максим», нам никто не страшен — «разгромим и отбросим врага», не дадим ему «гулять по республикам нашим»! Мне даже весело стало, когда седобородый старик Богацевич, отец тёти Лизы, озабоченно и встревоженно объявил соседям о нападении германских фашистов и бомбёжке Киева, а я закричал «ура!».
Старик шикнул на меня и, видя, что я не унимаюсь, радуясь началу настоящей войны, погнался за мной с вичкой.[170] Я понял, что радоваться при нём войне нельзя, и притих, смиренно подошёл к ламповому самодельному радиоприёмнику — умница Брóня своими руками сорудил, — выставленному на полянку под окном Богацевичей. Вокруг приёмника собралось много соседей: тётя Мария с двумя своими малышами, её муж дядя Ваня, сын Герасимовны, красивый весельчак с пушистой шевелюрой, все Богацевичи, Даниловы — угрюмый и молчаливый дядя Ваня, щебетунья тётя Таня и важный — как же, уже школьник — Толька, Васильевы, ещё кто-то и мы, ребятня из всех трёх домов нашего двора, наверное целый десяток.
Все молча слушали повторное выступление Молотова. Это было уже неинтересно. Я сбегал домой, набросил и застегнул лишь на верхнюю пуговицу осеннюю куртку-бурку, натянул на голову байковый лётчицкий шлем, извлёк из-под нашей со Славиком просторной кровати деревянную саблю и устремился на улицу громить врага — с гиканьем, с победными криками «ура!», — на сей раз мне никто этим делом заниматься не мешал. Наоборот, Броня Богацевич, только что закончивший школу и собиравшийся поступать в театральный институт, поощрил:
— Давай, Чапаёнок, воюй! Пойдёшь со мной фашистов бить?
— Пойду! — закричал я.
И набросился на неистребимого врага — крапиву, наступавшую полчищем из-под заборов.
С Броней меня связывала давнишняя дружба. Во мне он нашёл единственного в нашем доме, но постоянного и верного слушателя и созерцателя его репетиций. «Артист» Броня читал мне стихи Пушкина и шекспировские монологи. Я внимал ему с внутренним трепетом, хотя далеко не всё из услышанного понимал. То и дело «артист» задавал мне один и тот же вопрос:
— Ну как? Впечатляет? Волнительно?
И подмигивал.
Никто из знакомых взрослых не относился ко мне столь доброжелательно и заинтересованно, да и к тому же ещё как к равному, — только Броня.
Надо сказать, что меня особенно задевало, когда соседи не желали замечать очевидное: я уже давно не малыш, а почти школьник. Броня едва ли не единственный признал во мне того, кем я себя считал, — взрослого.
Поэтому я, в надежде на встречу с другом, частенько торчал под окном комнаты Богацевичей, которое всё тёплое время года служило им и дверью, — чтобы не беспокоить жильцов проходного зала, семейства Герасимовны, в котором у тёти Марии как раз родился второй ребёнок, да и первенец тоже ещё был малышом.
Наверное, Броня прозвал меня Чапаёнком. И ещё одно прозвище он дал мне: Почтарь. Летними вечерами Броня и взрослые девчонки — сёстры из приземистого барака, стоявшего на задворках, за сараем, и прозванного Броней «баракко Джульетты», — по моему разумению, игрли в почту, обмениваясь записками. Мне выпало почётное поручение — носить туда-сюда письма. И я неустанно перелезал через высокий забор из металлической сетки, передавал сестрицам послания Брони, а их ответы, сопровождаемые улыбками, лукавому моему другу.
С одной из сестёр Броня вечерами встречался в горсаду имени Пушкина, наглаживая перед свиданием наполненным рубинового цвета углями чугунным утюжащем белые брюки, бело-голубую тенниску, украшенную ослепительно-белым воротничком с зашнурованным на груди разрезом, и густо намазывал жижицей из зубного порошка безупречные белые парусиновые «баретки».[171] До чего же красивым и торжественно-весёлым выглядел наш Брóня Богацевич! Я завидовал ему и страстно желал волшебства: стать таким же взрослым и неотразимым, и как можно быстрей, лучше — сейчас же, немедленно! Впрочем, обо всём этом мною написан небольшой рассказ, он посвящен красноармейцу Браниславу Богацевичу и его трагической судьбе.
…Не всегда Броня репетировал один, к нему приходил его одноклассник и тоже «артист» Саша. Крохотная комнатушка Богацевичей не могла вместить столько публики, и «артисты» перебирались в общий коридор, а летом — на полянку.
Коренастый, некрасивый, заикающийся, но гибкий и подвижный Саша показал свой талант на полянке во время репетиции боя Александра Невского с Псом-Рыцарем. Броня, стройный и высокий, блистал воронёной кольчугой, которую ему ночами изготовила из канцелярских скрепок тётя Лиза. Княжеский шлем, сделанный из непонятного мне папье-маше тоже тётей Лизой и обклеенный серебряной, по моим прикидкам — от довоенных шоколадок, фольгой, блистал ослепительно. Широченный и длинный — от земли до пояса — меч, легкий, почти невесомый, мнился мне сказочным в руке Брони — князя Александра. Плащ Пса-Рыцаря, скроенный из старых простыней, с наклеенным на спину крестом из черной фотобумаги, зловеще развевался за плечами «врага». Отвращение вызывал и рогатый шлем — ведёрко с прорезью для глаз. Он был ловок и увёртлив, этот Пес-Рыцарь, и иногда наступал и норовил воткнуть свой округлый короткий меч между лопаток князя, но отважный Броня-Александр увёртывался и отбивал все наскоки. И в конце концов мощным ударом опускал меч на плечо захватчика. Пёс-Рыцарь красиво и долго падал, сражённый «смертельным» ударом. И, поставив ногу в красном дерматиновом чулке-сапоге, тоже сшитым умелицей тётей Лизой, на грудь поверженного крестоносца, Броня-Александр провозглашал знаменитую фразу:
— Кто с мечом к нам придёт, тот от меча и погибнет…
Короче говоря, на костюмированном маскараде в горсаду, куда меня родители не пустили, хотя я долго канючил у мамы разрешения, Борю с Сашей признали лучшими, и они принесли домой главный приз, которому я радовался не меньше, чем «артисты» и тётя Лиза, — вазу, довольно большую, расписанную сочно: толстая, с красным лицом, колхозница держит на руках хорошенького телёночка.
Но вместо театрального института Броня Богацевич чуть ли не двадцать второго июня написал заявление, а на следующий день отнёс его в военкомат и ранней осенью добровольцем ушёл на фронт.
Перед уходом в действующую армию он пригласил меня, и вообще всех дворовых пацанов и девчонок, на концерт с его участием. В ДККА, так сокращённо называли Дом культуры Красной Армии. Актёры драмкружка поставили две или три сцены из «Ромео и Джульетты» Шекспира. Но они выглядели уже не столь интересно, как в бою у барака ЧТУ.
В едва ли наполовину заполненном зале собралась зрители. Это, можно безошибочно предположить, были знакомые и родственники «артистов».
Люстра погасла, и наступил сладкий миг ожидания начала чего-то необыкновенного. Из занавеса необъяснимо появилась молодая, ярко накрашенная, подсвеченная снизу артистка и громким срывающимся голосом объявила, что драмкружковцы перед отправкой их на фронт решили попрощаться со зрителями, сыграв сцены из великой трагедии о любви, которая сильнее самой смерти.
Книги и фильмы про любовь я считал абсолютно неинтересными, но из уважения к Броне остался в зале.
Броню нельзя было не узнать, как, впрочем, и Сашу, несмотря на густой грим, парики и диковинные одежды, в которые их обрядили. Что не напрасно пришёл на спектакль, я понял, когда началась захватывающая сцена дуэли Тибальда с Меркуцио и Ромео. Саша-Меркуцио заикался не столь заметно, произнося слова нараспев и подтверждая их выразительными жестами. В меня занозой воткнулась реплика смертельно раненого друга Брóни-Ромео, не тяжела ли его рана.
— О, нет, — воскликнул Саша-Меркуцио, — она не глубже колодца и не шире церковных дверей…
Восхитительно! Вот это герой! Спектакль мне сильно понравился, особенно сражения на шпагах. Я покидал своё место возбуждённым и жаждущим новых отважных действий. И, возможно, поэтому мне странной показалась фигурка одной из сестричек-соседок из барака, продолжавшей сидеть в третьем или четвертом ряду, когда чудесный спектакль уже закончился. На глазах её блестели слёзы. И это тоже удивило меня — ведь убили они друг друга понарошку! Она не понимает, что ли? Но тут девушка резко встала и быстро направилась к выходу.
Потом были долгие аплодисменты. Исполнители, «убитые и умершие» в том числе, вышли на сцену и кланялись, улыбаясь, счастливые.
Ни Брóни, ни Саши, ни той девушки я никогда больше не видел, если не ошибаюсь. В начале сорок второго года тёте Лизе прислали извещение о том, что её сын, красноармеец Бранислав Богацевич, геройски погиб при освобождении Ясной Поляны и похоронен там же.
Не спасла Брóню маленькая сапёрная лопаточка в чехле, оставшаяся от отца, унтер-офицера царской армии, а после — красного командира, прошедшего германскую и гражданскую войны и сгинувшего бесследно в тридцать седьмом в концлагерях.
Известие о гибели сына тётя Лиза перенесла молча и без слёз на людях. Что удивительно — я ни разу не видел её подавленной или плачущей. И никогда она другим не жаловалась на свою судьбу. И не поминала имени сына своего. А ведь мы знали, что любила она Брóню пуще своей жизни. Хотя и себе знала цену. Она обладала многими талантами — мне это было известно.
После получения похоронки Тётя Лиза перешла жить в комнату-шкаф, а свою уступила Герасимовым. С двумя-то ребятишками им ох как тесно жилось на нескольких квадратных метрах проходной комнаты. Никто её не понуждал. Сама так решила.
Она и сейчас о чём-то размеренно, с достоинством беседует с тётей Аней (Анной Степановной), матерью Эдки и Тамары.
Глядя на них, я, кажется, догадался, какое самое-самое событие произойдёт, вернее, уже происходит, — мир. Все наконец-то живут в полном мире. И Толян вовсе не враг мне… И с этого дня начнётся — уже началась! — другая жизнь — без вражды, зависти, злобы, ругани, краж, обид, драк, обманов… Люди будут любить и уважать друг друга как родные. Ведь врага-то мы победили, нет его, всех поубивали, до единого — из пулемётов, выжгли огнём «Катюш», выкорчевали из бетонных укрытий тонными бомбами, пришпилили к земле жалами штыков.
— Все, все подите сюды, — объявила тётя Таня. — Празнишный обед, за обчим столом будем ись — в чесь Победы!
Я снова поставил «Калинку-малинку» и до отказа накрутил пружину завода.
Как это прозевал, не заметил, когда вытащили даниловский кухонный стол. Чего только сейчас не громоздилось на нём! Варёная картошка, чищеная и в «мундире», — ешь сколько влезет, лук зелёный — бутун, нежная пена укропа, соль, в стаканах налито молоко — тётя Аня расщедрилась. А её дочь Эдда из подойника его черпает и, сосредоточенно нахмурившись, по плошкам, стаканам и кружкам разливает. Со всех сторон к столу подступили жители двора, и лишь Малковых за ним нет. Милочка в малиновом платье с белыми крупными горошинами и с туго сплетёнными косичками как-то озабоченно поглядывает на нас, сидя на крылечке.
— Иди к нам, мила дошь, — каркает бабка. — Не нады-ть нишево, шама подь шуды, угошшайша…
Милочка стесняется, отводит в сторону глаза. Без разрешения матери, догадываюсь, она не смеет вынести из квартиры что-нибудь из съестного. Когда Малкова-старшая готовит еду в своей личной кухоньке, то запирает коридорные двери и задёргивает на окне занавески, никого не впускает к себе, не отвечает на оклик или стук, будто её дома нет. О том, что варится или жариться на примусе, а шум его слышен в коридоре, можно по запаху догадаться. Но не всегда, потому что, как правило, мясные блюда завмаг жарит-парит в большом чугунном, с литыми финтифлюшками, барском камине в жилой комнате. Двери же в кухоньку и в общий коридор плотно закрывает, но, разумеется, хотя Малкова думает, что никто ни о чём не догадывается, соседям известно, какой «диликатеш» (в моём понимании что-то очень вкусное) она жуёт на ужин.
И вот сейчас, когда все, даже тётя Люба Брук, принесла на общий стол невиданное лакомство с непонятным названием «форшмак» и несколько тоненьких кусочков белого хлеба, и даже важно прошествовал её старый муж, человек, которого редко кто видел, какой-то банковский сотрудник. Что это за должность, я ни от кого не слышал. Он почему-то никогда не выходит из дома. И взрослые сыновья их Боря и Шура — вот они, и Нинка Мальцева, задавака и кривляка, красивая, как её кукла с закрывающимися фарфоровыми глазами, заявилась, и её гордая мама с толстой косой до колен, конферансье городской филармонии, и тётя Мария с большеголовыми Валеркой и Колькой, и моя мама, и Стасик с нею, и остальные жители нашего двора, — одна тётя Даша Малкова не снизошла до нас, отправившись к своей сестре, живущей неподалёку, в соседнем дворе, а Мила всё-таки приблизилась к столу, присела на травку рядом с табуретом, подобрала ноги под платьице. Мне от её близкого присутствия ещё отраднее стало. Словно она ко мне в гости пожаловала, одарила. И только я вознамерился заговорить с Милой, как раздался скрипучий голос Герасимовны:
— Добры люди, — обратилась она ко всем собравшимся, — люди добрыя. Бох даровал нам победу над ижвергами-хвашиштами проклятыми и укупантами. Это милошть великая Божия. Давайте и мы помолимша Отшу, Шину и Швятому Духу, аминь…
И она быстро закрестилась, словно боялась, что её остановят. Вместе с ней и тётя Таня, и сестра её, мать Эдки и Тамары, тоже, но как бы стесняясь, втихаря, трижды мелко черканула свои животы, а больше никто не пожелал. Тётя Лиза даже как-то с насмешечкой посматривала на эту сценку, а когда Герасимовна в пояс всем поклонилась и полезла целоваться, тётя Лиза громко произнесла:
— Не знаю, какую помощь нам бог оказал, но уверена, что фашистскую Германию одолел наш советский народ и его могучая Красная Армия. Так давайте помянем тех, кто погиб в этой борьбе и кто выстоял и победил!
Я уже воздуха полные лёгкие набрал, чтобы «ура!» возопить, но никто и рта не разинул — все молчали. А бабка обнимала всех по очереди, чмокала и приговаривала:
— Мы вше, братия и шёштры, во Хриште… Гошподь шкажал: «Любите других, аки шебя, и полушите шартшвие небешное…» Прошти меня, Татиана, прошти меня, Лижавета, прошти меня, Егорка…
А я-то почему и в чём её должен простить? Она ни в чём передо мной не провинилась. Разве что иногда с крыши сгоняла. Вот я — другое дело. Но смолчал, не стал спорить со старухой, она же перецеловала всех, воодушевилась и продолжила:
— Женшины, ежели б вы видали, школь народу шёдни в шерковь пришло, — тьма… Тама молебны служили о победе. И я шподобилашь, швешку поштавила… Проштите меня вше жа грехи мои тяжкия.
«Ну, заладила бабка. Нет, это, конечно, не самое-самое», — решил я.
Пир был в разгаре, и бабку почти никто не слушал. Сменив иглу, я включил утёсовскую пластинку, и тонкий стальной прут голоса Эдит пронзил уши: «Живите богато, а мы уезжаем до дома до хаты…»
Пока я крутил горячую ручку патефона, на столе уже почти ничего не осталось, но тут тётя Люба мне чайную ложечку форшмака под нос сунула. Я поблагодарил и слизнул с ложки содержимое. Вкуснотища-то какая! Чудо, когда люди любят друг друга! И я опять увидел Милу, она сидел в той же позе, боком и опершись правой рукой о землю, а в левой держала надкушенный синеватый клубень картошки. Видимо, она не хотела его есть, но и выбросить не решалась. Разумеется, у них кое-что повкуснее имеется, чем картошка в «мундире», тётя Даша не какой-то там токарь, а завмаг! Да ещё военторговского магазина. И мне подумалось: почему тётя Даша никогда ни на кого не посмотрела добрым взглядом, а всегда с каким-то превосходством и недоброжелательством? Почему? Чего ей ещё не хватает? Кому завидует? Я был бессилен ответить на свой вопрос, потому что вовсе не знал тётю Дашу, хотя и виделся с ней почти каждый день.
Вот Милочка — другой человек. У неё всегда найдётся приветливая улыбка и хорошее доброе слово. И книжек своих она для меня не жалеет. На прочтение дает — доверяет. И вообще, душевная девочка. И если уж всю правду говорить, я с ней даже в куклы играл. Не так давно. Разумеется, я в этом никому не признаюсь никогда, но что было, то было. И я не раскаиваюсь. Ей захотелось поиграть, и я уступил. Хотя это не мужское дело — в куклы играть. Просто приятно было с ней вдвоём. И если ей не с кем развлечься, подружек у неё закадычных нет, как у меня, например, друзей. Может, ей мать не позволяет к себе подруг приглашать. Или некогда ей. Милочка вечно чем-то занята: уроки готовит тщательно и долго, не то что я, раз, раз — и готово. По дому: и стирает она, и убирает, и печь топит, и полы моет. Тётя Даша половую тряпку в руки не берёт. Из гордости, наверное, что завмаг. Шишка! Ну да ладно, чего я завёлся, ведь сегодня нельзя друг о друге плохо думать. Сегодня и навсегда мы — братья и сёстры!
Только я подумал — звякнула щеколда калитки, и на дорожке, ведущей к нашему дому, показались тётя Даша со своей сестрой тётей Аней. Лёгкая на помине.
Сам не знаю, откуда у меня смелость взялась, — я бросился им навстречу и, улыбаясь, потому что во мне все ликовало, пригласил:
— Идите к нам, будьте родными. Мы сегодня все как братья и сёстры! Великую празднуем победу!
Тётя Даша остановилась первой, широкие и густые брови её удивлённо поднялись.
— С чего это ты вдруг взял, что все мы родные братья и сёстры? Бред какой-то…
Улыбка, только другая, отнюдь не дружественная, скривила её тонкие губы в яркой помаде.
— У тебя брат — Стасик, у меня сестра — вот она, Анна Александровна. И мы тебе никакие не родственники…
Отчитывала она меня с улыбкой, какой-то недоброй, насмешливой.
Я это почувствовал и отступил в сторону, освободил дорожку, ведущую к «парадному» крыльцу нашего дома.
— Пошли, чего всякие глупости слушать? — запинаясь, выговорила тётя Аня, она же почему-то тётя Нюра, и я заметил, что женщина изрядно пьяна. Поэтому и язык заплетается. Раньше с ней мне как-то не приходилось заговаривать.
Отповедь Малковой подействовала на меня вроде ковша холодной воды за шиворот. Я ещё подальше отступил с дорожки. Сёстры прошествовали мимо стола, сухо поздоровались. Но Герасимовна принялась их приглашать и кланяться, и картошиной последней потчевать. Тётя Даша брезгливо подарок отстранила ладонью, а тётя Аня приняла.
И в этот миг произошло совершенно непредвиденное, неожиданное и необыкновенное: на крыльцо вышел, блистая фольгой шлема, в переливчатой кольчуге, в алом княжеском плаще с большой красивой пряжкой на груди, в тех же красных дерматиновых сапожках — князь Александр Невский. В руках его тускло поблескивал большой и широкий меч. Переносицу и нос князя закрывала выступающая вниз наподобие наконечника стрелы часть шлема.
На меня это явление произвело невероятно сильное впечатление. Мелькнула фантастическая мысль: «Брóня! Он не убит в Ясной Поляне! Жив! Приехал сейчас на наш Великий Праздник!»
Я закричал во всё горло от распиравшего меня восторга: Броня! Ур-ра! Ты живой! Но тут же осёкся, поняв, что это не Броня.
А «князь», легко сбежав по ступенькам крылечка и размахивая мечом, закружился в танце. И не под музыку, исторгавшуюся патефоном, а какую-то другую, неслышимую нами, — музыку Победы!
Это танцевала тётя Лиза! В честь сына.
Кто бы из нас, ошарашенных этим фантастическим явлением, мог подумать, что тётя Лиза сохранила маскарадный костюм сына и сейчас как бы представила Бро́ню всем нам — вот он! Таким был, таким и остался. Он — жив!
Танцевала она, мне показалось, очень долго, то удаляясь по дорожке, не засаженной картошкой и другими овощами, то приближаясь к нам.
Патефон давно замолчал, а она продолжала танцевать, очень красиво, в такт какой-то лишь ей известной, ею слышимой мелодии.
Первым не выдержал я и захлопал в ладоши. За мною подхватили остальные, и овации длились, пока мама Брони, в молодости, наверное, прекрасная танцовщица, сняв шлем, всем нам не поклонилась. Волосы, густые, чёрные, справа рассеклись белоснежной прядью, это было заметно даже издалека. А я продолжал хлопать, не в силах остановить себя.
Наконец к тёте Лизе, лицо которой покрылось капельками пота, подбежала, запинаясь, тётя Нюра и стала целовать её. У неё тоже было мокрое лицо — от слёз. Хотя на фронте у неё никого не значилось, она вроде бы слыла одинокой.
Мне почему-то вспомнилась тётя Мария в сорок первом, тогда ещё совсем молодая, и особенно её муж, они держали своего грудного сына, упакованного в одеяльце. Ивана Герасимова я узрел впервые в ладной военной форме. Я его и раньше видел, но в штатском. Запомнил в тот жаркий июньский день сорок первого и отца Феди Грязина — врезался мне в память навсегда. Он, молодой и кудрявый, пьянущий, сидел в соседнем дворе на приступке порога своего барачного жилища в одну комнату и горестно рыдал… Вот это меня и поразило — рыдающий мужчина. А Федя где-то отсутствовал, может быть, у родных или знакомых гостевал.
Вскоре, через какие-то считанные дни, возможно первой в соседях, мать Феди, ещё нестарая женщина, получила похоронку. Она долго выла, выйдя во двор дома номер двадцать восемь, — отчаянные вопли были слышны и в нашем дворе. Эта молодая тётенька стала первой, увиденной мной, кого жестоко полоснуло по горлу горе войны. Мне было очень жаль мать сгинувшего в преступной мышеловке Феди Грязина, несчастную женщину, потерявшую и мужа — на фронте, и сына. Я никак не мог убедить себя, что тот исходящий смертельным горем жизнерадостный — таким я его мысленно видел — с вьющимися, слипшимися колечками чёрными волосами дяденька тоже убит, растерзан, только на фронте, и его уже больше нет, и он остался лишь в моей и других людей памяти, так же, как и мама его, умершая от горя из-за преступления своего сына, которого растила, любила, надеялась — никого! Их нет никого!
Тётя Аня, не дожевав картофелину, вынула из кошёлки большую бутыль, на три четверти наполненную какой-то мутной жидкостью, и принялась угощать ею всех — бабку Герасимовну, тётю Марию, тётю Таню и других. Правда, многие от питья отказались. Бабка же стаканчик опрокинула, чмокнула его донышко, топнула и ещё подставила. Тётя Даша почему-то тоже не пожелала испить из бутыли. Ушла к себе и Милочку увела.
Бабка, опустошив и второй стакан, хрястнула им оземь и, с воплем сдвинув выцветший платок с седых волос на плечи, пустилась в лихой пляс, раскинув широко руки. Она топала опорками, кружилась, разинув беззубый рот в блаженной гримасе и выкрикивала:
— Их, их, их…
Ай да Герасимовна! И где она научилась такие коленца выкидывать!
Я спешно нашёл диск с «Брызгами шампанского», безумно весёлым танго, но бабка плясала под какую-то свою музыку, да ещё и частушками сыпала:
И на иной мотив:
Тётя Таня, подбоченясь, присоединилась к бабке, заголосила тонко:
Бабку стало заметно заносить, когда я поставил «Кукарачу», — быстро же старушка выдохлась. Зато тётя Таня, а после и сестрица её, плавно и неутомимо кружились по кругу, помахивая воображаемыми платочками.
Залюбуешься, как они величественно танцевали. Я лишь успевал пластинки ставить да переворачивать. Уже и стремительную «Рио-Риту» проиграл, и очаровательную «Китайскую серенаду», и ласковые «Неаполитанские ночи», а неутомимые сёстры всё танцевали на не очень широком пространстве, ограниченном картофельными грядами. Наверное, они ещё очень долго показывали бы своё танцевальное искусство, но непонятно откуда возникла Эдка в платьице из накрахмаленной марли и в белых носочках. Волнистые, после расплёта косичек, белокурые волосы её распущены на плечи и спину, а на голове, бликуя новогодней мишурой, блестело что-то вроде картонной короны.
Тётя Аня заметила дочь, мою одногодку, и их танец прервался. Эдка шепнула что-то Коляну, и тот объявил:
— Танец «Вальс цветов». Исполняет Эдда Васильева.
Эдка передала ему свою грампластинку, и Колян, отстранив меня бесцеремонно, сам возложил её на суконку, подув предварительно, чтобы пылинки не остались. Он и ручку накрутил. Немного обиженный, я отошёл от табурета с патефоном и опустился на травку, на то место, где недавно сидела Мила.
Эдка, вытянув вперёд тощие руки, короткими перебежками семенила туда-сюда, после растопырила и стала медленно поднимать и опускать их, будто собиралась взлететь и одновременно мелко перебирала стопами, как маленькие дети, когда захотят пи-пи. Ну как тут было не рассмеяться! Я прыснул в ладони смехом, столь нелепым выглядели Эдкины движения и позы. Случайно увидел слева розовое пятно, оглянулся… Мила стояла в своей кухоньке и через раскрытое окно внимательно наблюдала, грызя свой ноготок, за танцующей Эдкой. Ей, наверное, очень хотелось оказаться на месте Васильевой — такое печальное у Милочки было лицо.
Не осмеливаясь пригласить её, я подошёл к тёте Тане, но раздумал к ней обращаться, а тронул тётю Аню за полную руку.
— Чево тебе, Егорка?
— Пусть Мила к нам идёт. Потанцует, — сказал я тихо.
Но тётя Таня услышала мою просьбу и повернула ко мне своё по-прежнему отчуждённое недоброе лицо.
— Не могёт она — беркулёз у её.
— Нет, — выпалил я, обескураженный.
Я знал, что от туберкулёза люди умирают. Дядя Ися Фридман приполз из тюрьмы с такой же болезнью. У него даже одно лёгкое там вырезали. Потому он такой кривобокий. А я и мысли допустить не мог, что подобное, страшное угрожает Миле.
— И отец иёный — беркулёзник. Потому Дарья Ликсандровна и разошлася с им, — жестоко и охотно сообщила Данилова о том, что всячески скрывали от окружающих тётя Даша и Мила. А тётя Таня вроде бы даже обрадовалась, рассказав о губительной милочкиной хвори.
«У Милы — туберкулёз? Да правда ли это? Несчастная Милочка! Вот почему она такая бледная и немощная… и на Миасс никогда не ходит купаться», — сетовал я про себя.
Беспощадное откровение тёти Тани меня оглушило, и я не хотел ему верить, а жаждал, чтобы Мила стала — обязательно! — здорова, чтобы никакие заразы не терзали её. Тем более в такой Праздник.
Я оглянулся в сторону дома, но в малковской кухоньке уже никого не увидел. Праздник… Он сразу померк, и мне стал неинтересен патефон и кипа пластинок, к которым только что испытывал неутолимое тяготение.
Наплясавшись вдосталь, Герасимовна уже плакала в широкий подол своего лоскутного сарафана, наверное по сыну Ивану.
— За грехи ево великая Бох наказал, за то, что ён энкавэдэшником штал и Богашевича шгубил в турме, — продолжала рыдать безутешно бабка. Разумеется, я ничего не понял — смысл произнесённых несчастной старухой слов дошёл до меня далеко не сразу.
Её успокаивали моя мама и тётя Мария. И это событие ещё добавило печали в так славно и светло начавшийся праздник.
А у меня кто погиб на войне? Неизвестно. Я даже родственников своих не знаю, ни маминых, ни отцовых. Кроме тёти Лизы, её родной сестры, живущей тоже на Урале, в далёком Кунгуре. По какой-то причине мама не рассказывает мне о себе, о своих родителях, о детстве своём, лишь упомянула как-то о бедствиях и голоде, которые терпела, учась в институте. Чуть не забыл — в Заречье, на берегу Миасса, в своём домишке, коротает одинокие дни отцова тётка. Славная старуха тётя Поля Ковязина. Сын её не попал на фронт. В больнице для умалишённых — бесконечно повторяет — за то, что сатирические куплеты сочинял и распевал, от голода умер в сорок третьем, о чём она и по сей день горюет и охает, постанывая, что убили его за те куплеты. Когда изредка приходит к нам в гости, то без конца говорит: убили, убили сыночка. Несчастная! Как много кругом несчастных людей! Почему? Наверное, во всём война виновата.
А ведь и у меня есть знакомый человек, которого убили фашисты. Как же это я о ней сразу не вспомнил?
Эту молодую учительницу-практикантку привела в конце сорок третьего в наш класс старая, ещё с дореволюционных времён, директриса школы Прасковья Ивановна, одетая по такому торжественному случаю в свой лучший костюм и с орденом Трудового Красного Знамени — большая редкость в то время — на лацкане жакета. Она представила нам новую «учителку».
Невысокого роста, круглолицая, с синими смешливыми глазами и певучим голосом, «учителка» нам понравилась, мне — в особенности. Не помню, чтобы она кого-нибудь из нас наказала несправедливо. Или сверх меры. Но недолго Нина Петровна занималась с нами. Месяца через три всех четверых практиканток мы на торжественной школьной линейке проводили на фронт — добровольцами. И вскоре в том же зале, на стене, я прочёл в школьном боевом листке, что «Нина Петровна Коваль[172] пала смертью храбрых в неравном бою с врагами». Это известие выбило меня из привычного весёлого состояния. И я, преодолев робость, а может и страх, пошёл в учительскую, чтобы узнать от кого-нибудь подробности гибели Нины Петровны. Не верилось в написанное, хотя в углу боевого листка была наклеена фотография, вероятно из её личного дела, несомненно, изображавшая нашу уважаемую «учителку». Далеко не всякая преподавательница удостаивалась чести стать уважаемой пацанами (девочки и мальчики тогда учились в раздельных школах).
Строгая — её все боялись — Прасковья Ивановна вышла из своей квартиры, соединённой дверью с учительской, и, вникнув в мои вопросы, подтвердила: да, девушка погибла в партизанском отряде, куда была заброшена с рацией. Подробностей директриса не знала. Я их тут же, выйдя из учительской, воссоздал: аэроплан, парашют, лес, бородатые партизаны, Нина Петровна в белом полушубке и в ушанке, с рацией за плечами, фрицы в жабьего цвета шинелях и весёлый её голос: «За Родину! Ура! Ур-ра!» — подхватили оставшиеся в живых народные мстители — первый и последний её бой. Героический!
Коваль долго не забывалась. Её образ и воссозданную картину боя не смогли стереть ни фильмы, ни повседневные бытовые впечатления.
Сейчас я о Нине Петровне вспомнил и пожаловался оказавшейся в одиночестве бабке — мне требовалось её сочувствие.
— У нас учителку фашисты убили. В партизанском отряде.
— Вешная ей памить, — откликнулась тут же бабка, уже вдоволь наплакавшись и смиренная. — Не жабывай её никоды…
И перекрестилась.
— Героев не забывают, — уверенно ответил я.
— Молода ушительниша-те была?
— Наверно, семнадцать или восемнадцать. Из техникума. И к нам, в третью школу. Дуне из тридцатого сколько? Столько и Нине Петровне было.
— И-и, не ведаешь, што мелишь. Да ить Дунька ша Штюркой шовшем не девшонки, не шмотри, што ш ребёнками оне… Робёнков им шалдаты жделали на хронте. Жато шами бабы ушелели. Живёхоньки.
Две молоденькие квартирантки, их почему-то соседки называли «мамочками», поселились, вернее, их подселили прошлой зимой к одной малодетной семье в дом, где этажом ниже жил Юрка Бобылёв. Я впервые увидел их, когда на дворе уже установилось тепло, — они нянчились со своими грудными несмышлёнышами на терраске.
Конечно, я не обратил бы особого внимания на юных мамаш, если б не их частые громогласные раздоры из-за пелёнок, подгоревшей каши, молочной смеси и ещё из-за чего-то, ерунды какой-то. Но главное — одеты они были в одинаковые ладно пригнанные гимнастёрки и защитного же цвета юбки, обуты в сапожки. И осиные талии их стягивали кожаные ремни с латунными пряжками. Поначалу я принял их за родных сестёр. Ан нет. Дуня оказалась голосистой украинкой, в Стюра — русской. Дуня часто пела своему малышу колыбельную и разные другие песни. Я их охотно слушал внизу, под терраской. Из всех песен мне больше всего по душе пришлась «Реве та стогне Днипр широкий» и «На позицию девушка провожала бойца». А Стюра, к моему недоумению, никогда не пела своей крохе-крикунье, а только сильно трясла её, поворачивая то вправо, то влево, словно гимнастические упражнения выполняла.
— Ежли б робят им шолдаты не шделали, они бы где-мабудь в могилке обшей лежали… — простодушно поведала бабка, и я её совершенно не понял. Но уточнять не решился, чувствуя в самом вопросе что-то нескромное, не детское. Припомнился мне недавний случай: Толька Мироедов, поганец, дразнил Дуню, громко распевая песню, очень нравившуюся мне, — «Огонёк». Но слова кто-то, может сам Мироед, исковеркал, испохабил, и получилась не душевная песня, а насмешка.
Толька, придурковато кривляясь, гнусавил из-под терраски:
Дуся не осталась в долгу и прошлась в адрес Мироеда крепкими словечками, отнюдь не из детсадовского лексикона. А после ещё и кипятком в Тольку шарахнула, да промахнулась.
Толька же, драпанув на безопасное расстояние, вовсе обнаглел: скинул штаны и повернулся к терраске оголёнными ягодицами.
— Видала? Пэпэжэ!
Задирать, заводить и обзывать других Толька очень любит. Особенно тех, кто не может дать ему сдачи.
— Я тебе покажу пэпэжэ! — разъярилась появившаяся на терраске Стюра. — Язык вырву и в жопу вставлю.
Я подбежал к забору, взлетел на него.
— Ты чего фронтовичек доводишь? Получишь сейчас по своей вонючей пэпэже пендаля, — подхватил я новенькое словечко.
Толька нарочито расхохотался, наставив на меня указательный палец. Эту дерзость я понял как вызов и перемахнул через заплот.
— Чего ты тянешь? — струхнул, видать, Толька, ведь рядом с ним никого из корешей не было, а биться один на один — не в его правилах. Если, тем более, перед ним не малыш.
— Ты знаешь, што такое пэпэжэ?
Я не знал, но догадывался: задница.
— Это же походно-полевая жена. Пожиже развести — на всю роту хватит. Или на полк. Их так сами фронтовики называют… — Мироед ткнул пальцем в сторону терраски.
— Не ври, — не поверил я. — Сам, небось, придумал гадость, а на фронтовиков спираешь… Вали отсюда!
— А ты чего в чужом дворе залупаешься? — вяньгал Толька, отступая к своему забору. — Подожди, брательник из кичмана[173] выскочит — зарежет…
Лишь хвастается и запугивает своим братом-тюремщиком, а сам слюнтяй и бздила, как говорят о таких трепачах пацаны.
В общем, на этом наша стычка и закончилась тогда.
Закончился и победный пир. Толян Данилов успел унести к себе свои вещи и мебель.
…Пьяненькая и несчастная бабка, неуверенно ступая по земле, поплелась к себе домой, да и остальные незаметно разошлись.
Я тоже было загрустил — в ушах звучал «Весенний вальс» — я им не мог наслушаться. Хотя и ставил раз пять, не менее.
Меня словно током дёрнуло: в школу пора — ведь среда сегодня.
Я бегу, напевая «Васю Крючкина», по знакомым, тысячу раз преодолённым тротуаром, сколько раз разбивал на них ногти пальцев ног о расколотые кирпичи. Взрослые прохожие поздравляют друг друга, пожимают руки, обнимаются. У меня от их объятий настроение поднимается, — кажется, ещё чуть-чуть скорости прибавить — взлечу.
На двухэтажном здании трамвайного треста уже колышутся алые флаги.
Полыхает кумачом и улица Кирова — город спешно наряжается — и для него наступил невиданный и неслыханный долгожданный, очень жданный праздник.
Грохочет, аукаясь, развесёлая музыка из громкоговорителей, установленных на высоких столбах и на крыше табачной фабрики.
Будто и впрямь новое время началось. А если так, то и события должны происходить иные, такие, каких в войну и загадывать не додумаешься. И я настроился на эти грядущие события.
В школе царило столпотворение. Наш класс поздравила Нина Ивановна Абрамова,[174] географичка. Она плакала, не стыдясь нас, и комкала в сухоньком кулачке кружевной, ещё, наверное, дореволюционный платочек.
Но это было ещё не то, я чувствовал — не то.
Неожиданно раздался резкий и продолжительный коридорный звонок, и мы высыпали, оглушительно галдя, из классов. Во двор, где состоится митинг! Там уже металась, распоряжаясь, какому классу куда вставать, завуч, вся в коричневом и с кружевным жабо, приколотым к плоской, как классная доска, груди. Гвалт ребячьих голосов стоял невообразимый, даже галки с высоченной каланчи полуразрушенной мечети встревоженно снялись и кружили над кишащим школьным двором.
Завуч вынесла настенный портрет Сталина и установила его на столе, прислонив к водруженной на стол же табуретке. Шум пошёл на убыль.
А когда директор школы историк Михаил Григорьевич Александрович поднял вверх вытянутую руку, гомон прекратился. Говорил директор красиво, складно, громко — всем было слышно.
— Победа над фашисткой Германией и её приспешниками была бы немыслима, — декламировал Александрович, — если бы во главе братских народов и непобедимой Красной Армии не стоял великий вождь и полководец всех времён и народов, наш мудрый учитель и отец, вдохновитель и организатор всех наших побед родной Иосиф Виссарионович Сталин…
Галки, усевшиеся было на минарет, куда много лет не ступала нога муллы, а только наши, испуганно взмыли ввысь от дикого ора — глоток мы не жалели. И кричали долго, в свое удовольствие.
Занятия в этот день, естественно, отменили. И всё же ни митинг и ни свобода от уроков должны были стать главным событием дня, этого особого дня всей моей, и всех других, жизней. А что же тогда? Может быть, всё-таки сообщение Левитана о капитуляции разбитой вдребезги Германии?
— Что дальше будет, как вы думаете? — спросил я друзей, когда мы собрались в штабе.
— Карточки отменят, — заявил Юрка уверенно. — Или пайку прибавят.
— Слыхали? Салют готовят, — поделился новостью Гарёшка. — На складе разнюхал… Где Сонька Каримова за хлеб солдатам даёт.
— Она им не там даёт — там запретная зона. А дома. За пайку хлеба. С каждого солдата. Дома Альку с Надькой выгоняет и даёт, — поправил Игорёшку я. — У неё туберкулёз, ей досыта надо есть. Вот она и даёт. И Надьку подкармливает.
Что конкретно Сонька солдатам «даёт», я, честно признаться, не представлял.
— Ладно. Не в этом дело. Мы должны увидеть Салют Победы. Это же Мировой салют, — заключил речь Игорь. — Второго такого в жизни не будет.
Салюты мы знали по сводкам Совинформбюро, кинохронике, слышали залпы «из ста двадцати четырёх орудий» по радио, но никто из нас этого чуда своими глазами не видел.
— Бежим на склад, — предложил я. — Или у Соньки спросим.
Нам были хорошо известны воинские склады во дворе последнего, углового, дома нашего квартала, одной стороной выходившего на улицу Труда. Каменное складское помещение, огороженное плотно сбитым забором с колючей проволокой на верху его, круглосуточно охранялось часовым с винтовкой. Поэтому склад давно привлёк наше внимание.
С крыш ближайших построек мы наблюдали, как солдаты заполняют ящиками крытые автомашины, и догадывались, что это за грузы. А когда мы примелькались кладовщикам и охранникам, нам, бывало, разрешали собирать с земли возле складов обломки «макарон» — порох в виде трубочек толщиной с карандаш. И мы на Острове-саде делали из них разноцветные ракеты, шнырявшие с шипением по земле. Однако нам никак не удавалось запустить хотя бы одну в воздух.
О складе боеприпасов мы никому из посторонних не рассказывали, как и о мастерских напротив здания школы, где собирали «Катюши». Их обычно выпускали из ворот затемно, закрытыми брезентовыми чехлами. «Катюши» тоже были нашим ребячьим крепким секретом.
К складу мы сейчас и устремились, прихватив с собой Стасика, который последнее время больше времени проводил со своими школьными друзьями-одногодками.
Не сразу удалось нам уговорить подвыпившего старшину, чтобы позволил собрать обломки пороха.
Свой салют мы устроили на острове — подбрасывали как можно выше разного цвета огнём горевшие обломки «макаронин» и орали «ура!». И этот фейерверк воскресил в памяти моей давнее посещение ёлки у отца в конторе, ещё до секретной командировки в тридцать седьмом году, и загипнотизировавшие меня ослепительные бенгальские огни. И опять мысли мои обратились к отцу. Я порадовался, что скоро-скоро увижу его.
Но вот весь порох сгорел, восторги наши иссякли, усталость мягко обнимала за плечи, тянула домой. И я подумал: «Грядущий салют наверняка то самое ожидаемое грандиозное и ни с чем не сравнимое — послепобедное, что нельзя пропускать».
— Бежим на салют зырить. Забыл, что ли? Пацаны уже состаились, — позвал я с собой Стасика, и мы рванули гурьбой по Свободе, расцвеченной флагами, свисавшими с домов и ворот. Перевести дух я остановился лишь на улице Кирова.
Ватага наша проследовала дальше, к площади Революции, а я задержался возле центрального универмага. Остановила меня мелодия, густо хлынувшая из раструба мощного громкоговорителя, висевшего высоко на фонарном столбе напротив трёхметровой фигуры улыбающегося, с поднятой в приветствии рукой, Кирова на угловом выступе почтамтовской террасы.
Свежая, нежная зелень сквера и яркая голубизна чистого неба, казалось, источали ту музыку, что пронзала меня. «С берёз, неслышен, невесом, слетает жёлтый лист… Сидят и слушают бойцы, товарищи мои… Под этот вальс весенним днём… в краю родном любили мы подруг… Под этот вальс грустили мы, когда подруги нет…»
Не раз слышал я эту песню и раньше, но сейчас она заполнила меня, трепетала и вибрировала каждым звуком. В воображении я увидел себя среди бывалых солдат, моих боевых товарищей, на привале, у лесной опушки. И сам я, усталый, со скаткой за плечами, с винтовкой, снайперской, разумеется с оптическим прицелом, зажатой меж колен, кручу цыгарку и улыбаюсь: войне конец! отвоевались! Теперь все тяготы походов позади. Больше не разорвётся ни один снаряд, не бахнет ни одна бомба, не треснет ни один выстрел… Хорошо! Прекрасно!
В тот миг, когда я произнёс про себя «ни один выстрел», бухнул первый залп. Я повернул голову направо и увидел в слегка вечереющем небе, невысоко, жёлто-красно-зелёный с белыми огнями рассыпающийся букет с серыми дымовыми стеблями.
Моментально стряхнув с себя мечтательное оцепенение, рванул вслед за ребятами, но не настиг и не сразу разыскал их в густой шумной толпе, затопившей обширную площадь.
Солдаты, хорошо подвыпив, палили из ракетниц под восторженные выкрики окружавших их горожан. Мы хватали с земли горячие дымящиеся картонные патроны с медно-красными задниками и ярко-жёлтыми смятыми капсюлями. И — по карманам, за пазухи.
Это было здорово, когда в тёмно-голубом небе вспыхивал яркий белый, жёлтый, малиновый или зелёный цветок и повисал над нами, медленно приближаясь к земле, и мы напористо проталкивались к тому месту, куда по нашим предположениям мог упасть недогоревший заряд. Где-то в районе входа в горсад бухнула пушка, и не букет, а огромный волшебный фонтан многоцветных брызг рассыпался, захватив часть неба.
Толпа, запрудившая площадь, взорвалась тысячами голосов, среди которых выделились пронзительный женский тонкий и мужской густой бас. То тут, то там подбрасывали над головами людей в военной форме — такого беспредельного веселья мне не приходилось наблюдать нигде и никогда.
И мы кричали, что есть силы «ур-р-р-а!». И Стасик, и Гарёшка, и Бобынёк, и я, взявшись за руки, плясали вместе со всеми, притопывая босыми пятками.
— Бежим в горсад, где пушка шмаляет, — предложил я. Друзья тотчас со мной согласились.
Бывшим пустырём, теперь тоже заполненным прущими навстречу нам людьми, мы добрались до горсадовского забора, возле которого несколько солдат дрались с какими-то парнями. В одном из них я узнал свободского ворюгу по кличке Лёха Бздила. Он показушно держался за задний брючный карман и вопил, отступая от наседавших солдат:
— Отыди — перешмаляю! Всех перешмаляю! Начисто! Сукадлы!
И рыгал отборной тюремной матерной бранью.
Но мы не остановились, чтобы узнать, чем кончится драка и на чём попался Бздила, а перелезли через высокий забор и по берёзовой аллее жиманули к дому, где размещалась жуткая коллекция восковых органов человеческого тела, поражённых различными опухолями и язвами. Как туда, в горсадовский домик, предназначенный для служащих в нём, попала эта коллекция — до сих пор не могу сообразить. Но она существовала, и её показывали всем желающим за небольшую плату, дополнительную к входному билету, а их-то мы никогда не покупали. Зачем? Всё вокруг и так наше.
Чутьё нас не подвело, точнёхонько на площадке возле дома стояла, задрав ствол, пушка, из которой и жахали в небо «букетами» и «фонтанами». Но нас и близко к ней не подпустили солдаты.
Потолкавшись поодаль, мы решили возвратиться на площадь — там было веселее и могло перепасть что-нибудь — у меня за пазухой уже перекатывались четыре чёрные внутри от пороховой гари гильзы и одна, похожая на огарок толстой свечи, недогоревшая ракета. Как мы её потушили, не расскажу — секрет.
Побежали назад через платный вход. Кстати, билеты сегодня не продавали — свободно пропускали всех желающих. Да и сами контролёры отсутствовали — праздник!
…Ликование на площади продолжалось вовсю. Народ всё прибывал. Часть прилегавших к ней улиц имени Кирова и Цвиллинга тоже оказались закупоренными людскими пробками. Над обширнейшей территорией громыхал голосами дикторов и обрушивался Ниагарой мелодий мощнейший радиорепродуктор, не заглушаемый хлопками ракетниц и уханьем пушки.
Мы, ликуя, любовались красивейшим зрелищем — уже на тёмно-синем небе не виднелось ни тучки, и электрической яркости россыпи огней представляли собой совершенно фантастическую картину, повторяющуюся многократно, но не копировавшую в точности предшествовавшую, — каждый раз новая комбинация, и, казалось, конца не будет этому волшебству по имени Мировой салют.
— Эй, Резан, чего хлебальник разинул?
Рядом впритирку стоял Алька Жмот, за ним — с ехидной ухмылкой — Толька Мироедов. Неприятная встреча.
— Да пошёл ты от меня! — взъерошился я.
И тут из толпы штопором вывернулся Генка Гундосик, с замурзанной, давно не мытой мордашкой и в объёмистом, обвисшем на костлявых плечах щёгольском синем пиджаке, явно чужом. Гундосик вплотную приблизился к Альке и что-то вынул из под полы пиджака, как мне показалось, какой-то пакет. Алька сунул его за пазуху, озираясь вытаращенными глазами.
— На пропале[175] будешь стоять? — спросил он меня и, оттопырив ворот рубашки, показал чёрный, с потёртым углом, кожаный бумажник, раздутый содержимым.
— Лёнчик щиплет,[176] уже полтора куска[177] натаскал, — похвастался Генка.
— Какой Лёнчик? — спросил я.
— Залётный. Из Питера, — похвастал Генка. — Гастролёр…
Алька считал деньги, вынимая их горстями из-за ворота, и рассовывал по карманам. За его руками заворожённо следил полоротый Вовка-Бобка, старший брат шустрого Генки, которого и по имени-то никто не зовёт, а все кличут, словно беспризорного пса. Потому что считают его дураком, шизиком и дебилом.
А тут и сам залётный будто из-под земли вывинтился — в кепочке-восьмиклинке, надвинутой на глаза, в новой синей косоворотке.
— Сколько я у этого «галифэ»[178] сдёрнул? — поинтересовался он у Генки.
— Полкуска с лихуем, — ответил за него Алька.
— Ништяк, — довольный, произнёс залётный и ухмыльнулся, обнажив фиксу. — Фартовый сёдня денёк…
В этот момент я узнал его, несмотря на то, что ряшку Лёнчик отъел и отмыл её перед «работой». Это был тот самый налётчик, сами себя они называли «штопорилами», что обшаривал меня в паровозном тендере в сорок третьем. Когда я на фронт пропеллер «ястребка» вёз. Негодяй!
— Скидывай бобочку,[179] — приказал он Альке. — Перелицеваться короче, а то «галифэ» засёк меня, когда я у него лопатник мацал.[180]
— Чичас, только лопатину[181] спулю,[182] — засуетился Алька.
— Ну-ка ты, давай махнемся,[183] — тоном, отметающим возражения, приказал мне «залётный».
— Не дам, — отрезал я.
— Че-ево? Да я тебе… Ваш пацан? — спросил он Вовку-Бобку.
— Не-ка, — ответил Вовка. — Это Ризанов, домашняк… — и расплылся в улыбке ни с того ни с сего.
— Фраерюга! — презрительно произнёс залётный.
— На, — протянул Алька свою замызганную рубаху — он уже успел выбросить под ноги толпе бумажник и кошельки — пустые.
Лёнчик натянул на себя тесную Алькину рубашку, Генке кинул:
— Кустюм дай.
Набросив на плечи пиджак, кивнул Тольке:
— Хляй[184] за мной… Масть сёдня прёт — одна «краснота».
— Я тоже, — пробубнил Вовка, порываясь вслед за Лёнчиком и Толькой.
— А ты тут стой, дурак, — быстро произнёс Лёнчик и нырнул в толпу вместе с Мироедом.
Вовка заплакал, размазывая слёзы по физиономии.
Вот так встреча! Ну и гад! В такой день, в такой великий праздник он по чужим карманам шарит! И они — с ним… И у кого украл! У защитника Родины. Фронтовика!
— Алька, вы что творите? — наступал я. — Кого обворовываете? Они же нас от фашистов защитили…
— Замозолчизи, — огрызнулся на тарабарском языке он, — аза тозо шнизифтызы Лезёнчизик вызырезежит.
— Чихал я на твоего Лёнчика, — распалился я, ещё не зная, чьи глаза меня в этот момент фотографируют, в какую неприятность попадаю, вернее — попал уже.
— Идём, — потянул меня за рукав Юрка. — Не связывайся…
— Славку надо найти. А то мама такую трёпку мне устроит…
Праздник, казалось, окончательно испортили последние события с Лёнчиком. Я никак не мог прогнать, вычеркнуть из памяти эту встречу.
— Всё равно их милиция поймает, — успокоил меня Гарёшка.
— Всё равно-то всё равно, — возразил я. — Но получается, что и мы как бы с ними заодно.
— Сказанул, тоже мне, — не согласился Юрка. — То — мы, а то — они…
«В общем-то да, — стал размышлять я про себя. — Мы тут ни при чём. Они крадут — пусть и отвечают. У каждого своя голова на плечах».
— Мож быть, домой пора? — спросил Гарёшка. — А то потеряют…
— Ещё немножко посмотрим, — неожиданно попросил нашедшийся Стасик. — Когда ещё такое поглядишь?! А что они стащили?
— Не видел, что ли?
— Не…
Я не стал ему ничего пояснять. И мы какое-то время толкались в поредевшей толпе, по-прежнему встречавшей каждые выстрел и залп радостными криками.
Каждый из нас знал, что давным-давно истекло наше время, уж и светлая тихая ночь незаметно сменила бурный вечер, а Стасик всё не мог насытиться салютом Победы и не желал возвращаться домой. Это меня беспокоило и раздражало. И я потащил его за собой.
По улице Цвиллинга мы скатились вниз. Преодолев усталость, вместе со всеми миновал скверик, свернул на улицу Карла Маркса, после — на свою родную — Свободы…
Необъятный, в моих ощущениях, раздувшийся, как воздушный шар-монгольфьер, день закончился. Я чаял его получить как дар, насыщенный сплошными радостями, увенчанными какой-то необыкновенной, самой-самой великой радостью. Похоже, все сбылось. В самый необыкновенный, самый счастливый день — девятое мая сорок пятого года.
Однако напрасно я подвёл итог событиям, необыкновенный день не завершился — дома ждало меня и Славика огорчение. Мама встретила нас очень встревоженной и сердитой.
— Почему так долго? А я бог знает что о вас подумала: где вы, что с вами? — упрекнула она меня в сердцах.
Всегда мне, как старшему, первому влетает.
Видно было, что в ней что-то, как она говаривала, закипало.
— Вас видели на площади с какой-то шайкой, — высказала мама строго. — Что вы там делали?
— Салют смотрели…
Меня больно обидел мамин пристрастный допрос, да ещё с явным недоверием. Она прямо-таки настаивала на признании в том, чего мы не совершали и не намеривались даже. Не помогли и «вещественные доказательства» — несколько картонных патронов, спаленных внутри дочерна, и огрызки «макаронин» — пороховых тонких трубочек, подобранных там же, на площади, и обгорелый остаток «ракеты».
Вдруг мама поспешно вышла из комнаты и какое-то время отсутствовала.
Я со Стасиком увлечённо разглядывал находки, когда мама прямо-таки ворвалась в квартиру. Глаза её блестели от возбуждения. Она сразу кинулась ко мне и больно ухватила за ухо, приговаривая:
— Лгун несчастный! Ты и Славку подговорил! Признавайся сейчас же: с кем из мальчишек по карманам лазил?
— Отпусти ухо — больно! — завопил я.
— Больно? Сейчас будет ещё больней!
Она подхватила, полагаю, заранее положенный на тумбочку кавказский ремешок с металлическими бляшками и что есть силы хлестнула меня по плечу и спине.
— За что?! — заорал я.
— Чтобы матери всегда правду говорил! Чтобы по чужим карманам не шарил! Чтобы с жульём не знался!
И продолжала хлестать меня, не в себе от ярости.
Я закрыл лицо ладонями, чтобы она не повредила его в раже. В конце концов она довела меня до слёз. Только тогда прекратила экзекуцию. Прошло несколько минут, пока я успокоился. И после этого твёрдо заявил:
— Тебе кто-то неправду о нас сказал. Ничего мы ни у кого не украли. И мне не в чем признаваться.
— Я не могу не поверить Дарье Александровне, она взрослый и здравомыслящий человек.
— Она тебе наврала, — дрожащим голосом сказал я.
— Не смей так о взрослых людях судить!
— Я правду говорю.
И направился в общий коридор, чтобы умыть заплаканные глаза.
Выйдя из дверей, я на звук шагов повернул голову налево и увидел поспешно удаляющуюся по коридору тётю Дашу — она подслушивала то, что происходило в нашей квартире! У меня возникло моментально желание окликнуть клеветницу и задать ей вопрос «как она посмела оболгать нас с братишкой?». Но соседка, хлопнув дверью, уже скрылась в своей кухоньке.
Умывшись, я вернулся в свою квартиру, хотя ноги готовы были унести меня куда угодно, только не к себе.
И опять начался допрос матери. Я, еле сдерживая слёзы, отвечал на них одно и тоже.
— Но это так: вы действительно бегали по площади с разным хулиганьём, — «дожимала» нас мама.
Мы вынуждены были с братом доказывать, что ничего общего у нас, тимуровцев, с той кодлой не было и быть не могло.
Мама не сразу пришла в себя, но в конце концов поверила, покормила нас, уложила спать и, пока мы не уснули, сидела возле изголовья кровати, дожидаясь, когда сон сморит нас, и думала о чём-то своём, наверное очень трудном, потому что тяжко вздохнула.
— Вот кто нас видел, — думал я. — Как это мерзко — подглядывать и подслушивать за другими и доносить. Тем более неправду.
И всё меня не отпускала эта встреча с залётным и его компанией. Перед глазами всплывали моменты встречи, бумажник с белёсыми углами, пухлый от документов и денег. Как теперь тот, в галифе, без них обойдётся? Ведь без документов и денег совсем пропасть можно, ещё подумают — шпион какой… Много забот возникло в усталой моей голове. Но сон был сильнее ребячьих размышлений. Последней моей мыслью явилась заветная: здорово, если б завтра папа с фронта возвратился… Он всё знает, во всём разберётся. Одно слово — отец! Ведь все мы его столько лет ждали. Особенно я.
…Мне, как это ни странно, ничего не приснилось, не только цветного салюта, но и обыкновенного серого сна. Вот-вот должно было наступить завтра — первый послевоенный день. Он оказался совсем не таким, каким я видел его в своё воображении, — ничего вокруг не изменилось. К моему великому разочарованию. Всё те же продуктовые карточки, очереди, озабоченные люди…
…Прошли годы. Случилось так, что с того памятного вечера наша светлая дружба с Милой оборвалась. И я, вспоминая о славной девочке, многократно задавал себе вопрос: «С какой целью Дарья Александровна поступила столь, по-моему, жёстоко, оклеветав и опозорив меня? Что заставило её пойти на этот бесчестный шаг, ведь того, что она о нас напридумала, вовсе не было?»
Перебрал в памяти всё — вразумительного ответа не нашёл. Зато не случайными показались мне её слова во время общего собрания о подкапывании картошки тётей Таней Даниловой. Полагаю, уже тогда у неё созрел злой замысел. Припомнился и другой случай: я сидел в их «гостиной» за круглым столом, накрытым белой вязаной скатертью, и в который раз перелистывал большущий том «Истории гражданской войны» — подарок Дарье Александровне одного ночного знакомого — военного. Но в тот момент здоровенная красного цвета книжица меня уже не интересовала: я любовался Милочкой, и мой взгляд перехватила её мать, устроившаяся на диванчике и наблюдавшая за нами. Женщина, очень опытная в жизни, она сразу поняла, какие чувства я испытываю к её дочери, и, видимо, по-житейски смекнула, к каким последствиям может привести моя правильно ею понятая влюблённость. И решила прекратить наши дружеские взаимоотношения, пока всё не зашло слишком далеко и непредсказуемо. Салют на площади Революции, где она нас с братишкой и свободской пацанвой увидела, коварно использовала для завершения своего плана. И он удался. Поверившая ей мама своей экзекуцией провела невидимую, но непреодолимую черту между мною и той, кого я обожал и за кого готов был жизнь отдать. Если б такая необходимость возникла. Тётя Даша однако не достигла своей цели. Мила осталась во мне на всю жизнь. И живёт по сей день. Любовь невозможно истребить ничем — она бессмертна.
1975 год
Звёздное небо из глубины колодезя[185]
— Галька! Стасик! Не пейте от пуза, — недовольно воскликнул Юрка. — Имейте совесть…
После обращения к совести оба усерднее зачастили к бидончику, с удовольствием извлекая его из-под вороха увядшей травы, и вскоре почти опорожнили.
А солнце жарило, как мне чувствовалось, по-африкански, нещадно. И укрыться на поле негде. Несколько тополей, их верхушки виднелись у железнодорожного переезда, манили под свою тень, да не уйдешь — работа. Усугублял нашу жажду сухой ветерок — тягун, пыливший при каждом взмахе тяпкой.
Пришлось установить одноразовую норму питья. Теперь каждый жаждущий подходил ко мне и получал законный глоток из болтавшейся на сыромятном ремешке через моё плечо солдатской фляги, наполненной под горловину нынешним утром.
Я бросал тяпку, доокучив очередной картофельный куст, отвинчивал пробку-стаканчик и аккуратно, чтобы не расплескать, наполнял его.
— Ещё, — заскулил Стасик. — Пить хочу…
— А ты терпи. Тебе уже девять лет. Будущий солдат! Терпи!
— Не хочу терпеть!
— А как же на фронте? Кино «Тринадцать» видел?
— Так-то — в пустыне…
— А здесь, на седьмом километре, река, что ли, течёт? Ну где я тебе воды достану? Колодец, что ли, вырою?
«Колодец… А на переезде…» — припомнил я.
Стасик настаивал. Его поддержала Галька, прекратив выдёргивать полынь, зловредный осот и прочие сорняки, сплошь затянувшие полосу Бобылёвых.
— Жадина, — с обидой произнёс Стасик. — Воды жалко. Если б не было, а то целая фляга.
— На, пей, — не выдержал я. — А обедать с чем будем?
— И мне, — подсунулась под руку Галька. — Обедать не будем, домой пойдём.
— Ишь ты, хитромудрая какая, — домой. Обрадовалась, — вмешался Юрка. — Куда в вас лезет? Весь бидон выдули. Только и бегаете пить — лишь бы не работать. Саботажники…
Фляги хватило ненадолго. Убедившись в том, что посудина пуста, Стасик с Галькой на некоторое время отстали от нас. Братишка тяжко вздыхал, вытягивая из горячей земли жилистые корни пырея.
Близился полдень, а полосе шириной в восемь рядков и конца не видно.
Я подошёл к другу.
— Недалеко от переезда видел барак? Жёлтый такой… — спросил я.
— Ну?
— За ним не заметил ничего?
— Сортир зеленённый. А што? Чего бегать далеко? Вона — кустики…
— Не о том я. Подальше, метрах в десяти в другую сторону, вроде бы колодец. Не засёк?
— Не-ка. Иди, разведай. А я потяпаю. Бидон и флягу захвати заодно.
— Добро. Попёхал.[186]
Невозможно предугадать, чем закончился бы мой поход, не увяжись за мной Стасик. Ему, наверное, очень надоело нудное занятие — рвать упрямую и колючую траву, и он надумал прогуляться со мной по вольному полю.
— Ведь ты сам напросился на подмогу Бобыньку. Почему же лентихвостишь?[187]
— Из колодца хочу попить. Тебе можно, а мне — чур да?
И всегда так. А мне? Не желает понять, что я его старше — на целых четыре года — и поэтому давно взрослый, а он нет. Не дорос ещё. До моего.
Чтобы Стасик прекратил вяньгать, пришлось уступить. Он сразу повеселел, стал ко мне подмазываться.[188] Напросился на обратном пути полный бидончик нести. Словно у меня сил не хватит самому тот алюминиевый литровый бидон донести до полосы. Но мне почему-то стало жалко братишку. Наверное, потому что я его обижал часто, многого не позволял. А напрасно. Ну почему бы не взять его с собой к колодцу или самому пригласить — братишка всё-таки, ещё и младший. Ему помощь, защита нужна.
Стасик обрадовался неожиданной милости:
— Держи фляжку. На пока.
И вот уже фляга при каждом шаге пошлёпывает его ниже колен.
Возле барака, в котором, вероятно, жили обходчики железнодорожных путей, мы никого не встретили, поэтому и разрешения просить ни у кого не пришлось. Площадка вокруг колодца усыпана острым, как битое стекло, шлаком. Осторожненько ступая, достигли сруба. Откинули дощатую крышку. Я заглянул в колодец. Где-то очень глубоко поблёскивала чёрная вода. Приятно снизу обдавало сырым холодом. Пригляделся внимательней. Там, на самом дне, что-то смутно белело.
— Стаська, ну-ка глянь, что это там виднеется? Да не перевешивайся так — кувыркнёшься!
— Ничего там нету, — уверенно заявил брат.
— Ты что — ослеп? Вон белеет… Похоже — шевелится. На поросёнка похоже.
Стасик испугался, отпрянул.
— А что, поросёнки в колодцах живут?
— Факт — не живут.
— А русалки?
— Так то ж из сказки.
— Ну и что?
— Эх, ты! Ничего не знаешь. Русалок вообще не бывает. Их Пушкин выдумал. Фонариком бы посветить… А если на дне клад спрятан?
— Ага, клад, — охотно согласился Стасик.
— Жаль, некогда. А то спуститься бы да посмотреть.
— Страшно…
— Тебе — страшно. А я спустился бы… Запросто.
Стасик восхищённо глянул на меня и опасливо покосился на провал колодца.
— Давай… Да крышку-то сними.
Стасик подал мне бидон.
Я продел в ручку бидона конец толстой верёвки, затянул её петлёй и опустил бидон в колодец, крутанул бревно и залюбовался рукоятью, вращавшейся наподобие пропеллера, — виден был лишь светлый круг.
Раздавшийся всплеск возвестил, что бидончик достиг цели. Когда вытащили, воды в нём оказалось едва ли больше половины. Я перелил её во флягу. И снова ручка, бешено вращаясь, образовала светлый круг. Шлёп! Дёрнул верёвку влево-вправо, чтобы зачерпнуть побольше. Опять налегли со Стасиком на рукоять. Она поддалась что-то уж слишком легко. Мелькнула догадка: неужели отвязался? Показался конец верёвки — так и есть! Досада-то какая! Чужой бидон-то. Под честное слово выпросили. Да чей бы ни был — жалко, вещь нужная в хозяйстве. С таким же, только поменьше, Юрка в заводскую столовку за стахановскими отцовскими обедами ездит на ЧТЗ. Этот участок отцу тоже от завода выделили. Если не украдут урожай, Бобылёвы картошкой на всю зиму будут обеспечены.
— Утонул? — не веря в случившееся, спросил Стасик.
Я всмотрелся в узкую шахту колодца. На дне его вроде бы светлело что-то более яркое, чем ранее замеченный мною «поросёнок».
— Стасик, я полезу. А ты тут будь. И не свешивайся вниз, а то загремишь…
— А как тебя вытаскивать?
— Сам вылезу. По верёвке. И бидон подниму. Я его к концу верёвки привяжу. Заодно разведаю, что там белеет.
Стасик оторопело уставился на меня.
— Ну? Чего ты?
— Я? Ничего.
Но я-то знал — не скажет: а мне?
И вот я повис над бездной. Торможу спуск ногами. Всё идёт хорошо. Надо мной уменьшается и словно синеет голубой квадрат с перекладиной барабана, к которому прикреплена верёвка. С перекладиной перемещается и голова Стасика. Нет, это я раскручиваюсь на верёвке.
Посмотрел вниз — вода совсем близко. Несколько раз тиранулся плечами и спиной о сырые шпалы сруба. На песчаном дне на боку лежит, матово отсвечивая, бидон. На стыке сруба над поверхностью воды навис ледяной козырёк. Это с него срываются гулкие капли. Вот что белело-то — не догадались. Не ахти, конечно, подходящая площадка — босиком на льду стоять, но если изловчиться можно бидон быстро подцепить, держась другой рукой за верёвку.
Перехватываюсь, чтобы опуститься пониже, и… Всё тело разом обдаёт кипятком — я с головой окунаюсь в поистине кипящую воду. Выныриваю и не могу ни выдохнуть, ни вдохнуть новую порцию воздуха. Цепляюсь напрасно за скользкие бока шпал. Отчаянно работаю руками и ногами.
— Гера! Где ты?
Голос брата до неузнаваемости искажён. Он точно бьётся, раскалываясь, о стены сруба. Ответить нет возможности — холод стиснул грудь и сжал горло.
Ноздреватая глыба льда висит надо мной — рукой не дотянуться, высоко. Барахтаюсь, крутясь в тесном квадратном пространстве, и вдруг замечаю железную скобу, вбитую в дерево. Ухватился за неё. Пальцы не чувствуют твёрдости металла. Кричу:
— Ста-а-сик!
— Ага…
— Беги на переезд. Слышь? Попроси новую верёвку. Беги же скорей!
Наконец Стаськина голова исчезла.
Дрожь колотит меня — зуб на зуб не попадает. Перед газами ослизлые шпалы и ржавая скоба, — к счастью, крепко вбитая в дерево.
Колодец-то вовсе не такой мелкий, каким мне показался, — с головой окунулся, да и дна, похоже, не достал. А бидон — вот он, близёхонько лежит, вроде бы. Прозрачная вода — какая обманчивая!
Держусь за скобу обеими руками, но она ненадёжная, неосязаемая. Моё спасение — там, наверху.
И я не отвожу глаз от синего квадрата над головой, разделённого посредине воротом, шевелю ногами, словно еду на велосипеде.
Лишь бы руки-ноги судорогой не свело. Наслышан я — именно так гибнут люди, попав в холодную воду. А я не так давно воспалением легких переболел. Если ещё раз подхвачу — хана[189] мне.
Птица чёрным камнем пролетела над колодцем. Кто бы знал, как хочется оказаться там, наверху! Моментально! В мгновение ока!
Стасика всё нет и нет. А что, если пальцы разожмутся сами? Я опять бултыхнусь в пагубную глубину. И всё! Нет! Я упираюсь левой тяжеленной ногой в угол сруба. В воде остаётся лишь правая, и то по колено. Напрягаю все мускулы, чтобы удержаться в этой позе.
Капли, набухнув, отрываются с ледяной глыбы, булькают, отсчитывая время.
Повторяю про себя: «Спокойно! Не паникуй!» В голову же лезет: а если железнодорожников всё ещё нет на месте? Если никого нет в том бараке — что тогда? И убеждаю: я должен продержаться, пока не придёт подмога. Должен!
Буль-буль… Это звучит само время, отмеряемое каплями тающей глыбы…
Козырёк тает. Идут ледяные часы. Кап-кап! Это маленькие капельки. Буль-буль! Капли-толстухи.
Запрокидываю голову, чтобы опять взглянуть на спасительный квадрат, и различаю… звезду! ещё одну! ещё… Неужто наступила ночь? Так быстро? Или я здесь вишу на скобе весь день? Не может быть! Что стряслось со Стасиком? Заблудился? Нет, сейчас не ночь, и времени прошло немного, иначе Юрка давно разыскал бы меня. Он-то не бросит друга в беде. Всё равно ко мне кто-то придёт и поможет, а Юрка — непременно!
Сердце стучит сильно и ровно. Я уже не испытываю ни растерянности, ни испуга, ни отчаяния. Жду.
А звёзды отнюдь не мерещатся — вон они, сверкают. Как стекляшки люстры. Зубы отбивают чечётку.[190] Я не свожу глаз с квадрата неба. Ночь ли, день ли — всё равно надо держаться. Силы ещё есть! Кап-кап… Буль… Держаться… держаться… держаться…
— Эй, парень! Живой?
Пронзительно сильный мужской голос ударил сверху. Запрокидываю голову: квадрат заслоняют три головы.
— Жи… вой.
— Верёвку имай![191] В петлю ногу вставишь, понял? За верёвку крепче держись!
Вихляя из стороны в сторону, ко мне приближается верёвка, с петлёй на конце. Я ловлю её. Верёвку продолжают травить,[192] она провисает, и я, потеряв равновесие, срываюсь, успев крикнуть:
— Тяни!
И с головой ухожу под воду. Опять спирает дыхание. Выныриваю. Хватаюсь за верёвку. Опять погружаюсь с головой, но верёвку не отпускаю, и вот она напряглась — есть опора. Вырываюсь, сразу отяжелев, из воды, охватываю верёвку коленями, но её как будто и нет, не чувствую. Поплыл вверх!
— Держись крепче! — звуки голоса отскакивают от стен, продавливают ушные перепонки до боли.
Раскручиваясь на верёвке, чуть не врезался головой в ещё одну скобу, успев оттолкнуться плечом и бедром одновременно.
Слышу скрип вóрота, голоса. Меня подхватывает за локти молодой мужчина в расстёгнутой на груди светлой рубахе. Всё! Я спасён! Ур-ра!
Юрка обнимает меня. Стасик сквозь слёзы о чём-то спрашивает, а я неудержимо лязгаю и скрежещу зубами, хотя челюсти так стиснуты, что их, кажется, невозможно ничем разжать.
Ослепительное ледяное солнце ничуть не греет — как зимой. Я не чувствую своих рук и ног. Топчусь на остром шлаке, как на вате. Что-то мычу, пытаясь объясниться. Стасик уже простодушно выпытывает:
— Клад увидел?
Шутит, что ли? Какой там клад!
Начинает колоть кончики пальцев рук. Боль становится всё сильнее. Я пытаюсь отбежать прочь от колодца, падаю, непонятно почему, поднимаюсь и снова бегу. Ноги не держат. Юрка поддерживает меня. Смеётся. От радости.
Добравшись до колышков бобыньковского участка, я плашмя валюсь на траву и растягиваюсь на животе. Меня мутит, как от угара. И корчит. Вот и до ног добралось колотьё, пронзило болью ступни. Зажмурившись от нестерпимой боли, катаюсь по земле.
— Что с тобой, Гера?
Это Юркин голос.
Постепенно боль ослабевает, отпускает. Открываю глаза. Рядом лежит Стасик, заглядывает мне в лицо.
— Потри вот ту, — прошу его. — Тянет…
Стасик ретиво выполняет мою просьбу, растирает ладошками колени, икры, пыхтит.
— Дай-к я — отстраняет его Юрка.
Галька мокрые волосы гладит — жалеет меня.
— А верёвка — бац! — и оторвалась, — рассказывает Стасик.
А я произношу срывающимся голосом:
— Бидончик утонул. На дне лежит.
Бобынёк молчит. Тоже, видно, только вспомнил о нём. Стасик угощает Гальку:
— На, пей. Ох и холодная…
— Иди, попроси дяденьку, чтобы бидон вытащил, — предложил я Юрке. — И спасибо ему скажи. За меня.
— Давай я тебя согрею. Я горячий, — говорит Стасик и прижимается к моей ещё содрогающейся спине.
Наконец солнце пробрало-таки. Но я продолжаю подставлять его лучам то один бок, то другой, хотя дрожь уже утихла во мне. Млею от разлившегося по телу тепла и время от времени на миг проваливаюсь в приятное забытьё…
Пора. Надо вставать. Дело ждёт.
Ну и ну, ещё сколько окучивать-то! Отыскал тяпку и принялся за свои рядки. Ничего, наверстаю.
Вернулись Юрка с Галькой. Бобынёк принёс запотевший бидон. Полнёхонький. Мне даже смотреть на него зябко — всего передёргивает. Бобынёк рассказал, как его удалось выудить — проволочным крюком. Помолчав, добавил:
— Напрасно ты полез. Колодец-то — глубоченный. Утонуть мог. Из-за какой-то железяки.
Я ему ничего не ответил, не знал, разумно ли поступил, надо было ли так рисковать. Да и не думал я ни о каком риске, опускаясь в колодец. Надо — и полез.
— А-а, жалко битончик потерять, — протянула Галька. — Отец с тебя за него шкуру-то спустил бы. Чужая вещь.
— Ну, уж так и спустил бы, — возразил Юрка не очень уверенно. — Мож быть, и побил бы. Другой сделал бы. Не такие штуки на заводе изготовляет — мастер цеха всё-таки.
Отец у него очень серьёзный. Неулыбчивый. Потому что мама Юрки и Гальки не выдержала тяжёлой жизни и покончила с собой. Повесилась. На крюке в потолке, где раньше керосиновая лампа висела, петлю приладила. В общем коридоре. Ночью, когда бельё стирала в корыте. Так всё недостиранным и осталось.
После того как её обнаружили в полуподвале в удавке, надетой на потолочный крюк, отец перестал вино пить и с чужими тётеньками бессовестными якшаться.[193]
Случилось это незадолго до начала войны.
Отца на фронт не взяли, на ЧТЗ оставили — настолько ценный специалист.
— …А как ты узнал, что я в колодец оборвался? — спросил Юрку, когда мы, взмокнув от усердия, присели отдохнуть.
— Стасик прибёг, сказал.
— Так ты не сразу побежал в барак? — строго спросил я брата.
— Не. Мы вместе…
— Я ж тебе наказал…[194]
— Ничего ты не говорил, кроме бу-бу-бу… Да шевелился, — уверил меня Стасик.
«Возможно, я хотел крикнуть, да не получилось?» — подумалось мне. Ведь привиделись мне звёзды на небе.
— Юрк, — решил я поделиться невероятным наблюдением с другом. — Не поверишь: я давеча[195] звёзды видел. На небе. Из колодца.
Бобынёк недоуменно глянул мне в глаза и запрокинул голову — захихикал.
— Честное-пречестное! Не веришь? Честное тимуровское.
— А где ты их видел?
— Вообще… На небе.
— В колодце и не то могло побластиться.[196] Стаська про какого-то поросёнка мне чесал,[197] тоже вроде бы в колодце.
— Поросёнок тут ни при чём… Не веришь?
— Верю. Но не знаю.
— Чудеса! — сказал я.
И мы опять взялись за тяпки. Вторую половину дня я, нагнав Бобынька, работал как ни в чём ни бывало, от друга не отставал. Загорел под полевым солнцем до индейской красноты.
К вечеру Стасик с Галькой изнемогли, отлёживались до сумерек, прикрывшись травой, пока мы с другом не доканали участок.
Домой притащились затемно. Даже не поужинав, я завалился на кровать, успев натянуть на себя одеяло, и тотчас провалился в дремучий сон.
Наутро лишь водянистые мозоли на ладонях, тупая боль в руках, ногах да пояснице напоминали об окучивании. Да волдыри на розовых плечах и спине — солнце припекло. Про себя я гордился участием в подмоге — большой, «взрослой» работе. Ведь на всю долгую зиму картошку-то заготавливали.
О колодце почти не вспоминал, хотя ужаснувшейся маме пришлось обо всём рассказать. Подробно. Потребовала. Всё выслушала, но наказывать почему-то не стала.
Правда, представив, как меня, мёртвого, вытаскивают на верёвке из колодца, увидев растерянное, испуганное, недоумевающее лицо братишки, услышав горестные рыдания мамы и причитания Герасимовны, мне стало так жалко и маму, и Стасика, и даже бабку, что я подумал: как хорошо, что я живой. Что удержался. Не запаниковал. Поэтому и цел остался.
Тут же сбегал к Бобыньку и спросил:
— Ты хоть сказал тому дяденьке спасибо? Что вытащил меня…
— Забыл! Дырявая голова. Засуетился…
— Эх ты… Теперь опять надо идти. А если он, например, уехал? Железная дорога своя, куда хочу, туда и еду…
— Любой на его месте то же сделал бы — помог.
— Правильно — любой. И я — тоже. И ты. Но всё равно ему спасибо надо было сказать — жив остался. Успели вы. А он меня вытащил и бидон выудил.
— Ещё быстрее пришли бы, да ведь он без ноги. Пока протез пристегнул, пока дохромал. У него, видать, ногу-то в госпитале отрезали.
— Фронтовик?
— Факт.
«Хорошие люди — фронтовики, — подумалось мне. — Везуха мне на них. На базаре тогда Николай Иванович заступился, сейчас — тоже инвалид. С войны вернулся наверняка. Не трамваем же ему ногу отрезало и не поездом. И таких хороших людей вокруг много. Мы обязаны платить им тоже добром».
— А ты не знаешь, случаем, как его звать? — поинтересовался я у Бобынька.
— Не. А зачем?
— Слышь, Юрк, не нужна ли ему наша помощь?
«В следующий раз спрошу», — решил я, потому что друг на мой вопрос лишь неопределённо пожал плечами. Но «следующего раза» не состоялось. Бобылёвы сами срочно собрали урожай. Пока другие не опередили. Отца Юркина отпустили на целый день. И они управились. На заводской машине и привезли.
…Через неделю с жареной спины моей — уж в который раз за лето — слезла кожа, и на её месте наросла новая, поначалу очень болезненная и чувствительная к теплу и прикосновениям. А колодезное происшествие постепенно забылось. Единственное, что надолго врезалось в память, невероятная синь словно вырубленного квадрата полуденного неба, синего-пресинего, и хрустальной яркости звёзды, с надеждой мерцавшие мне в глубине колодезя. Так его назвал путевой обходчик.
1957 год
Водолазка[198]
— Жавтра на Подгорнай[199] кошти выброшат, — почти шёпотом зажужжала Герасимовна, приблизив свои губы к уху моей мамы. — В акошке. От верново шеловека шлышала. По блату. Штаруха одна. Вожля калбашного жавода и живёт. По два кило в руки, по жапиши.
«Запись» значила проставление организаторами очереди на ладони химическим карандашом номера каждому очереднику.
С заговорщическим видом Герасимовна озабоченно зыркала по сторонам, словно опасаясь: не подслушал бы кто. Меня её поведение изрядно удивило: здесь, на общей кухне, кого она опасается? Похоже, бабке постоянно бластилось, что её могут подслушать, незаметно подсмотреть и этим нанести урон.
— Егорка пушшай утрем пораньше прошнётша, да вмеште и пойдём, ш Богом…
— Не с богом я отправлюсь за костями, а с корешами, — решил я. — Богу кости ни к чему. А вот Юрке и Вовке с Генкой очень даже будут кстати — бульон сварить. К тому же редкая удача — кости будут «давать» по дешёвке и без продуктовых карточек.
Перед сном я очень удачно успел обежать друзей — Юрку Бобылёва и Игорька Кульшу — и поделился с ними бабкиным секретом. Хотя у Игорёшки Кульши мать работала продавцом в хлебном магазине, от двух килограммов костей и они не отказались. Не одни воры в магазины поустраивались, встречались и честные продавщицы.
— Утром с Галькой собрались на поле, на седьмой километр, — деловито сообщил Юрка. — Картошку второй раз окучивать. Вот уж и тяпки наточил.
— Эх ты. Это ж натуральные свежие говяжьи или свиные кости. А вдруг с мозгом попадутся? Навар такой получится — со всей Свободы собаки сбегутся на запах. А прополку можно и на завтра…
Юрка колебался.
— А не свистит[200] твоя бабка? — усомнился он.
— Да ты что?! Бабка — честная.
— Божись.
— Во! — я прикоснулся пальцем к звёздочке на своей тюбетейке. — А на картошку мы вместе послезавтра чесанём. За одно и того одноногого инвалида поблагодарю. Ну?
Гарёшка согласился не раздумывая — фартовый случай, не часто выпадает, всякому дураку понятно.
— А что мы из тех костей сварим? — поинтересовался я у мамы, уже лёжа в кровати. — Борщ? Или щи?
О вкусном, наваристом борще со сметаной я уже давно, можно без преувеличения сказать, мечтал.
— Зелёный суп. Молоденькой крапивы нащиплешь, ботвы свекольной аккуратно срежёшь, моркови покрупнее выдернешь пару штук, вот и получится суп на славу, — посоветовала мама. И предостерегла:
— Картошка ещё не подросла — один горох. Не трогай.
— И без картошки сойдёт, — подумал я. — С костями-то.
Мама разбудила меня — солнышко лишь наполовину выглянуло из-за крыш.
Обвеваемый утренней сыростью, по ещё холодным булыжникам мостовых я пробежался до Юрки и Гарёшки, к Сапогам заглянул, и мы по безлюдной, но уже чисто подметённой матерью Альки Каримова родной улице Свободы припустили к реке.
Обнесённый зелёным высоким забором — по ту сторону которого хрипло и грозно брехали цепные псы — колбасный завод, так все называли мясокомбинат, выглядел неприступным и опасным. Посередине забора, у совершенно незаметных, закрытых изнутри ставней, собралась немая неподвижная длинная очередь из стариков и старух, начавших бдение, вероятно, ещё с ночи. Бегали по берегу и несколько пацанов с девчонками, явно знакомых между собой. Местные, нагорновские.
Тут же, в дорожной пыли, втихомолку играли две или три совсем маленьких девочки — их для получения номеров привели. Тоска какая-то! Заняться бы чем-то стоящим! Но вот началось!
Мне на наслюнявленной ладони химическим карандашом вывели номер тридцать семь. Герасимиха, обогнавшая нас, привела с собой большеголового внука Валерку, чтобы получить лишний номер. Малыш спал, положив рахитичную голову ей на колени, обтянутые широкой длинной юбкой, сшитой из разноцветных ситцевых лоскутков. Мне она шепнула, что номер мне выпал нехороший: «от шатаны». На болтовню бабки я не обратил внимания — мало ли предрассудков ей может взбрести в голову.
На выцветшем светло-голубом небе — ни тучки. Как под таким солнцем усидишь возле закрытых ставней киоска? И уйти нельзя — вдруг пересчёт. Решили: оставляем в очереди дежурного, остальные — купаться. Миасс — рядом. Стремглав с пригорка вниз — аж пятки к затылку подбрасывает. На ходу скидываю тюбетейку, рыжевато-белёсые трусы, ещё в прошлом году чёрными были — выцвели, ветхую майку — и бултых!
Во все стороны серыми стрелками с невероятной скоростью скользят мальки речной рыбёшки — спасаются.
Ах, Миасс, отрада наша! Без оглядки наперекор течению что есть сил гребу на серёдку — с азартом! И брызги от бултыханий ногами зеркальными осколками слепят, и на душе весело так, что забываешь обо всём на свете, о многочисленных заботах и обязанностях, — свобода! Помнишь лишь о номере на ладони.
Остров-сад остаётся слева, течение всё дальше сносит меня к ЧГРЭСу. Пора возвращаться назад.
Подплывая к желанному берегу, я заметил неподалёку в водной ряби чёрную собачью голову. Животное плыло мне навстречу. Увидев меня, собака резко развернулась и ещё резвее зачапала лапами по поверхности воды, устремившись к берегу. Я — за ней. Но рука…
Мы выучились плавать, держа одну руку над поверхностью воды. Её нежелательно мочить — на ладони написан порядковый номер — право на получение того блага, ради которого мы вынуждены провести томительные часы ожидания в длиннющей очереди.
То ли я уже изрядно выдохся, то ли собака оказалась более выносливой пловчихой, но она первой выбралась на илистый берег, положила на землю что-то сизо-розовое, свисавшее из пасти, оглянулась в мою сторону, отряхнулась всем телом, исторгнув веер радужных брызг, снова подхватила это «что-то» и зарысила прочь, к овражку, направо.
Я истратил так много сил, что колени подсекались, когда выбрался из воды. Мне бы бухнуться на траву да отдышаться, подставив грудь уже тёплым солнечным лучам, но любопытство: что это за собака, какую штуковину она несла в зубах и куда скрылась, — заставило меня шустро натянуть немудрящую одежонку и ринуться вслед за ней.
Столкнулись мы неожиданно. Собака с лаем выскочила из глиняного выкопа, их здесь было немало, мелких и настолько глубоких, что можно свободно уместиться вдвоём-втроём: в овражке окрестные жители брали глину для штукатурки домов и кладки печей. Я сам отсюда дважды привозил в старом корыте прекрасную глину — замазать щели в общей кухонной плите.
Незнакомка выглядела настолько свирепой и решительной, что я отступил, не повернувшись, однако, к ней спиной, чтобы не вцепилась. Меня в жизни ни одна псина не укусила, всегда с ними ладил. Первый раз такое непонимание встретил.
Что она — взбесилась? И тут я заметил возле норы растерзанный лоскут каких-то скотских внутренностей!
Вот оно что! До чего же умная сука! Вылавливает куски кишок и всякие другие мясные отходы, которые с заводскими стоками из огромной железной трубы сбрасываются в Миасс. Ту трубу мы изучили хорошо. По ней можно от берега отойти к середине реки и нырнуть сразу в глубину. Вот почему вокруг этой трубы под камнями водилось всегда так много раков — они лакомились отбросами из цехов колбасного завода. Иной раз мне удавалось натаскать клешнятых полную двухлитровую кастрюлю — на зависть многим пацанам, промышлявшим недалеко от берега, где не столь глубоко. Да и не всем взрослым такое удавалось. Поэтому из-за ловли раков я и нырять научился и натренировал себя задерживать дыхание, перегоняя воздух в легких, не выдыхая его до последней возможности терпения, настолько преуспел в нырянии, что под водой пересекал поперёк весь Миасс — со свободской стороны до Острова-сада, чем чрезвычайно гордился. И обоснованно — никто из знакомых пацанов не мог побить моего рекорда. И по количеству отловленных раков — тоже.
Правда, иной раз, и такое случалось: рак сдавливал клешнёй палец до крови. Приходилось терпеть боль — варенные с солью раки жуть как вкусны! А пальцы всё равно быстро заживали. В тот же день. Кровь хорошая, густая.
У меня давно имелась задумка — сделать маску, соединить её шлангом с надутой воздухом автомобильной камерой и с помощью этого аппарата обследовать дно Миасса, высмотреть все норы, где живут раки, лини и великаны сомы. Надеялся и на гораздо большую удачу — наткнуться на клад. Мало ли что могли сокрыть в Миассе в давние годы, например во время революции. Буржуи и всякие белогвардейцы наверняка схоронили на дне золото, патроны, возможно и пушку. Словом, меня, несомненно, ждали находки. Это был мой личный секрет, о нём посторонним — ни гу-гу.
Кое-что для подводных работ мне удалось раздобыть. В сарае хранился рваный противогаз с гофрированным шлангом, привинченным к жестяной коробке с угольным фильтром. Выменял я немного дырковатую, с заплатами, автомобильную камеру с никелированным ниппелем и навертывающимся на него колпачком. Всё это бесценное добро мне предстояло привести в порядок и осуществить свои водолазные задумки.
Лелеял я ещё одну дерзкую мечту: построить подлодку. И для этого тоже кое-чем обзавёлся: за двух крольчат породы шиншилла мне дали круглое, с тарелку величиной, стекло из плексигласа. Чем не иллюминатор? Я уже и название будущей подводной лодке подобрал: «Наутилус-2». Достойно!
О моих планах исследования неизведанных миасских глубин знали только ближайшие друзья. А вообще-то строительство подлодки держалось в строжайшем секрете. О ней не ведал ни Стаська, ни Ржавец, и, разумеется, никто из взрослых — чтобы не помешали. И секрет не присвоили. Не опередили.
— А что если собаку научить нырять? — пришло мне в голову после встречи в овраге. — Такой ценный помощник — незаменим. Собака-водолаз — это же здорово! Дрессировщиком, разумеется, буду сам.
Решено: немедленно знакомлюсь с собакой-водолазкой поближе и приступаю к её обучению для подводных погружений.
О своих планах я тут же, на берегу, увлечённо поведал Гарику — ему можно — верный друг, и книги тоже читает и собирает. Планы мои его заинтересовали. Но мы услышали призывы Юрки и сиганули наверх.
Счётчица, она же наблюдательница, поначалу не пожелала поставить нам новые номера. Причина? Наше «непостоянное присутствие». Но Герасимовна громко вступилась за нас, другие молча не поддержали счётчицу, и мы продвинулись к цели. Я стал тридцать четвёртым.
А общая очередь совсем за небольшой отрезочек времени значительно удлинилась.
Трое неудачников вынуждены будут встать позади всех. Достанется ли тем, кто выстроился за нами, что-нибудь — это вопрос. Может, шиш на постном масле получат. Что ж, таковы правила жестокой игры, называемой живая очередь. Я неоднократно наблюдал как со скандалом, криками, оскорблениями вышвыривали из живых очередей «нахалов». Нормальные вне её, люди будто зверели, становясь очередниками.
…Мы с Гарёшкой потянули былинки, короткая досталась мне. Мои друзья, радостные, возвратились на берег, а я остался сторожить опасную очередь и продолжал думать о собаке. Чья она? Или ничейная? Захочет ли она со мной дружить? Угостить бы её чем-нибудь для начала знакомства, а то она может обо мне плохо подумать. Какая же недоверчивая и злая! Однако не напала на меня. Другая могла бы и куснуть. Хотя собак я не боялся, и они редко осмеливались по-настоящему рычать на меня. Но ни одна в жизни, повторюсь, не цапнула даже за палец, наверное, потому что я не желал им плохого.
Чем же всё-таки её угостить? Трудный вопрос. Костями из будущего супа? Так она более вкусную и питательную требуху научилась самостоятельно добывать. Умница!
Следующий пересчёт изрядно задержался — наблюдательница домой завтракать ушла. Я истомился в ожидании. Уже и Юрка наведывался узнать, не случилось ли чего, не отменили ли продажу костей. Вскоре после него появился Гарёшка и вызвался за меня добровольно додежурить оставшееся до проверки время. Друг!
Солнце, ослепительно-раскалённым шаром выкатившись на небесные высоты, так жарило, что лопухи повяли, опустив к земле тёплые, обмякшие листья.
Искупавшись наскоро, я заморил червячка. Заботливые друзья сварили в большой консервной банке раков, ими-то мы все и позавтракали. Правда, без соли. Но всё равно вкусно — рачье мясо приятно сластит. И я принялся усердно нырять, чтобы добыть новых. Наловил. Десятка два. И все — крупные. Повезло. Да и другие пополнили улов. Лишь Вовка Сапог не подходил к кромке воды — он боялся в неё даже пальцы ног окунуть — думал, что сразу утонет.
Дрожа от озноба, я извлёк из заветного кармашка, пришитого к изнанке трусов, кремень, кресало из куска напильника и трут в обрезке медной трубки, запечатанной с обоих концов воском, который наскрёб с бабкиного подсвечника. Высек гирлянду искр, раздул затлевший трут, распалил костёрчик.
Сооружение костра, а точнее — рождение огня, неизменно вызывало у меня радостное оживление и дарило удовольствие. И более того — наслаждение. Живой огонь!
Через несколько минут раки в банке покраснели. Я собрал оставшихся — расползшихся, прыгавших на хвостах и норовивших ущемить клешнями побольнее — и опять заполнил ими опорожнённую консервную банку. Соль нашлась у Юрки — предусмотрительный паренёк. Чего только раньше молчал?
Для экономии мы не бросали её в воду, а макали в растолчённые кристаллики бело-розовое нежное мясо.
И тут я опять увидел свою собаку. Она стояла по брюхо в воде возле трубы и внимательно вглядывалась перед собой — в реку.
Прихватив несколько кусочков рачьего мяса, я направился к Водолазке. Так, само собой, получилось её имя.
— Водолазка! Водолазка! — позвал я, решительно и с самыми добрыми намерениями приближаясь к ней.
Она быстро повернула голову в мою сторону, прыжками выскочила из воды и остановилась, поглядывая то на меня, то на реку.
Да ведь она не понимает своего нового имени! Как её могли прежде называть? Жучка? Мало ли у собак имен, поди угадай. Вон Гарёшкину лупоглазую сучку-малютку Мушкой кличут. Она у Кульши дома живёт, под шкафом в картонной коробке. Там же и щенят выводит, крохотных, как мышата.
Водолазка не отозвалась ни на одну кличку.
Я почмокал, посвистел, привлёк её внимание и положил наземь мясное крошево. И отошёл назад в сторону.
Собака, несколько раз остановившись по пути, приблизилась к лакомству, понюхала его, подняла морду и долго, словно размышляя, разглядывала меня. Я говорил ей хорошие, правдивые слова. По всей видимости, она не верила мне и при каждой попытке приблизиться к ней удалялась на безопасное, по её меркам, расстояние.
Но когда я оставил её в покое, собака возвратилась на свой «наблюдательный пункт» к трубе.
И тогда я подумал: а почему бы не сделать ей желанный подарок, и, балансируя раскинутыми руками, прошёл в самый конец трубы. Течение то и дело пыталось столкнуть меня со скользкого округлого металла, но я каждый раз восстанавливал равновесие и удерживался на ногах.
Ждать пришлось долго, но вот что-то светлое всплыло из пучины и вновь погрузилось в неё. Я нырнул. Сквозь поднятую муть различил бесформенный светлый лоскут и сцапал его, ускользающий и мягкий.
На сей раз собака не отказалась от моего подношения и утащила его в укромное местечко в овражке. А тут и пересчёт нагрянул. Бдительный Гарёшка гикнул нас, когда ставни в ларьке наконец распахнулись. Возле окошечка встала дюжая наблюдательница с рослой и толстой помощницей, чтобы никто без очереди не посмел на драгоценные кости посягнуть. Очередь — святое дело, ненарушимое. Разорвут!
Давали по два килограмма на номер, бабка правду сказала. Пришлось посожалеть, что Стасик остался дома — ещё пара килограммов не помешала бы нашей семье. Однако братишка тоже выполнял ответственное задание — ему мама поручила стеречь квартиру. Кто-то на прошлой неделе, когда мы играли в «защиту крепости», попытался влезть к нам в комнату, и уже почти всю замазку с внешней стороны оконного стекла отковырял чем-то острым, похоже стамеской или отвёрткой. Однако не успел выполнить своё гнусное намерение — в комнату вошёл я и увидел, как кто-то метнулся прочь от окна. Кто пытался нас обокрасть, я неожиданно узнал лишь несколькими годами позже. От самого покушавшегося.
По правде сказать, и красть-то у нас было почти нечего. Большущее бабушкино зеркало в резной деревянной раме с навершием, изображавшим старинные музыкальные инструменты, — его в окно не вытащишь. Настенные, тоже из бабушкиного приданого, часы с медным блюдцем-маятником и мелодичным боем да чайная серебряная ложечка с витой тонкой ручкой — вот и все наши семейные богатства. Часы и ложку, конечно, могли стащить, но не зеркало. Их, эти вещи, да одежду в старинных шкафах Стасик и сторожил сейчас.
…Мне досталась пара почти голых рёбер да большой, как с завистью определила бабка — «шахарнай», мосол.
Ай да бабка! Ай да бабки! Обо всём-то они прознают, эти незаменимые добытчицы, помощницы и кормилицы. Не подвела Герасимовна. Не напрасно за неё ручался. Жаль, что у меня нет бабушки, наверное, умерла. Это предположение. А вообще-то, кто её знает, может, и жива. Но я её помню, хотя и маленьким был, когда она с несмышлёнышем-братцем в Кунгуре тютюшкалась. Добрая была бабуся, заботливая. И все шалости мне прощала, не наказывала, а лишь снисходительно журила. Но почему-то с родными — к кому она уехала в город Фрунзе — даже ни отец, ни мама не переписывались. Лишь позднее узнал причину — боялись. Лишь я один ничего не страшился.
…Конечно же, я выполнил все мамины указания: и крапивы со свекольными листьями насрезал, и морковки надёргал, и кости в большой кастрюле на таганке сварил, на заднем дворике напротив нашей сарайки.
Стаська мне усердно помогал, топливо разыскивал. Под таган шло всё, что могло гореть, даже старая галоша сгодилась, и получилась попутно шикарная дымовая завеса. Но жил я другим.
Весь день у меня из головы не выходила встреча с собакой. Я надеялся, что мы подружимся. Она так хорошо, без прежней злобы посмотрела на меня в последнюю встречу.
И вечером опять наведался к трубе. Кругом было непривычно безлюдно. На островном берегу дымил костёр — одинокий рыбак спасался от комаров. В серой притихшей реке отражалось неяркое пламя костра, перевивалось красными языками.
Налюбовавшись пустынным пейзажем, донимаемый тучей комаров, я ринулся прочь с берега, отгоняя кровососов широким листом. И тут меня осенило: куда делась Водолазка? Уж не в той ли овражной глиняной пещере спряталась на ночь?
Размахивая лопухом, безуспешно защищался от назойливых, кровожадных пискунов, — я повернул налево к овражку. За несколько шагов до пещеры услышал усиливающееся с моим приближением рычание, обращённое явно ко мне, и какой-то скулёж. Нетрудно было догадаться, что там вместе с собакой ютится щенок. И, возможно, не один. То-то у неё такие отвисшие соски.
Осторожно, в ожидании очередной яростной атаки, а мне было хорошо известно, на что способна собака, защищая свой помёт, — видел — я отступил, как в прошлый раз. И ни с чем возвратился домой. Но теперь мне было известно, где она обитает.
Долго не мог уснуть, всё думал: что станет с Водолазкой и её щенками зимой, когда Миасс покроется льдом, а овражек занесёт снегом вровень с бугром? Едва ли Водолазкина семейка выживет. А собака-то — необыкновенная. Жалко её. Хоть и простая дворняга. Да какая разница, ведь собака же! Да ещё со щенками. Пусть и одним. Она такой же человек, всё понимает, только разговаривать не умеет.
Уже следующим утром мы в штабе обсуждали судьбу Водолазки и её потомства. Я предложил действовать так: забираем из пещеры помёт, идём к Водолазке, показываем, и собака послушно следует за нами.
Под нашим сараем мы — Юрка, я, Гарёшка, и Стасик нам охотно помогал, — выкопали вместительную нору, устлали её травой, чтобы детишкам Водолазки жилось в тепле и уюте.
Поскольку план придумал я, то и осуществить его предстояло мне же. Тем более что сообразительный Юрка прямо спросил меня, кто лично будет щенков из пещеры брать и кто понесёт их показывать суке.
Друзья обещали оберечь меня от возможного нападения. Если собака набросилась бы на меня, Бобынёк и Гарик с верёвочными кнутами в руках отогнали бы её, а я сразу поставил бы на землю старое дырявое лукошко со щенками — пусть хватает их за шкирки и уносит восвояси. Коли не хочет, чтобы мы о них заботились.
Затея выглядела рискованной. Мы это осознавали. Но верили, что завершится она успешно. Я от кого-то из ребят слышал, что сука не бросается на человека, завладевшего её потомством. И поверил в это.
Всё произошло именно так, как мы предположили. Водолазка, которой я показал обоих её щенят, залаяла, запрыгала, затанцевала передо мной, тявкнула несколько раз, словно с какой-то просьбой обращалась, и послушно потрусила сбоку, то и дело забегая вперёд нас, будто желала убедиться, что щенки ещё в лукошке и им не грозит никакое лихо. Мне показалось, что собака улыбается. Она, уверен, правильно угадала наши замыслы и поэтому весело скалила зубы.
Но когда мы приблизились к воротам нашего двора, Водолазка повела себя непонятно и даже странно, бросилась через дорогу к дому, где жил Гарёшка, и прямо-таки с остервенением принялась облаивать дядю Исю, мирно сидевшего в зимнем пальто и валенках на лавочке, подпёршись тростью, без которой и шагу ступить не мог. Дядя Ися, понятное дело, вынужден был пустить в ход свой посох, а Водолазка хватала его и грызла, захлёбываясь от ярости.
Я позвал собаку, и она, к моему удивлению, тотчас отстала от дяди Иси, сиганула к нам, завиляла хвостом, заюлила. Но почему она так яростно лаяла, чем ей не понравился тихий, неподвижный, безобидный, очень больной человек?
Дядя Ися для меня тогда оставался загадкой, хотя кое-что о нём я знал достоверно.
Впервые после длительного отсутствия (ему до исчезновения было лет семнадцать — восемнадцать) я увидел его ранним утром нынешнего лета — в середине мая. Сначала услышал глухой, ухающий кашель. Потом показался человек, кого-то мне напоминавший и принятый мною за старика.
Примостившись на вершине тополя, обозначенного мной «капитанским мостиком», на доске, привязанной к сучьям, я наблюдал в бинокль, настоящий боевой бинокль, но с одним пустым окуляром, весь наш квартал от улицы Труда до улицы Карла Маркса.
Бинокль под честное слово на три дня дал мне Алька Чумаков, мой старинный знакомый, ещё вместе в один детсад ходили. Бинокль имел славную, если не героическую биографию, — он принадлежал Алькиному дяде, военному начальнику ещё с гражданской войны, а сейчас чуть ли не генералу (если верить Чумаку), живущему в Ленинграде.
Цель у меня была ясная: заметив кого-нибудь из друзей, дождаться его приближения и неожиданно, врасплох, понарошку, напасть: «Стой! Руки вверх! Хенде хох!»
Настроение у меня было радужное, и я насвистывал мелодию «Красотки, красотки, красотки кабаре…» из недавно и нескольких раз подряд с увлечением просмотренного фильма «Сильва».
Столь восторженное настроение объяснялось тем, что я до сих пор чувствовал себя немного влюблённым в прекрасную, хотя и малость старенькую Сильву и готов был совершить ради неё невиданный подвиг. Например, спрыгнуть с высоченного сарая.
Взглянув в ту сторону, откуда послышался бухающий кашель, увидел на противоположном тротуаре маленького рыжего человечка, держащегося одной рукой за забор, а другой за грудь. Судорожный кашель бил его долго, и я подивился: где в этакую теплынь умудрился он настолько простудиться? Мы всей свободской ребячьей стаей уже в начале мая купались в парковых каменоломнях со скользким, на метр осевшим под прогретую солнцем воду льдом, и ничего — здоровёхоньки, никто даже не чихнул. А он…
Накашлявшись, человек, опираясь на забор, доковылял до лавочки и опустился на неё в изнеможении. Теперь я, прищурив один глаз, и плотнее прижавшись другим к окуляру, мог рассмотреть его получше.
Восьмикратно увеличивающий бинокль приблизил лицо рыжего человека настолько, что я отпрянул и слегка ударился затылком о ствол тополя. Это было лицо мертвеца! Серая кожа, фиолетовые губы с кровавой пеной в уголках полуоткрытого рта. На щеках и лбу — масляные капли пота. На подбородке торчала кустиками красновато-ржавая щетина. И неестественно белели очень яркие молодые зубы.
Глаза человека были закрыты, и я различил жёлтые спёкшиеся ресницы. Грудь его дёргалась от резких и коротких вздохов.
— Ему плохо, — догадался я. — Надо помочь!
Вмиг по сучкам спустился с дерева и подбежал к больному — несомненно, что человеку тяжело.
— Дядя, вам плохо? Вы хвораете? — спросил я, робея.
Человек не сразу расклеил веки, и на меня уставились безжизненные блёкло-голубые глаза. Мне стало зябко от этого бессмысленного неподвижного взгляда, устремлённого на меня. Да это же Исаак Фридман, как я сразу не узнал его?
— Скажи… маме, — прошелестел он сухими губами. — Я… вернулся…
Он смотрел на меня непонимающе и долго молчал. Наконец произнёс:
— Ба-ся… Тётя Бася…
Тётю Басю я, разумеется, знал. Да и кто ж о ней не слышал окрест. Быстро, добротно и дёшево — очень дёшево! — умела она обновить любую одежду — перелицевать, изменить фасон, размер, превратить её в неузнаваемую, красивее сделать, чем была новой, мужскую, женскую, детскую, на любой вкус… Тётя Бася слыла портнихой-кудесницей. Она и внешне отличалась от всех других людей: огромная, толстая, усатая.
Муж её — колченогий от рождения дядя Лёва, маленький, большеголовый, щуплый, с кудрявой, огненной, пышной шевелюрой, походил на факел. Или на «костёр» на сцене драмтеатра в пьесе «Партизанка Юля», которую мы смотрели всем классом несколько лет назад. Чуть светало — уже раздавался во дворе стук его молотка. Те же дробные звуки я слышал и в сумерках, когда наигравшись вдосталь, давно пора было бежать домой — бухнуться спать.
Дядя Лёва днём, в погожую погоду, выползал во двор, ловко закидывал зад со скрюченными детскими болтающимися ножками, одетыми в детские же чулочки, на табуреточку с сидением, забранным перекрещенными кожаными ремнями. Возле него сразу вырастала гора разной обуви со всей округи — дядя Лёва всем известен, даже знаменит как сапожный мастер. И он не драл за выполненную работу три шкуры, как некоторые частники, а называл цену «по совести», за что его все уважали. Отремонтированная им обувь становилась ещё крепче, нежели новая, — такая легенда о дяде Лёве и его неподражаемом мастерстве сделала Фридмана, по-моему, поистине самым знаменитым среди всех сапожников Челябинска. Впрочем, так же, как беспутное поведение дочери, всегда весёлой и легкомысленной красавицы Розки. Вся улица знала правду и об их сыновьях Ароше и Иське. Они слыли щипачами высочайшего класса, то есть профессиональными карманниками, унаследовав виртуозность и артистичность от своих прославленных трудяг-родителей. В отличие от своих тоже по-своему «знаменитостей»-детей, тётя Бася и дядя Лёва были честнейшими людьми, об этом знала вся Свобода и жители соседних улиц.
Арошу, то есть дядю Аарона, я видел частенько в прошлом году. После очередной годовой отсидки он шумно и щедро навёрстывал упущенное. Пир горой в честь его возвращения из тюряги продолжался во дворе дома номер семьдесят девять три дня подряд.
Девушки, жаждущие близкого знакомства с ним, порхали по двору с утра до поздней ночи. Ничуть не искажу истину, если скажу, что они, эти девчата, стояли к нему в очередь, как больные на приём к врачу, — Ароша действительно обладал редкой красотой! Но месяца через три блистательный, в синем шивиотовом костюме, белоснежной рубашке с накрахмаленными обшлагами и в туфлях фасона «шимми», с рантами и нежным музыкальным скрипом, постоянно улыбающийся белозубый неотразимый Ароша исчезал столь же неожиданно, как и появлялся.
Розка, томная и мечтательная в любое время дня, шурша умопомрачительным шёлковым платьем вишнёвого цвета, прекрасная, как царица из «Тысячи и одной ночи» (книги, которой я тогда зачитывался до миражей), собравшись на танцы в Дом офицеров, сообщила нам, что братец опять «зачалился». За «лопатник». Так карманниками назывался бумажник. Вот тебе и Ароша Артист — опять попался. Коротко, очень коротко «воровское счастье» — милиционеры непременно ловили его, и я не мог уразуметь, как это им удавалось.
А этот окоченевший, полумёртвый рыжий человек — дядя Ися? Не верилось. Я помнил его вёртким, быстрым юношей, сорванцом, голубятником. И вот…
Спрашивать его ни о чём не посмел, а рванул с места и через несколько секунд предстал перед тётей Басей. В засаленном до кожаного блеска ситцевом фартуке, она готовила на таганке что-то мясное, вкусное на обед и одновременно сшивала какие-то куски ткани на ножной машинке «Зингер», которую на могучих руках вынесла из квартиры во двор и поставила на булыжное его покрытие — ещё дореволюционное.
— Тётя Бася, там вас спрашивают… Наверно, ваш сын. Ися.
— Так что же он не идёт сюда сам, если я ему понадобилась? Его кто-то держит за руку и не пускает, да? Я готовлю обед и работаю, хлопчик. Так и скажи ему.
— Он не может идти. Сидит на лавочке. И кашляет. Он простыл. Здорово, видать.
— Не может? — всполошилась тётя Бася. — Что с ним, с моим мальчиком, такое сделали?!
Не выпуская поварёшки из толстых пальцев, она вперевалку, как утка, заспешила к воротам, смешно растопырив руки. Я на одной ножке прыгал вслед за тётей Басей, и даже опередил её.
Тётя Бася накрыла своим тучным телом маленького, худенького человечка и заплакала, запричитала, заголосила — на всю Свободу!
Приполз, опираясь на ручные деревянные колодочки, дядя Лёва. Молча разглядывал сникшего от обморочного бессилия сына.
Быстро собралась толпа — тётя Люба Брук, всё многочисленное шумливое семейство Кушнеров, из соседнего дома приплыла полнотелая мамаша Моськи Сурата, моего хорошего знакомого, тётя Нина — и все они загомонили, громко, не слушая и перебивая друг друга. Наконец кто-то предложил «дать больному что-нибудь тёплое и питательное». Куриный бульон, естественно, нашёлся у закройщика модельной одежды Сурата, и жена его тётя Нина принялась отпаивать с позолоченной чайной ложечки дядю Исю, благоухая «Красной Москвой», а жирный бульон стекал прозрачными каплями с его небритого, грязного подбородка в глубокие ямки возле ключиц и на грудь, вздымающуюся при дыхании уже не столь судорожно.
— Ах, Исик, мальчик мой, дойди только до кроватки, и мы тебя выздоровим, — взволнованно приговаривала тётя Бася, всхлипывая. Мне тоже было очень жаль дядю Исю, такого исхудавшего и обессиленного. Старше любого из нашего отряда лет на десять, сейчас он выглядел сморщенным, трухлявым стариком.
Вскоре больного увели под руки в барак — медленно, с большими предосторожностями.
В последующие дни о нём ничего мы не слышали. И сам он не появлялся на глаза никому. Я продолжал удивляться, какие они все дружные и как любят дядю Исю.
Приблизительно через месяц дядю Исю уже можно было увидеть во дворе, возле двери, ведущей в тамбур квартиры Фридманов. В полуденный зной он неподвижно сидел в тени своей высокой голубятни, закутанный в тулуп. Но его не интересовали любимые птицы. Прозрачное, истаявшее лицо испещрено крупными серыми бляшками веснушек, а глаза дяди Иси закрыты от яркого солнца большой панамой белого цвета. Он словно прислушивался к чему-то, смежив веки, чего никто, кроме него, не различал в кавардаке звуков, которыми по крыши домов был заполнен многолюдный двор большого двухэтажного, головного, дома и барака под одним номером — семьдесят девять. Вернее, двух домов-арбузов, набитых, как мне представлялось, семечками-людьми.
Отрешённость дяди Иси весьма обострила мой интерес к нему, и я обычно вертелся всегда поблизости, играя с Игорёшей Кульшой и другими ребятами.
Сразу же от тёти Баси разлетелась молва, что Исика «комиссовали» или «сактировали», то есть отпустили из тюрьмы домой по болезни, с забавным названием, если даже не смешным, — «чихотка». «Чихотку» я связал с чиханием и бухающим кашлем. Вот до чего можно дочихаться, что и из тюрьмы выгонят — чтобы другим сидеть не мешал, — сделал я смелый вывод, не догадываясь, что чахотка и страшный туберкулёз — одно и то же заболевание.
Любопытство моё к дяде Исе постепенно иссякло, ну сидит и греется на солнышке. Но одно событие, вроде бы никак не связанное с ним, меня, да и не только меня, а Гарёшку и Юрку тоже, крепко взбудоражило — на помойке, рядом с фридмановской голубятней, мы углядели отрезанную собачью голову. Она лежала на сточной помоечной решётке. Мы её, разумеется, откатили в сторону палкой. Мёртвая собачья голова поразила нас. Зачем, кто это злодеяние совершил?
Через два-три дня мы, услышав лай, установили: в сарае Фридманов привязан на верёвке большой пес. Его по нескольку раз в день кормит сама тётя Бася. Нас эта псина не могла не заинтересовать.
С Гарёшкой мы вскарабкались на фридмановский сарай, легли на покатую замшелую крышу с наклоном в соседний двор — нас с дворовой площади дома номер семьдесят девять не увидеть — и, раскачав одну из досок, сдвинули её в сторону. В образовавшуюся щель разглядели в полутьме сарая здоровенного пса, без устали облаивавшего нас.
Пришла обеспокоенная беспрерывным брёхом тётя Бася, но мы затаились, и она удалились, так ничего и не выяснив.
Лохматому, пегому, крупной породы псу жилось у Фридманов недурно — в медном тазике для приготовления варенья всегда полно еды, различались кости и даже хлебные корки. У нас аж слюнки потекли. Нам было известно: «пищевые отходы» тёте Басе по блату даёт из военторговской столовой повар-щёголь с усиками — «клиент» дяди Лёвы.
Ничего подозрительного мы не заметили. Если тётя Бася настолько любит своего волкодава, то не позволит же отрубить ему голову и выбросить её в поганое место. Где, как говаривал Вовка Кудряшов, логика?
Словом, злодеяние так и осталось до поры до времени тайной. Но мы не сомневались, что раскроем это кошмарное преступление.
…А сейчас, когда Водолазка, отскочив от дяди Иси, вернулась к нам и завиляла хвостом, то никто из нас не понял, почему она столь остервенело рвалась к несчастному инвалиду.
Дядю Исю многие жалели. Оказывается, врачи вырезали у него одно лёгкое. Совсем. Поэтому он такой скособоченный. Я ему тоже сочувствовал и недоумевал: чего Водолазка к этому беззащитному человеку прицепилась?
Но тут же об этой нелепой собачьей выходке забыл, — может, ей захотелось перед нами выхвалиться: вот, дескать, какая я сильная, смелая и решительная. Так поступают даже некоторые ребята. Толька Мироедов, к примеру. Постоянно изображает из себя героя, который никого не боится и которому всё нипочём. А в самом деле — трус.
С появлением семейства Водолазки в нашем дворе хлопот у меня значительно прибавилось. Посоветовавшись с друзьями, я решил добывать корм вместе с ней. Теперь ей далековато было бегать на реку. И по пути на неё могли напасть бродячие псы. И в сети шкуродёрам угодить запросто — они постоянно объезжали улицы и ловили саком на длинной рукояти бездомных собак. И зазевавшихся домашних. После некоторых из них хозяева выкупали за деньги. Я же решил — не позволю её обидеть, чтобы наша любимица угодила в решётчатый ящик.
Из куска — без спроса у мамы — отрезанной бельевой верёвки получился отличный ошейник. Вместо поводка подошёл двухметровый конец электропровода.
В один из ближайших дней я отвёл Водолазку на реку, к трубе. Освободил её от ошейника и скомандовал:
— Лови! Фас!
Но она стремглав помчалась в ту сторону, откуда мы только что пришли. И никакие мои приказания не воздействовали на неё.
Вернувшись домой, я нашёл Водолазку в норе, рядом со своими щенятами, вовсю терзавшими её соски. Она улыбалась мне, но не пожелала уходить от своего потомства. Я всё же надел на неё ошейник. Пятясь, она потянула поводок, избавилась от ошейника и юркнула под сарай, поджав хвост.
Вытянуть её не удалось. Она недовольно рычала и скалила зубы, но уже не в улыбке. Ссориться с ней не хотелось.
Ничего не оставалось, как пойти на реку добывать корм самому.
Немного посмекалив, я облегчил свой труд. У меня в сарае на гвозде висел старый сачок с крупной ячеей. Я его на каменной гряде, что Миасс вдоль разделила, нашёл, у Острова-сада. Попробовал ловить им рыбу, но ничего из этой затеи не получилось, как ни старался. А сейчас — пригодился.
По диаметру он уступал трубе, но если сак установить напротив отверстия — в его мешок обязательно что-нибудь да попадёт. Расчёт оправдался, и я каждый день вытаскивал из сети всякую требуху.
Водолазка быстро освоилась в новой должности охранницы, и никого, кроме меня и Стасика да моих друзей, к двери сарая не подпускала.
Тётя Таня сразу с появлением во дворе Водолазки сочинила страшную историю, как «агромадная» собака Рязановых, «ну чисто — телёнок», набросилась на неё, чуть не разорвала, перепугав почти до смерти. Заучив побасёнку наизусть, слово в слово, она без устали исповедовалась всем встречным и поперечным, завершая страстные излияния обвинением:
— Да што жо этто такое, а? Никакого житья нету! Нада жа: бешанава кабиля привели и натравливают на беззащитных суседев! За этто судить надобно как за фулюганство — в свою личную стайку не пройдёшь. Пушшай суд Егорке строк на исправления даст. Сколь можно терпеть?!
Однако Ржавец на Водолазку и её щенков не покушался и, поверив вздорным россказням мамаши, обходил наш отсек общего сарая окольно.
Между тем у Водолазки обнаруживались один за другим разнообразные таланты. Не буду повторять о её редких способностях пловчихи. Водолазка и прыгала за завидную отметку — выше моей головы. Правда, исполинским ростом, да и вообще ничем особенным я не выделялся. А вот наша любимица… Она ловко выхватывала из пальцев поднятой руки кусочки требухи. И понимала едва ли не каждое моё слово. Постепенно я уверовал в себя как в прирождённого дрессировщика животных. Однажды перед сном представил себя среди группы хищных зверюг на ярко освещённой цирковой арене — с хлыстиком в руке и маузером на боку. И тут же в меня закралось сомнение: следует ли поступать в суворовское училище? Может, всё-таки пойти в цирк дрессировщиком экзотических животных? Экзотических — значит опасных, кровожадных — так объяснил я себе это слово с цирковых афиш. Но часто я вспоминал и о знаменитом, ещё довоенном, пограничнике Карацупе — вот кому надо подражать!
И ещё меня тешило то, что Водолазка точно понимала многие команды: «на (бери)», «иди рядом», «не тронь», «ко мне», «стереги», «чужой» и другие. Она мгновенно отзывалась на свист, приветливо виляла хвостом и улыбалась, когда я её кормил и хвалил, поглаживая голову и шею. Словом, моя собака обладала, несомненно, большим умом и выдающимися способностями. Как животное.
Я гордился Водолазкой, её храбростью и понятливостью и, восторгаясь, не мог удержаться, чтобы не хвастаться ею перед друзьями и даже взрослыми — бабкой Герасимовной, мамой, которая, кстати сказать, относилась к этому умному животному не очень одобрительно. Не все, далеко не все взрослые люди понимают собак и часто ведут себя по отношению к ним враждебно: бьют, гоняют дворняг. Да и пацаны часто относятся к ним не по-человечески, издеваются над ними. Во мне такие случаи всегда вызывали протест, и, если находилась возможность, я вступался за преследуемую истязателями животину. Вящее веселье у пацанов вызывали собачьи пары во время гона. «Склещенных» собак почему-то с гоготом старались разъединить ударами дрынов или бросками в них камней. Для некоторых пацанов подобное жестокое отношение считалось забавой и даже личным «геройством». И не только я, ещё несколько знакомых свободских пацанов «забавы» маленьких истязателей животных встречали в кулаки. А те даже не понимали, что наносят боль живым существам, да ещё и лучшим друзьями человека. Таким другом стала для нас Водолазка.
А как она любила своих детёнышей, черно-белого и пятнистого серого! Заботливая мамаша облизывала их, играла с ними, а они резвились, два мохнатых толстоморденьких и голубоглазых потешных шарика, принося и нам отраду.
Уже и желающие нашлись взять на воспитание Водолазкиных весёлых щенков, но Стасик, обожавший забавляться с собачатами, воспротивился, заныл: не отдавай да не отдавай — самим мало, если б их было пять, а то всего два.
В остальном мы — Водолазка, её сыновья, Стасик и я — были счастливы. И мама согласилась, чтобы у нас жила собака, только спросила, чем я её намерен питать, когда наступят холода. Я объяснил. И заверил, что голодными своих друзей не оставлю.
Но счастье наше чуть не рухнуло в одно утро, когда я обнаружил в норе одних скулящих щенят. Куда делась собака? Убежала на реку? Но зачем? В сине-рисунчатой кузнецовской треснутой тарелке с отколотым краем — полно еды.
Обеспокоенный, я побывал на берегу, обследовал его и овраг, но Водолазки не встретил. И побежал к Гарёшке. Того тоже озадачило исчезновение собаки. Но он не так волновался, как я. Он вообще был очень спокойный паренёк, никогда особенно не волновался.
— Щенки подохнут, — спокойной заявил он. — Без молока.
Легко сказать — молоко, а где его взять? Нет, где его купить, любой знает, но на какие шиши?
Однако на чекушку коровьего молока мы всем отрядом наскребли. Я быстренько смотался к тёте Ане Васильевой, у неё в погребе всегда в кринках стояло молоко. Собачата насытились и уснули, обнявшись.
По моему призыву снова собрался весь штаб отряда.
— Ребята, — открыл я заседание, — задача такая: найти Водолазку. Если её не изловили сетью живодёры, то она где-то здесь, поблизости, у кого-то в плену мается.
— Она не могла убежать от своих собачат, — авторитетно заявил Гарёшка.
— Вот именно, — разделил я его мнение. — Поэтому обыскать всё вокруг — и найти.
— Прочёсывать все места, где она может оказаться! — порекомендовал Гарёшка.
— Можно долго проискать, — усомнился Юрка. — Если бы кого-нибудь ещё сагитировать.
И мы принялись перебирать возможных помощников.
— Марка! Толковый парень. И в одном бараке с Фридманами живёт, — предложил Игорь.
— Не стоит его впутывать в наше дело, хотя парнишка он вроде бы ничего, — высказал своё мнение Юрка.
Я с ним согласился. Если нас будет слишком много, это вызовет подозрение соседей и того, кто похитил Водолазку. И он может куда-нибудь её перепрятать. Или отдать кому-нибудь, живущему далеко, не на Свободе.
— Толяна Бумбума, — высказал Гарик.
— Едва ли он поможет, — откровенно признался я. — Но попросить можно.
— А не Бумбум увёл Водолазку? — догадался Юрка и многозначительно утёр нос тыльной стороной ладони.
— Это выяснить берусь лично, — сказал я. — Знаешь, почему я тоже так думаю? Тётя Таня люто ненавидит Водолазку. Сам не знаю — за что. А ты, Бобынёк, потолкуй с Мироедом, пусть всё обнюхает в своём дворе. И в соседнем, где Пучкины живут.
И мы немедля приступили к делу, которое не могло ждать.
Тётя Таня на мой вопрос слукавила:
— Анатолия нету дома. А я никаво не знаю. Ой, никаво…
Но я-то уверен был, что Ржавец опять отлёживается под огромной, в полкомнаты широченной, с панцирной сеткой и блестящими никелированными шарами на верху ножек кроватью на колёсиках — неоценимое богатство Даниловых. Это капитальное сооружение, надвинутое на крышку погреба, и скрывало Толяна от комсомольской путёвки в ПТУ.
Догадаться было запросто — на крылечке сидела чернявая остроносая девица и читала «Комсомольскую правду», тщетно поджидая «подпольщика» Толяна.
Как только тётя Таня отлучилась куда-то, наверное, к сестре Анне Степановне потопала, я забрался на подоконник Даниловых и шёпотом позвал:
— Толян! Эй! Толян!
В ответ — ни гу-гу. Но я не отступил. Оглянулся: не видать ли тёти Тани на горизонте, и спрыгнул в комнату.
Толька каждый раз забивался в голубец под эту кровать, когда за ним приходили из райкома комсомола. И сейчас — точно! — Ржавец лежал там на плетёном половичке и мусолил школьный учебник химии, заучивая наизусть какие-то формулы.
— Чего тебе надо? — зашипел гневно Толька. — Проваливай, а то вылезу и как дам!
— А райкомовская-то услышит.
— Где она? — с испугом спросил тихонько комсомолец-«подпольщик».
— На крыльце сидит, газету читает. Тебя караулит.
— Ну, чего тебе?
— Где наша Водолазка? Только честно.
— Опупел, что ли? Откуда мне знать?
Похоже, Ржавец говорил искренне.
Тем же путём я выбрался из квартиры — девушка терпеливо дожидалась лукавого комсомольца Данилова, напрасно теряя время. Но я не мог выдать Толяна, хотя он и скрывался от так называемой ремеслухи, а это предательство устава комсомола. Да и Ржавец — не друг мне. Злой парень. Сколько я от него оплеух получил — не побежишь же каждый раз маме жаловаться, как девчонка какая-нибудь. Терпел. И не сдавался.
Ржавец, возможно, и пошёл бы учиться в «ремеслуху», а после — на завод, но тётя Таня запретила ему об этом даже думать. Хотя пацаны и помладше Толяна, работая в цехах, получали полновесный хлебный паёк и талоны в столовую. И помогали, главное, фронту. Тётя Таня, объясняя соседям, почему не отпускает сына в «рэу», мечтала:
— Толькя на анжинера пущай выучится — будёт с по́рфелем ходить под мышкой и гумаги подписывать. Как начальник Пушкарёв. И я тады от стирки проклятой хочь отдохну. Хватит, помантулила — вон руки-те што колоды. Не разгибаюца от холодней воды.
…В поисках Водолазки незаметно иссяк день и наступил длинный тихий вечер. Многие жильцы нашего дома вышли из своих квартир и мирно беседовали, сидя на крылечке, лузгали подсолнечные семена. Мамы среди них не было. Она опять задержалась на работе. Да и никогда семечек не грызла. Ни одна, ни с соседками. И женскими разговорами не занималась — недосуг.
И тут появился Гарёшка.
— Водолазка нашлась!
— Божись! Где?
— У Фридманов. В сарайке. Плачет! Честно!
— Не обознался?
— Через крышу зырил — она. В наморднике из ремней.
— Как она к ним попала?
— Представления не имею. Может, выманили? С ней какой-то пёс здоровенный в другом углу стайки.
Мы устремились к Фридманам.
С кошачьей ловкостью забравшись на довольно высокий сарай, под неодобрительные выкрики кого-то из жильцов соседнего двора, залегли на крыше. Раздвинув замшелые доски, я не сразу разглядел, что там за собака внизу. Одна. Пёс куда-то уже делся. Водолазка! Её голову действительно обтягивал тесный ременный намордник. Я узнал её приглушённое повизгивание. Так она разговаривала со мной, когда что-нибудь выпрашивала. Я позвал собаку. Она забеспокоилась ещё больше. Пытаясь порвать сыромятный плетёный ремень, вставала на задние лапы, хрипела от удушья — безуспешно… Да такую привязь и трактором не разорвать.
В углу темноватого закутка, где томилась Водолазка, я различил большой медный таз с деревянной ручкой, наполненный едой. Выходит, она не дотронулась до всей этой вкуснотищи. Голодует от тоски по детёнышам.
— Идём к тёте Басе, — скомандовал я.
Спустившись на забор и спрыгнув с него на булыжниками выстланный двор, мы устремились к Фридманам.
Тётя Бася опять что-то готовила — рыбное и очень аппетитное, пахучее. На таганке, поставленном в жерло кирпичной печи. Поэтому двери и окна были растворены настежь.
Дядя Лёва, труженик, каких поискать, тут же тачал сапоги из нового блестящего хрома. Как только мы ввалились в прихожую, она же и кухня, сразу прикрыл заготовки тряпкой — осторожный.
Дядя Ися полулежал неподалёку, на низком топчане, одетый в вязаный шерстяной свитер и поверх него — в меховую безрукавку. На ногах его, привлекая нежной белизной, красовались новые толстые шерстяные носки — это в такую-то невыносимую жарищу-духотищу! Мы в одних трусах бегали и под уличной колонкой за день несколько раз обливались.
Преодолевая сковывающую робость, я произнёс:
— Тётя Бася (она казалась мне главной во всём семействе), у вас в сарайке наша собака, Водолазка. У неё есть собачата. Два. Маленькие. Голодные. Они без матери не смогут выжить. Умрут.
— Откуда вы узнали, что у нас вообще есть собака? И кто вам сказал, что собака — ваша? — назидательно спросила тётя Бася. — Я бы хотела взглянуть на того человека и плюнуть ему в глаза.
— Плюйте мне в глаза, — осмелился я, — но эта собака — наша. Мы её с речки привели. Она ничейная была. В глиняной норе жила со щенятами. А после — у нас. В сарайке.
Дядя Лёва молчал, у него из зубов торчали белые берёзовые шпильки.
Дядя Ися осторожненько и очень бережно кашлял в стеклянную баночку и после каждого плевка завинчивал жестяную крышечку.
Молчала и тётя Бася. Наконец, объявила:
— Это собака — наша, ребятки. И звать её не Водолазка, а Линда. Она от нас убегала раньше, ненадолго, а теперь вернулась. А собачат вы себе возьмите.
— Они же грудные. Им молоко нужно, — пояснил я.
— Принесите их нам, — нашлась тётя Бася. — И мы их будем кормить.
— Они уже обещаны. Не нарушать же честное слово.
— Тогда кормите их сами. Как вы думаете: кто нам даст столько молока, чтобы кормить всех приблудных щенков? Или корову для них купить? А кто нам продаст эту корову? И куда мы её поставим? Не в спальню ли рядом с кроватью Розочки?
Я не нашёл, что сказать в ответ. Мы с Гарёшкой продолжали стоять, чего-то ожидая. Выручил друг:
— У вас ведь ещё одна собака есть… Она вас охранять будет.
— Не видать… вам Линды… как… своих… ушей, — сипло и тихо произнёс дядя Ися. — Канай… те.… на хрен… отсюдова. Собака — моя… и пёс — мой… Залупу… вам… конскую… а не… Линду…
— Исаак, постыдился бы так выражаться при детях. Ты же культурный человек. Что скажут за тебя люди? — приструнила его мать.
— Уходите, — уже более сдержанно выпроводил нас дядя Ися из своего жилища.
Нам ничего не оставалось, как покинуть квартиру Фридманов, но в этот момент отдёрнулась бирюзовая занавеска с зелёными драконами, с них я не спускал глаз, изображения их порождали в моей голове фантастические сцены битв чудовищ. Из-за зелёных с алыми раскрытыми пастями драконов выглянуло смеющееся, лукавое личико Розки. Она раздёрнула занавеску и соскользнула с высоких перин на пол, причём длинная ночная рубашка немыслимого розового цвета и почти прозрачная, отделанная белыми кружевными лентами, задралась так, что высоко обнажились полные, обворожительной перламутровой белизны ноги. У меня моментально кровь хлынула в лицо. Я почувствовал, что уши мои нестерпимо горят, — в низком вырезе, в оправе кружев, сияли чудесные, с плоскими розовыми сосками, перламутровые же девичьи груди. Такой роскошной красоты я ещё не видел. Приходилось мельком окидывать взглядом на речке, конечно, обнажённых женщин и девчонок, но они во мне такого молниеносного удара электротоком не вызывали — какое-то волшебство!
По-видимому, моё смущение было явным, и причину его правильно поняла быстроглазая и сообразительная тётя Бася. Она зло зыркнула на дочь и что-то буркнула. Розка только рассмеялась в ответ, обнажив прекрасные, сверкнувшие белейшей эмалью зубы.
Розка, вероятно, потешалась над нами. Она, громко смеясь, сказала нам:
— Мальчики, чем бегать за собаками, вы начинали бы ухаживать за девочками. Особенно, когда они отвечают взаимностью.
И опять заливисто засмеялась.
От Фридманов я вылетел со взмокшей спиной. Ну и Розка! Бесстыжая! Думает, что я маленький, ничего не понимаю. А мне уже тринадцать лет! Четырнадцатый! Ведь она всё время именно на меня, а не на Игоря поглядывала. Потешалась.
— Нет, Водолазка не сама к ним пришла, — сказал мне Гарик. — Даже если её раньше Линдой звали.
— Сам знаю, что они её силком увели, — сердито ответил я. Мой мысленный взор всё ещё был заполнен Розкой, её невообразимой красотой вдруг расцветшего тела.
— Что делать-то будем, Юр? — донеслось до меня.
Сам себе я назойливо задавал вопрос, отгоняя видение Розки с её неотразимыми прелестями: почему столь яростно облаивала дядю Исю Водолазка в первую их встречу? В этом была какая-то загадка, имевшая отношение ко всей нашей собачьей истории.
Все мы желали скорейшего возвращения Водолазки, но не знали, как это сделать. Минул день. Мы собрались снова.
— А где та собака, что жила в сарае Фридманов раньше? — спросил я. — Куда они её заныкали?
— Верно, продали, — предположил Гарёшка. — Нет… Не для продажи они их держат.
Вспомнили и про отрубленную голову на решётке помойки. Ясно — это убийство. Кто его мог совершить? Похоже, они. Такая же участь ждёт и нашу Водолазку. Надо немедленно вызволять! Спасать!
— Нам Водолазку они не отдадут, — уверенно заключил Гарёшка. — Разве что за выкуп.
— Не на что нам её выкупить.
— Не на что, — подтвердил друг.
Чтобы не мельтешить на виду у Фридманов, мы вернулись к нашему крыльцу, где соседки продолжали лузгать семечки и судачить о том о сём.
— Нашли шабаку-те? — сочувственно спросила Герасимовна.
— У Фридманов. На привязи в сараюшке сидит, — ответил я. — Не отдают её нам.
— Вшё, каюк ей… — так же сочувственно произнесла бабка.
— Почему каюк? — вздёрнулся я.
— Пошему, пошему — Ишак их ешт. Ждоровье поправлят. Шало иж них топит и пьёт. По большой ложке три ража в день. Ш мёдом. От шихотки шибко помогат шобашье шало.
— До чего озверели люди, — равнодушно произнесла завмаг, держа за ручку большой ночной горшок с нарисованными на нём синими цветами. — Уже и собак едят…
Эти незабудки меня сильно покоробили — вспомнилась картина на мольберте, Николай Иванович…
После этой беседы с соседками мы с Гариком срочно навестили Юрку. Он поведал нам возмутительную историю: Толька Мироедов побожился Бобыньку, что знает наверняка, где и у кого находится Водолазка. Он даже поклялся: «Век Свободы не видать!». Всей улицей поклялся, что лично будто бы проследил, как незнакомый «фраер» вывел из нашего двора Водолазку и потащил её к железнодорожному вокзалу. Толька, по его уверениям, крался за злоумышленником и сопроводил его до самого дома, куда тот якобы и завёл нашу Водолазку. Мироед охотно брался помочь нам в розыске и показать «тот дом». Но не за «здорово живёшь», а за хлеб, картошку или тарелку супу. Лучше — домашнего. С мясом. Согласен он и на стакан семечек с двумя молочными тянучками в придачу. Или, на худой конец, кусок — большой кусок, с кулак! — жмыха.
— А ещё чего он желает? — спросил я. — Ху-ху он не хо-хо?
И я продемонстрировал нехитрую комбинацию из трёх пальцев.
— Вкусненького ему, трепачу, супу захотелось. Обманщик! За такие фокусы сопатку[201] бьют.
— Я ему талон на второе в четэзэвскую столовку проиграл. В жёстку. И отдал уже, — печально признался Юрка. — Отец вчера ночью принёс. Талон-то — стахановский, гуляшёвый. С пшёнкой.
— Вот подлюга, — не сдержался я. — Да как тебя-то угораздило? Ты же знаешь, что в жёстку он всех обставляет запросто…
— А он сказал, что ежли я выиграю, то он бесплатно скажет, где Водолазка. А ежли продую — то его желание. Он и говорит: моё желание — что в карманах было ваше, стало наше. Вывернул карман, а в ём талон.
— Ну ничего, он ещё заплатит за это, — погорячился я. — Надо его проучить, чтобы помнил.
— А я свистну отцу, что всё второе слопал сам. Без Гальки. Скажу, что не утерпел. Нет. Чтобы не отлупил, фукну:[202] потерял. А ещё лучше — спёрли.[203]
На том и порешили. Я предложил объявить Мироеду бойкот.
— Давайте отдерём доску с обратной стороны и выпустим Водолазку, — воскликнул Юрка, выслушав мой рассказ об обнаружении нашей любимицы.
Я понял, что это и есть, пожалуй, единственная возможность спасти друга.
Перемахнув через забор, мы проникли в огород Свободы номер восемьдесят один, незаметно пробрались вдоль сарая, длинного коммунального строения в зарослях малины, отыскали отсек Фридманов.
Слышно было, как, сдавленно хрипя, металась за стенкой Водолазка, учуяв нас. Однако оторвать намертво прибитые доски без шума оказалось невозможным, и мы вспомнили о щели на крыше.
Вернулись ко мне домой и более основательно подготовились к вызволению нашей любимицы: я взял моток бельевой веревки, за использование которой не по назначению неоднократно наказывался мамой, из дедовского инструмента выбрал небольшой гвоздодёр.
Поначалу я не обратил внимания, что Гарёшка скис и смотрел на нас как-то виновато. Когда мы пришли в его двор, он нерешительно произнёс:
— Может, не надо, а?
— Чего — не надо? — не понял я.
— Ну, в сарайку залезать. Всё-таки чужая… Мы же честные ребята. Зачем пачкаться?
— А они нашу собаку украли — им можно? Это честно? Или сдрейфил?
— Да нет. Я — как вы. Не думайте — не струхну.[204]
И правда, далее он вёл себя достойно, не колебался.
Смеркалось, когда мы снова забрались на крышу сарая, на локтях и коленях проползли — почти беззвучно — до знакомого места, споро расширили отверстие, и я спустился вниз, в темноту, — там скулила Водолазка. Одна. Пёс отсутствовал.
Во мраке я нащупал её и потрепал по шее и спине. Собака обрадовалась, тыкалась в мои колени прохладным носом. Я сволок с неё намордник вместе с ошейником. Водолазка, радостно повизгивая, закрутилась, зафыркала и звонко дважды гавкнула. Я ей зажал пасть, но она вырвалась и снова подала голос. Соскучилась, голубушка.
«Лишь бы Фридманы не услышали, — подумал я. — Надо спешить!»
Не сразу мне удалось обвязать суетящуюся собаку верёвкой.
— Поднимайте! Чего вы там зеваете? — шепнул я.
Друзья споро потянули. Я шагнул к задней стене, чтобы по ней выбраться наверх, и коснулся лицом чего-то мокрого и холодного. Машинально оттолкнув это «что-то» рукой, я ощутил шерсть.
Впопыхах некогда было раздумывать, что это и почему.
Нам предстояло выполнить ещё одно нелёгкое дело — перебазировать Водолазку с семейством в штаб. Для безопасности. И мы взобрались с ней на высоченный трёхэтажный дом по крутой лестнице, и щенят ей доставили. Вот встреча-то была! Собачье счастье!
Вернулся домой я очень поздно. Тихонько открыл дверь — мама сидела за столом возле керосиновой (опять электричество отключили) «семилинейной» лампы и чинила что-то из нашей со Стасиком одежонки. Она подняла голову и обомлела, глядя на меня.
— Боже мой! Юра, что с тобой? Ты опять подрался? Кровища течёт! По голове, что ли, ударили чем-то острым?
— Нет, ма. Ни с кем я не дрался. И меня никто не ударял.
— Ты опять лжёшь? А ну, говори правду!
— Честное пионерское — не вру.
Мама подошла ко мне, взяла за плечи, развернула к нашему огромному — до потолка — зеркалу.
— И ты ещё будешь утверждать, что не дрался? А сам уверял меня, что ненавидишь мордобой…
Я увидел свое отражение, во весь рост, и не поверил своим глазам: лоб и правая скула чернели засохшей кровью.
— Это… не моя!
И тут до меня дошло, на чью шкуру я наткнулся впотьмах. Вот куда делся тот упитанный пёстрый волкодав. Его убили, сняли шкуру, и поставили на откорм следующую жертву… Чудовищно!
— Ну, отвечай же! — резко потребовала мама.
— Чего? — не понял я, пропустив мимо ушей смысл вопроса.
— Где ты был? Почему весь в крови?
— Честно? А ты… Это наша тайна.
— Чья — наша?
— Нашего тимуровского отряда. Дай честное слово, что никому не расскажешь…
Мама как-то сразу обмякла, видимо, поняла — ничего страшного. И пообещала. Я поведал ей обо всём, что произошло.
— Ладно. Иди умывайся — и спать. Утро вечера мудренее. Что ты ещё натворил? Дарья Александровна мне жаловалась на тебя. Просила наказать. Ты её действительно оскорбил?
— Не я её, а она меня. Сопляком. И всяко-разно… Но это — ерунда. Главное, она Водолазке смерть пожелала.
И я пересказал суть нашего спора.
— Всё ясно. Отстаивать свои убеждения, особенно правду, надо во что бы то ни стало, но при этом необходимо соблюдать такт. Ты меня понял?
Я не совсем понял, но утвердительно кивнул.
— А об остальном — завтра, — сказала мама.
Но утром я проспал даже дольше Стасика. Мама, как постоянно бывало, ушла на работу.
Я был уверен, что она не выдаст нас и Водолазку Фридманам.
И всё возвращался к мысли: с чьей помощью дядя Ися увёл от нас Водолазку? Сам он этого сделать не мог. Значит, ему кто-то помог, выполнил его просьбу. Или приказание? Кто? Толян Данилов? Нет, он слишком труслив. Только младших обижать мастак. «Герой»! Кто ещё? Не вычислишь. Многие свободские пацаны разузнали, что у нас появилась собака. Да и я сам хвастал ею постоянно, какая она умная. Дядя Ися, конечно, никогда не признается: он хоть и полумёртвый инвалид, но авторитетный блатной. Такие никогда ни в чём не признаются.
…Собачья история вдруг получила неожиданное продолжение.
Гарёшка, во двор к которому я поосторожничал пойти, сообщил, что тётя Бася, обнаружив пропажу, громко, во всё, как отзывалась о ней бабка Герасимовна, «лужёное горло», оповестила о невероятном происшествии жителей ближайших домов, а дядя Ися, ковыляя на уличную лавочку, остановил Кульшу и спросил:
— Ты, оголец! Это ваша… работа?
— Какая работа? — придурился Гарёшка.
— Вы Линду… спиздили?
— Не… Не мы. Первый раз слышу.
И смылся от дяди Иси, благо, что он не только бегать, передвигаться без опоры не может. В дальнейшем мы всячески избегали встреч с Фридманами.
И всё же невероятным было не столкнуться с дядей Исей, ведь он постоянно в хорошую погоду торчал на улице или во дворе — дышал свежим воздухом. Не однажды он окликал меня своим слабым-слабым, бесцветным голосом. Я не подходил к нему — зачем? Заведомо известно, что разговор опять зайдёт о Водолазке.
Всё произошло неожиданно. Возле ворот Гарёшкиного дома, во дворе, меня внезапно схватили за руки Алька Жмот и верзила по прозвищу Голыш, он жил в конце нашего квартала, направо, если пойти к реке. Я не знал даже, как его по имени звать. Да и никто его иначе не называл. Наверное, по фамилии. А может, потому что в любое время года ходил полуголый: в семье его насчитывалось человек десять, и все они, мал мала меньше, жили в страшной нищете.
— Пустите! — потребовал я, вырываясь. — Что вам от меня надо?
Эх, жаль, что рядом не оказалось ни Юрки, ни Гарика. Вместе-то мы отбились бы запросто.
Они, несмотря на моё отчаянное сопротивление, завернув руки по-милицейски — назад, выволокли меня за ворота и подтащили к истуканом сидевшему дяде Исе.
— У те… бя… Ли… нда? — спросил он.
— У меня! — отчаянно выкрикнул я. — Но фиг вы получите, а не Водолазку.
— Отпу… стите… его, — повелел дядя Ися.
Он медленно протянул мне бледную ладонь — на ней лежала свёрнутая вчетверо новенькая пятидесятирублёвка. Сумма, по нашим уличным меркам, огромная. Сколько интересных книг на эти деньги можно приобрести!
— Про… дай… Ты… купец, я … покупатель…
— Не продам! — выпалил я. — Даже за мильён. Друзьями не торгуют.
И отбежал через дорогу к воротам своего дома. Голыш с Алькой и не попытались догнать меня без приказа дяди Иси.
— Фраер ты! — крикнул вдогонку мне Алька. — Столь молочных брикетов — задарма! Придурок!
— Вот и жри сам то мороженое! А Водолазку никогда не поймаете, понял ты? — выкрикнул я уже с безопасного расстояния.
Голыш вывернул камень из тротуара и двинулся в мою сторону, но дядя Ися поднял медленно руку, и тот остановился, утирая скользкость под носом бахромчатым рукавом дырявой рубахи. Голыши жили, повторю, нищенски бедно, в их избе не имелось ничего из мебели, хоть шаром покати. На полу спали. Подостлав какие-то шибалы.
Я ушёл домой, чувствуя себя непобеждённым, — отстоял нашу любимицу. Да и кем же я оказался бы, позарившись на пятидесятирублёвку? Предателем и подлецом! У меня даже подобной мысли не возникло.
…Водолазка неизменно получала свою порцию требухи, даже в холодные и дождливые дни. А к осени, когда щенки Том и Тим заметно подросли, мы прогуливали Водолазкино семейство на берегу Миасса, и, если дядя Ися в тёплое время сидел на своём месте на лавочке, пробирались в штаб и из него дворами.
Однажды бабка Герасимовна подковыляла ко мне и зашептала:
— Бают, што шабаку-те вы отбили от Ишака?
— Ну и что? — взъерошился я. — Водолазка — наш друг. А не кусок сала.
— Да я нишево. Вшакой божией твари жить охота, я — нишево. Вшё в рушех Божих. Как он пожелат, так и сподобитша.
Тяжко вздохнув, бабка пробормотала что-то невнятно и удалилась.
Наше собачье счастье продолжалось. Но близился сентябрь.
И я всё чаще задумывался о зимнем Водолазкином житье.
В одних из ранних паутинных светлых и сухих осенних дней мы, дружная четвёрка, и увязавшийся за нами Бобка Сапожков по кличке Сопля, пришли к красивому, с башенками, зелёному дому по улице Красноармейской. В нём размещался военкомат.[205]
— По какому делу, хлопцы? — осведомился дежурный офицер.
Я объяснил. И нас, как ни удивительно, принял сам военком майор Шумилин. Я его, между прочим, без труда узнал, но не подал виду.
— Эх, ребята. Хорошее вы дело задумали, но не получается служба вашей собаки на государственной границе. Ваша воспитанница — беспородная. Я всё понимаю, не возражайте. Если б не кончилась война, вашу… как её звать?
— Водолазка.
— Редкая кличка. Так вот, вашей Водолазке можно было бы найти применение в санитарном отряде или другом подразделении, но… Мой совет вам: передайте Водолазку в органы охраны, к примеру на макаронную фабрику. Если подойдёт по своим служебным качествам, её возьмут. У них уже есть несколько. А за инициативу — спасибо. В армию пойдёте — с удовольствием вас на охрану границы пошлём. К тому сроку и собак себе подготовите — овчарок. Наведывайтесь.
Нечего говорить, что все мы, и Стасик тоже, после посещения военкомата решили стать пограничниками. А Вовка — аж начальником заставы. Он всегда что-нибудь учудит — не соображает ничегошеньки.
А дальше произошло следующее. Щенков мы отдали хорошим, надёжным пацанам. И в один из августовских дней привели Водолазку на «макаронку». Нас встретили — недоверчиво — два охранника, мужчина лет сорока, небритый и хмурый, и тоже пожилая женщина в зелёном бушлате.
Прикинув что-то в уме, охранник согласился взять собаку. Мы простились с нашей любимицей, выпросив разрешение у угрюмого стража иногда навещать Водолазку. Во время её дежурств.
Вечером следующего дня втроём мы снова заявились на макаронную фабрику. На проходной сидели уже другие люди, но отнеслись они к нам столь же недоверчиво и, главное, упорно повторяли, что ничего ни о какой собаке слыхом не слыхивали.
На внутренней территории фабрики вдоль высокого дощатого забора бегали, громыхали цепями, скользящими по натянутой толстой проволоке, здоровенные лохматые волкодавы с раскрытыми зубастыми пастями, рычали и лаяли на нас, рыскавших вдоль ограды с внешней стороны.
Из окошечка проходной за нами следили охранники. Один из них вышел из будки и, недовольный нашим присутствием, приказал убираться подальше. Но мы не могли уйти, не узнав ничего о Водолазке, не повидав её. Бессмысленно было звать её, но мы звали, возбуждая ярость псов.
— Может, ей дали другое имя? — высказал предположение Стасик.
В добротно сколоченном заборе даже щелей не нашлось. Тогда наиболее лёгкий Стасик взобрался ко мне на плечи, дотянулся до края забора, повис на нём, а я и Юрка подтолкнул его вверх.
Не успел братишка заглянуть во двор «макаронки», как из проходной вывалился один из охранников и устремился к нам крупными прыжками.
— Атанда! — выпалил Юрка, первым заметивший приближавшегося, и метнулся в сторону, я — за ним. А Стасик остался, повиснув на заборе.
— Прыгай! — крикнул я, оглянувшись. Но братишка медлил — высоко, а когда разжал пальцы рук, не устоял и упал на спину. Пока он вставал, охранник оказался рядом и уцепил его за фуфайчонку.
— Пусти! — завопил Стасик. — Пусти, дяденька!
Я остановился, не понимая, почему нас ловят, ведь никто ничего дурного не совершил, и не помышлял даже. Поэтому ринулся к охраннику со словами: «Пустите его»!
— Я вам покажу, как в сад за ранетками лазать! — зло произнёс охранник.
— Какой сад? — закричал я возмущенно. — Что вы глупости буровите?
— Ишь, яблочков захотелось! — запыхавшись, просипел сторож.
— Какие яблочки, что вы выдумываете? — горячился я, отдёргивая к себе брата. — Нас к вам из военкомата майор Шумилин направил.
Страж, оставив Стасика, сграбастал меня обеими ручищами. Тут и напарник ему помог. Вдвоём они сноровисто завернули мне руки за спину. Но Юрка не терял времени даром, оттащил от нас опешившего брата.
От стражей несло махоркой, а от их одежды — вкусной пшеничной кашей. Я не особенно сопротивлялся, не чувствуя за собой никакой вины, веря, что недоразумение сейчас же разрешится.
В будке одуряющее пахло варевом. Стражи, здоровенные мужики, толкнули меня на скамью, один из них приказал:
— Сиди!
Второй тотчас принялся звонить по телефону — в милицию. По его уверениям получалось, что он задержал меня при попытке проникнуть на территорию макаронной фабрики.
— Фамилия? — допытывался тот, что столбом возвышался надо мной.
— Не скажу.
— Всё скажешь, как миленький. И дружков твоих поймаем… Где живёшь?
— Нигде, — огрызался я.
— То-то и видно, што босяк.
— Мы вам собаку вчера привели. «Водолазку». Из военкомата майор Шумилин посоветовал. И нам другой дяденька, который здесь вчера дежурил, разрешил приходить, наведывать её. Она умная.
— Ты нам собакой и военкоматом зубы не заговаривай. Мы тебя насквозь видим: воровать ранетки пришли?
— Спросите у того дяденьки с тётенькой, которые здесь вчера дежурили, и убедитесь, что я говорю правду.
— Ишь, грамотный какой! А мы, выходит, дураки?
Они, словно сговорились, не внимая моим оправданиям.
Время шло, а милиция не появлялась. Тот, что звонил по телефону, опять принялся крутить диск, стукая по рычажку и дуя зачем-то в трубку.
— Алё! Алё! — орал он. — Дежурный!
Наконец ему ответили.
— Лет десять, — произнёс он в трубку, оглядев меня.
— Ну чо? — спросил его напарник.
— Ничо. Прогуляем? — ответил он, подмигнув. Тот, другой, лишь ухмыльнулся. Как-то ехидно, гадко.
— Идём! — приказал мне первый страж.
Я поднялся и направился к двери, ведшей на улицу.
— Куды? — остановил он меня. — Не уйдёшь! От нас не уйдёшь! Не таких скручивали!
И подтолкнул меня к входу на фабричный двор.
Я не буду подробно описывать то, что произошло далее. О том и сейчас мне вспоминать нелегко. Они стянули с меня штаны и вдвоём, держа вывернутыми мои руки, проволоки по задеревеневшей и высокой крапиве туда-сюда вдоль забора, после вытолкнули, довольно ухмыляясь, за проходную, выбросив вслед сорванные перед экзекуцией штаны.
Ноги, руки, даже шея нестерпимо горели от сплошных вздувшихся бляшками ожогов…
Но пуще гудящего зуда меня мучили, захлёстывая, стыд и обида.
Почему эти взрослые сильные дядьки так надругались надо мной, за что? Разве трудно было проверить, правду ли я говорю о цели нашего прихода? Фашисты! Я им отомщу! Сожгу их вшивое логово! Не пожалею бутылки керосина на этих извергов! И перед моими глазами возникла картина Николая Ивановича с взорванным фашистским танком и погибшим гранатомётчиком, его другом, — так чётко, в деталях, будто я её видел на самом деле.
Всю ночь я не спал, стонал, корчился, не находя себе места в раскалённой, жгучей постели. И мне время от времени бластились откормленные, с отвратительными ухмылками, рожи тех жопастых здоровенных мужиков, и я думал, что они настоящие фашисты: кто ещё может позволить себе издеваться над детьми? Однако встревоженной маме, которая несколько раз за ночь подходила ко мне, пробуждаемая моими стонами, не проболтался о происшествии. И Стасик меня не выдал.
Чуть свет я побежал в баню на улице Красноармейской, бессчетно залезал с веником на полог, нещадно хлестал вздувшуюся белыми лепёшками кожу.
После бани немного полегчало, хотя тело продолжало болезненно ныть и гудеть, как телеграфный столб, когда к нему прижмёшься ухом.
Прошло несколько дней. Обида притупилась. Страсти отмщения утихли, и я отказался от расплаты с охранниками за издевательство. Отходчиво детское сердце, лишь рубцами на нём остаются незаслуженные обиды.
Ещё дважды мы прибегали к «макаронке» и изредка, по переменке, издалека, до першенья напрягая горло, звали Водолазку, но так и не услышали её весёлого, заливистого лая.
1975 год
Миасский крокодил[206]
Урок географии в нашем пятом «б».
Нина Ивановна постучала тупым концом карандаша о столешницу кафедры и громко, насколько позволял стёртый за долгие десятилетия преподавания голос, объявила:
— А сейчас Юра Рязанов расскажет нам что-нибудь интересное о земноводных, а конкретно — о крокодилах.
К подобным отвлекающим манёврам географичка прибегала, когда классом овладевали отупение и разброд от предшествовавших занятий и тридцать с лишним сорванцов выходили из повиновения, становились неуправляемыми и агрессивными от одуряющей скуки уроков и бестолкового изложения учебного материала бездарными учителями, по-видимому по недоразумению попавших на эту очень ответственную стезю.
Не такой была Нина Ивановна Абрамова,[207] которая пестовала ребятишек ещё с царских времён, хотя учителка истории нам вдалбливала, что до революции все люди не владели грамотой и только советская власть предоставила им такое благо — бесплатно обогащаться знаниями. Настроила множество школ, институтов и университетов, и сейчас у нас все грамотные. Поголовно. Я возразил историчке, что на улице Свободы мне известны с десяток пацанов, совершенно не посещающих школу, не умеющих читать и писать. Это моё открытие очень не понравилось историчке, за что я получил в дневник кровавую двойку по поведению.
Одноклассники неплохо знали мои исповеди о самых крупных рептилиях, живших и продолжающих существование на нашей планете Земля, но не прочь были послушать ещё. Каждый понимал, что это гораздо лучше, чем самому стоять у доски с большой картой полушарий.
Предложение Нины Ивановны застало меня врасплох, ибо в этот момент я успел доползти с камчатки, места постоянной своей «прописки», лишь до середины класса. А путь предстоял не ближний — до первой парты среднего ряда, за которой сидел мой друг Витька Чекалин.
Несколько минут назад он прислал мне записку с пометкой «срочно!», извещавшей о том, что закончил домашнее задание по алгебре, и справлялся, не готово ли ответное сочинение по литературе. Такое разделение труда применялось нами довольно успешно: Витька обогащал меня пониманием квадрата или даже куба суммы двух чисел, а я охотно делился с ним впечатлениями о литературных произведениях, которые мы обязаны были пройти по программе, и даже сочинял ему сверх того…
— А где же Рязанов? Он только что находился на своём месте…
Класс насторожился в ожидании развязки.
Преподавательский стол, водруженный на помост, возвышался над партами настолько, что весь класс и каждый ученик в отдельности были видны учителю, как горошина на собственной ладони. Поэтому проползти даже вплотную к партам второго ряда не всем удавалось незамеченным. Я рискнул.
«Ничего не поделаешь, придётся вставать», — подумал я и попытался приподняться с четверенек, но Толька Мироедов, он вечно мне стремился навредить, возле чьей парты я в ту секунду продвигался, решил подшутить и навалился на меня. И без него я ощущал тяжесть, которая тянула меня к полу, а тут и он вдобавок.
Я напрягся изо всех сил и оттеснил Тольку на край скамьи, а сам протиснулся между ним и знаменитым в классе художником Лёшей Антуфьевым, низкорослым и молчаливым мальчиком, которого не интересовало ничто, кроме рисования.
Не выдержав моего напора, Мироедов сверзился со скамьи, распластавшись на полу под дружный хохот одноклассников.
Разумеется, он не захотел остаться в долгу и принялся выдёргивать меня из-за парты. Назревал крупный скандал с возможным удалением из класса и последующим оставлением портфелей у Александрушки, она же абсолютно всем учащимся известная под кличкой Крысовна (Александра Борисовна Кукаркина — настоящие имя, отчество и фамилия завуча школы). И пионервожатая по совместительству, ненавидимая всей школой за жестокость, злобность и презрение к нам, как она думала (и не ошибалась), личным врагам её. Совсем другим человеком была Нина Ивановна, хотя и она наказывала нас, но всегда справедливо. И никто, по крайней мере в нашем классе, не обижался на неё.
— Мироедов! — вмешалась географичка. — Прекратите сейчас же возню!
— А он чего моё место захватил?
— Рязанов!
Я встал, откинув крышку парты.
— Потрудись объяснить, как ты оказался за партой Мироедова.
— По ошибке. Сел не за свою парту, Нина Ивановна. Извините, — дурачился я, делая серьёзную мину. Мы, в общем-то любили географичку и относились к ней уважительно.
— А о крокодилах у меня есть абсолютно неизвестные никому сведения, — сфантазировал я, чтобы перевести разговор на безопасную тему, хотя ничего нового о любимых земноводных не успел узнать после прошлого своего блестящего выступления, в котором бессовестно использовал прочитанное не в учебнике, а у Альфреда Брема. Но в тот же миг перед глазами у меня возникла огромная туша — метров шести или семи, не меньше, — крокодилища, выползавшего из камышей на знакомый берег. Я аж вздрогнул, такое это было жуткое зрелище и настолько осязаемо длиннорылое, пахнущее тиной животное.
Дальнейшее общение с ним прервал скрипучий голос учительницы, вдруг оказавшейся рядом со мной.
— А это что на тебе?
У Нины Ивановны было слабое зрение, о чём мы отлично знали и часто её недостатком умело пользовались. Но сейчас она не могла не увидеть того, что свисало из-под моей тесной короткополой куртки, расстегнувшейся во время барахтанья с Толькой.
— Кольчуга, Нина Ивановна.
— Кольчуга?
Если бы она могла защитить меня от завуча, размечтался я.
Нина Ивановна поправила на носу сильно увеличивающие очки в роговой оправе, вероятно не веря в реальное существование того, что увидела.
До боли оттянувшая плечи железная рубаха, которой я самозабвенно гордился, бессовестно хвастался и поэтому упорно терпел её тяжесть, повергла географичку в изумление.
— Вот, поглядите, — сказал я, демонстрируя кованые колечки, сплетённые в единую сетку. — На каждом звене кузнец поставил своё клеймо.
Я распахнул полу куртки и показал неоспоримо не однажды побывавший в битвах доспех — на его левой части, как раз напротив сердца, зияло отверстие — кулак пролезет. Прорвана кольчуга была ещё в двух-трёх местах, и тоже, несомненно, в бою.
— Как она на тебе оказалась? — встревоженно спросила учительница. — И почему она так отвратительно пахнет?
— В керосине отмочил, — признался я.
Находка кольчуги поистине могла многим показаться невероятной. Давно, ещё в прошлом году, в беседе с друзьями-одноклассниками я неожиданно для себя проговорился, что знаю дом, на чердаке которого среди разной рухляди лежат рыцарские доспехи — полное облачение.
— Свистис! Откуда взялся лыцаль в Целябе? — припёр меня к стене сообразительный и дерзкий Витька Захаров по уличной кличке Тля-Тля.[208] — Тут их слоду не водилось, лыцалей.
Толком объяснить происхождение воображаемых лат, пылящихся на каком-то чердаке, я сразу не смог, но на всякий случай сказал, что в прежние, очень древние времена здесь, в Челябинской крепости, тоже жили военные люди. Они воевали с местными кочевыми племенами. Как всегда. От них…
— А если не свистис, показы дом, — наступал на меня напористо Витька. Он горячился и требовал, будто доспехи принадлежали ему по праву. Как самому сильному и задиристому. Витьку поддержали остальные, дружившие с ним пацаны.
— Пожалуйста, — отчаянно произнёс я. — Эх, вы, не верите. Да я ещё не такое знаю… Мне известно, где спрятан рыцарь на железе, убивающий змея-страшилу. Свидетель есть… Юрка Бобылёв.
…В Заречье, в одном дворе, нас с Вовкой Кудряшовым давно привлекло каменное двухэтажное строение без окон, но с коваными ржавыми решётками, уцелевшими на втором этаже. Сложено оно было из плитняка. Крыша отсутствовала. Оно-то и всплыло моментально в моей памяти, когда Витька припёр своим каверзным вопросом. С Вовкой мы не смогли досконально обследовать этот, по сути дела, каркас здания, хотя и протиснулись внутрь через окно-бойницу — искали гнёзда голубей.
…С великими трудностями мы забрались — и я, разумеется, первым — на древние, сложенные из плитняка стены. В них на уровне, где когда-то существовал потолок, зияли отверстия от сгнивших балок. В этих отверстиях жили птицы. Однако кроме вековых накоплений пыли да птичьего помёта, мы внутри каркаса здания ничего не обнаружили. Вовка тогда углядел в отверстиях из-под балок пустые голубиные гнезда, а в одном что-то непонятное, какой-то лоскут. От него по настенной кладке, по сизому плитняку, приблизительно на метр, ясно наблюдался треугольный, сходивший внизу на нет потёк ржавчины. Поскольку до высоты второго этажа не допрыгнешь, а лестницей мы не запаслись, поразмыслив, пришли к выводу, что в тряпке, запихнутой в балочное отверстие, находится что-то железное. Что? Начальник штаба тогда, в сорок третьем, призадумался над моими предположениями.
Но я-то знал, что этот ржавый потёк возник неспроста, потому что именно в этой нише, когда мне всё-таки удалось летом нынешнего года добраться до неё с помощью всё той же нашей бельевой верёвки, перекинутой с грузилом из оловянного отвеса, обнаруженном в дедовском чемодане, через стену и закреплённой с внешней стороны за оконную решётку, — вытащить бесформенный ржавый предмет и сбросить его вниз, где поджидал находку Юрка Бобынёк, который подстраховывал меня, крепко держа второй конец той же бельевой верёвки. Находкой оказалась какая-то спёкшаяся ржавчиной металлическая сетка. Спустившись вниз, мы первым делом бросились к этой сетке. От удара о землю она распрямилась. Я поднял её, и перед нами предстала коричневого цвета дырявая рубашка с короткими рукавами, сплетённая из железных колечек. Словно из волшебной сказки. Руки наши были все в светло-коричневой пыли. Дома я опустил кольчугу в бидон с керосином, стоявшем как неприкосновенный резерв в нашем сарае — про запас.
Неудача разочаровала, и меня больше всех, а обозлённый Витька Тля-Тля всё норовил ухватить меня за грудки.
— Надул нас, да? За дулацьков плинимаес, да? — негодовал он. — Лжавцину нам втюлить хотис?
— Были и рыцарские доспехи, да кто-то вперёд нас их сгрёб, — сфантазировал я.
Ну как доказать ему, что те рыцарские доспехи я видел в своём воображении более явственно, чем его искаженную злобной гримасой мордуленцию сейчас? Видел! Даже вмятины на панцире — следы ударов палашом. Или булавой. Более того, это были определённо доспехи «крылатого» гусара: нагрудник, наспинник, наручи, нашейник и шлем с назатыльником. Обо всём этом я умолчал — всё равно не поверят.
К Витьке присоединился и Толька Мироедов — кто сильнее, с тем и он.
Алька Чумаков почувствовал неизбежность разбирательства и того, что за ним последует, заторопился, заспешил домой, якобы вспомнив, что его заждалась любимая бабушка. Которая, кстати, однажды отлупцевала нас за рассматривание её Библии с иллюстрациями Доре.
Я ни в какую не пожелал признаться, что обманул товарищей, чтобы поизгаляться над ними. Тогда Витька объявил, что будет меня бить. Толька охотно вызвался принять участие в поединке — секундантом.
Тля-Тля решительно засучил рукава рубашки. Мне не верилось, что он начнёт меня колотить за… собственно, за что? Мало ли куда могли деться сокровища с чужого бывшего чердака! Кольчуга-то, вот она, налицо. Факт. Поэтому его личное дело: верить мне или нет.
Что и говорить, Витька, хотя ростом не особенно превосходил меня, в плечах раздался пошире. Он неизменно при мерянии силой, хотя и после длительного и изнурительного кажилиния, прижимал мои руки к парте. Я знал, что он могутнее, но сейчас никакого страха не испытывал, верил: пугает. И пусть не надеется на лёгкую победу — буду защищаться до последних сил.
— Становись сюда, — скомандовал Толька. — Разжимите кулаки.
Значит, всё-таки — драчка.
Я показал ладони. Мой противник — тоже.
— Сходитесь!
— Ссяс я тебе, Лизанов, молду наковыляю, — запугивал Витька, становясь в устрашающую позу. — Или кольцюгу мене отдавай без отдаци.
Я всё ещё надеялся на мировую. Вернее, мне очень хотелось разойтись без драки. Конечно же, кольчугу я ему не отдам — ишь губу раскатал!
Всё произошло мгновенно. Захар, оскалившись, резко ткнул меня кулаком в живот. И во мне вместе с болью вспыхнула ярость. Я не стал ждать, когда он саданёт меня в следующий раз, а неожиданно для противника подскочил к нему почти вплотную и обеими руками — справа и слева — нанёс несколько метких ударов в челюсть и скулу. И тут же ещё и ещё. Витька, наверное, не ожидал такого отпора — растерялся. А я увёртывался от кулаков и пинков и точно отвечал на каждый его промах. И вот уже Витька сплёвывает кровь с расквашенных губ. Всё! Схватка должна прекратиться — до первой крови. Но что это? Секундант ринулся на меня с поднятой над головой корягой, валявшейся вместе с другим мусором в коробке каменного здания. Нечестно! Витька, ободрённый поддержкой Мироеда, взревел и вцепился в мою одежонку. А Толька мельтешил вокруг нас и визжал:
— Дай я его шендарахну! Пендаля, Витёк, дай ему под коленку! На землю ево свали!
Мне всё-таки удавалось увёртываться и от коряги. Зато Витька успел в это время причинить моей физиономии значительный урон. Правда, поначалу, боль не чувствовалась.
Я вынужден был сражаться на два фронта, причём одной рукой удерживал корягу, за которую всё-таки ухватился. Толька же норовил пнуть меня сзади и отвлекал от Витьки.
— Это тебе за жёстку, фраерюга! — выкрикивал Мироед.
Смотри ты, до чего мстительный — вспомнил!
Все эти приблатнённые не сомневаются, что они самые смелые, отважные, умелые, авторитетные. Не веришь — кулаками докажут. А то и финкой. И мнят, что им всё дозволено, — воровать, грабить, хулиганить. Спрашивается: с чего ради? чего их бояться?
Однако я не отступил, не убежал, и мне преизрядно досталось. Но и Витьке с Толькой — тоже. Тольке, ловкачу, меньше, потому что он норовил прятаться за мою спину и пнуть в ноги или ниже спины.
Место схватки первыми покинули мои противники — не выдержал Витька. Он грозил расправиться со мной — «залезать начисто, ножиком». Он даже заревел, широко раззявив рот. Позор! А ещё блатарём себя провозгласил, главарём всего квартала. Но Толька-то каков подлец! Ну и гадёныш!
Секундант называется! И почему он напал на меня? Или раньше тайком с Захаром сговорился? Чтобы завладеть кольчугой? Или решил сквитаться за проигрыш партии в жёстку? Самому-то нравиться выигрывать и слыть непобедимым…
— А ты, Мироед, подлец! — крикнул я Тольке. — Я пацанам расскажу, как ты несчестно поступил.
Мироед в ответ гадко улыбался и избегал взглянуть мне в глаза. Толькино вероломство меня взбудоражило даже больше, чем Витькины побои, — ведь он сильнее меня.
Я долго отмачивал под уличной колонкой синяки и ссадины. И всё же к вечеру лицо сильно распухло. Левый глаз затёк так, что я им почти ничего не видел. Стасик лечил меня, прикладывая смоченные холодной водой компрессы из полотенца, а я лежал на кровати и терпел. Но что воодушевляло: в бидоне с керосином отмокала настоящая кольчуга. Если её не похитили, то она и сейчас должна храниться в Челябинском областном краеведческом музее.
Мама, вернувшись с работы, охнула, увидев меня. Она долго и настойчиво выспрашивала, кто меня так изуродовал. Я не признавался. Твердил, что незнакомые мальчишки напали на улице. Не жаловаться же мне, взрослому человеку, маме.
Выдал меня Стасик. И тогда мама направилась вместе с ним, чтобы он показал, где живут мои обидчики.
Как я ни упрашивал маму не затевать дрязгу, она меня не послушалась, взвинтившись.
Вернулись они нескоро. Мама сказала, что я тоже «хорош» и что мать Витьки Захарова намерена пожаловаться на меня в милицию.
Меня это известие ничуть не испугало: не я первым начала драку. И оборонялся по-честному.[209] А Витька с Мироедом сподличали. В милиции разберутся справедливо! Я верил в это. Но всё равно побаивался попадать в неё. Уж очень нехорошие, страшные слухи о седьмом — нашем — «гадюшнике» ходили среди ребятни. Пацаны (почти всегда) милиционеров называли «дядями-гадями», а блатари — «гадами».
До милиции тогда дело почему-то не дошло. Синяки мои быстро зажили. Толька, проживавший по-соседству, через двор, попросил мировую. Я его предложение не принял. Витька же поблизости не показывался — через пацанов передавал мне, что отомстит. Только не в школе — чтобы в лапы Крысовне не угодить. Меня эти обещания не трогали. И всё пошло своим чередом, как обычно. Я не позволил отнять у себя чудесную находку. Отстоял. И про себя гордился, что не сдался более сильному. Так поступал и далее.
Сейчас же автор отступает от описания того, что происходило далее на уроке географии, чтобы не закончить рассказ печальным событием, которое произошло дома, когда мама увидела во что я превратил серого цвета новую рубашку, с большими трудностями приобретённую для меня. Вернее, для посещения в ней школы.
Мама со следовательской[210] дотошностью расспросив меня о произошедшем и прочитав гневную запись Крысовны в моём дневнике, беспощадно отлупцевала меня — до слёз, внушая при «экзекуции», что я не имею права портить вещи (проржавевшая, в керосиновых пятнах, новая рубашка), не должен драться с ребятами. Выходит, Витькина мать побывала в школе с жалобой на меня. Помянула мама мне и испорченный окислом железа керосин в бидоне. В общем, все мои грехи припомнила и пообещала, что если я себе подобное ещё позволю, то «шкуру с меня спустит». Но, несмотря ни на что, ошеломляющая находка зарядила меня таким запасом внутренней радости, что я в последующие дни, когда ещё синяки не сошли с моих далеко не богатырских телес, готов был громко петь от распиравшего грудь восторга. Настоящая кольчуга!
Так я стал обладателем бесценного сокровища, переносившего меня в воображении то на лёд Чудского озера, то на Куликово поле, то под Сталинград. То куда-то в ещё более древние времена.
Ведь в школу я заявился, облачившись в древний доспех, признаюсь честно, чтобы похвастаться. И не ошибся в своих предвкушениях. Некоторые, да что там некоторые — многие, просили кольчугу поносить, хоть чуть-чуть. Я обещал — не жалко! И охотно разрешал ударять себя кулаками в грудь и в плечи, уверяя, что мне совершенно не больно, — такая волшебная это вещь — кольчуга. И сам верил в её сверхъестественные свойства.
…И вот Нина Ивановна вопрошающе и недоверчиво изучает меня сквозь сильно увеличивающие стёкла очков, в которых плавают её зрачки.
— Нашёл, — отвечаю я на вопрос Нины Ивановны. — В нише стены старинного дома. В Заречье.
— А зачем её в школу надел?
Это вопрос потруднее.
— Для турнира. Хотел турнир устроить.
— Турнир — в школе?
— Да. А что? У одного пацана с нашей улицы меч есть с выцарапанной на лезвии головой. Отсечённой. Во такой меч…
— Юра, дай мне слово, — с ужасом произнесла учительница, — что никаких турниров, хотя бы в школе, устраивать не будешь. И больше никогда на уроки в этой… штуке не придёшь. Иначе я обязана отобрать её у тебя. Это нарушение правил поведения.
Ну вот, удалось у Витьки с Толькой отстоять кольчугу, так школа угрожает неприятностями. Если Крысовна отнимет, ни за что не возвратит. Разве что по просьбе мамы. А от неё не дождёшься…
— Честное тимуровское, — подумав, сказал я. — Не буду больше кольчугу надевать.
— Её лучше, по-моему, передать в краеведческий музей, — успокоилась доверчивая Нина Ивановна. — Нет, прости, музей не работает. Ещё в сорок первом его закрыли. Храни её, Рязанов. Это наша с вами история. Славная история.
— Я её сохраню, — торжественно пообещал я. — А может, в музей отдам. Если он открылся.
Между прочим, оба обещания я выполнил — кольчугу в школу не приносил, потому что отдал её в Челябинский краеведческий музей. Иначе и быть не могло. Сдержать слово — дело чести. Да, я лишился такого сокровища: попадётся ли ещё?[211] Едва ли…
Но не спасла меня Нина Ивановна от неприятностей — после занятий я столкнулся в коридоре с Александрой Борисовной Кукаркиной, нашей математичкой и по совместительству завучем школы. Это была роковая встреча. Завуч Кукаркина, повторюсь, всех своих подопечных ненавидела люто. И если в кого-то вгрызалась, то не выпускала, пока не выплёвывала из школы. Она просто зеленела от злобы, когда ловила кого-либо из нас, мальчишек,[212] даже на ерундовом проступке, на шалости. Особенно нетерпимо относилась к тем, кто ей возражал. Между нами, пацанами, оказавшимися на примете у преподавателей, потому что почти все учителя доносили, — правило, что ли, такое школьное существовало? Крысовной, смею думать, не с одним мальчишеским поколением велась необъявленная война. Постоянная и упорная. И всегда выигрывала завуч. Школьный, как везде и всюду, произвол.
Если некоторые преследуемые Крысовной, мстя ей за унижения и несправедливость, неиссякаемую злобу, ехидство и ненависть, старались сделать так, чтобы она не узнала, чьей рукой пущен камень в окно её кабинета или нацарапана оскорбительная (в её адрес) надпись на стене коридора, то я дерзнул возражать ей открыто, чего она абсолютно не переносила.
Крысовне, я в этом совершенно уверен, доставляло удовольствие, а возможно и наслаждение, побольнее наказать кого-нибудь из нас — в первую очередь непослушных и строптивых, посмевших не согласиться с ней или возразить.
Мстительность Крысовны я ощущал на себе едва ли не каждый день. Быстро по недоброй инициативе завуча меня занесли в списки «заводил» и «школьных хулиганов».
И судьба моя как учащегося школы номер десять была решена: уже из шестого класса меня изгнали. Но вернёмся к нашей встрече в сорок пятом году.
— Что это за пошлый маскарад? — вымолвила Крысовна с недоброй улыбкой. Если Крысовна скалилась в улыбке, то ожидай какую-нибудь особую пакость — это было известно каждому из нас.
— Что это такое на тебе надрючено, Рязанов, спрашиваю?
— Доспехи дружинника, русского воина, — гордо ответил я.
— Где взял и зачем напялил на себя?
— Чтобы сражаться с врагами, — сдерзил я. Она поняла мой ответ как вызов.
— Сними сейчас же. И пусть за вещью придёт мать.
— Ни за что, — отчаянно заявил я и осмотрительно отступил от завуча вправо. Крысовна, разгадав манёвр, попыталась ухватить меня за рукав, но я увильнул и бросился по коридору к выходу, хотя бежать в давящей на плечи железной рубахе было нелегко. Но всё это произошло после. А сейчас Нина Ивановна смотрит на меня добродушно и лукаво.
Ах, добрая наша и понимающая мальчишеские души Нина Ивановна! Если б в жизни, особенно в детстве, встречались мне почаще такие, как она…
— Вот и славно. Теперь рассказывай о своих очаровательных крокодилах, — улыбнулась учительница.
Я собрался с духом и начал:
— Как известно, некоторые особи аллигаторов достигают в длину пяти, шести и даже десяти метров. У Альфреда Брема в третьем томе «Жизни животных» приводится такой пример…
— Рязанов, — перебила меня географичка. — Но ты сулил удивить всех нас каким-то новым фактом, не известным никому, и уж подавно Альфреду Брему.
Нина Ивановна задорно улыбнулась, обнажив жёлтые зубы (уж не курила ли она махорку дома?). Одноклассники навострили уши.
— Хорошо, — продолжил я. — Слушателям может показаться невероятным случай, который произошёл недавно в одном городе…
— Где, в какой стране? — уточнила географичка.
— Представьте себе: в СССР. В нашем городе. На реке Миасс.
Я опять увидел, как наяву, гигантского крутобокого крокодила, вразвалочку выползавшего из камышей. И не удержался — добавил:
— Возле госпиталя. Нет, не того, что расположен в школе, на углу Труда — Красноармейской. У берега. А недалеко от моста в Заречье. Там растут густые камыши, острые, как ятаганы. В этом месте водятся щуки…
— Пло сюк ты уже лассказывал. И пло ту, с золотым кольцом в жаблах. Котолой тлиста семнадцать лет, — нетерпеливо вставил Витька Назаров. — Пло клокодилов давай.
— Не перебивай, Захаров, — нарочито строго произнесла учительница.
— Кто бы мог предполагать, — с воодушевлением продолжал я, — что в этот обычный летний день, когда на реке копошится уйма ребятни, когда рыбачат в заводях взрослые, а тётеньки полощут с камушков бельё, кто бы мог подумать, что в Миассе появится чудовище восьми с гаком метров длиной, а точнее, девяти метров — от ноздрей до кончика мощнейшего хвоста, удар которым не выдержит и многоэтажное здание.
Вдохновение захлестнуло меня. Я чувствовал, что перегибаю, но не мог смирить себя, ограничить, удержать, остановиться.
— Крокодил зеленовато-чёрный, совершенно невидимый в воде на дне из ила и тины, неслышно подплыл к берегу, где по колено в воде стоял с ивовым удилищем в руке мальчик лет тринадцати. Он ловил щурят…
Можете представить его ужас, когда в глаза ему уставились выпученные глаза, появившиеся из воды! Он со всей силой ударил рептилию по кончику носа и попятился. Позади мальчика находилась подпорная стена, сложенная из дикого камня. Ни капли не испугавшись, он стал быстро карабкаться по ней вверх.
Крокодил выбрался на берег целиком. Он походил на огромное бревно. Широко разинув розовую пасть с доброй сотней острых, как бритва, зубов, уставился на мальчика гипнотизирующим взглядом. Мальчик в это самое время почти достиг верха стены, но камень предательски хрупнул под ногой, и он повис над бездной… Ещё одно мгновение, — почти выкрикнул я, — и я оказался бы в пасти, утыканной доброй сотней острых, как… ятаганы, зубов.
— Ты или рыбак? — вовсе некстати задала отрезвляющий вопрос Нина Ивановна. Я вновь ощутил себя в классе. На меня взирали в полнейшей тишине — любопытные, испуганные и насмешливые глаза моих соучеников.
Я понял, что в пылу повествования проговорился. Ну и пусть!
— Нетрудно догадаться, — задиристо продолжал я, — что этим рыбаком был я. Итак, я висел над разверстой пастью, мёртвой хваткой вцепившись в каменную плиту, которая под тяжестью тела накренивалась всё больше и больше. С ужасом и отчаяньем взглянул вниз и… не увидел той страшной пасти, в которой свободно могли бы разместиться трое таких, как я. И Витька Захаров вдобавок.
В классе раздались смешки.
— Тут камень не выдержал, раскрошился в моих пальцах, и я сорвался… В осоку.
Вздох, похожий на приглушённый стон, послышался с первой парты. Это за меня переживал верный друг Юрка Бобылёв.
Я замолчал, не зная, о чём рассказать дальше. Куда делся крокодил?[213] Эх, не догадался! Ведь он вылез на запах.
— Влёт он всё, — пробасил третьегодник Витька Захаров.[214] — Дулацька валяет. Не бывает таких клокадилов в Миясе.
Но меня уже невозможно было остановить. И я продолжил:
— Я тотчас вскочил на ноги и увидел, как крокодил с разбухшим трупом собаки в зубах бултыхнулся в воду. Только раскачивающиеся камыши напоминали об этой кошмарной сцене…
— Ничего не скажешь — живописная сцена, — улыбаясь произнесла Нина Ивановна. — Как ты считаешь, Юра, какого вида был увиденный тобою в Миассе крокодил? — Нина Ивановна сморщила нос, очевидно, от упоминания о собаке, которую я действительно видел на том месте. Только без крокодила.
— Судя по размерам и окраске и другим приметам, это был один из самых крупных экземпляров нильского крокодила. Неизвестных науке.
— Ну хорошо. Тогда поясни нам: как крокодил из Нила…
Нина Ивановна ткнула указкой в карту.
— …попал в Миасс.
Указка поблуждала в области Уральских гор, опять слегка коснулась поверхности карты.
— Га-га, — осклабился Захар. — Он у Лизанова летуций — на клыльях в Целябу плилетел. Летуций клокодильцик…
Я не удостоил Витьку ответом.
— Пожалуйста, Нина Ивановна, я охотно объясню. Дело в том…
Минула, наверное, целая вечность, а я всё лихорадочно соображал, как действительно попал нильский крокодил в Миасс?
— Возможно, Юра невнимательно рассмотрел, как он утверждает, неизвестный науке один из крупнейших экземпляров. Я предполагаю, что Рязанов открыл новую породу крокодилов — миасских, науке, бесспорно, неведомых. Морозоустойчивых.
И тут меня озарило.
— Дело в том, — как ни в чём не бывало продолжил я, — что незадолго до войны, кажется за год или два, в Челябинске побывал передвижной, вроде бы московский, зоопарк. А остановился он на берегу Миасса, за мостом, в Заречье. Правильно?
— Допустим, — согласилась Нина Ивановна.
— Не сомневаюсь, что крокодил, живущий в Миассе, сбежал из этого зоопарка. В одну из холодных ночей, когда температура воды в реке, выше, чем земли и воздуха. Продрог и сбежал.
Нина Ивановна, не преставая улыбаться, помолчала чуточку и сказала:
— Предположим, что крокодил улизнул из зоопарка и поселился в Миассе. Но как он смог выжить последующие зимы — подо льдом?
Это для меня был детский вопрос.
— Очень просто. Кто не знает, что возле ЧГРЭСа вода не замерзает даже в лютую стужу. Вот там, в тёплой заводи, наш крокодил обитает зимой. Вы, возможно, спросите: чем же он питается? Ведь известно, что крокодил прожорливое животное. И он давно бы умер с голоду, если бы колбасный завод на берегу Миасса ежедневно не сбрасывал в реку по трубе требуху, кишки и прочее. И вы знаете, за все эти годы, я предполагаю, крокодил даже поправился и через год-два может достигнуть рекордного роста — полных десяти метров.
— Вот это да! — восхитился Бобынёк.
Даже Витька Захар не нашёл, чем возразить мне.
Нина Ивановна развела в сторону руки и сказала:
— Сдаюсь. И хотя, похоже, Юра Рязанов не заглядывал в учебник географии уже много дней, я ставлю ему «отлично». Давай дневник.
— Ура! — закричал Витька Чекалин.
Он тоже наверняка не только не заглядывал последние дни в учебник географии, но и вовсе не держал его в руках, ведь одну книгу нам выдали на восьмерых, и читали мы её по очереди, обменивая «Русский язык» на «Алгебру», а «Геометрию» на «Литературу» и так далее.
…Через двадцать с лишним лет после событий, о которых рассказано выше, я заглянул в областной краеведческий музей и остановился перед витриной с древним воинским снаряжением. Вот так встреча! Моя кольчужка-то! Я её сразу узнал. Да и как было обознаться?
И там, в музее, перед витриной, мне вспомнился урок географии в пятом классе «б» и добрая Нина Ивановна, которой давным-давно нет с нами. И которой так не хватает душе. Потому что добрые люди встречаются на жизненном пути не столь уж часто. Особенно среди школьных учителей. И не удивительно, что о них мы помним (или вспоминаем иногда) с детства до старости, не забывая всю жизнь. Да и как не помнить доброго?
P.S. Все имена, отчества и фамилии персонажей рассказа, кроме одной, и факты воспроизведены автором точно. События тоже описаны верно. Правда должна быть во всём. Даже в вымысле. Это Закон Жизни. Неукоснительный.
1967 год
Игра в жёстку[215]
Казалось, пора забыть о подлой выходке Тольки Мироедова. Но она никак не забывалась. Хотя времени уже много прошло, да и не мне лично он обиду нанёс. Всё существо моё пока ещё требовало расплаты за гнусный его поступок.
Повторюсь: лично мне Мироед никакого ущерба не нанёс, тем не менее очевидна несправедливость — он воспользовался нашим горем и сумел бессовестно выманить у Юрки талон на стахановский гуляш с гарниром в спецстоловой. Неужто эта вопиющая подлость останется без наказания? Разве мы не имеем права или не в силах проучить гадёныша? Толькина пакость не должна остаться безнаказанной, пусть у него даже старший брат по кличке Боря Рваная Морда — вор в законе. Но как ему отплатить достойно и по-честному?
Можно при первой встрече напомнить ему о коварном обмане и вынудить негодяя на честные кулачки́. Однако в это время и даже много раньше я с необъяснимым отвращением переносил драки. Даже чужие. Мне противно видеть мордобой и другие обиды, наносимые кому-либо. Нет, не трусость отталкивала от драчунов — мне становилось каждый раз стыдно, будто я сам совершаю что-то очень унизительное, присутствуя при свершении бесчестного мужчины, не достойного мужчины. Даже когда вздорили малыши, я старался разнять их и помирить. И если это удавалось, то мне становилось отрадно.
В те дни у меня и появилось тайное занятие. Я до горячего пота, до омыливания, до боли в паху подбрасывал ногой жёстку — кусочек овчины с прикреплённым к нему свинцовым грузиком. Сначала мне не удавалось подкинуть её и полсотни раз, чтобы не уронить на землю. Но через три недели ежедневных тренировок в нашей сарайке, чтобы никто не подсмотрел и не наябедничал Тольке, появились результаты, намного превзошедшие рекорды Мироеда, которыми он хвастался на всю Свободу. И я решился: пора! Пора утереть нос этому наглому блатарёнку, относившемуся ко всем пацанам-«домашнякам» с презрением. А к блатным Мироед причислил себя, потому что старший брат его, Борис, как я уже сказал выше, носивший кличку Рваная Морда, редко вылезал из тюрьмы, судимый за карманные кражи. Да и отец их, дед Семён, являлся грозой всех сводобских пацанов, потому что, мне казалось, стал сумасшедшим, много лет работая в прокуратуре, — старый большевик, член партии с тысяча девятьсот пятого года! Всех пацанов, попадавшихся ему на пути, он колотил или пытался огреть деревянной тростью и разогнать встречных мальчишек. Кем работал отец, как Тольку ни выспрашивали пацаны, он лишь повторял: «В тройке. Ежли меня тронете, всех посодят». Лишь много позже, после его кончины, я узнал, в какой организации трудился дед Семён.
…На игру пригласил свидетелями ничего не ведающих Юрку и Гарёшку. Особенно горячо и долго меня отговаривал от игры Бобынёк, не успевший забыть, как ловко его облапошил Толька. Он не хотел, чтобы и я потерпел поражение.
Толька слонялся по улице недалеко от своего дома, жевал серу.[216] Он изображал скучающего и напоказ метал вверх монету, с прихлопом ловил её налету, загадывал и открывал ладонь, проверяя: угадал или нет. Вроде бы играл сам с собой.
Наше проявление его обеспокоило, но Мироед не улизнул, а будто не заметил приближения тройки каких-то «домашняков»,[217] фраеров.[218]
— Ну и подлец же ты, Мироед! — напористо сходу заявил я.
— Чего ты на меня тянешь? — огрызнулся он. — Оттяни собаку за хуй.
Видно было, что Мироед, хотя и храбрится, но в себе, внутренне, трусит. Это подтвердили его слова:
— Чо, думаете, кодлой припёрлись, дак и отметелите меня? У меня тоже пацаны есть. Пять во таких пердильников. Шесть даже. Они из вас каклету сделают, поняли?
— Никакой кодлы у нас нет, — сказал Юрка. — Мы просто друзья.
— И никто не собирается тебя канителить,[219] — добавил я. — Мы же не хулиганы.
Но Толька не поверил нам и опустил руку в карман широченных, в крупную клетку, чёрно-жёлтых американских брюк — «дружеская» помощь бедным советским людям поношенным барахлом — и побренчал горстью мелочи. Мы знали, что у него имеется тяжёлый медный «екатерининский» пятак, используемый как бита для игры в чику. Его-то он, видимо, и зажал на всякий случай в кулак.
— Ты ещё и наглый обманщик. Кого обдуриваешь? Своих товарищей, — сказал я уверенно.
— Каво я объебал? Каво? — взъерошился Толька. — Покажи, каво я объебал?
Матерной бранью Толька ясно подражал «кирюхам» старшего брата, отбывавшего очередной исправительный срок, как всегда, за карманную кражу. Боря Рваная Морда стал «щипачом» после того, как его выгнал из дома отец, отдубасив тростью, застав его и соседских девчонок на своей терраске, мирно беседующих и щёлкающих семя подсолнечника. Шестнадцатилетний парень не выдержал публичного оскорбления. Дальнейшая жизнь его прошла в тюрьмах и концлагерях.
Матерщинничая, Толька, видимо, мнил из себя тёртого «блатаря», хотя был старше меня лишь на год и ещё не имел судимости, чтобы гордиться своей принадлежностью к преступному миру.
— Хотя бы Бобыля, — прямо заявил я.
— Он сам играть навялился,[220] — попытался оправдаться Толька.
— Не ври! Как тебе не стыдно, Мироед? Голодом оставляешь пацанов. На крючок цепляешь!
— Да пошёл ты на хер! Выискался — учитель! Проповедь читать вздумал, ха! Да я насрал на твои проповеди. Усёк? Обмануть можно только дурака. А дурак для того и родился, чтобы его обдуривать. Знаешь правило: не разевай хлебальник?
— Нахватался у блатных подлых «правил». И с нами обращаешься как те мошенники и воры с фраерами, со всеми теми, кто не ворует и не обманывает. А если тебя обдурят? Или обыграют? Тебе понравится?
— Меня не обыграют. И не обдурят. Я умный.
— Не умный ты, а нечестный. Ты, что, подлость от ума не отличаешь?
Мироед потому промолчал, наверное, что и в самом деле не знал этой разницы, поэтому и осклабился.
— А насчёт твоего хвастовства, что тебя никто не обыграет, так ты просто трепач. Я тебе это докажу. Сейчас. Или забздил?[221]
— Не ты ли хотишь меня обставить?
— Ну хотя бы.
— Во что? В буру?[222] В очко? В рамс?[223] Или в чику?[224] Может, в жёстку?[225]
— Начнём с жёстки.
— Да я ж тебя голого по улице пущу. Ты не забывай, что игра — только под интерес!
— Посмотрим, кто голым по Свободе побежит. Ты лучше скажи: вкусная была каша?
— Какая на хер каша? Чо ты буровишь, Ризан?
— Та, что в четэзэвской столовой срубал. На халяву.
— А я её не рубал, кирзуху. Я талон толкнул. А на гроши «тянучек» купил.
— Ну и как? Вкусные, небось, конфетки?
— Хули базарить! Молошные и ванильныя. Завидно?
— Никогда никому не завидую. И тебе не советую.
— Не свисти.[226] Завидки берут. Все завидуют.
— Ты за всех не выступай. При свидетелях условимся: не хлыздить.[227] Ставлю книгу. С картинками.
— А про што книга? Может, локшовая.[228] Сколько стоит?
— Локшовая? Позырь: про крокодилов и удавов. Слышал про мадагаскарских питонов? А про аллигаторов? А кричишь[229] — локшовая…
— Сколь стоит?
— Не торгую книгами. Но дорого, это точно. Магазинная — двадцать пять хрустов.[230]
— Червонец — идёт? За червонец на бану[231] такую толстую возьмут. Я её завтра же толкну.[232]
— А ты что ставишь?
Мироед, явно кому-то подражая, небрежно вынул из нагрудного кармашка рубахи рулончик засаленных рублёвок, отсчитал и бросил на крышку «Жизни животных» десять.
Толька метнул пятак и угадал: орёл. Он напинал сто двадцать и на последок лихо засветил жёстку выше тополя.
— Нахавался?[233] — с издёвкой спросил он. — Каши с хером собачьим.
Я, не отвечая, принялся за дело. Набил сто пятьдесят и, не останавливаясь, задал тот же впорос.
— Хошь ещё? Бросай ещё червонец. Для тебя до двух сотен дожму, умник. Или голый по Свободе прошвырнёшься — от угла до угла?
Мироед выглядел обалдело и вымученно улыбался, скривя рожу.
— У тебя жёстка лёгкая — химичишь![234] Игра не в счёт!
— Махнёмся? Ставь ещё.
Толька, хотя и извлёк свой похудевший рулончик, отсчитывать деньги не спешил. Колебался.
— Хлыздишь?
Толька нарочито небрежно швырнул деньги на книгу — ещё червонец.
Поединок продолжился.
Мироед еле-еле дотянул до девяносто семи. Моей, «лёгкой». Я выбил опять сто пятьдесят, причём его, якобы «тяжёлой», запнул её на крышу дома и задал сопернику тот же вопрос.
— Спорим — на двести?
— На понтяру[235] берёшь, Ризан? — заявил Толька.
— Какой понт? Мы же все вместе с тобой считаем вслух. Не желаешь — не надо. А то килу наживёшь. Лучше скажи, за сколько продал Юркин талон?
— За три петуха.[236] А зачем вам знать? Мой талон, за сколь хочу, за столь и загоню.
— Вот тебе твоя пятёрка, получи. Я чужие деньги не беру.[237] А Бобынёк себе купит второе. Которое ты у него тогда выманил. Нечестно.
И я засунул Мироеду пять жеваных рублёвок в нагрудный карман.
— По справедливости надо жить, Мироед. Понял?
— Ну, Ризан, — скривился ещё больше Толька, — я тебе тоже козью морду подстрою. Никто играть с тобой в жёстку не станет, гадом буду.
Но это обещание меня ничуть не смутило — мало ли чего Толька не наплетёт по злу. А зла своего он даже не скрывал. Даже хвастался, что он злой — подражал блатным: вор должен, обязан быть злым и беспощадным.
— Кашу едим пополам. Поехали на Четэзэ, — расчувствовался Юрка, — обращаясь ко мне.
— Возьмём с собой и Гальку.
— Лады.
И мы поехали не на ЧТЗ, а, уцепившись за трамвайную «колбасу»,[238] на железнодорожный вокзал, где по двенадцать рублей за брикет продавалось коммерческое сливочное мороженое. Мы облизывали сладкий твёрдый ледяной брусок по очереди до тех пор, пока не оголилась щепочка и все остались довольны лакомством, лишь посожалев — мала порция. Да ещё на троих. Каждому по брикету — вот это да! Мечта!
Домой я пришёл нараскарячку — перестарался с жёсткой. И больше никогда в неё не играл.
…Мироед и на самом деле задумал отомстить мне.
Я несколько дней не виделся с Юркой, а когда застал его дома, то он взглянул на меня как-то искоса и надулся.
— Ты чего? — спросил я. — Нахохленный какой-то…
— Ничего, — неискренне ответил он. — Так…
Но всё же мне удалось его разговорить. Бобынёк с большой обидой обвинил меня: так, как поступил я, друзья не делают. Оказывается, Толька Мироедов под секретом (чтобы избежать разоблачения) рассказал ему, что я совсем недавно при ребятах хвастал, будто лучше всех играю в жёстку, а Юрка вообще слабак и ему, кривоногому, дескать, только конские катыши на дороге пинать.
У Юрки, действительно, ноги были заметно калачом. Но я никогда за это не осуждал и не дразнил его — друг ведь. Да и кривоног он от рахита, перенесённого в детстве.
— И ты поверил этому обманщику? Честное слово — в жизни такого не говорил, — пришлось оправдываться мне.
— Мироед побожился, что ты насмехался, когда я проиграл, помнишь: тридцать один — тридцать четыре?
— Проиграть-то проиграл, это верно, а остальное Мироед свистанул, чтобы нас поссорить, понял? Он жалкий, подлый врун. Неужели я о друге такую бузу брякну? Ты подобное обо мне разве мог бы фукнуть?[239]
— По этому и обиделся. Факт, не мог.
— И я тоже. Никогда. И ни за что. Потому что мы друзья. Настоящие.
Последнее утверждение убедило Бобынька.
— Давай петуха,[240] Гера. Развесил я уши, дурак. Божился он: век свободы не видать и всяко разно. Прости.
Я протянул Бобыньку ладонь, и мы крепко пожали друг другу руки.
— А научиться играть в жёстку, да и в чику, и в бабки, — запросто. Чем мы хуже Мироеда? Да ничем! Надо тренироваться. Хочешь, вместе будем? — предложил я.
— Хочу! — загорел надеждой Юрка.
Я снова почувствовал себя счастливым оттого, что правда победила и мы с Юркой остались друзьями. А кто может стать в жизни дороже настоящего друга? Никто.
При первой же встрече с Мироедом я ему в глаза высказал, что он подлец и его номер с клеветой не прошёл. Он промолчал, гадко улыбаясь, но дело до драки не дошло. Да и драться он не мог — в детстве упал с терраски и сломал обе руки. Как с таким инвалидом связываться? Я зарёкся не общаться с ним. Однако пришлось.
…Интересно, что зародившееся в тебе в детстве остаётся на всю жизнь. И после повторяется в разных вариантах.
1980 год
Сорока[241]
Она бегала вдоль забора, на котором еле читалась начертанная давным-давно Славкой, но различимая надпись «Рыба». Сейчас автор надиси старательно пыхтел в первую смену, а я маялся жестоким нежеланием идти в школу на нудные уроки и в то же время никак не решаясь приняться за домашние задания, которые должен был выполнить вчера, но рука не поднялась обмакнуть перо в чернильницу — так и просидел весь вечер за столом, вспоминая увлекательнейшие повествования Картера о раскопках древних егиептских пирамид и о чудесных находках в захоронениях фараонов.
А сорока, издавая шуршащие звуки, продолжала пробежки, сверкая под осенним бледно-жёлтым светом переливающимся разноцветным нарядом. Раньше все сороки казались мне чёрно-белыми, а эта сверкала золотисто-фиолетовыми, зеленоватыми и другими оттенками оперения. Может быть, это какая-то необыкновенная сорока, не такая, как все?
Чтобы птица не улетела — что у неё на уме? — я снял со стены отцовское абсолютно запретное двуствольное тульское ружьё — он по субботам уезжал на «охоту», увозя с собой всякую вкусную снедь и возвращаясь в воскресенье с водочным запахом, — хоть раз какого-нибудь задрипанного кролика привёз бы — ни разу, быстро зарядил патрон, встал на табуретку, открыл форточку, прицелился в ничего не подозревавшую дичь и нажал на курок.
Неужели промахнулся? Позор! С пяти шагов-то…
Но какова была моя радость, когда сквозь пороховой дым, наполнивший комнату, я разглядел поражённую цель.
И тут же услышал вопль тёти Тани:
— Юрей, ты чево стреляшь? Ково убил? Я щас милицию вызову!
Пришлось оправдываться, что из поджига жахнул, просто так.
Соседка тянулась, опершись на верх калитки и стараясь углядеть, что такое я сумел натворить.
Дождавшись, когда тётя Таня удалилась к себе в квартиру, я поднял ещё тёплое тельце птицы со свисшей головой и унёс с собой.
Сначала у меня не возникало никаких чувств к убитой птице. Положив её на стол, я помыл руки и принялся внимательно разглядывать свою жертву. Надо же: с первого выстрела — бах! — и готово. Тело птицы, запачканное кровью, оставалось красивым — перья переливались золотом и оттенками других красок.
На столешницу вывалилась часть внутренностей и мелкие галечки, что дисгармонировало с золотым оперением птицы.
И вдруг меня полоснула мысль: зачем я это сделал — убил сороку? Зачем? Просто так! Ходила, поклёвывая что-то, живая птица, а я снял со стены ружьё и убил её. Лишил жизни красивое существо. Просто так!
Мне стало не по себе от совершённого, до чего же противно — места себе не находил.
Наконец труп птицы завернул в старые газеты, промыл столешницу и бросил свёрток в помойку. Каждое моё движение наблюдала в окно тётя Таня — не надоедает же ей заниматься этой забавой ни днём ни ночью.
Мысли о судьбе несчастной сороки не отпускали меня и по возвращении в квартиру.
«Ружьё тому виной», — оправдывался перед собой я, зная, что не в нём дело. А во мне. До одного не мог докопаться, ища истинную причину убийства. Что, я настолько кровожадный? Мне хотелось уничтожить беззащитное существо? Нет. Что же тогда надавило моим пальцем на спусковой крючок? Интерес? Интерес: попаду или промажу? Но ведь предполагал, что могу попасть в цель. Слегка, мимолётом, но допускал. А что будет дальше, даже не представил. А сейчас мысленно вижу. Но уже всё свершилось, и ничего нельзя изменить, повернуть вспять.
Неужели подобное случается и с людьми? Наверное.
Щёлк — и нет человека! Это страшно! Нет, я такого не мог совершить. Уверен. Ведь это всё равно что пристрелить себя. Даже хуже.
P.S. В пятьдесят втором году от мамы пришло письмо с известием о том, что пьяный конный милиционер смертельно ранил братишку. В спину. В позвоночник. По дурости.
Ничто не действовало на меня столь сокрушительно в жизни. Даже пытки милиционеров в седьмом отделении Челябинска. Даже душиловка в смирительной рубашке в челябинской городской тюрьме восьмого мая пятидесятого года.
Я метался по бараку и зоне как сумасшедший. А после, забравшись на земляную крышу барака, рыдал в колени. Когда лежал, совершенно обессилев, мне привиделся родной двор и все, кого я знал.
Вдруг совершенно неожиданно перед моим мысленным взором возникла та золотистая сорока. Живая. А Славка — в гробу. И он действительно вскоре умер. Чуть ли не в один день со Сталиным. Тогда же скончались бабка Прасковья Герасимовна и Анна Степановна Васильева, мама Эдды. Гений всемирного ужаса напоследок, уже мёртвый, успел скосить не одну тысячу жизней. Так мне почему-то подумалось.
1983 год
Книга четвёртая
ЛЕДОЛОМ
Ледолом[242]
Самым ярким, вдруг хлынувшим в меня обилием света, цветов и оттенков окружавшего мира, близких и далёких предметов — домов, заборов, тротуаров, серо-зеленоватых, с разворачивающимися почками тополей, и всего-всего другого, чего касался мой взгляд и чему радовался сейчас, особенно необычной, яркой голубизне неба с лёгкими пористыми облачками, почти прозрачными, как мне часто казалось, будто нарисованными фантастически огромной кистью. Как всё изменилось в один-единственный день! И я понял, что именно сегодня пришла долгожданная весна. Вчера её ещё не было, а утром она словно прорвала преграду, отделявшую зиму от лета тонкой невидимой плёнкой, и заполонила абсолютно всё. И меня в том числе. Чувствовал, ощущал всем собой, что сегодня я совсем не тот, кем был накануне.
Наверное, этот апрельский день конца детства и врезался в меня, оставшись немеркнущей живой картиной, на всю жизнь — Челябинск, привычный маршрут: дом — школа на улице какого-то местного революционера Елькина… Что за революционер, чем прославился — неизвестно. И улиц с чьими-то чуждыми, ничего не говорящими фамилиями — уйма. Назвали — и забыли. Впрочем, забегая вперёд, сообщу, что до школы в положенное время я так и не добрался. Как мне тогда поверилось — не по моей вине. Проторённым путём и в радостном, возбуждённом состоянии, правда отнюдь не от неминуемой встречи с математичкой — она же завуч — Крысовной, ненавидевшей меня, как, впрочем, и абсолютное большинство своих «воспитанников» (мы ей платили тем же — озорством и хулиганскими выходками), я медленно, нехотя продвигался из пункта «А» в пункт «Б», любуясь обрушившимися на меня красотами мира, которых ещё вчера не существовало вовсе. Они возникли, выросли, расцвели и очаровали меня сейчас, недавно.
Не думал не гадал в те минуты, что моё путешествие в храм науки, где, кроме Крысовны, на моё счастье, преподавали и завораживавшая меня своей речью «русалка», она же литераторша (и она же — не поверите! — родная сестра Крысовны), и любимая ботаничка и зоологиня Нина Ивановна Абрамова, пришедшая служить школе и нам, несмышлёнышам, пустым сосудам, которые следовало наполнить драгоценными знаниями, ещё в дореволюционные годы (кое-что о «той» жизни она нам поведала — очень скупо и отнюдь не в столь мрачных тонах, как это преподносила своим жертвам историчка, молоденькая «барабанщица», вероятно круглая отличница, вызубрившая учебник из буквы в букву и неукоснительно требовавшая того же от нас).
Я же запоминал из рассказов учителей только то, что меня интересовало. Например, катеты и гипотенузы воспринимались мною одни как нечто круглое, другие чем-то напоминающими велосипедные спицы. Они вонзались в одно мое ухо и тут же выскальзывали из другого, не оставив в сумбурной голове, напичканной до отказа различными потрясающими сведениями, никаких следов своего пребывания. Зато повествования Нины Ивановны о жизни земноводных — о некоторых из них я знал не понаслышке — вызывали во мне живые воспоминания-отклики и желание тут же поделиться ими со всеми, например об охоте на лягушек в каменоломнях парка культуры и отдыха имени Алексея Максимовича Горького. А рассказы о жизни крокодилов порождали в моём воображении такие картины, что жуть пробирала до мурашек по спине.
Но упоминание исторички о героическом восстании Спартака (после уроков сразу побежал в детскую библиотеку и вцепился в роман Джованьоли), другие интересные сведения звучали редко из уст тараторки — заводной куклы, и я набирался знаний из прочитанных мною книг, не предусмотренных школьной программой, вопреки правилам школы и в урон выполнению домашних заданий, которые являлись обязательными, как ношение кандалов каторжниками. До революции, разумеется. Взахлёб, одну за другой, «проглатывал» я книги, отнюдь не рекомендованные школьной программой и учителями, за что получал пятёрки (редко) и двойки с единицами (заслуженные — по законам советского образования) — гораздо чаще. И, что печально, если верить завучу, по некоторым ведущим предметам. По той же алгебре, к примеру. Школа меня не очень интересовала, и посещал её я отнюдь не вприпрыжку. Несмотря на то, что в конце смены техничка раздавала нам с деревянного подноса по маленькой белой булочке! Лакомство! Но часто, даже слишком часто, булочкам я предпочитал библиотеку, а не нудные «мудрости» манекенов-учителей. Такие вольности рабам школы не прощались. Учителями. И родителями. Моими, к примеру. Но я, предчувствуя большую беду, упорно продвигался к печальному финалу — исключению из списков и школьных оценочных журналов.
И всё же вопреки «здравому смыслу» я предпочитал… библиотеку.
…В полупустом зале (в здании всегда держалась прохлада, и библиотекарши в осенние и зимние месяцы кутались в шали), я усаживался к окну, с трепетом держа в руках полученную книгу, раскрывал её, углублялся в чтение, и окружающий меня мир… исчезал. Я тоже переставал существовать в этом зале. Безбрежное детское воображение заполнялось героями, которым я бесконечно сопереживал, иногда мысленно воплощаясь в них. Часто не замечал, когда ко мне подходила библиотекарь и, к моему великому сожалению, возвращала в мир, реально существующий, тусклый и малопривлекательный, да ещё грозящий расправой за только что полученное удовольствие пребывания в мире волшебном, сказочном…
Иногда обнаруживалось, что я дрожу, — до чего озяб и не заметил даже.
Летом же, разумеется, приходилось не до чтения — меня всегда ждали куда более захватывающие дела. И домашние обязанности.
…Сегодня я намеревался пойти всё-таки в школу. Удивительно: настроение моё всё ещё оставалось светлым, неомрачённым, почти радостным. Правда, я осознавал: ничего хорошего впереди меня не ждёт. Моё поведение часто не вписывалось в многопунктовые правила, вывешенные в застеклённых рамках на первом этаже перед раздевалкой, в учительской, в кабинете завуча, — пацаны дразнили все эти «запрещается — не разрешается» почему-то «молитвами».
Так вот, эти «молитвы» я частенько нарушал или не выполнял, за что неотвратимо следовало возмездие: бесконечные мамины морали и распекания, закреплённые ремённым аргументом отца, нотации свысока, недосягаемые в мудрости, учителей — любителей дневниковых трактатов, в которых щепетильно и, как мне казалось, несправедливо, зло отражались не только мои «подвиги», но и каждая мелочишка, даже то, что я, например, повернулся к соседу по парте и «мешал» ему алчно поглощать «А» и «Б», которые сидели на трубе, за что был пересажен на последнюю парту, — почти постоянное моё пребывание в классе, — а после вторичного замечания удалён с урока. Всё это ставило меня в тупик: я должен сидеть, не шелохнувшись, как истукан. Привязать себя, что ли, к парте? Моя непоседливость, несдержанность раздражали некоторых учителей. Иногда я не знал, куда деться, мучился и… совершал как раз то, что в правилах значилось запретным. Нетрудно догадаться, что за всем этим следовало. Унижения приходилось терпеть постоянно. Но любому терпению приходит конец…
Только, пожалуй, «дореволюционная» Нина Ивановна относилась ко мне снисходительно, на её уроках я отводил душу. Она поощряла чтение книг по биологии. От неё я услышал о великом исследователе животного мира Альфреде Бреме, и мне удалось приобрести и «проглотить» четыре огромных тома «Жизни животных», а позднее и последний — пятый, как раз перед тем как стать не по своей воле «активным строителем коммунизма». После неоднократного прочтения этих и других изумительных книг моё представление о Земле и населяющих её живых существах расширилось, изменилось как об огромной планете и ничтожной песчинке мироздания — раньше я и не подозревал о неохватном и бесконечном его многообразии.
…Чем короче оставался путь до широкого школьного крыльца, символично расположенного рядом с седьмым отделением милиции, тем дальше раздвигались две точки: идти на уроки или опять окунуться в волшебный мир книг в детской библиотеке.
В одном случае, если здорово повезёт, я мог вернуться домой, не с записью окровавленным пером завуча в дневнике, в другом — отсутствие в нём каких-либо оценок и заданий на завтра непременно вызвали бы допросы мамы (ранее я уже упоминал: она сначала несколько семестров училась на юридическом факультете, а после перешла на ветеринарный и санитарный), непереносимые мною — методичные и настойчивые. От них невозможно было скрыться.
Она всегда добивалась от меня тех чистосердечных откровений, в которых я не желал признаваться. Мама-«следователь» свято верила, что имеет право контролировать каждый мой шаг, каждую мысль. И ведать обо мне абсолютно всё. А я уже стал взрослым человеком. У меня возникали свои личные, точнее сказать интимные, переживания. И в них я ни за что не посвятил бы никого. Даже маму. Ни-ко-го!
Моё отношение к Миле она или не замечала, или делала вид, что не понимает чувств, бушующих в душе моей. Возможно, и в самом деле не догадывалась о происходящем.
Она расписывала моё поведение на много лет вперёд. Втолковывала: к людям следует относиться с уважением, помогать тем, кто в этом нуждается, никогда не задираться, не зазнаваться, ограничивать себя скромными, как у всех, желаниями — не больше. И ни в коем случае не драться. Ни с кем. Тем более кто слабее тебя. Сдерживать эмоции. К сожалению, сама она отнюдь не всегда следовала правилам, внушаемым мне.
— А если он первый начнёт? — резонно парировал я во время последней запомнившейся мне беседы.
— А ты отойди в сторону, не связывайся — плетью обуха не перешибёшь. Не лезь на рожон.
— Но должен же я дать сдачу хоть словом. А если смогу — и делом, — отстаивал своё понимание жизненного поведения. — Иначе стану трусом и тряпкой.
— Слово — это то же дело. И оно может больно ранить. Как острый предмет. А ты, Юра, не сдержанный на язык. Лучше — смолчи, — наставляла мама.
Да, очень легко воспитывать других. А окажись в подобном положении…
— Так совсем в немого превратишься, — не согласился я.
— Помни народную мудрость: слово — серебро, а молчание — золото, а ласковое теля двух маток сосёт.
— Я не хочу быть телёнком. Знаешь, кого так зовут?
Ох, и любила мамаша потчевать меня народными пословицами и поговорками.
И я задал вопрос, давно вертевшийся в моей голове:
— Так как же мне жить? Ведь, если не сопротивляться, то затюкают, в посмешище превратят. Таких охотников поизгаляться на каждом шагу встретишь. Вон пацанам только спусти слабину…
— Выработай в себе ровное отношение к людям. Соблюдай собственное достоинство, но других не задевай ни действом, ни словом, Юра. И будешь жить спокойно. Понял? Не отдаляйся от людей. Не заносись. Если даже приключится такой случай. Всегда помни: ты — такой же, как все. Не хуже, но и не лучше других. И ещё помни: мама тебя плохому не научит. Мама жизнь прожила, а ты только начинаешь. Ты ещё, по сути дела, ребёнок, и у тебя во многом детское восприятие событий. В общем, слушайся маму. Она тебя плохому не научит.
После я долго размышлял над маминой беседой (почти как со взрослым мама со мной разговаривала редко). Далеко не со всем, что она мне настойчиво внушала как вечные и неоспоримые истины, мог согласиться. И исполнять всю жизнь. Это абсурд. Но с чем-то из её соображений я не мог не согласиться. И исполнял неукоснительно.
Например, одно её высказывание не вызвало у меня возражений: надо жить честно и своим трудом зарабатывать на существование, не причиняя окружающим забот, неприятностей или страданий. Не быть ничьей обузой. Прожить жизнь достойно — трудно. Но лишь тогда обретёшь неоспоримое право называться человеком. И уважение.
Она и сама жила по этому правилу. До конца. До последнего дня.
— …Чьего уважения? — спросил я, ведь это слово звучало настолько широко и даже неопределённо. Для меня, по крайней мере.
— Своего, — несколько раздражённо ответила мама, её задела моя непонятливость.
Конечно, можно быть уважаемым многими человеком, трудясь даже дворником. Ведь я уважаю Каримовну за чисто подметённые тротуары.
— Но нам, твоим родителям, будет стыдно, если ты вырастешь необразованным человеком. И мы считаем вправе помочь тебе в учёбе, наставить на путь истинный.
— Ремнём, — сдерзил я.
— Да, иногда ремнём, если ты не хочешь понять прописные истины и ведёшь себя не как воспитанный мальчик из хорошей семьи, — ещё более жёстко заключила нашу беседу мама.
Выходит, наша семья — «хорошая». А то, что отец пропивает и расходует лишь на себя бо́льшую часть своей зарплаты и маме приходиться тянуть полторы ставки, — это признак «хорошей» семьи?
Эту фразу я произнёс про себя. Не мог такую тираду прямо матери вслух заявить.
И то, что мне придётся уйти из этой «хорошей» семьи, нормально? Унижают меня родители своими «экзекуциями». А для отца я вообще ничего не значу. Он не любит меня. И никогда не любил. Почему? Об этом знают оба родителя. Я лишь не ведаю.
Мама скрывает что-то от нас (и от меня, в частности), то есть лжёт нам. А меня учит быть правдивым. Так в «хороших» семьях поступают? Я — лишний. Давно, с прошлого года, это чувствую. Сразу после возвращения отца с войны. А до неё — не знал его. Ничего не понимал.
Такие мысли ворошились в моей голове, мучительно всё это осознавать. Но мама есть мама, и я не имею права обижаться на неё. Она дала мне жизнь. Выкормила и вместе с другими спасла меня от смерти. Я должен её любить и уважать. Как и она любит меня. И Славку. Да и нутром чувствовал, что, несмотря на несправедливые наказания, она любит меня. И опять не мог уразуметь: если любишь человека, то можно его наказывать? Иногда — несправедливо. Разве его нельзя простить? Или пожалеть?
И, может быть, поэтому я окончательно вознамерился сейчас пойти-таки в школу. Чтобы не отягощать и без того нелёгкую лямку, которую тянет, как однажды выразилась сама родительница о своей судьбе.
Ощущение светло-радостного весеннего дня как бы вдруг померкло: красочное, цветное, словно освещённое волшебным светом изнутри предметов, погасло. И всё-таки я мужественно преодолевал отрезок пути от точки «А» к точке «Б». Заранее смирился со всем, что должно произойти со мной в многоэтажном сером скучном здании с такими же серыми, бесконечно длинными коридорами, мрачными в сравнении с улицей, бурлившей жизнью. Мёртвыми. Как замурованный склеп. Непреодолимо не хотелось встречаться с учителями, многие из которых в моём воображении выглядели манекенами в пыльных пустых витринах — окнах городского универмага, а точнее, живыми куклами в натуральную человеческую величину; да ещё и здороваться, разговаривать с ними. Вернее, оправдываться за пропущенные сорокапятиминутки и не вызубренные строки «отсюда и досюда».
Мне казалось, что они, учителя-манекены, разговаривают со мной как с маленьким несмышлёнышем или древнеегипетским рабом. Возможно, это сработала недавно прочитанная в детской библиотеке книжечка о мальчике, ученике каменотёса Нугри, заплутавшего в бесконечных ходах пирамиды фараона. Она потрясла моё воображение, когда я представил себя этим древнеегипетским пацаном. Ещё одна книга — «Хижина дяди Тома» Бичер Стоу, точно не знаю почему, но ко многим преподавателям резко изменила моё отношение. И я испытывал к ним самое настоящее отвращение, нутром чувствовал, что они, словно сговорившись, загнали нас в эту школу-пирамиду и считают маленькими бесправными рабами, а себя — всемогущими фараонами и фараоншами. И не мог победить в себе это предубеждение. Они беспрекословно требовали и барабанили своё, вернее чужое, заученное ими. А мои уши не желали их слушать, а глаза — видеть. Потому что они не желали знать, что я думаю о прочитанном, их это не только не интересовало, но в случаях, когда я высказывал свои мнения, — наказывали, выходит, если ты не попугайничаешь, то такое поведение почему-то подлежит осуждению. Меня они и наказывали, когда я пытался объяснить что-то своими словами.
…Однако шаг за шагом ко мне приближалась мёртвая кирпичная коробка — громадина с десятками одинаковых квадратных слепых окон, и я доплелся бы до порога своего пятого «б» класса, испытав очередную нудную процедуру с расспросами и допросами, высокомерными гневными нотациями и дневниковыми приговорами, не подлежащими обжалованию. Но добрёл я лишь до каменного моста, соединяющего центр города с Заречьем. Даже не перебежав тротуар и дорогу, я свернул направо с улицы Труда, поражённый и сразу всецело захваченный тем действом, что творилось под быками моста.
Я сразу увидел нечто необыкновенное: река движется, словно огромное — взглядом не охватишь — ожившее существо, огромнейшее чудовище, но не сказочное, а всамделишное, и это зрелище меня пронизало и примагничивало. Я почти поверил в это осмысленное движение, окинув взглядом неохватное шевелящееся пространство, зажатое берегами. Миасс был похож на спавший зиму и вдруг очнувшийся от оков сна живой организм. Пока я видел не сам организм, а панцирь, закрывавший его. А под ним движется, медленно и грозно, сама стихия, неукротимая силища, всемогущая, неудержимая. Там и сям двух-трёхметровые — не меньше! — куски льда вставали вертикально, зловеще отблёскивая сталью сломов, и в таком положении медленно ползли навстречу мосту, словно стремясь сокрушить, сдвинуть его с фундамента и даже вместе с ним поплыть дальше.
Дух захватило необъяснимым желанным страхом: а если они сорвут и потащат, толкая перед собой, железобетонное сооружение, а вместе с ним и строения на берегу?! Выворачиваясь, становясь на дыбы, с невероятной мощности напором наползая на быки моста, они однако с оглушительным грохотом рушились, раскалывались, крошились под напором таких же массивных глыбин.
Подобного буйства речной стихии мне ещё ни разу не выпало счастье наблюдать: льдины разных размеров, толщины и очертаний, а также крошево неслись по другую, противоположную, правую, сторону моста, если посмотреть через чугунные перила, вниз по течению сплошной массой, то быстро, то замедляя движение, то рывками и с невероятной скоростью, сталкивались, вползая друг на дружку, с шлёпаньем и плеском плюхались в бездонные чёрные водовороты, приоткрывавшиеся на секунду-другую. Грохот и скрежетания звучали грозным музыкальным сопровождением неукротимого буйства природы, битвы ледяной рати со всем и вся и с самой собой.
В этом сражении не определишь победителей или побежденных, всё перемолотое неудержимо несло за гранитные быки моста, мимо каменных оков берега.
Я повернул голову налево и стал со страхом и наслаждением любоваться колоссальным ледяным нашествием, вседробящим, казалось, неукротимым, бесконечным, нёсшим на себе, на своём колышущемся панцире, обломки грандиозного побоища: бревна, обломки досок, щепки и куски каких-то сооружений, побеждённых, раздробленных, раскромсанных, расплющенных, разбитых вдребезги в дикой схватке, произошедшей где-то там, выше по течению. Даже одноместный, с распахнутой, висящей на верхнем шарнире дверью и уцелевшим стульчаком, сортир сорвал озверевший ледяной зверь-хулиган, не выпуская его из своих невидимых насмешливых лап, и волок неведомо куда.
Все замеченные мною обломки чего-то сооружённого руками людей недавно были заборами, сараями, баньками в приречных посёлках. Сейчас, изломанное, исковерканное, это нечто, временами выплывая, появлялось на поверхности вздыбившегося ледяного поля, задавленное, зажатое и раздавленное, кусками — всего на секунду, на момент сверкнувших под солнцем огранённых кристаллов, скрывавших это сокрушённое в тёмной, жуткой пучине, может быть навсегда опустив на дно, в вязкий ил, как в могилу.
Словно загипнотизированный этим могучим буйством, я вцепился в чугунные брусья перил моста, не чувствуя онемевших пальцев.
…Вода прибывала на глазах и, когда льдины, словно доисторические животные, страшные чудища, наскакивали, напирали со скрежетом на быки, выплёскивая струи и выплёвывая мелкое крошево на площадь моста, мне становилось не по себе: казалось, что ледяные горы — рукой дотянуться можно — недвижимы, а мост вместе со мной стремглав несётся вниз по течению.
Эта фантасмагория длилась до тех пор, пока я опять не повернул голову и вдруг всё-таки почувствовал, что мои лёгкие обутки промокли насквозь и пора драпать с опасного, пугающего, словно заколдовавшего меня моста: углы некоторых накренившихся в мою сторону льдин, ослепительно блистая гранями изломов под ярким солнцем, проносились и проползали совсем рядом; мысленно перемахнув через перила, я оседлал искрящееся чудовище. И — помчался, превратившись в частицу стихии, ведь во мне пел её волшебный, звучащий отовсюду громогласный оркестр.
Я еле сдерживал себя, чтоб не перепрыгнуть через роковую чугунную грань перил и оказаться там, вскочить на одну из ворочающихся платформ и помчаться на ней, как на санках с высоченной горы!
Мне восторженно мнилось, что я смогу, в силах управлять хотя бы одной «платформой», как лыжами, — во всём моём существе продолжал звучать небывалой мощи и силы звука оркестр, а музыка, необыкновенная, не слыханная никогда ранее, исходила из этого сумасшедшего кувырканья и грохота сталкивающихся и разбивающихся с треском выстрелов пластин панциря, ожившего наконец-то чудовищного существа. Эта фантазия видимого не покидала меня ни на секунду, хотя я прекрасно осознавал: это вовсе не то, что вижу. А избавиться от наваждения не мог.
Ведь нашу речушку, особенно в жаркие сухие лета, я прекрасно знал, излазал и проплыл её в этих местах вдоль и поперёк. Да и многие знакомые пацаны тоже серьёзно её не воспринимали, бороздя мелководье, где хочется, заплывая далеко в сторону ЧГРЭСа и против течения — в Заречье.
Но в эти минуты, а прошло уже, как оказалось после, немало времени, продолжало твориться немыслимое: из пучины то показывалась грозная, лоснящаяся спина какого-то невиданного существа, похожего на кита или огромного дельфина, вдруг погружающегося и протискивающегося под чью-то голубоватую броню, то выскакивало что-то злое, остромордое или тупорылое, хмурое…
А оркестр во мне продолжал грохотать вместе с ожившим и нёсшимся в неведомую даль Миассом.
— Мальчик! Мальчик! — донеслось-таки до меня. Я безошибочно понял, что кто-то окликает меня. Только непонятно, откуда и куда меня зовут. Оттуда? Нет. Я повернулся налево.
Это кричала какая-то незнакомая тётенька с тротуара улицы Труда. Лишь сейчас заметил: матерчатая сумка, сшитая мамой из старого отцовского плаща, в которой уложены были мои ученические принадлежности: учебники, тетрадки, карандаши, линейка, ручка, колпачок с перьями номер восемьдесят шесть, фарфоровая чернильница-непроливашка, тряпочка, чтобы вытирать ею перо (а не о штаны — имел я такую дурную привычку, мама отучила), — всё это мокро и грязно. Я и так стеснялся своей самодельной сумки — многие одноклассники щеголяли фабричными портфелями с блестящими металлическими застёжками и замками с ключиками, теперь же мамина самоделка приобрела ещё более непривлекательный, жалкий вид — её, видимо, неоднократно захлёстывали фонтаны и брызги, выстреливавшие на мостовую. А я ничего этого не видел и не чувствовал. Но наконец-то очнулся.
Сдёрнув скрюченные пальцы с перила, одеревеневшие от холода, я быстро, насколько позволяли негнувшиеся в коленях ноги, пошлёпал по лывам, залившим тротуар, на противоположную часть улицы, не отрывая зачарованного взгляда от ледолома, — меня всё ещё влекло туда, где продолжала буйствовать всёсокрушающая зовущая стихия.
До здания школы остался всего один квартал. Рванул по тротуару, что есть силёнок, бесчувственно, как по воздуху, ступая окоченевшими ногами.
Когда уборщица (она же гардеробщица) тётя Мотя завидела меня, трясущегося в ознобе от зрелища, увиденного на реке и под мостом, она встретила меня причитаниями.
— Да што жа это с тобой, сердешный? Весь мокрёхонек, сухого места нет!
Она завела меня в свою каморку рядом с раздевалкой и запросто предложила раздеться и разуться. Я поначалу заартачился: перед малознакомой техничкой (она для всех была только тётей Мотей, шустро принимавшей и выдававшей по биркам наши телогрейки и пальтишки) и вдруг ни с того ни с сего растелишиться чуть не догола!
— Давай-давай быстрея, а то простынешь и заболеешь. А я тебя кипятком отпою. Да в моём одеяле и сугреешься. Не стыдись, никто тебя не увидит. Здоровье-то смолоду беречь надо. Опосля не насбираешь, что растеряешь…
Я послушался её, сразу вспомнив свои давние простудные хвори, и, не попадая зуб на зуб, скинул тесное пальтишко, курточку, американские жёлтые штаны, чулки, прилипшие к телу, стянул не сразу, заодно со старенькими ботинками, и, укутавшись в колючее суконное одеяло, прижался к тёплой батарее центрального отопления. Ступни, пальцы ног и рук кололо, будто в них иголки втыкали. Как тогда, когда меня вытащили из колодезя, откуда я белым днём видел на небе яркие звёзды. Я и сейчас терпел. Дрожал и терпел.
Тётя Мотя, добрая душа, быстрёхонько скипятила на электроплитке большую алюминиевую кружку воды, и я, обжигаясь, принялся маленькими глотками опорожнять её — отогреваться.
Гардеробщица охала и пыталась разузнать, как такое несчастье со мной стряслось: «весь до нитки промок».
Грешник, я соврал, хотя не раз клялся себе, что буду всегда правдивым, но опять не сдержался: дескать, меня окатила проезжавшая мимо грузовая автомашина — «трёхтоннка».
— Господь тебя уберёг, што не попал под её, — посочувствовала мне, безвольному вруну, старушка. — Гонят, как самошедчии. Прямо на детишак.
И мне стало так противно за себя, что на кого-то наклеветал.
— Нет, она по дороге ехала. Это я оплошал, — поправился я.
— Сугрев-то дошёл до нутра? — спросила она. — Тада от батареи-то отодвинься, я твои вещички развешу, пущай подсохнут.
И зачем только я соврал тёте Моте? И во мне возникла жалость к ней. И недовольство собой.
Вот это человек так человек! — подумал я. — Хоть и вид у неё зачуханный. Зато завуч Александрушка разве напоила бы меня кипятком? Да ни в жизнь! Потому что произошла она от злой крысы, а не от доброй обезьяны, как некоторые люди. И ещё в дневник накрапала, чтобы отец «принял действенные меры» для моего «исправления».[243] Она постоянно предлагала такое «воспитательное средство», наверняка зная, что родители меня накажут. И каким способом — причинив боль.
Я подозревал, что она злорадствовала и наслаждалась, рисуя в своём мстительном воображении эти «действенные меры». Какие гипотенузы и катеты с «А» и «Б», которые сидели на трубе, могли возникнуть в моей голове после того, как она кровавыми чернилами в очередной раз образцово-показательным, безукоризненным почерком строчила донос в мой дневник — всякую чепуху и глупости? И я испытывал к этой отутюженной, внешне симпатичной, ещё довольно молодой женщине самые недобрые чувства. И, вероятно, не умел скрыть их. Она видела всё в моих глазах. И мстила. Как могла. А возможностями уязвлять она располагала неограниченными. И это меня угнетало, доводя до отчаянья. И верно двигало вон из школы — к исключению.
…В класс я заявился в конце смены, после того как отогрелся и пришёл в себя. И завуч, сухопарая, плоскогрудая, с одеревеневшим смазливым кукольным лицом, даже не спросив меня ни о чём, брезгливо потребовала дневник и ненавистным тоном спросила:
— Что это такое, Рязанов? Это не дневник, а каша. Ты это нарочно сделал? В канаве, что ли, его размочил?
Я не выдержал, произнёс когда-то слышанную фразу:
— Каждый судит о других в меру своих пороков!
Эти слова вырвались у меня сами собой. И вдруг лицо завуча побагровело, и она заорала, да, именно заорала:
— Вон из школы! И чтобы твоего духу здесь не было! Хулиган!
Всё моё поведение в школе, вернее в родном классе, в котором пребывал всего несколько минут, было оценено хуже некуда — как хулиганство. Для меня стало ясно: суровая расплата неминуема. За случайно вырвавшуюся фразу.
Она столь же брезгливо отшвырнула волглый дневник и процедила сквозь зубы, не взглянув на меня:
— Отец пусть завтра же придёт!
Она столь разгневалась на меня, что даже не вызвала к доске для объяснений.
Вечером мною была выдержана «атака» мамы. Но беспощадного, молчаливого хлестанья ремнём с латунной пряжкой с выпуклой пятиконечной звездой, оставлявшей многочисленные, но уже розового цвета отпечатки на моих тощих ягодицах, не состоялось. Маме я правдиво рассказал обо всём, что произошло со мной на мосту и в школе.
Папаша всегда так называемые экзекуции совершал безмолвно. Под мои стоны. Сегодня я заранее решил предотвратить эти издевательства. Хватит! Я уже взрослый человек — четырнадцатый год скоро минет!
Уже давно я думал о себе как о вполне самостоятельном человеке. Сегодня же, после признания в своих проступках, я заявил родителям, что больше не потерплю никаких физических наказаний — тут же уйду из дому. Навсегда.
Папаша не выполнил свой «отцовский долг», пожалуй единственный, который он оставил за собой в деле воспитания сына и молча, устроившись на диване, закинув ногу на ногу, смолил, как всегда, «беломорканалину», стряхивая пепел в стеклянную продолговатую пепельницу с бортиками и изображениями трёх вогнутых с тыльной стороны лошадиных морд с уздечками. Я же под присмотром плачущей мамы, во время «экзекуций» обычно уходившей на кухню, сейчас читал за одним концом старинного дубового, с раздвижной столешницей, фундаментального, на века сработанного стола, вернее, в который раз перечитывал «Как закалялась сталь» вместо домашних заданий (другой был отведён Стасику и занят им), и ничего не мог сообразить, обуреваемый волнением, — всё во мне бурлило. Накопилось!
В моё воображение обидой выталкивались то побои отца, о которых он уже, наверное, давно забыл, то врывалась, бушуя, речная сумасшедшая стихия ледохода.
Мама, прибегая с общей кухни, где постоянно готовила что-либо съестное или кипятила в эмалированном тазу грязное бельё к грядущей стирке, то и дело заглядывала в открытую книгу, надеясь, что я передумал и взялся за уроки. Но я решил не отступать. Ни за что!
Отец же время от времени, не отрываясь от свежего номера газеты «Челябинский рабочий», ограничивался краткими и равнодушными замечаниями в мой адрес, слышанными мною и раньше множество раз:
— Балда! Дворником[244] будешь. Улицы подметать. Ямы будешь копать. Балда!
Да, я готов был стать и дворником. Даже землекопом. Даже ассенизатором! Кем угодно, лишь бы не сносить подобных постоянных унижений. От ужина я отказался, несмотря на упрашивания мамы, — не мог проглотить и ложки овсяной каши. Будто горло сдавило.
Часы пробили одиннадцать, я улёгся на свою железную кровать (Славкина стояла рядом, тоже вдоль стены пристроя, превращённого во вторую, «детскую», комнату) и закрыл глаза. В моей памяти опять возникли грандиозные сцены ледолома. Они вытеснили позорные «экзекуции» и Крысу-Александрушку.
«Какое же это красивое, даже прекрасное и одновременно страшное, грозное природное действо!» — опять про себя восхитился я. И вдруг ни с того ни с сего даванула мысль: из дома придётся всё-таки уйти. Не знаю куда, но придётся. Пусть они и родители мне, но сколько можно терпеть унижения? Они образованные, грамотные, а не понимают, да и не в состоянии понять, а может, не хотят, какими интересами я живу, к чему стремлюсь, что могу, а чего — не могу. Я для них всё ещё несмышлёный ребёнок и предназначен, чтобы беспрекословно выполнять их приказания. И для битья. Мальчик для битья. Виноват не виноват — получай ремня! Всё. Для них школа важнее самого меня. Фетишь! А я — ничто. Для отца же ещё и обуза. Которая тяготит. Мешает ему жить в спокойствии и довольстве. А мама? Ну что — мама? Она его рабыня.
Вон, во время войны наравне со взрослыми вовсю трудились на заводах и других производствах даже двенадцатилетние пацаны. Фронту помогали. И их за это уважали. Правда, война завершилась. И я давно из этого возраста вышел. Повзрослел. Так неужели не смогу найти и освоить рабочую специальность? И содержать себя. Учиться можно и в ШРМ. Не во всех же школах прогрызли стены «крысы»? В ШРМ лучше, чем в обычной общеобразовательной, — пацаны рассказывали. Вот только ещё бы и крышу над головой найти. В этом насущная цель. Тогда я стал бы абсолютно самостоятельным. И независимым.
Я им докажу, что не маленький мальчик для битья. Хотя и маленьким тоже нельзя устраивать «воспитательные экзекуции». Откуда только отец это словечко выкопал, из какого дореволюционного замшелого жестокого прошлого? Это же издевательство над человеческим достоинством! А я человек! Уже давно — человек! А не ребёночек.
Ни мама, ни отец ни разу не удосужились со мной поговорить как со взрослым. Мама, правда, при всяком удобном случае читает мне длинные морали. В них всё правильно. Они придуманы на все времена. А вот, чтобы со мной, со своим сыном, поговорить по душам, посочувствовать, вникнуть в мою суть, — редко. И получаются все её вечные истины — безжизненными. Теоретическими. Истинами вообще. И толку от них — мало. Хотя, конечно, я их придерживаюсь. Даже соблюдаю такие незыблемые правила, как: не укради, будь справедлив ко всем, не обижай слабого… А вот кое-какие правила у меня не исполняются, не получаются. Например, не лги.
Бывает, обманываю. И не то что хочу кого-то надуть или сознательно исказить истину, а так получается. Само собой. Помимо желания моего. По обстоятельствам. Ну и обижаю (и обижал) незаслуженно братишку. Зачем, спрашивается? Потому что, наверное, старший, и хочется, чтобы он во всём мне подчинялся. Сам не люблю насилия, а Славку заставляю. Виноват перед ним, конечно, что и говорить.
И у меня возникла такая жгучая жаль к Стасику, такая, что встал бы, обнял его, прижался и сказал бы самые хорошие, самые добрые слова. Но он давно потихоньку сопит. Да и все эти обнимания и прижимания происходили только в моём воображении. Завтра с ним душевно потолкую и подарю что-нибудь из своих заветных предметов.
К этому моменту у меня на отца с мамой и обида прошла — долго серчать на кого-то не умею. Особенно на маму. В отце же я заметил и отметил кое-какие несоответствия в поведении. Он мнит себя культурным, интеллигентным и знающим человеком, весь вечер слушает репродуктор, а читает лишь одну газету. И держится перед всеми важно, недоступно, будто возле него не такие же люди, а какая-то мелюзга. А загляни он в четырехтомный словарь Ушакова, купленный на деньги, заплаченные мне им же за чистку дворовой общественной уборной и подметание территории вокруг нашего дома и дорожки до уличной калитки (по расписанию, составленному домкомом тётей Таней, наступила его, как квартиросъемщика, очередь, но разве папаша возьмёт в руки лом или метлу!), то узнал бы, кто такие балда и дворник, которыми он, негодуя, обзывал меня. Неужели я и впрямь настолько незнающий и недалёкий, глупый человек? Так я даже Вовку Сапожкова не называл, чтобы не обидеть, хотя все были наслышаны о его слабоумии и многие пацаны дразнили. А Вовка в ответ лишь громко и надрывно плакал — он воспринимал свою болезнь как незаслуженно обрушившуюся на него беду. Неужели и я в понимании отца выгляжу таким же недоумком? Я должен, обязан доказать, что вовсе не балда. И отцу — в первую очередь.
Как только напряжение рассуждений стихло и почти прошло вовсе, цель дальнейших моих действий совершенно определилась. Про себя-то я знал, уверен был, что вовсе никакой не балда, и не обалдуй, и способен совершать хорошие дела, достойные настоящего человека. И это осознание укрепило веру в себя, кто бы что обо мне не сказал.
Я окончательно понял, что мешаю отцу. Отягощаю его спокойную, удачно налаженную им жизнь. Личную жизнь. Вот почему он всегда безразличен ко мне. И не скрывает, что я для него не существую, в упор не видит меня.
Раньше мне почему-то представлялось, что мы живём единой дружной жизнью, упроченной навсегда названием «семья». Однако месяца три-четыре назад мне пришлось убедиться, что это вовсе не так. Помог понять случай.
…Почему они не услышали скрипа снега под моими валенками и звука открываемой калитки слишком, наверное, увлеклись?
Когда я приблизился к крылечку нашего тамбура, широченная отцовская спина приоткрыла того, с кем он разговаривал.
Беседу, вернее окончание спора, я запомнил: мама, удерживая отца за рукав кожаного, на меху, чёрного модного пальто, убеждала:
— Не хватает, как ты не можешь понять, Миша?
— Ты их нарожала, вот и корми. И одевай, — отвечал отец жестко, спокойно, однако не очень трезвым голосом. Опять, наверное, заявился из ресторана «Арктика», что на улице Кирова, — с юности его любимое времяпрепровождение в нём.
Мама увидела меня, спохватилась:
— Юра вернулся. Идёмте в квартиру, чего мы здесь на морозе стоим…
Я догадался обо всём. И меня это ошарашило.
Достав из-под половичка на приступке ключ, я открыл дверь тамбура, после взялся за винтовой квартирный запор — пятимиллиметровая полоска железа со спичечный коробок шириной — по наследству от Гудиловны достался — и боковым зрением наблюдал, как отец щёткой тщательно очищает белые фетровые бурки, оголовлённые коричневым хромом, — дяди Лёвы Фридмана прекрасная работа.
Пока возился с запором, меня точил услышанный обрывок разговора родителей, он оглушил меня словно дубиной по голове — такое осталось ощущение.
Мне и раньше, в дни получек отца, когда он заявлялся обычно под хмельком, приходилось нечаянно слышать просьбы мамы дать денег на прожитьё. Но глава семьи то ли шутя, то ли серьёзно (он сразу после возвращения с фронта переписал квартирный ордер на себя, а мы все попали в разряд «квартирантов» и «иждивенцев») на все вопросы, просьбы и требования мамы помогать содержать семью отвечал односложно:
— Я уплатил за квартиру и электричество.
Эта фраза означала, что долг свой он выполнил. Остальные заботы — мамины. И мои со Славкой. Например, пилка и колка дров, водоснабжение и другое.
Мне странным казалось, что получки отца, а оклад у него был немаленький, рублей сто пятьдесят, да ещё всякие непонятные премиальные, которые начальство распределяло между собой, нашей семье хватает всего лишь на оплату коммунальных услуг. Но дальше удивления про себя я не смел задавать никаких вопросов — в дела взрослых нам, детям, не дозволялось соваться.
Хоть поздно, однако до меня дошло, что в семье нашей не всё столь благополучно и справедливо, а я в ней — обуза. По крайней мере, для отца. Может быть, поэтому он и лупит меня с таким ожесточением. Вымещает на моих рёбрах и ягодицах своё недовольство за недопитое вино и пиво в «Арктике», иногда отдавая матери выпрошенные ею рубли.
Выходит, моё решение верно: надо уходить из семьи, где тебя не любят, обижают, презрительно не замечают, считая дармоедом, недоумком. Ведь я мешаю отцу спокойно пропивать в возлюбленном ресторане в своё удовольствие то, что предназначено для весёлой, вольготной и безмятежной его жизни. И чем дальше, тем больше неприятностей я доставлял ему. Какой же я недотёпа!
Теперь всё встало на свои места. Я лишний рот! «Ты их нарожала, ты и корми!»
Вероятно, я и в самом деле — тягость для семьи. Уйду, и мама перестанет выбиваться из сил. С одним-то Стасиком меньше хлопот. Хоть ей облегчу жизнь. А то продыха нет несчастной моей маме, мантулит, словно каторжная. Всю войну и сейчас. И до войны, помнится, то же было. Только я этого не мог уразуметь. Пацанишка. Лишь игры на уме.
И мне стало так жалко мою несчастную маму, что слёзы навернулись на глаза. Но сдержался, не заплакал. Лишь в горле ком стоял.
В этот миг совсем некстати в памяти с фотографической точностью снова возник ледоход и чей-то движущийся накренившийся нужник, покрашенный в ядовито-зелёный цвет.
Я убрал это сооружение с экрана внутреннего видения и пошарил в памяти, но ничего, кроме льдин, несущихся к Саду-острову, где мы, пацаны, летом любили загорать на травке под высоченными вековыми тополями, ничего интересного не нашёл.
«Лишь бы Сад-остров не снесло», — успел ещё подумать я. И уснул, хотя до того меня иногда продолжала сотрясать внутренняя дрожь.
В полутьме раннего утра меня осторожно разбудила мама, она смотрела на меня лихорадочно поблёскивавшими чёрными глазами и тихо произнесла:
— Тихо! Не разбуди Славу. Юра, я не спала всю ночь, всё думала о тебе. Я тебя прошу: не убегай из дому. И прости нас за наши несправедливости. Отец устроит тебя учеником плотника в ремстройучасток. Если ты не выполнишь этой просьбы, мне будет очень плохо, очень… Запомни это, сынок.
Сынком она меня никогда не называла, вероятно полагая излишней нежностью.
Спросонья я не сообразил, что ответить на её слова. А мне хотелось сказать, что люблю её. Потому что она моя мама. И она заботится обо мне, как и о братишке, переживает. Но через секунду мне подумалось, что всё это мне снится. Я повернулся на другой бок и словно провалился во что-то вязкое и горячее.
…Утром перед большущим бабушкиным зеркалом, вглядываясь в своё отражение, я обнаружил на губах светлые водянистые волдыри. Но ничуть не пожалел, что простыл, стоя промокшим на временами срывающемся с фундамента мосту и устремляющемся к Саду-острову с головокружительной скоростью. Где и когда ещё удастся увидеть подобное зрелище, склонившись над бушующей пропастью, и ощутить всю неимоверную жуть, красоту и мощь природы? Ведь частица её, я это безобманно почувствовал, вселилась, проникла в суть мою, стала частью меня. С этого мига я увидел и воспринял себя другим. Свободным!
1966–1985 годы
Мила[245]
…Я решил стать сильным, выносливым и смелым. Наверное, к этому меня подвигнуло, кроме героев книг о путешествиях и приключениях, и то, что потребовалась реальная, а не в мечтах, защита общественного огорода.
Какой-то злодей повадился по ночам подкапывать картофельные кусты. Действовал хитро: вроде бы всё на месте, а наиболее крупные клубни умыкнуты. Иногда, в спешке, вор вырывал куст, обдирал, а ботву втыкал в лунку, торопливо заваливая её землёй. Растения, конечно же, засыхали.
Обнаружение следов ворюги взбудоражило население нашего дома. Женщины дружно жалели пострадавших, проклинали неизвестного грабителя. Пуще других неистовствовала тётя Таня. Все понимали, что без запасов картофеля ей с сыном не прозимовать. Тётя Таня клялась, что никаких на продажу ценных «вишшей» у них нет, а тётя Аня, сестра, их не прокормит — у самой две девки, два рта (дед Семён умер ещё в позапрошлом году от великого огорчения). Данилова работала — как упоминалось выше — в банной парикмахерской уборщицей и не раз с горечью всем повторяла, что «окромя тьмы-тмушшей вшей» да мизерной зарплаты «пликмахтерская» ей не даёт ничего. Толька учился в девятом классе, никакого приварка к хлебным пайкам они не имели, это точно, потому что Иван Данилов «пропал без вести» в первые дни войны, и перебивались единственно варённой «в мундире» картошкой. Часто без соли. Да и для всех остальных, исключая тётю Дашу Малкову, завмага, потеря даже одного клубня становилась ощутимой для семьи.
Кто же он, этот лиходей, которого за глаза я прозвал «колорадским жуком»?[246] Все бились над неразрешимой загадкой, предполагали, даже называли фамилии подозреваемых, но…
Бабка Герасимовна высказала мнение, что нашу картошку «жрут хвашишты, што ш хронту утекли». К бабкиным догадками едва ли кто отнёсся серьёзно. Однако все сходились в мнении, что пакостничает чужой, кто-то не из нашего двора — сколько кругом голодных людей! Тётя Таня сгоряча даже назвала имя похитителя — старуху Каримовну. Но и в это нельзя было поверить — дряхлая и почти совсем слепая, Каримовна и днём-то не смогла бы выкопать своими негнущимися, с опухшими суставами, пальцами даже один клубень.
Изловить! — решили все соседи. А как? Герасимовна посоветовала поставить на супостата «волший капкан». Но где его достать, этот капкан? И тогда тётя Лиза Богацевич, одинокая бессловесная женщина, обитавшая в крохотной комнатёнке, похожей на стенной шкаф, — дореволюционной прохожей из кухоньки Малковых в комнату тёти Марии Герасимовой и её детей, — предложила наладить ночные сменные дежурства — поочерёдно.
Мне соображение умной тёти Лизы сразу понравилось. И я опередил всех:
— Готов дежурить как тимуровец хоть каждую ночь. Пока не захвачу врага в плен.
— Милай шын, — расчувствовалась бабка Герасимовна, — Боженька тобе поможет ижловить идолишшу поганого, шивоглота эдакого. Што б у ево, вражины, руки отшохли…
С согласия мамы, на зависть Стасику, я перебрался жить в сарай.
Ну и вольница! Никакого за тобой досмотра, ни указаний — сам себе хозяин! Тем более с утра до обеда я работал учеником плотника в ремстройконторе КЭЧ УралВО, вечером имел право вздремнуть — и всю ночь свободен!
Половину всей площади дровяника заняла широченная поломанная «варшавская» кровать с облупленными, когда-то никелированными шарами, ещё дедовская (я намеревался разобрать её и сдать на металлолом за ненадобностью). Но хорошо, что не успел осуществить своего замысла — пригодилась.
Под самодельной подушкой у меня хранится бесценное сокровище — наушник, которым завладел в результате сложного обмена изготовленных мною удилищ и других рыболовных снастей с крольчонком породы шиншилла в придачу. Теперь без помех можно слушать радиопередачи допоздна. Проводов хватило… На свалке трамвайного управления разыскал.
Казалось, беспричинно во мне ещё летними днями сорок пятого всё чаще возникали и прокатывались бурные волны радости: хотелось громко петь, скакать на одной ноге, карабкаться на высоченные деревья и крыши домов, где много простора, неба, ветра, солнечного света, различных звучаний, которые не услышишь на земле.
Живя в сарайке, я наконец-то осознал себя не только равноправным со взрослыми, но и самостоятельным человеком. Не удивительно, что именно мне доверили столь ответственное дело — охрану общественного огорода.
В дощатой стене сарая обломком ножовочного полотна выпилил окошечко, сам застеклил его — отсюда отлично просматривается бо́льшая часть грядок — до остатков заборов, недоломанных на топку, отделявших наш двор от соседних.
Приладив один конец обрезка водопроводной трубы между досок стенки сарайки Богацевичей, другой вставил в щель стенки соседнего, Малковых, сарая — получился турник. На нём можно подтягиваться и раскачиваться на руках или висеть вниз головой на согнутых коленях. Тут же, рядом с турником, лежат пузатые гири — ещё одно моё богатство. Я не ленюсь поднимать их помногу раз — до изнеможения. Каждодневные обмеры бицепсов обрывком портняжного метра, однако, не показывали желанных результатов. Нетерпение же стать сильным было велико. И я снова и снова поднимал до боли в мышцах чугунные гири с названиями «1/2 пуда», «10 фунтовъ». Тяжеленную пудовую гирю я еле-еле выжимал над головой обеими, дрожащими от напряжения руками. Видимо, поэтому меня пуще всего и тянуло к ней. Я тягался с ней, как с противником.
С воспитанием храбрости получилось проще. Самое главное, рассуждал я, надо научиться ничего и никого не бояться. Никого! И я не уступал в стычках с пацанами даже заведомо более сильному противнику, предпочитая синяки позорному званию труса. Но у меня была одна «слабина». О ней никто, кроме мамы, не знал — боязнь полной темноты. Её-то, эту боязнь, мне и предстояло побороть до конца.
Для начала я в потёмках полез на чердак Вовкиного дома, где находился штаб нашего тимуровского отряда. В кромешной темнотище, вытянув вперёд руки, обошёл, спотыкаясь о балки, все чердачные закоулки. Сердце колотилось сильно, но ровно. Не знаю, что со мной стряслось бы, наткнись я на кого-нибудь. Но я не отступил, не повернул к выходу, когда над головой вдруг что-то громко захлопало, со свистом и клёкотом. Через мгновение до меня дошло, что это вспугнутые со стропил голуби-новосёлы, и лишь тогда очнулся от оцепенения.
Ночью заставлял себя лазать в густых зарослях сирени. Признаюсь — тоже было жутковато. Да и ночёвки в сарае оказались отнюдь не безмятежными — подчас явственно слышались чьи-то шаги, то чёткие и уверенные, то лёгкие, крадущиеся. Желание укрыться одеялом с головой преодолевалось тяжким усилием воли. Ещё труднее оказывалось встать и выглянуть в окошечко или, отодвинув деревянную задвижку, отворить дверь и выйти во двор. Но я выходил, подавляя страхи, порождённые неизвестностью: что тебя ожидает?
Днём — другое дело: за огородом мог присматривать даже Стасик. Когда же сумерки прижимались к грядкам, требовался отважный сторож. Нужно было время от времени обходить по межам все участки. Но вот мрак заливал всё вокруг, и только силуэты домов и деревьев различались на свеженаписанном тёмно-синем небе, мерцали крупные, если приглядеться пристально, россыпи пылевидных бесчисленных звёзд. Это зрелище меня завораживало, и я подолгу не мог от него оторваться. По тоненькой книжечке Воронцова-Вельяминова мне нравилось отыскивать созвездия со сказочными названиями: Стрелец, Водолей, Дева. Особенно я полюбил «черпаки» Большой и Малой Медведиц. А самым заветным светилом почему-то выбрал большую голубую, а временами почему-то зеленоватую звезду, висевшую над нашим домом. Прищурь глаза — и от светящегося кристалла во все стороны вытянутся лучики-иглы, до самой земли. Но иногда, чем дольше я смотрел на голубую звезду, хотя по книжке она значилась планетой по имени Венера, тем более одиноким сам себе казался. И тем чаще думал о Миле.
В ту пору мне вдруг начали нравиться некоторые, в основном соседские, девчонки — я испытывал неясное влечение к ним. Этому притяжению что-то противоборствовало во мне. Наверное, застенчивость. Рядом же с Милой мне было хорошо и спокойно. Непоседа и сорванец, я, оказывается, мог часами разглядывать вместе с Милой большущий том «Истории гражданской войны» в ярко-красном матерчатом рубчатом переплете. Не без Милиного участия я ещё больше пристрастился к чтению. Книги, которые она давала мне, оказывались необыкновенно интересными. За «Серебряными коньками» и «Маленьким оборвышем» я проводил, перечитывая, дни напролёт.
Милу нельзя было назвать красивой девочкой — из-за худобы бледное лицо её выглядело несколько длинноносым и костистым, а тонкая шея неестественно вытянутой. Но дружбу с этой доброй и тихой девочкой я не променял бы ни на чью, будь то даже сказочная королева или бывшая соседка, похожая на красивую куклу, гордячка Нинка Мальцева. Мила обладала негромким голосом, но каким! С затаённым удовольствием я впитывал каждое произнесённое ею слово, каждый оттенок его, оставаясь молчаливым и робким, что никак не вязалось с повседневным моим беспокойным, шебутливым[247] поведением.
О нашей дружбе я никому из знакомых ребят даже не заикался, понимая, что откровенный рассказ вызовет лишь непонимание и насмешки. Да и язык не повернулся бы кому-то о своих необыкновенных переживаниях поведать. Это была самая большая моя тайна от всех. Даже от мамы. И едва ли ей удалось бы вынудить из меня признание в чувствованиях к Миле.
Чего никогда не бывало раньше, я стал иногда рассматривать своё отражение в бабушкином старинном большущем зеркале и расчёсывать маминой костяной гребёнкой непокорные густые вихры.
И впервые не пожелал постричься к лету наголо, «под нулёвку».
Моей гордостью и постоянной заботой стали подшивание свежих воротничков, глаженье углевым утюгом полученных мамой в госпитале за ударный безвозмездный труд солдатской гимнастёрки и галифе. Неновая, простреленная в нескольких местах, разорванная осколками металла и аккуратно заштопанная и перешитая в аккурат под мой небольшой рост тётей Клавой, старшей сестрой отца, настоящая фронтовая форма наполняла меня гордостью и придавала уверенности. Некоторые знакомые ребята завидовали мне. В военной форме я себя чувствовал совсем другим человеком — способным совершить нечто героическое. «Настоящее».
Однако в последнее время стеснялся попадаться в этой форме на глаза Миле, потому что обувь — старые, растоптанные, не раз ремонтированные дядей Лёвой сандалии — ну никак не шли к галифе и доблестной гимнастёрке, затянутой в поясе отданным мне (подаренным отцом за ненадобностью) кожаным брезентовым ремнём с сияющей латунной бляхой, на которой рельефно выделялся государственный герб, не то венгерский, не то болгарский. А о кирзовых сапогах я и мечтать пока не смел. На базаре они стоили баснословно дорого — не хватило бы целиком маминой получки. Огород же я стерёг только во фронтовой форме.
Захватив, как всегда, большой ивовый лук и колчан с оперёнными стрелами, трижды за вечер обошёл весь огород вдоль забора, до зуда нажалив крапивой ступни ног. Убедившись, что на доверенных мне участках полный порядок и всё вокруг спит, отправился со спокойной совестью в дровяник. Уснуть долго не давали обожжённые до волдырей ноги. Забылся я только под утро, обернув ступни холодными листьями лопухов.
Приснился мне интереснейший, как кино, сон. Бегу будто бы я босиком по проезжей части нашей улицы, к своему дому, легко бегу, плавно и как-то невероятно медленно, отталкиваясь от раскалённых булыжников. И вдруг, распластав руки, оторвался от земли и… полетел. Чтобы поддерживать парение, достаточно лишь ненатужного движения рук, как при плавании «по-моряцки». Ликование наполняет всего меня, распирает грудь. Разгребая впереди себя тугой воздух, поднимаюсь выше и выше. Внизу проплывают крыши знакомых домов. Трамвай оранжевой гусеницей ползёт справа, по улице имени Карла Маркса. Люди, размером с букашек, движутся туда-сюда по канавкам, разделяющим кварталы строений. А там, слева, на Саде-острове, зеленеют купы карликовых тополей и блестит под солнцем серебряная лента реки.
Упоённый высотой, неоглядным простором и способностью свободно плавать в воздухе, зажмуриваю глаза от солнышка, пикирую вниз, на свой двор. Дух захватывает, как на качелях. Эх, взять бы Милу за руку, взмыть под облака и ещё раз увидеть эту красотищу — вместе. Вот здо́рово было бы!
А в ушах поёт ветер, и даже не ветер, — звучат оркестром небо и земля. Звуки сплетаются в чудесную, не слышанную никогда музыку. Раскрываю глаза: меня ослепляет солнечный луч, пробившийся в щель стены.
Но разбудил меня не только яркий свет — из чёрной эбонитовой коробочки наушника льётся сказочной красоты музыка, такая же радостная и светлая, как само утро.
Из оркестровой мелодии плавно пророс и расцвёл синим колокольцем женский грудной голос, голубым мягким светом устремился ввысь, загрустил, жёлтым тёплым дождём ниспадая на землю, с трогательной откровенностью рассказывая о ком-то дорогом, кого нет рядом, но долгожданная встреча с кем непременно произойдет. Лишь только пройдёт осень и зима пролетит. Но зима уже давно и безвозвратно прошла, и меня ждёт что-то такое грандиозное, чего ещё не возникало в жизни моей.
Прекрасная, плавная мелодия перерастает в призыв, то умоляя о чём-то, то наполняется грустью. И грусть эта сладко щемит сердце. Ласка, томление, надежда, ожидание чего-то очень желанного, сокровенного, неведомого радугой светились в этой музыке, в чарующем голосе певицы.
Я не шелохнулся до тех пор, пока последний звук, тонкий и нежный, не растаял вовсе. В эти дивные мгновения я видел своими душевными очами прозрачное лицо Милы с всегдашней лёгкой улыбкой в уголках губ. И мне впервые так неодолимо захотелось увидеть её — немедленно! Непременно! Меня ничуть не охладил резкий, металлический голос диктора, сообщивший, что была исполнена «Песня Сольвейг» из музыки норвежского композитора Эдварда Грига к драме Ибсена «Пер Гюнт». В моей домашней библиотечке имелась тонкая книжка из дореволюционного полного собрания сочинений какого-то Генриха Ибсена, в которую я не успел заглянуть. Её оттесняли те, от которых я не мог оторваться. Сейчас я решил: должен прочесть, хотя это был какой-то промежуточный текст с какой-то сто седьмой, кажется, страницы. Я уже отбросил одеяло и опустил ноги на земляной пол, когда послышались частые шаги, громкий стук в дверь и пронзительный голос тёти Тани:
— Эй, охранник хренов, тута ли?
Я откликнулся. С недоумением. Почему такая грубость?
— Подь-ка сюды. Быстрея. Чево чешишша?
Последнюю фразу соседка произнесла с такой недоброй интонацией, что неприятное предчувствие слегка сдавило грудь. Вскоре оно неумолимо оправдалось. Тётя Таня позвала меня к грядке Герасимовны. Старуха, разгневанная, с мокрыми от слёз и потому, наверное, ещё более сморщенными щеками, набросилась на меня, укоряя и стыдя:
— Ах ты варнак такой-шакой! Шпун нешшашный! Так-то ты наше добро штережёшь! Швоё-то, небошь, шелое, у-у! Лешов шын…
И понесла, и понесла… Тётя Таня ловко заполняла паузы, кляла меня на чём свет стоит и требовала немедленно выгнать из сторожей «поганой метлой». Ошарашенный, я молчал — стыд жёг уши. Да и всякие нелестные эпитеты в мой адрес не радовали.
— Своих шесть кустов отдашь, — вынесла приговор тётя Таня. — Так матери и передай. Што обчество эдак решило.
Я едва не заплакал от обиды — какое несчастье для нас! Шесть кустов! Нет, я поймаю этого гада, хватит!
Весь день я лишь размышлял о поимке вора. И придумал. Когда стемнело, я соорудил в дальнем углу двора шалашик из бодылья подсолнухов и травы и залёг в нём, вооружившись многократно испытанным луком и стрелами с острыми наконечниками из жести, вырезанными из консервной банки и залитыми свинцом. Такая стрела с десяти шагов насквозь пробивала консервную же банку!
Ночь — это вовсе не тишина. Пространство вокруг сплошь пронизано звуками: нудно пищат комары, поскрипывает сверчок, ветер вдруг неожиданно и мягко зашуршит картофельной ботвой, всколыхнет её. Сыплющиеся шорохи и шелест доносятся даже от уличных тополей. Или вдруг лениво забрешет — где-то на дальней улице — тоже недремлющая собака.
Наш дом, кажущийся в потёмках громоздким и массивным, словно бы распухшим, затих, лишь одно окно освещено. Сквозь прозрачные занавески вижу неподвижно склонившуюся над столом Милу. Она читает книгу, подперев подбородок ладонями. Учение для неё — серьёзный и напряжённый труд. Мне становится совестно за себя, за своё отношение к школьным делам. Непутёво веду себя и поделать с собой ничего не могу. Надо идти в школу, отлично это понимаю, а ноги ведут в детскую библиотеку. И так — уже несколько лет. Знаю, что надо продолжать учёбу, но, как вспомню о школе, о завуче, — всё во мне противится…
…С громко стучащим от волнения сердцем, сознавая, что совершаю нечто постыдное — подсматривать нехорошо! — выбираюсь из шалашика и ложусь в борозду напротив Милиного окна.
Как же это отрадно: видеть, пусть издалека, Милочку. Я испытываю к ней благодарность за неизменную доброту и внимательность ко мне. И часто досада гложет, что нельзя быть вместе с ней всегда. И что-то волнами бродит во мне, распирающее, не объяснимое словами, притягивая к этой нескладной, немного сутулой девочке, что, впрочем, не отмечаю как недостаток, — мне вся она нравится, заставляя часто думать о ней.
Лучшего и не пожелаешь, чем это: хорошо было бы жить нашим семьям в одной большой, огромной воображаемой комнате. Тогда хоть целыми днями смотри на Милу. Больше мне ничего не надо. Но я-то знаю — моя мечта неосуществима. Безнадёжность порождает печаль. Почти скорбь.
Мила встаёт из-за стола, затворяет окно, скидывает платьишко, оставаясь в маечке и трусиках, и выключает лампу под апельсиновым шёлковым абажуром. Да, счастье долго не может длиться. Миг — и пролетело.
…Я один-одинёшенек. От меня, лежащего на спине в борозде, и до зеленоватого сегодня, но все равно голубого, как у Милы, глаза-звезды — холодная пустота. Там ничего нет, ни одного живого существа — ледяное пространство. Мне становится очень неуютно и зябко. Даже — тоскливо. Рыхлая земля дышит сыростью. От неё веет многочисленными — земляными — запахами. Снова всматриваюсь в черноту Милиного окна, надеясь, что в нём опять вспыхнет свет. Тщетно надеяться, но я всё же чего-то жду.
Мне думается: если бы не Мила, я остался бы совсем, ну совершенно одиноким. Леденящее чувство неприкаянности постепенно растворяется, в воображении возникает спящий братишка, озабоченное лицо мамы. Очень хочется в согретую постель, устроиться поудобнее и замереть в блаженном ожидании завтрашнего радостного пробуждения — новый день, сулящий что-то интересное, неизведанное ещё… Но нельзя подняться и уйти. И я снова разглядываю звёзды и слушаю ночь. Как кстати: она тоже не спит, шурша и нашёптывая своё, непонятное и таинственное.
Но что это? Или мне побластилось?[248] В привычные звуки вмешались посторонние, незнакомые! Я насторожился и прислушался внимательнее. Да, это шебуршание. Оно слышится всё отчётливее, оно приближается! Время, отмеряемое ударами сердца, тянется бесконечно долго — еле сдерживаю нетерпение ускорить ход надвигающегося «чего-то». Отжимаюсь ладонями от земли, вытягиваю шею, но ничего подозрительного не вижу. Лунные блики матово мерцают на картофельной листве. А шорохи множатся, по капле заполняя меня страхом неизвестности происходящего «там», где-то впереди. Терпение кончилось. Я вскакиваю и, быстро «зарядив» стрелу, отчаянно натягиваю тетиву. Одновременно вижу — справа резко качнулась ботва, и это не ветер. Там кто-то есть, затаился, замер…
— Кто здесь? — выкрикиваю срывающимся, похожим на петушиный голосом. — Стрелять буду!
В ответ — тишина. Но что-то, какая-то серая масса, всё же просматривается смутно сквозь листву на грядке. Делаю шаг, другой в направлении загадочного и поэтому жутковатого «чего-то». Пальцы на тетиве онемели, не чувствуют зажатую меж ними стрелу.
Я вздрогнул, словно пальцы в электророзетку сунул, и напрягся всем телом, когда раздался испуганный женский голос:
— Хто-й то?! — послышался негромкий вроде бы знакомый голос.
В трёх шагах передо мной вдруг кто-то невысокий быстро вскочил и, пригибаясь, запетлял к дому.
— Неужели она! — наконец-то осознал я, уже вскинув лук вслед удаляющейся фигуре. И, натянув до отказа, отпустил тетиву.
— Неужели это она? Не может быть такого! Невероятно!
Пока в растерянности решал, она ли это в самом деле и что мне далее делать, резко хлопнула парадная дверь. Я запоздало бросился к дому. Дверь уже закрючили. На стук в окно тётя Таня не отвечала, за стеклом густо темнела вязкая тишина. Мне стало не по себе: не привиделось ли всё это? Кошмар какой-то!
Нет, всё-таки это её голос. И кто дверь мог за собой закрыть?
Остатки ночи провёл в сарае. Мутный страх не покидал меня. Однако домой не пошёл, удержал себя как ни рвался внутренне. Едва рассвело, я убедился: ночной гостьей была, несомненно, тётя Таня. И никто другой. В мокрой от росы ботве лежала брошенная синяя, с чёрными выщербинами, эмалированная круглая посудина, рядом валялось несколько розовых картофелин. Чашку эту я множество раз видел на столе у Тольки, и вчера днём — тоже. Свою стрелу, всё обыскал, нигде не нашёл. Куда делась? Попала в цель?
В этот раз пострадала посадка Малковых, и мне не терпелось побыстрее возвратить им мой «трофей». К тёте Тане я не испытал той злости, какую возбудил во мне наш ещё вчера неведомый разоритель. Вор! Меня терзал мучительный вопрос: как она посмела, как смогла? Разве не она, брызгая слюной и размахивая короткими руками, клеймила ворюгу, нагло обкрадывавшего, лишавшего нас пищи? Мне никак не удавалось соединить в своём сознании ту яростную тётю Таню и трусливо убегавшую согбенную фигуру.
Первой о ночном происшествии я взахлёб рассказал маме и, конечно, показал миску с картофелинами. Мама выслушала меня с досадой и недоверием:
— Гера, — сказала она раздражённо, — такого быть не может.
— Может, — упорствовал я. — Сам видел.
— В темноте ты вполне мог ошибиться.
— А голос? Голос-то — её.
— Гера, есть очень похожие голоса. А такое на человека напрасно возвести… Ты не представляешь, какой это непростимый поступок. — И вдруг решительно продолжила: — Идём!
— Таня, ты ночью, случаем, не выходила в огород? — смущённо спросила она, когда мы зашли к Даниловым в комнату.
— А што мне тама иделать? Ночью-то?
Она вперилась в меня маленькими светлыми глазками в белёсых ресницах с такой ненавистью, что я отпрянул к двери, и вдруг напустилась:
— Этто почему у тебя наша миска? Пошто чужие вешши хваташь? Поклади чичас жа на место в колидор, на ларь. Где была.
— Отдай, — облегчённо вздохнув, сказала мама. — Слышал? Тётя Таня ночью никуда не выходила.
А я усиленно соображал, как же так получается: значит, я взял без спроса чужую вещь, а не подобрал её на грядке? А вчера вечером миска ещё находилась здесь, в комнате, я это хорошо помню.
Тётя Таня рванула из моей руки посудину и просипела:
— Я тебе покажу, обормот ты этакий, как на меня клепать. Сказано тебе: никуда не выходила. Обознался ты.
— Не выходила, а выползала! И картошку подкапывала у Малковых, — неожиданно для себя произнёс я громко, уверенно, воинственно.
— Покажи соседкам своё место ниже спины, куда моя стрела попала. И всем станет ясно, кто выходил ночью из нашего парадного тамбура, а после трусливо убежал и закрыл его на крюк…
— Замолчи! — закричала мама и ударила меня ладонью по щеке. — Замолчи сейчас же! Извини, Таня, он сам не понимает, что говорит. Прости его — несмышлёныш ещё. Я за него прощения прошу.
— До чево жа дерзкай! — мстительно, сквозь зубы процедила тётя Таня. — Мало его понужаешь, Надя. Чаще лупцуй, быстрея поумнет. Вон мой Толькя и рот не раззявит при людях. Потому что колочу его как сидорову козу кажиннай раз.
Выбежав от соседей, я помчался в сарай и закрылся в нём на засов-деревяшку. И только тогда слёзы хлынули неудержимо. Я рыдал от захлестнувшей меня обиды. Стыдно было за мамину пощёчину. Более того, жгла мысль, что я не виноват, а прав. Я правду всем говорил!
«Ты сама мне всё время повторяешь, — мысленно обращался я к маме, — чтобы никогда не лгал. Почему ж тогда мне не веришь? Да ещё наказываешь! Оскорбляешь! За что?»
«Почему ей верят, а мне нет? — размышлял я, утерев кулаком слёзы. — Потому что я — пацан, а она — взрослая? Это несправедливо! И глупо».
Вскоре под дверью сарая объявилась тётя Таня и всячески стала поносить меня, обещала уши надрать и чуб вырвать.
— Ишь, отрастил! Волосы-те длинны, а ума нету!
Тут Толька заглянул в окошечко и прошептал:
— Только выйди — морду разобью, стор-рож… Ты мне за стрелу ответишь! Забудешь навсегда, как в людей стрелять.
Так, значит, не промахнулся! Толькины слова тому подтверждение.
И я вышел. Хотя и боязно было, пересилил себя, чтобы Толька видел, что не страшусь его. Боязнь сразу улетучилась, как только Ржавец — так дразнил Тольку за рыжеватые волосы и красные обильные веснушки по всему лицу — саданул мне кулаком в грудь.
— Значит, стрела попала? — Выкрикнул я. — Сам проговорился!
Толька вымахал на две головы выше меня, и руки у него выросли длиннющие. Хлестал зло и больно. Однако я, распалившись, ловко сдавал сдачи, иногда уворачиваясь от ударов. Несомненно, Толька крепко поколотил бы меня, но мне удалось расквасить ему нос. Он зажал его пальцами и, пригрозив расправится после, убежал к себе — Ржавец страдал малокровием. Я забрался на крышу дровяника в ожидании возвращения Тольки, когда у него перестанет сочиться кровь. Но явилась тётя Таня. Она безудержно ругала меня и, не принимая во внимание то, что её сынок, а не я, учинил потасовку, грозила милицией. Это меня возмутило ещё сильнее, и я крикнул:
— Это ты украла картошку! Воровка! Я обо всём мильтонам расскажу. Пусть они на твою задницу посмотрят и увидят, что ты воровала картошку у Малковых.
Никогда прежде я не смел заявить такое взрослым. И столь грубо разговаривать с ними. Не сдержался, выпалил.
Тётя Таня испуганно оглянулась — не слышал ли кто из соседей — и тихонечко, еле слышным голосом, — хотя он был у неё пронзительным, когда она обличала кого-то, — пристращала:
— Ты ишшо меня попомнишь…
(Впоследствии, несколько лет спустя, она сдержала свой посул.)
Тётя Таня, а её никто за язык не тянул, всем соседям жаловалась на меня, уверяя, что ночью никуда из дому ни на «один сикунд» не отлучалась. Даже по нужде. В поганое ведро мочилась. Я же придумал, будто она картошку подкапывала, — по злу напраслину возвёл. Соседки ей верили. Такой вывод с удивлением я сделал, потому что отношение многих ко мне заметно изменилось к худшему. Однако самым тягостным получился разговор с Милой. Она остановилась при встрече во дворе, на дорожке, поздоровалась и, укоризненно глядя на меня, произнесла:
— Гера, зачем ты так обидел тётю Таню? Она даже плакала… Нехорошо поступил. Мне стыдно за тебя.
— Да я… ничего, — пролепетал я. — Я вовсе не хотел…
— Ты должен перед ней извиниться, — тихо, но настойчиво потребовала она.
— Нет, — отрезал я. — Нет, Мила.
— Если ты этого не сделаешь, я не смогу с тобой… дружить…
Я не произнёс в ответ ничего — не нашлось подходящих слов. Лишь отошёл в сторону с тропки, пропустил Милу к воротам, с трепетом глядя ей вслед. Муторно мне стало, ох муторно!
Любую, но только не такую беседу мог предположить с Милочкой. Конечно, чувства к ней, которые я питал, не померкли враз, но закралось какое-то сомнение, что она мне не верит.
Однако я и мысли не допускал, что заставлю себя извиниться перед тётей Таней — ни за что! После этой короткой беседы Мила действительно прекратила со мной здороваться и заговаривать, что сильно уязвило меня и расстроило. Наверное, удобнее для меня было бы извиниться, признав свою ошибку, но ведь я солгал бы! Нет, пусть будет так, как есть, — правда! Поддержал меня лишь верный друг Юрка Бобылёв, но и тот упрекнул:
— Почему в тулаво не стрелял? Всадил бы ей по самое перо в спину, пускай попробовала бы отпереться. Стрелу не так легко из мяса выдернуть. В больницу пришлось бы тащиться. Эх, слабак…
Не знал и не догадывался Юрка, что не мог я пустить боевую стрелу в тётю Таню, да еще — в спину. Это подло. Рука моя не повиновалась бы. В ногу — другое дело. Впрочем, я ведь не видел, куда направлена моя стрела, — темнынь… Мог и…
О своих переживаниях после крушения дружбы с Милой я никому не обмолвился, даже Юрке. И от великого горя вдруг начал сочинять стихи. Однажды вечером на ум пришли две немудрящие рифмованные строчки. За ними, к удивлению, последовали и другие. Вскоре на листе оказалось написанным целое «стихотворение». Конечно же, обращённое к Миле. В этом и других, похожих на первое, стихах от первого лица искренне мною воспевалась тоска о том, что никто не способен понять терзаний автора, и поэтому роковая любовь навеки останется неразделённой — такова печальная судьба «поэта». Из-за безответной любви, утверждалось в одном из посланий «К М…», жизнь стала тягостно скучной и бесцельной, и тщетно в ней что-то искать, не на что надеяться… Все испытано, прожито, всё прошло… Навсегда.
Удивительно быстро, недели за две, стихи заполнили толстую тетрадь в клеточку, предназначенную для алгебры и геометрии. У всех рифмованных излияний имелся адресат, но вручить тетрадь в клеёнчатом переплёте или даже вырванный листок с одним «произведением поэта» решимости не хватило. К тому же для меня настали ещё более тяжёлые дни. На себе я ощущал не только постоянно враждебное отношение тёти Тани; неожиданные, из-за угла, чувствительные тычки и оплеухи Тольки Ржавца (не мог же я жаловаться маме — стыдно), но и отчуждённость и недружелюбие других соседей. С Милой мы не общались, и я не искал примирения. Хотя меня по-прежнему неодолимо влекло к ней. Во время случайных и выискиваемых мною встреч, когда можно было объясниться, во мне всё сжималось и дыхание спирало. И я молчал. Правда, через некоторое время Мила первой сказала мне здравствуй, я с радостным удивлением моментально ответил на приветствие. Однако не отважился остановить, заговорить о чём-либо. Честно признаться, я робел перед нею, как ни перед кем. Глубже и глубже влюбляясь в Милочку, я становился сам не свой.
К себе в сарай я непременно выбирал такой маршрут, чтобы пройти мимо Милиного окна, ведь мы жили в противоположных частях коммуналки, и всегда, каждый раз, чувствовал себя счастливым, особенно если удавалось увидеть её, как тогда мною воспринималось, прекрасное лицо этой чудесной девушки (она была годом старше, с тридцать первого, но какое это могло иметь значение для меня?). Наверное, она и выглядела серьёзнее, старше. И это несоответствие придавало мне ещё более робости.
Когда темнело, я вдоль забора пробирался тайком к месту, откуда достаточно просматривалась комната Малковых, и блаженное время летело стремглав — и час, и два, и больше… Это происходило в дни моих дежурств по охране огорода. Часто я сам предлагал побдеть за других, например за бабушку Герасимовну, — она плохо видела.
Мама, наверное, заметила изменившееся в чём-то моё поведение и несколько раз допытывалась, что со мной происходит. Я ничего не мог ответить. Мучаясь сознанием, что опять унизился до лжи, всё же скрывал от мамы свои чувствования и переживания. В одном был уверен, что искренне и безответно люблю Милу. Чем чаще думал о ней, тем невероятнее казалась мысль, что у меня хватит решимости признаться в этом кому бы то ни было, и уж, что вовсе несбыточно, самой девушке. Это была очередная, но самая сокровенная моя, трепещущая тайна. Вернее, от сознания которой мною овладевал трепет.
Прижавшись спиной к заплоту,[249] подолгу простаивал, любуясь Милой, пока в их комнате не гас свет. Удивительно, что никто из соседей не застал меня за этим странным для всех «бдением». Впрочем, тётя Лиза однажды полюбопытствовала, что я делаю столь поздно во дворе. Смутившись, я всё же нашёлся:
— Огород стерегу. Ведь не только за себя приходится.
Ответ выглядел убедительным: после памятного ночного происшествия с эмалированной чашкой и улетевшей в никуда стрелой уже никто не покушался на наш общий урожай. Может быть, это совпадение и заставило кое-кого из соседей задуматься над тем, что же в действительности произошло в ту ночь? Герасимовна, ковыляя с клюкой, как всегда в бесконечную и вечную магазинную очередь, мимоходом похвалила:
— Молодеш, Егорка. Не побоялша шупротив пойти, дай Бог тебе шаштья.
Бабкина похвала натолкнула меня на догадку, что она верит мне, а не тёте Тане. Прямо об этом сказать не пожелала, побоялась ядовитого тёти-Таниного языка, но в меня уверенность вдохнула! Как же я обрадовался тогда!
Мама ни единым словом больше не напоминала о прежнем грубом отношении ко мне, и я улавливал что-то похожее на скрываемую ею жалость. Или сочувствие. Может быть, безошибочным материнским чутьем осозновала себя виноватой? Однажды она неожиданно прижала меня к груди и, обхватив мою голову, долго гладила волосы, а после, глядя мне в глаза, сказала:
— Прости, сынок, если ненароком обидела. Ты у меня — хороший, я знаю. Я в тебя верю.
Мне подумалось, что она хочет, чтобы я её простил за ту незаслуженную пощёчину в комнате Даниловых, и слёзы неудержимо хлынули на мамино плечо. А она меня гладила и повторяла:
— Ты у меня хороший, хороший… Будь всегда таким честным. И твёрдым.
Нечасто в мальчишеские годы выпадали мне похвалы взрослых, материнские — тоже. Чаще приходилось слышать нудные назидания, понукания и слова осуждения: то сделал не так, это упустил, там напроказничал, не послушался и тому подобное. Подобное пристрастное и недоброе отношение отталкивало меня от взрослых, и мне всё чаще приходилось самостоятельно, по своему пониманию, решать возникающие бытовые задачи.
Разумеется, — и довольно часто — я ошибался. И снова повторялось то же самое — но уже лишь обвинения, а не наказания. К ним тоже не мог привыкнуть и часто не соглашался. Не хотел ни в какую. Особенно — с явно незаслуженными упрёками. Хотя мне мама продолжала внушать: то, что говорят и делают взрослые, — всё правильно, и сомневаться в этом детям нельзя. Эти «правильности» иногда доводили до слёз, которых с недавних пор я стал стыдиться, и последние года два плакал довольно редко — крепился. Терпел. Понимал: терпением следует запасаться и на будущее. Но не всегда у меня это получалось, ибо горячился. И высказывал то, о чём думал, напропалую.
Уединившись в сарайке, на сей раз я дал волю слезам — ведь признала мою правоту и даже похвалила ни кто-нибудь, а сама мама. Значит, и ей стало ясно, что хлестанула напрасно тогда, в присутствии тёти Тани и Толяна. «Экзекуция» при посторонних ранила меня особенно глубоко, тем более несправедливая.[250]
Постепенно успокоился, почувствовав в себе новые силы, и снова поверил, что способен совершить что-то очень хорошее, чем окружающие восхитятся и скажут:
— А Юрка-то Рязанов, смотрите какой… Напрасно мы о нём худо думали…
Больше всего хотелось, чтобы в этом убедилась Мила. Но что именно совершить? Война закончилась, и бесполезно представлять себя храбро сражающимся с фашистами. Других, достойных мужчины, совсем уже взрослого и всё понимающего, подвигов я не знал. Жить, как жил. По тем правилам, которые себе установил. И не забывать о наставлениях мамы. Хотя и не всё, что она мне внушала, выполнимо на самом деле.
В тот вечер я не отправился спать в сарайку. Лёг одновременно со Стаськой, который, как всегда, быстрёхонько заснул — удивительная способность. Я долго лежал в темноте с открытыми глазами. Мне стало покойно и блаженно.
Я уверился, что в огород уже не вползёт ни одни паразит. Ещё решил, что никогда более не загляну в Милино окошко. Но мысленно увидел себя возле него. И там, в большой комнате за столом под апельсиновым абажуром, сидела, склонившись над открытой книгой, русоволосая девочка, тихая и добрая. Она находилась как бы совсем рядом — протяни ладонь, и дотронешься до её руки. Я терпеливо, с затаённым ликованием ждал, когда она поднимет свои весёлые голубые глаза и посмотрит на меня. Но так и не дождался…
Тем временем надо мной снова собирались грозовые тучи. Их усиленно нагоняла неугомонная тётя Таня. Чего только она не выдумывала обо мне! Наконец, Данилова как председатель домового комитета объявила об общем и обязательном собрании жильцов. В коридоре. А по её выражению — «в обчем колидори».
И вот непоздним воскресным вечером я впервые после Дня Победы вижу всех обитателей нашего — и не только — дома одновременно. В ожидании, когда деловитая преддомкома откроет собрание, женщины беседуют о всякой всячине, как бы не замечая меня. Но я знаю, что разговор пойдёт именно обо мне, о чём оповещены и собравшиеся. Все, кроме меня. Предчувствие нависшей опасности не оставляет меня ни на миг. Я всматриваюсь в лица женщин (отец, конечно же, начихал на подобные «мероприятия», лежит на своём диване и читает газету). Я пытаюсь предугадать, что они против меня задумали. Я не опасаюсь каждую из них в отдельности. Даже всемогущую завпродмага. А сейчас вдруг осознал свою беззащитность перед объединёнными неизвестным замыслом взрослыми. Правда, на собрание явился и Толька, смирнёхонько примостившийся на табурете возле своей уже торжествующей мамаши. Ясно, что она решила окончательно сокрушить меня. Дело чести!
Тётя Таня, непонятно для чего, водрузила на кухонную плиту вымпел, полученный ещё до войны в каком-то жэковском[251] соцсоревновании. Рядом лежат листы серой обёрточной бумаги и карандаш, стоит пузатый водочный графин, весь в красивых сверкающих трещинах, и гранёный стакан — личная собственность Даниловых. Точнее — наследство дяди Вани.
— Товарыщи женчины, — неестественно праздничным, первомайско-ноябрьским голосом произносит тётя Таня. — Мы собралися, штобы решить два важных вопроса: о переносе обчественной уборнай на друго место и о фулюганском поступке Егорки Рязанова, который должо́н понести суровое наказание за своё недопустимаё в нашем социалистицком обчестве фулюганство.
Ораторша в своей речи явно подражала кому-то и попыталась быстренько покончить с первым вопросом. Но просчиталась.
Бабка Герасимовна, до того, закатив глаза, расхваливавшая «белай, как шнек, камершешкай хлеб», который «выкинули» во вновь открытом магазине, насторожилась и выкрикнула тонким, с хрипотцой, голоском:
— Этто пошто жа на наши-те кровны деньги уборну туды-шуды ташкать? Шлава Богу, она далёко на вжгорке штоит, никому шолнышка не жашланят. Да и то шкажать, давно ли яму рыл липатрированный.[252] Копачу[253] ить по полбуханки ш кажинной шемьи отдали. А они, буханки-те, шай, на древах не раштут. Так-то вот!
— Гражданы жильцы, — вдохновенно и звонко продекламировала тётя Таня, — подумайте сами: кому пандравитца, ежели уборна перед окошком стоит? И еёная вонишша. Мухи летят роем пряма на стол. Потому-та уборну надо перенести…
— И кому же этто мухи помешали, божии твари бежобидныя? — не сдавалась бабка.
— Кому? Да, к плимеру, уважаемай Дарьи Ликсандравне. Из еёного окошка и вид на уборну, как все в её шастают и помои ташшат. А Дарья Ликсандравна — человек культурнай, в торговле работат, и каково ей тако́ из собственного окошка кажинный день видить?
Бабка Герасимовна, почти всегда приниженно-суетливая и подхалимистая перед высокомерной и чванливой завмагом Малковой, сейчас воспротивилась навязываемому тётей Таней «решению вопроса».
— Уважаему Дарью Лекшандровну мухи кушают, пушшай тады она нанимат липатрированных и рашплашиватша ш ними. Нам негде таки капиталы вжать. Вота што я шкажу.
Бабка, взволнованно выговорившись, умолкла. Сморщенные губы её тряслись. Взгляды всех обратились к Малковой. Та, спокойно выслушав волнительные бабкины речи, лишь чуть сморщила в брезгливой гримасе гладкое, ухоженное кремами, до отвращения красивое лицо и не сочла нужным и словом возвразить. За уважаемого завмага после длительной неловкой паузы ответила услужливая и говорливая преддомкома.
— Гражданы женчины! Обчественное мнение тако: переставить уборну на друго места. Хто — «за»? Единогласна!
— Погодь-погодь, Татиана, не спеши, — возразила разгорячённая бабка, ведь разговор продолжался о хлебе насущном, но её перебила рассудительная тётя Лиза Богацевич: — Ты настойчиво предлагаешь перенести клозет. А куда конкретно? Куда его ни поставь, он в чьё-то окно виден будет.
— А у тебя, Лизавета Мануиловна, вовсе и окошка-то нету. Ты как в чумадайне живёшь, — злорадно прервала тётю Лизу преддомкома. — Чего ты за других-то переживашь? Ты за себя, а не за других думай. Други сами за себя пушшай думают.
— Я уверена, — не смущаясь, продолжила тётя Лиза, — что выражу мнение большинства, предложив записать в решение собрания: перенести общественный клозет к забору напротив окон Даниловых, выполнив все работы за счёт Малковой. По сути, всё это ради неё затевается. Кто за это решение, голосуйте, потому что за предложенное Даниловой никто не голосовал вовсе. А она объявила: «Все — «за».
Соображения тёти Лизы, несмотря на протесты председательницы и организатора собрания, утвердили большинством голосов. Против высказались, как и следовало ожидать, тётя Таня и завмаг. Толька, выполнявший по поручению матери обязанности писаря, ибо тётя Таня совершенно грамоты не разумела, даже фамилию свою начертать не могла, крестики ставила, растерялся.
— Записывай, Толя, как в самом деле решило собрание, — поднукнула его тётя Лиза.
— Где же справедливость, бабы? — театрально возопила тётя Таня, воздев руки. — А почто, спрашиватца, под мои окошки?
— Да потому, как ты верно подметила, нет у меня не то что окна, даже форточки, — улыбаясь, ответила отважная тётя Лиза. — А тебя Малкова не забудет, по блату отоварит.
Преддомкома, словно чего-то испугавшись, прекратила пререкания и объявила:
— А таперича, гражданы жильцы, обсудим фулюганский поступок Егорки Рязанова…
И тётя Таня, захлёбываясь, поведала о ночном происшествии: о похищении мною её эмалированной миски, в которую я сложил выкопанную мною же с малковской грядки картошку. Всё это, оказывается, я совершил с коварной целью — оклеветать преддомкома как общественную деятельницу. Подорвать её авторитет. Не забыла она красочно расписать и «бандитское» нападение на паиньку Тольку, который получил «увечье носа». А Ржавец, скромно потупив взор, демонстративно щупал свой совершенно здоровый конопатый носище, как бы подтверждая слова матери.
Не переводя духа, она подытожила:
— По энтому по всему обчее собрание граждан жильцов нашего дома решило просить милицию привлечь Рязанова Егорку за напраслину на чесную гражданку Данилову Татьяну Петровну по всей строгости советскава закона и отправить ево в детску исправительну колонию. Туды таких берут, я разузнала, где следуит. В обчем, всё всем ясно? Кто — «за»?
До меня не сразу дошёл зловещий смысл её требования, а когда понял, какую беду кличет на мою голову тётя Таня, то всё во мне возмутилось и взбунтовалось. Меня не испугала замаячившая впереди колония. Ужаснуло иное: вдруг присутствующие поверят чудовищной лжи. Поверят в то, чего я не совершал и не мог совершить?!
Наверное, у меня был испуганный и растерянный вид, чем немедленно и воспользовалась Данилова:
— Чево скукожилси? Чай, знат кошка, чьё мясо съела…
Под взглядом присутствующих я словно одеревенел, не в силах вымолвить и слова в свою защиту.
Перед глазами мелькали лица собравшихся. Длилось это мельтешение невыносимо долго, хотя не прошло, вероятно, и минуты. И вдруг я увидел Милу. Сначала не узнал её — девочка не улыбалась приветливо, как всегда, а очень серьёзно и пристально вглядывалась в меня. Такой я не наблюдал её никогда.
— Погодь-ка, погодь. Как жа так, бабы, жараж — и в турму? Пушшай парнишка рашшкажит, как вшо полушилошь.
— Татьяна Петровна донесла нам обо всём, больше никаких разъяснений не требуется, — ровным, сильным голосом произнесла Малкова-старшая. — Давайте проголосуем побыстрее — у каждого есть и более важные дела.
Лицо её было спокойно и холодно.
— Ну, хто — «за»? — по-базарному весело выкликнула ободрённая преддомкома. — Неча здря лясы точить.
Руку подняла пожилая тётя Аня — старшая сестра тёти Тани, опоздавшая к началу собрания. Она жила в нашем дворе, но в другом доме, собственном, выходившем окнами на улицу, и не имела отношения к происшествию. Однако это до меня дошло позднее. Вслед за ней взметнула обе руки и тётя Таня. И Толька, будто о парту опёрся локтем, тоже проголосовал «за». Изящно выпрямила ладонь на уровне плеча и завмаг, не глядя в мою сторону.
— Это нарушение демократии, — громко сказала тётя Лиза. — Почему затыкаете рот тому, кого обвиняете неведомо в чём?
— Ты што — против обчества выступашь? — взорвалась тётя Таня. — Твово мужика забрали в тридцать седьмом, и ты така жа. Так што молчи лучче. Де-ма-кра-тия объявилась, гляньте на её. А то быстро и на тебя управу найдём…
— Будёт тебе, Таня, — урезонила преддомкома бабка Герасимовна. — Она в войну иж жавода не выходила, бонбы делала, а не вшивые волошья веником жгрибала. И ты её мужиком не пеняй. У её шын на бранном поле голову шложил.
— А мой мужик на хронте без вести пропал! — взъерепенилась тётя Таня. — Еёный — в тюрме, а мой — на хронте.
— Карты-те што тебе кажут? Живой мужик твой. Мож быть, в полоне маетша. А Броня Богашевиш в жемле широй лежит, хвашиштом убитый. Так-то вот, — вступилась бабка. — И ты её не жамай, не гневи Вшедержителя!
— Прасковья Герасимовна, не надо, — взмолилась тётя Лиза. — Только не здесь, ради всего святого… Ни слова о Боре!
— Я горю Лизиному болезную. Как мать, — лживо просюсюкала, глядя куда-то в бок тётя Таня, — но пошто она здеся димакратию разводит?
Я не знал, о чём они спорят, слово «демократия» мне ни о чём не говорило, но я сразу уверовал, что это хорошее, справедливое слово. Вроде «правды». И ещё почувствовал, что сейчас решается моя участь. Преодолев парализующую немоту, внятно произнёс почему-то дрожащим голосом:
— Это неправда, что говорит тётя Таня. Я не копал чужую картошку. Не брал тёть-Танину миску. Я её на полосе подобрал. Когда тётя Таня убежала с огорода ночью к себе домой. И тамбур запёрла на крюк. И когда в окно её стучал, не отвечала, спряталась. Почему?
— А потому што ничево такова не слышала, — лгала тётя Таня. — Вон Толькя подтвердит.
Я испугался и бросился по коридору к выходу. Мне показалось, что тётя Таня с Толяном сейчас набросятся на меня, свяжут и потащат в седьмое отделение милиции. Потому что участковый уполномоченный Косолапов часто наведывался к ней, беседовал о чём-то или о ком-то, я его в окно сидящим за столом видел.
Выскочив во двор, я сначала заперся в сарае. Но, не почувствовав себя в безопасности, забрался на чердак, в ещё с Вовкой Кудряшовым сооружённый Главный тимуровский штаб. И уже оттуда наблюдал за парадным крыльцом нашего дома через открытую настежь дверь. Меня лихорадило. Незаметно и очень быстро стемнело. Так мне показалось. Светилось лишь одно кухонное окно — у Малковых. Там находилась Мила. Как её сграбастала Дарья Александровна! И грубо затолкнула в свою кухню, назвав «дурой». От напрасной обиды Милочка, наверное, плачет сейчас.
С чердака окна квартиру Малковых я видел под острым углом, и поэтому оставалось лишь догадываться, что там происходит. Об этом я и задумался.
Мгновенно в воображении я перенёсся к Миле и удивился её виду, такой она выглядела прекрасной, словно нарисованная прозрачными, чистыми красками из цветного воздуха. Но одновременно она была живой — дышала и двигалась. И тут я догадался, на чей портрет она похожа, моя Милочка, — на тот, что в щепу превратила и сожгла мама в топке общей кухонной плиты. И радость пронзила меня, словно не сгорел он, не сгорел! И я им могу любоваться. Пусть издалека. Но оживший портрет существует. И какое это для меня счастье! И тут же осознал: я совершил позорный поступок. Трус! Другого названия мне нет! Сбежал у всех на виду. И сейчас ещё боюсь возвратиться. Позор! Вдруг тётя Таня пригласила Косолапова, и он сидит в даниловской кухне за столом, ждёт, когда Толька кончит писать, и сцапает меня, чтобы утащить в милицию?
На крыльце долго никто не появлялся. Значит, собрание продолжается. О чём они там толкуют, что решили? Если тёте Тане и Малковой удастся настоять на отправлении меня в колонию для малолетних, я убегу из дома. Уеду из Челябы вовсе. В Москву, где Красная площадь и бьют куранты на Спасской башне. Там меня никто не найдёт. Даже знакомые завмага, которые, по её словам, всё могут «по блату», даже посадить в тюрьму — кого надо.
Однако боязнь постепенно стала проходить.
Чего, собственно, я перепугался? Ведь всё, что твердит тётя Таня, — чушь, а вот я непозволительно, позорно струсил. И этим самым, вероятно, развязал злой язык тёти Тани ещё больше. Не ожидал от себя такого малодушия. Как после этого Миле в глаза смотреть? Если я себя сейчас так веду, то что от меня она может ожидать в дальнейшем?
Спустившись по лестнице, обошёл дом, остановился возле кухонного окна так, что меня из помещения никто бы не увидел, и прислушался — форточка открыта. Да, «бодяга», как я определил собрание, продолжается. И тут я отчётливо услышал приглушённые расстоянием голоса.
Как-то до сих пор мне и в голову не пришло: почему ни слова не вымолвила мама, молча стоявшая у двери нашей квартиры, — стерегла, чтобы Стасик ничего не услышал, хотя и тщетно — слышимость во всех углах нашего дома была превосходной?
— То, что вы, Татьяна Петровна, пытаетесь учинить здесь над моим сыном, — неправедное судилище, кощунство над всеми нами и глупость ваша несусветная.
Это говорила моя мама! Её голос звучал твёрдо.
— Гляньте, как свово сына выгораживат, — выкрикнула тётя Тоня, взывая к сочувствию присутствовавших.
— Да, он мой сын, и я не отдам его вам на посрамление. И не будь он сыном, я точно так же поступила бы, потому что, повторяю, вы, Татьяна Петровна, и вы, Дарья Александровна, вместе творите зло, несправедливость. Давайте будем рассуждать здраво, и не перебивайте меня. Мог ли Георгий выдумать столь хитроумную интригу и зачем ему она понадобилась? Как мать я его знаю лучше всех вас, и недостатки его, и положительные качества. Он не мог. Да и ни к чему это ему. Чтобы четырнадцатилетний мальчишка затеял интригу, это выглядело бы нелепо и очевидно для всех.
— Он хотит меня скомплементировать, быдто я ночью в огород шастала. А это была не я. Не знаю кто, но не я, — отчаянно лгала тётя Таня.
— Даже если не вы ночью выкопали чужой картофель, и Гера ошибся, то кто вам дал право голословно обвинять его в хищении нескольких картофелин? Где хоть одно доказательство его виновности? Их нет. И вы напрасно пытаетесь чёрное превратить в белое и наоборот — вас никто из здравомыслящих людей не поддержит. А вот к вам есть один вопрос: как могла ваша эмалированная чашка, которую я накануне вечером тоже видела у вас на столе, оказаться на грядке Малковой? Кто, кроме вас, мог её вынести из вашей квартиры поздно ночью?
— Не знаю хто, не знаю, — завизжала тётя Таня. — Не я!
— Не знаете? А теперь пусть любой из здесь находящихся назовёт хотя бы один факт, чтобы Гера сказал неправду.
— Все врут, — отрезала тётя Таня убеждённо. — Все. Без энтова не проживёшь.
— По себе обо всех не суди́те, — вставила своё слово тётя Лиза.
— И вы, Татьяна Петровна, — продолжила мама, — чтобы обелить себя, готовы загубить жизнь человека. Ведь ребёнок — человек! И какой пример вы подаёте своему сыну? До какого падения докатились, если решились на подобную клевету! И риторический вопрос: почему после этого случая кражи в огороде прекратились?
Тётя Таня не однажды порывалась что-то выкрикнуть, но мама не позволяла прервать себя. Да и что та могла сказать дельного в своё оправдание? Поэтому, видимо, припёртая к стенке, она ляпнула несусветную глупость: «Зачем мне чужи картошки? На трахмал трать, ли чо ли?»
Первой поддержала маму Герасимовна:
— Я эдак жа про шебя покумекала: пошто Егорке вшё это придумывать? Ни к шему. Ты уж, Татиана, мила дошь, по-хорошему пред шушедями повинись: был грех, попутала нешиштая шила. А то робёнка опоганила ни жа што ни про што. Штобы шамой иж паганой ямы вылешти.
— Вы все с ним заодно, фулюганом… Я вас всех на чисту воду выдведу! — выкрикнула угрожающе, отчаянно преддомкома, но в этой угрозе слышался страх именно отчаянья. — Я до Москвы дойду… До самого товарища Сталина!
И тут произошло самое забавное. Тётя Лиза со словами: «Вот это мы и занесём в протокол собрания» взяла с кухонной плиты исписанные листки. Часть их оказалась заполненной чернилами, да и почерк отличался от Толькиного. Это сразу заметила наблюдательная тётя Лиза. Не напрасно ей доверили на заводе должность контролёра-браковщика.
Не обращая внимания на протесты тёти Тани, она зачитала вслух содержание листков. Это было заранее составленное постановление общего собрания жильцов дома. В документе «единогласно» подтверждалась моя виновность «в краже картошек в количестве трёх штук», клевете на общественного представителя и столь же «единодушно» одобрялось перенесение уборной из-под окон гр. Малковой Д.А. под окна гр. Герасимовой П.Г. — бабки Герасимовны.
— Дай-ка мне шуды энту филькину грамату, — взвыла бабка после прочтения лжепостановления и, схватив листки скрюченными пальцами, искромсала в клочья, а после ещё и на обрывках потопталась чунями,[254] приговаривая:
— Вот так единоглашно, вот эдак единодушно!
После этой сцены все стали расходиться, а я снова перебрался на штабной чердак, решив остаться на нём до утра, — вдруг Косолапов заночует у Даниловых? На случай, если за мной придут из милиции, по вызову тёти Тани, ведь она, как уже упоминалось, давно дружила с нашим участковым. О чём ворковали они наедине? Возможно, и обо мне.
…По водосточной трубе и карнизу спуститься на козырёк парадного входа районного суда — дело нетрудное. Соскользнул по металлической витой колонне на землю. Теперь, в случае опасности, не мешкая, мне предстояло пробраться на вокзал. Я уже представил себе, как, устроившись на подножке вагона, мчусь к столице… Но голос мамы пресёк мои мечтания. Она звала меня домой.
Поколебавшись немного, я крикнул от ворот:
— А меня не заберут? В милицию?
— Иди домой, дурачок. Никто тебя не тронет.
«Какая же молодчина Милочка. Это она первой мне поверила. Надо же — поверила! — торжествовал я, быстро приближаясь к своей калитке. — Настоящий друг. Даже несмотря на недоразумение со стрелой и миской. Что бы такое ей подарить? Чтобы на всю жизнь? Каску? Или немного покорёженный автомат со свалки?»
В сарае у меня хранилась немецкая рогатая каска, с которой я соскоблил свастику и эсэсовские молнии. Там же мною был припрятан исковерканный ствол советского автомата, подобранный вместе с каской на городской свалке металлолома. Но эти драгоценности явно не подходили для Милы. И тогда я вспомнил про заветную тетрадь, хранившуюся там же, в сарае, под подушкой.
На следующий день, уединившись в дровяник, я извлёк из «тайника» тетрадь и враз прочёл всё содержимое её. Многие из стихов были настолько неумелые, корявые, что вызвали у меня озноб. От стыда. Но одно я признал достойным Милы, вырвал из пружинного переплёта лист, вложил его в склеенный хлебный мякишем конверт и приготовился к отчаянно смелому шагу — вручению. На конверте чёткими печатными буквами вывел: «Миле». И прибавил: «От друга». Но тотчас зачеркнул последние два слова. Какой я ей друг? Этого блага я не заслужил. И не достоин.
Потом подумал: не написать ли полный адрес — Людмиле Малковой и так далее. И с маркой послать по почте. Но отверг это решение сразу — может попасть в руки её матери.
Через день-два, выждав, когда Мила осталась дома одна, я остановился у её открытого настежь окна и положил конверт на подоконник.
Девушка, в ситцевом цветастом халатике, в первый миг мне показалась вовсе не Милой, столько за последние дни возникло в ней нового, незнакомого — повзрослела она, что ли. Похорошела ли. Вроде и хорошеть-то Милочке больше некуда — она и так прекрасна. Мила шутливо недоуменно и весело взглянула на меня и на конверт. Недосягаемо-прекрасная, она находилась так близко, по ту сторону подоконника. Эта близость меня взволновала необычайно и сковала немотой. Но я сумел превозмочь сильнейшее смущение. И мне опять вспомнился сожжённый матерью портрет на доске. Сейчас же я видел его целым и очень ярким. И главное — живым. Удивился: откуда такое сходство? И почему тогда, сразу, этого не заметил?
— Это тебе, Мила, — с трудом вымолвил я наконец-то. — На память…
И, еле сдерживая себя, чтобы не сказать большего, пошагал к себе в сараюшку. Не оглядываясь. Медленно-медленно. Честно признаться, ждал её оклика. Очень надеялся. Но его не последовало.
Или опять мне эта встреча привиделась в воображении? И неудивительно: так нестерпимо хотелось сделать для неё что-то очень хорошее. И не только ей — всем. Но ей — особенно.
…В сумбуре мыслей, проносившихся в моей голове во время собрания и после, крутилась одна: за что тётя Даша так невзлюбила меня? Ведь раньше, наверное, от чистого сердца, чтобы отвадить от уличной компании, она приглашала к себе пообщаться с дочкой и познакомила с сыном (неродным) бывшего мужа Володей, хорошим пареньком, моим одногодкой. Он иногда наведывался к Малковым. Но как-то так получалось, что беседовал я больше с Милой. К ней меня непреодолимо влекло. В общем, я терялся в догадках: что произошло? Неужто тётя Таня ей что-то нашептала, какие-то гадкие небылицы наплела?
Но я никакой вины за собой не чувствовал и продолжал влюблённо глядеть на девочку, уже один вид которой дарил мне ощущение счастья и умиротворения.
Это, как после я догадался, и был ответ на тот недоуменный вопрос, множество раз заданный самому себе. Но понял я это позже, лёжа на нарах барака одного из концлагерей, закрыв глаза, чтобы не видеть мерзости, творившейся вокруг, и перебирая в памяти события детских лет, совсем недавних и невозвратно далёких.
1975 год
Черныш
Откуда бабка Герасимовна принесла крохотного чёрного котёнка с острым хвостиком, неизвестно. Наверное, подобрала где-нибудь на улице. Из жалости.
Сначала я услышал его писк, а после узнал, кто пищал. И познакомился лично, когда он предпринял обследование закоулков нашего обширного, как мне тогда представлялось, дома.
Котишко выглядел забавно и игрушечно. К тому же уродился он неисправимым попрошайкой. Возможно, от рождения он и не был таким привязчивым. Познав же, что такое голод, клянчил у всех и постоянно, заглядывая в глаза и щеря маленькую розовую пастёшку с мелкими острыми зубками.
К бабке он приставал меньше, чем к другим, ибо прекрасно понимал, несмотря на юный возраст, что у неё поживиться нечем. Разве кошачья пища — картофельные очистки? О молоке мечтать безнадёжно — младший, любимый, внук Герасимовны Колька зачастую довольствовался хлебной соской.
Меня очень заинтересовало, чем же питается котишко, ведь без еды невозможно существовать. И несказанно изумился открытию: Васька, такое традиционное имя дала ему Герасимовна, пробавлялся в основном мухами, благо для него их окрест водились миллионы. Котёнок изумительно точно, снайперски сбивал мух со стен, настигал на оконных стёклах, даже хватал их подушечками обеих лапёшек на лету. Не брезговал котик и подзаборными красноватыми букашками с чёрными пятнышками на спинках — «солдатиками». Однажды изловчился сцапать — и сожрать! — синюю крупную стрекозу, неосмотрительно усевшуюся на зонтик укропа. От красавицы-стрекотуньи через считанные секунды остались лишь обрывки прозрачных блестящих крыльев.
Вообще-то к кошачьему народцу я издавна относился иронично-шутливо, не воспринимая их всерьёз.
Собака — другое дело. Помощник. Надёжный друг. Ещё смысла и букв различать не умел, а слово в слово запомнил неоднократно прочитанные мамой — по моим очень настойчивым просьбам — рассказы о знаменитом Ингусе, поисковой собаке пограничника-следопыта Карацупы. Уже тогда возникло настойчивое желание заиметь собственного щенка. Пусть совсем малюсенького. Я его выходил бы и выучил. Но родители на мои уговоры не поддались, запретив даже упоминать о щенке. Однако неутолённое желание во мне продолжало жить. Ко всем собакам я проявлял интерес и с каждой пытался познакомиться и подружиться. А перед большими — благоговел. Удивительно: ни одна за всю жизнь меня ни разу не укусила. Мне всё-таки повезло — самые светлые воспоминания остались о Водолазке, несмотря на хулиганскую расправу надо мной сторожей «макаронки».
А коты… Не скрою, мне было приятно, когда был помладше, дошкольником, понарошку погоняться за каким-нибудь мурлыкой, вспугнуть его, пригревшегося, растянувшегося, замлевшего где-нибудь в укромном, облюбованном им месте. Повинен я и в более озорных выходках, в чём давно и искренне раскаялся. Например, бабка Герасимовна на кухне однажды до икоты перепугалась, открыв крышку своей кастрюли, из которой на неё прыгнул орущий зверь — её собственный кот, одичавший от одиночества в тесной и тёмной посудине. Но, в общем, с бабкиным котёнком, которого я нарёк Чернышкой, а позднее, когда стал очевидным его пол — Чернышём, между нами сложились неплохие отношения.
Герасимовна никак не могла понять, что я вовсе не мучаю её Ваську, в бабушкином произношении — Вашку, а дрессирую. Мы с котом, без преувеличений, кое-чего достигли в этом непростом деле. За рыбную головку или малька, а я их ловил на зареченской стороне Острова-сада сачком из марли, причём во множестве, Черныш влезал на высокий качельный столб во дворе, слезть с которого или спрыгнуть у него поначалу не хватало смелости. Вот он и орал дурным голосом, хотя у подножия качелей всегда лежала награда — малёк. Я помогал коту, сбрасывая его со столба без парашюта.
Впрочем, летал он и с парашютом, отчаянно крича и растопырив когтистые лапёшки. Совершал он полёты с трёхметровых ворот и ещё более высокого конька крыши «парадных» сеней нашего дома. И всегда удачно приземлялся. Даже если приспособление из-за технических неполадок не срабатывало. Ну что могла уразуметь отсталая, ещё дореволюционная бабка в наших с Чернышём занятиях парашютным спортом? А я, между прочим, тогда серьёзно и с упоением работал над конструированием большого зонта-парашюта. Основой ему послужил настоящий старинный ничейный зонтик, шелковый, с жёлтой гладкой ручкой слоновой кости, оказавшийся, на моё счастье, в развалившейся в соседнем дворе (номер двадцать восемь) сарайке давно почившего прежнего её владельца: велика ль утрата — материя проржавела насквозь кое-где возле спиц. Зато он после смазки солидолом исправно раскрывался и закрывался лёгким нажатием кнопки.
Если б кто-нибудь знал, как мне тогда не терпелось, пусть один-единственный раз, прыгнуть с настоящего самолёта! Желание было таким сильным и заветным, что я не мог ни с кем, даже с друзьями, поделиться своей мечтой. И у кого бы ни спрашивал: о курсах подготовки обучения парашютистов — никто этого секрета не знал. Тогда я решил сам смастерить парашют и испытать его.
Рассудив, что с помощью усовершенствованного мною «буржуйского» зонта можно плавно опускаться с верхушек самых высоких, причём именно с верхушек, тополей Острова-сада, принялся за дело.
Мне удалось выстругать и скрепить столярным клеем крылья размахом в полтора метра.
После первого неудачного испытания зонта-парашюта — я прыгнул с конька высокого сарая в Игорёшкином дворе и с помощью верных друзей Бобынька и Кульши доскакал на одной ноге до больницы, после чего две недели промаялся в гипсе, который мне налепили на голень и левый вывихнутый сустав повреждённой ноги. Да ещё с месяц хромал.
Ладно, что после неудачного эксперимента меня поддерживали за обе руки Юрка с Игорёшкой. Они и тащили большую часть расстояния меня на своих плечах до больницы.
— Вывих голеностопного сустава, — заключила, осмотрев мою опухшую ногу, врач.
Только в тот момент уразумел: а если бы такое несчастье произошло по моей вине с Чернышём? Загубил бы кота… Как он, хромой, сможет добывать пищу?
В обнимку с друзьями я и вернулся домой.
И навсегда прекратил испытания кошачьих парашютов. Я долго испытывал стыд перед Чернышём за то, что намеревался подвергнуть его такой опасности.
Когда котишко подрос, то прилежно и быстро извёл в доме всех мышей, отпечатки зубов которых я, к своей досаде, обнаруживал на клубнях картофеля, хранившегося в голбце. Доставалось от кота и местным воробьям. Он хватал зазевавшихся птах на земле, стрелой вылетая из укрытий: из-под лопуха, из-за куста сирени. Однажды, я это сам наблюдал, он исхитрился, спрятавшись за печной трубой, выследить жертву и в броске, развернувшись на лету, вцепиться когтями и зубами в толстенького воробья-самца. Они кубарем покатились по склону крыши, перевалились через жёлоб и шмякнулись наземь. Я поспешил к коту, подумав: разбился жадюга! Но Черныш угрожающе зашипел, отскочил от меня и, не выпуская добычи из зубов, шустро запетлял в картофельной ботве. Зверь!
Во второй же школьный день я восторженно описал друзьям-одноклассникам подвиги бабкиного любимца. Кое-кто не поверил мне, хотя не о миасском крокодиле шла речь и не о приведениях с Митрофановского кладбища, а о натуральном домашнем коте.
Словом, меня залихорадило доказать, что кот-храбрец не придуман мною, и я принёс его за пазухой в школу и до начала уроков его с большим успехом демонстрировал одноклассникам. Черныш многим понравился. Но Витька Тля-Тля, как всегда, чтобы мне досадить, принялся всех убеждать в том, что кот «Лизанова» якобы трусоват, это сходу вроде бы видно, а вот у него, Витьки, есть котяра по кличке Мордоворот, тот сразу перекусит пополам дохляка и рахита Черныша. Я не потерпел оскорблений в адрес моего, то есть бабкиного, кота, и мы с Витькой «поломались»,[255] то есть заключили пари, на вечернюю школьную булочку, что первенство решится в кошачьем турнире, который пройдёт здесь же, в школе, на следующий день.
Первым уроком по расписанию значилась алгебра.
— Крысовна идёт! — оповестил дежурный у двери.
Все разбежались по своим местам.
Тощая, ещё более усохшая за минувшее жаркое лето, в неизменном, тщательно отутюженном синем «английском» костюме, Александра Борисовна Кукаркина зашла в замерший класс крадущейся походкой: вдруг что-нибудь опять на макушку свалится?
Мы знали, почему завуч такая настороженная. Вчера она лихим наскоком ворвалась в седьмой «а», и на её отважную голову сама опрокинулась большая кастрюля, полная воды. Хозяина сосуда не нашлось, хотя в учительскую были вызваны и профессионально, с пристрастием, допрошены все учащиеся класса — никто не выдал автора гениального изобретения. Не выгонять же из школы весь класс! Хотя будь это в её возможностях, она поступила бы именно так.
Кукаркина долго и подозрительно разглядывала нас. В классе стояла напряжённая, с каждой секундой всё более набухавшая враждебностью тишина.
— Здравствуйте, дети, — произнесла завуч приветствие ласковым голосом — не резким, обычным, а поддельным, задушевным.
— Здрассьте, Ас-сандра Бокрысовна, — вразнобой протараторили мы.
— Кто-то промолчал. Ну-ка, дружнее, — сказала она фальшиво-бодро, расслышав в нашем ответном приветствии что-то не совсем соответствующее общепринятой норме.
— Здра-стуй-те! — заорали мы изо всех сил, — Али-са-н-дра Ба-ри-со-вна!
Она сделала вид, что ничего не заметила, будто поначалу проорали что-то не то.
Крысовна разинула рот, чтобы произнести дежурную воспитательную речь. В классе опять наступила тишина. И тут плотно спелёнутый моим длинным красного цвета вязаным шарфом Черныш, возившийся и царапавшийся в парте, неожиданно подал голос. Что ему не лежалось спокойно, непонятно. Видимо, заорал он, отчаявшись освободиться от пут. Или не перенёс лицемерия нашего сверхусердного громогласного приветствия — ведь у него слух отличный, и Крысовну от Борисовны Черныш без труда отличил.
На несколько невероятно длинных мгновений все сорок шестиклассников замерли от неожиданности и предчувствия чего-то интересного, обратив жадные взоры на меня. Вперилась в мои глаза и завуч. Это был непрятнейший пристальный взгляд с переизбытком ненависти и злорадства. Она смотрела на меня так долго, словно играла в девчоночьи «гляделки». Вот уже и тихие смешки переросли кое-где в сдавленный смех и даже хохотки, потому что Черныш повторил свои рулады, жалобные и пронизанные откровенным недовольством.
— Замолчать! — рявкнула Кукаркина и громко хлопнула классным журналом о столешницу кафедры.
Все разом смолкли.
— Что это значит, Рязанов? — отчётливо и громко начала допрос Крысовна. — Что за демонстрация, спрашиваю?
Угораздило же Черныша именно сейчас, на Крысином уроке, завопить. Не мог уж потерпеть!
— Сию минуту вон из класса, — отчеканила Кукаркина. — Завтра пусть придут родители. За портфелем.
— За что? — взъерошился я.
— За что? — ехидно переспросила Крысовна. — В прошлом учебном году кто сорвал урок, принеся в класс кролика? Не Рязанов?
Да, что было, то было. Великую потеху нам серый крол Трус устроил. Его ловили всем коллективом едва ли не целый урок, а он прыгал из угла в угол, взбрыкивая задом и обдавая преследователей брызгами мочи. Ох и погонялись мы за ним, прежде чем накрыли пальтушкой, спешно принесённой из раздевалки, и затолкали в мешок из-под галош.
— В прошлом же году я лично тебя застала, Рязанов, в школьном коридоре в этом… в каком-то ржавом лапсердаке.[256]
— В кольчуге. В настоящей боевой кольчуге, — запальчиво поправил я. — В которой наши предки отбивались от бусурманов…
— Не смей перебивать преподавателя! — прикрикнула на меня Крысовна. — Мне достоверно известно, что ты приносил в школу пулемёт и каску. Со свалки. Если тебя не остановить, ты сюда и пушку прикатишь. Молчи! Ни слова! А что значит твое демонстративное появление в новом учебном году с причёской? Это вызов установленным правилам, открытое неподчинение… Смотри, Рязанов! Ишь, жених выискался! Чуб отрастил, как у хулигана. Немедленно подстричься «под нулёвку»!
Знала ли, догадывалась ли Крысовна, что ранит меня своими словами прямо в сердце? Я, действительно, был бесконечно влюблён в Милу и не хотел, чтобы она меня видела «лысым». Маминым черепаховым гребнем я каждое утро подолгу расчёсывал перед зеркалом свою полубоксовую чёлку и с пристрастием рассматривал, не пробились ли усы? И ждал полного возмужания. Но при всех вот так расхлестать меня, да ещё обозвать «женихом»! Я еле сдерживал бурлящий во мне гнев, усиленный многократно тем, что кое-кто из одноклассников захихикал.
— За что она меня так унижает? — билась во мне жгуче-обидная мысль. — Если она учитель, значит, ей всё можно? Издеваться, глумиться, измываться. Так?
Волна обиды захлестнула меня. Я упёрся в глаза Крысовне безбоязненным, даже, наверное, дерзким неотрывным взглядом, видел её раскрывающийся и захлопывающийся рот, обрамлённый тонкими резиновыми губами, она мне сейчас представилась огромной пиявкой, но не понимал смысла произносимых ею слов. Они будто лишились содержания, знакомые звучащие, но пустые слова. А последняя фраза, услышанная-таки, ещё больнее хлестнула меня:
— И вообще я буду ставить вопрос о твоём исключении из школы!
— Это нечестно, — сдерживаясь изо всех сил, возразил я. — Подумаешь, кота принёс. Уроки-то я знаю. И домашние задание выполнил.
— Ты смеешь судить о моей честности меня, учителя?! А если ты слона заведёшь, то и с ним в школу заявишься?
Ребята дружно засмеялись. Надо мной.
— Слона я сюда не приведу. Потому что крыса разъест ему ноги, — выпалил я, кипя негодованием. — Альфред Брем об этом пишет в своей прекрасной книге «Жизнь животных», том пятый.
Это была неслыханная дерзость. Александру Борисовну почти все учащиеся школы за глаза звали не только Крысовной, но и Крысой. И она это отлично знала. Из доносов.
Одноклассники сразу поняли мой намёк. Раздались смешки и чей-то гогот из-под парты. А тут и Черныш опять забазлал.
— Вон из школы! — взбеленилась Крысовна. — Чтобы духу твоего не было! И кота твоего!
— Ну и пожалуйста! — сзубатил я. — И без вас проживу. С котом. С ним лучше, чем с Вами. Он намного умнее, чем некоторые люди.
— Вот кто разлагал класс! — злорадно улыбаясь, выложила завуч. — Это всё твоя, Рязанов, антипедагогическая агитация…
Я вынул из парты Черныша, наполовину выпутавшегося из шарфа, и стал заново пеленать его. В этот момент пакостник Мироед громко — басом — гавкнул, и Черныш, вонзив мне в шею когти, взобрался на плечо, вскочил на макушку, а с неё прыгнул на висевшие настенные таблицы с алгебраическими формулами, при этом он истошно заорал. Класс дружно грохнул. Черныш сорвался вместе с плакатами, но успел оттолкнуться от стены задними лапами и с душераздирающим воплем, перевернувшись в воздухе, шмякнулся в проход между партами и стеной. И тут я ухватил его за холку.
Вокруг нас скакали, кривлялись в раже ребята, норовя ущипнуть или дёрнуть Черныша за хвост. Я не позволял им этого сделать, увёртываясь и защищая кота, прижав его к груди обеими руками.
В конце концов, гиканье и улюлюканье покрыл режущий голос пришедшей в себя Кукаркиной.
Она была бледна. Руки её тряслись не то от испуга, не то от злобы.
— Рязанов! — орала она. — Рязанов! Вон из класса! Вон из школы!
Я запыхался и разволновался. Это надо же — чуть Черныша не разорвали! Не люди, а животные! Хищники!
Подняв истоптанный шарф и схватив торбочку с ученическими принадлежностями, я с налёту плечом распахнул дверь и вывалился из класса.
Меня словно кто-то гнал по холодным захватанным коридорам. Остановился лишь в раздевалке. Унял дыхание и бешено скачущее, как и у кота, сердце.
— Ну что ты натворил, Черныш? — спросил я его с отчаяньем.
— Мяу, — смиренно ответил кот.
— Ты знаешь, что теперь мне будет?
— Миау, — ещё жалобнее откликнулся он.
С ужасом и содроганием представил неминуемую расплату за сегодняшнюю кошачью историю. Отец… Он не пощадит меня, несмотря на мой ультиматум после ледолома.
…Ещё недавно я думал, что не может быть в моей жизни отраднее дня, чем тот, когда вернётся с войны отец. Сколько раз я с этой мечтой засыпал и глаза утром раскрывал. О грядущем счастливейшем дне не забывал никогда. И во сне мне грезилось: входит в комнату улыбающийся папа, огромный — не обхватишь, высоченный — до подбородка пальцами не достанешь, одним словом, богатырь, поднимает меня на руки, легко, без напряжения, и вот я уже парю в воздухе, подброшенный его могучими ладонями, в ярком небесном просторе лечу… Часто же я летал в своих детских снах!
Отец возник передо мной именно таким, почти таким, каким я его представлял: большущий, в новенькой щегольской комсоставской гимнастерке с погонами, на каждом из которых желтело по узкой полоске. На груди его бликовали гвардейский знак и несколько медалей. Он всего секунду стоял в дверном проёме и улыбался. В коридоре виднелось растерянное лицо Герасимовны.
Я играл со Стасиком на полу в самодельные паровозики, оглянулся под чьим-то взглядом и увидел отца первым.
Кинулся к нему, загорланил на весь дом:
— Па-а-па-а!
И обхватил его за пояс, прижавшись лицом к широкому гладкому кожаному ремню с прохладной пряжкой с выпуклой звездой. Как на моём, брезентовом.
Стасик, держась за подол гимнастёрки, запрыгал.
А отец спрашивал нас и Герасимовну:
— Где Фёдоровна? Куда её понесло?
Кто-то из соседей уже оповестил маму о возвращении отца, и она нагрянула с огорода с запачканными землёй руками.
Родители обнялись. Мама молча заплакала. Я смеялся и ликовал, приплясывая на одной ноге.
Из вещмешка отец извлёк бутылку самогонки и водрузил её на стол и ещё всякой провизией завалил стол. Славка радовался, улыбаясь, и не отступал от долгожданного папы ни на шаг.
Мама нажарила полную, с верхом, сковороду молодой, с нашего огорода, картошки на свином сале из отцовского мешка. Огромный жёлтый пласт его лежал на столе — ешь сколько хочешь.
— Пап, можно я отрежу по маленькому кусочку для Юрки с Гариком? — попросил я отца.
— Отрежь, отрежь, — разрешила мама.
С подарками я побежал к друзьям — мог ли я умолчать о таком великом событии в моей и жизни нашей семьи — возвращении отца с войны? Интерес их к этому событию был велик — не успевал отвечать на расспросы. Среди них были и такие: привёз ли отец пистолет или хотя бы патроны? Кортик? Бинокль? Ордена и медали битых «завоевателей»?
Я не сомневался, что у такого бывалого вояки, как отец, имеется трофейный парабеллум — личный, с дарственной надписью генерала. О своей догадке и поспешил оповестить друзей.
— А можно на твоего отца позырить? — спросил Юрка.
— Хоть сколько. Бежим!
Мы ринулись смотреть на моего отца-фронтовика. Я был счастлив, как никогда. Стасик вовсе от отца не отлипал, продолжая следовать за ним по пятам.
Утром, едва протерев глаза, я узрел на подзеркальнике множество интересных вещичек, принадлежавших, несомненно, отцу: набор ножичков и пилочек для ногтей в красивом бисерном футляре — отец незнакомым словом «несессер» всё это называл, перочинный ножичек с перламутровой колодочкой в красном сафьяновом футляре[257] с замочком-молнией, синий фигурный стеклянный флакон с резиновой грушей и пульверизатором, наполненный таким душистым одеколоном, что запах его был слышен, наверное, и во дворе. Тут же лежали карманные часы в серебряном корпусе с двойными крышками и с длинной серебряной же цепочкой. К ней прикреплён брелок в виде старинного пистолетика и роскошный бумажник из зелёной кожи с золотым оттиснутым гербом, изображавшим гривастого льва, вставшего на задние лапы и обхватившего передними ажурную корону. Отец сразу предупредил нас, но в первую очередь меня, зная мои выдающиеся способности в ломке и раскручивании любых механизмов, — не трогать!
Из огромного, похожего на сундук, кожаного чемодана с тремя никелированными замками отец, не торопясь, как цирковой фокусник извлекающий из шляпы за уши кролика, доставал невообразимые вещи: отрезы драпа и шерстяной ткани, кожаные и замшевые перчатки — несколько пар различных расцветок и, что удивительно, все отцу точно подходившие по руке; штиблеты вишнёвого цвета, с дырочками, чтобы ноги не потели, большие куски скрипучего хрома, шёлковое нижнее бельё — дюжина пар, множество батистовых носовых платков, очень тонких и почти прозрачных, по моему понятию — «трофейных», с фамильными гербами и вензелями в уголках, и множество другого невиданного добра. Он отдавал вещи маме, а она молчаливо укладывала их на бельевые полки полупустого шкафа. Столько разных богатств вкупе я не видел никогда. Разве что у Сапожковых: ни когда Ивана увели под конвоем, а вернувшимся с фронта. От всех этих вещей веяло неизвестным, далёким и чужим миром, а сейчас принадлежало моему отцу! Здо́рово! Он и мне преподнёс шикарный подарок — трофейную тетрадь, толстую — девяносто шесть листов в голубую клетку, закреплённых стальной спиралью, в красивом картонном переплёте с изображённым на нём букетом пёстрых цветов.
— Учись, Юряй, — напутствовал он подарок. (Это на ней я кропал стихи Миле.)
— Спасибо, папа, — пролепетал я, зардевшись от избытка благодарности. И долго ласкал пальцами лощёные страницы белейшей бумаги. Таких роскошных тетрадей я тоже никогда не держал в руках. И не видывал даже. Но как упоминалось в другом рассказе, я не последовал хорошему совету отца, а заполонил все листы своими стихами, в основном «лирическими», рванувшими творческим неукротимым фонтаном.
Начистив иностранным кремом и легонько обмахнув сверкающие лаковые штиблеты бархатной тряпицей, отец, весь отутюженный, с накрахмаленным воротничком, ушёл утром следующего дня по делам — устраиваться на работу («на службу»).
— Мам, — полюбопытствовал я, — а какой подарок тебе папа привёз?
— Мне? — спросила она растерянно. — Да разве мне что-нибудь нужно, сынок? Сам цел и невредим вернулся — чего ещё желать? Это счастье.
Похоже, мама была несказанно довольна своей судьбой, ухаживая за отцом.
Вскоре отца приняли начальником по бухгалтерской части в хозучреждение УралВО, и я его редко видел. Возвращался он со службы поздно, частенько — навеселе, ужинал и валился в разобранную постель под верблюжье одеяло, тоже привезённое им с войны.
Первое время я поджидал отца вечерами с большим нетерпением, часто выбегал на тротуар: не идёт ли? И мчался навстречу. И льнул к нему. Он непонимающе, равнодушно спрашивал:
— Ты чего, Юряй? Иди, иди… Занимайся своим делом. Матери помогай, если уроки выучил.
И упруго отстранял меня.
Вскоре я убедился, что отец не хочет со мной дружить. И это открытие меня повергло в смятение. Играл он иногда лишь с братишкой, на диване, а меня обычно отсылал заниматься чем-либо по хозяйству или читать.
Мама тоже как-то ещё больше отдалилась от нас со Стасиком, крутясь в беличьем колесе вечной своей занятости. Не знаю, чувствовал ли, осознавал ли это брат, наверное — нет, а я — очень: видел — хлопот у мамы прибавилось. Теперь она каждодневно стирала отцовское диковинное нижнее бельё, и оно постоянно сохло под моим или Стаськиным присмотром на заднем дворе, перед нашими окнами.
В застольях как-то вяло и бесцветно отец рассказывал о своих фронтовых делах. И ничего героического в его былях не обнаруживалось. Мне самому приходилось придумывать подвиги, в которых якобы участвовал мой родитель. Впрочем, медали-то у него имелись — «За взятие Будапешта», «За боевые заслуги». Значит, заслуги у него всё-таки имелись, настоящие, боевые. Только он почему-то о них не упоминал. А для меня никакого затруднения не составляло восстановить эти самые заслуги отцовские в своём воображении. Даже приятно становилось, словно и сам на месте боевых событий побывал и к героизму приобщился. Чужому. Впрочем, почему — чужому? Ведь я — его сын.
Ночами часто просыпался от неожиданных, в полный голос, зычных выкриков отца во сне:
— Бей их! А-а-а! Бей же!!! Стреляй!
— Миша! Успокойся! Что с тобой? — тормошила его мама. Он не сразу приходил в себя. В комнате опять распухала, заполняя все уголки, звенящая тишина — это работал электросчётчик.
Моя попытка сблизиться с отцом, как к нему ни тянулся, не имела успеха. Мама с отцом жили как бы сами по себе. И вообще мы со Стасиком ни разу не стали свидетелями, когда родители при нас завели бы обсуждение наших семейных дел. Мне прежде мнилось, что жизнь нашей семьи протекает у всех на виду, без секретов, тайн и лжи. Оказывается, что-то утаивалось от нас, детей, замалчивалось.
Довольно спокойное моё общение с родителями длилось до первых замечаний в школьном дневнике.
— Драть тебя буду, Юряй, как сидорову козу, если не образумишься, — равнодушно, как бы мимоходом пообещал отец в один не самый лучший, но и не худший для меня день, ознакомившись с записью, сделанной педантичной и не пренебрегавшей никакими мелочами Крысовной. К сожалению, многое из того, о чём она сообщала, было правдой, хотя совершал я свои поступки не из озорства. Взять хотя бы того же кролика — я хотел показать одноклассникам, как выглядит ближайший родственник зайца, и рассказать об их образе жизни.
Чтобы смягчить наказания за дневниковые фантазии завуча, — а от мамы раньше мне доставалось за подобные записи — она неимоверно долго и строго отчитывала меня, — я обещал исправиться. Но на том дело и кончалось, искренними раскаяниями и намерениями стать лучше. Не таким, каким вырос, а другим, как в школьных правилах, и во всём слушаться родителей.
Когда же завуч кровавой пометкой в дневнике вызвала отца «на собеседование», то он предстал передо мной с неведомой стороны. В тот вечер он, благоухающий заграничным одеколоном и в меру хмельной, исполосовал мою спину своим новым широким кожаным ремнём с полированной латунной пряжкой, отпечатавшейся в нескольких вариантах на моих худосочных бёдрах и спине. От боли и оскробления я не только ревел горячими слезами, но и места себе не находил от унижения. Ведь я стал уже взрослым человеком! А со мной жестоко расправляются! Нестерпимый стыд душил меня. Казалось, что всё рухнуло, и от окружающего меня мира остались одни осколки. Он, мой папа, которого так любил и долго ждал — как никого! — столь жестоко избил меня… Это воспринималось полным крушением всего. Не знаю, жалела ли меня мама, — она не подошла ко мне после наказания. Лишь Стаська простодушно приставал:
— Здо́рово больно, а? А где болит?
— Отвяжись, — в сердцах отвечал я и снова принимался рыдать — обида жгла внутри огнём.
После этого дикого акта «воспитания» отец как бы вообще перестал замечать меня. А на мои вопросы и просьбы отвечал холодно и с презрением. Меня его враждебность оглушала, как беспощадный всесокрушающий удар в «солнышко».[258] Долго недоумевал: неужели я настолько провинился перед ним? Нет, — отвечал я себе. Тогда почему же всё так получается — нелепо и обидно?[259]
«Лупцовки», так отец называл свои уроки «воспитания», повторялись неоднократно после четвертных общих родительских собраний. Видимо, любое замечание: небольшое опоздание на урок, попытка проронить слово без разрешения учителя, ошибка или описка в примере — всё, кроме похвал, которые получал увы! крайне редко, даже такая мелочь, что был замечен играющим на школьном дворе после занятий — и во что бы, подумать только! — в футбол, всё, всё, сказанное в мой адрес учителями, отец воспринимал почему-то как сигнал к «воспитанию». И «воспитывал».
Постоянный страх, вернее опасение «получить взбучку», поселилось в моей душе. Я трепетал, когда родитель своим негромким бархатистым баритоном изредка обращался ко мне, — ожидал очередной расправы. Как изменилось моё отношение к жизни, я уже упомянул в предшествующем рассказе, сейчас же пытаюсь разобраться, насколько это повлияло на мою психику. И, естественно, на всю последующую жизнь.
После очередной расправы я несколько дней болел: ручища у папаши была дай боже — тяжеленная, точно кувалда. Такое впечатление производила на меня каждая «экзекуция». Вечерами тоскливо и с отчаяньем думал, когда же, наконец, вырасту и стану совсем взрослым, чтобы никто — никто! — даже отец, не смел причинить мне боль. Обидеть безнаказанно. (Забегая вперёд, честно признаюсь, что такой идиллии не наступило никогда. Хотя и посильно сопротивлялся насилию.)
«…Единственный выход, — размышлял тогда я, — изобрести лекарство старения. Таблетки. Проглотил одну — сразу годом старше стал. Всего-то и надо две, ну четыре, таблетки…»
Но, разумеется, это были вздор, мечты, выдумки, успокаивающие кратковременно. Самообман. А жизнь — вот она, от неё никуда не уйдёшь, как из запертой железной клетки!
Попробовал пожаловаться маме, хотя и стыд одолевал. Она ответила, что если буду хорошо учиться и примерно, без замечаний учителей, вести себя, то отец не тронет меня и пальцем. Мама будто забыла о моих угрозах уйти из дома куда глаза глядят. Родители, вероятно, решили, что мне некуда податься, и я буду всё терпеть и далее.
Но у меня никак не получалось учиться ровно и хорошо. Я то получал высший балл, то срывался на неуд. И когда в дневнике появлялось обращение Крысовны к родителям «воздействовать», паника охватывала меня и «вышибала» из равновесия, и неуды с замечаниями о нарушениях правил поведения следовали один за другим, усугубляя тяжесть неминуемой суровой расплаты. О порках я никому, и друзьям тоже, не проговаривался. А учителя — знали. И однажды Крысовна съехидничала, что на меня действует положительно лишь «каша из ремня». Я чуть не взвыл от наглейшего оскорбления чести.
И вот ещё одно столкновение с ней — из-за Черныша. Неужели отец опять поусердствует и покроет рубцами спину? Ни лечь ни сесть…
…В этот роковой день решил бесповоротно: хватит! Не ведаю, что предприму, но это уже неважно. Отнесу бабке кота, а там видно будет.
Ощущение надвигающейся беды, теснившее мой ум, всего меня, сменила лёгкость свободы. В конце концов, хватит терпеть! Не позволю столь жестоко с собой обращаться!
На улице с нами стряслось ещё одно несчастье. Черныш утробно орал, возился и царапался под застёгнутым на все палочки-пуговицы плащом, и я выставил его голову наружу меж петель. На углу улиц Труда и Цвиллинга мимо нас прогромыхала полуторка с теплоагрегатом возле кабины шофера. Таким автомашинам топливом служили деревянные чурки, обычно лежащие в кузове в специальном рундуке.
Так вот, когда это несусветное гремящее огнедышащее чудовище, этот реальный Змей Горыныч на колёсах прогромыхал мимо меня, вернее нас, кот не выдержал столь страшного зрелища и вырвался, выскользнул, будто маслом смазанный. С невероятной скоростью пустился к ближайшему забору — только и мелькнул его задранный вбок хвост.
Кинулся вслед за беглецом с криком:
— Черныш! Куда? Стой!
Но перепуганный котяра исчез. Бесследно.
Что скажу в оправдание бабке Герасимовне?
Домой, одному, вовсе расхотелось идти. А куда деться? Можно было бы попытаться «пробраться» в кинотеатр «МЮД»[260] без билета. Мне это удавалось десятки раз. Но препаршивое настроение не располагало к развлечениям. И я повернул назад.
Бредя куда-то наугад, миновал многоэтажное серое здание школы. Оглянулся. В воображении моём повторилась унизительная сцена изгнания из класса.
К Кукаркиной на глаза больше не покажусь. Никогда! Сколько ей позволительно позорить меня? Она только и ждёт, чтобы поиздеваться, унизить. За что она так возненавидела меня! И других? Что плохого ей сделали?[261] Трудный вопрос я себе задал, безответный. Хотя лёгкий ответ и сыскался: злая она, эта Крысовна. Но я чувствовал, что не вся, не полная истина в нём. Я тоже виноват. Но как «исправиться», стать «хорошим», не таким, какой есть? Вопрос опять без ответа. И тогда появилось окончательное решение.
— Всё, больше в школу ни ногой, — сказал я себе, успокоился душой и… бодро пошагал в городскую детскую библиотеку.
…Заветные уголки детства! Речной летний берег, веер сверкающих водяных брызг, перемешанных с гвалтом и выкриками ребят и девчонок, пыльный, таинственный и сумрачный чердак — штаб нашего тимуровского отряда, упругий весенний ветер бескрайнего загородного зелёного поля, и я, бегущий навстречу ласковому и весёлому живому воздушному потоку, — невидимый жаворонок в знойном белёсом небе над головой — так и запала навсегда в душу небесная песня без исполнителя, хруст снега вокруг послевоенной, в разноцветных лампочках, огромной чудо-ёлки в городском саду имени Пушкина; лунка с родником и шевелящимися на дне его песчинками — в семи шагах от крыльца — всё это и многое-многое другое останется на веки вечные в зеркале памяти как отражение счастья детского бытия. Но особое место среди подобных воспоминаний занимает библиотека — моя обсерватория, откуда я увидел мир. Миры!
Волшебные сказки Гауфа и не менее захватывающая многотомная «Жизнь насекомых» Фабра, бродяги Горького, Диккенса, Филдинга, пёстрая восточная толпа из «Тысячи и одной ночи», дневники путешествий Ливингстона в дебрях Африки, алые паруса гриновской бригантины, вереница героев Пушкина, Гоголя, гениальный Шерлок Холмс, аборигены Миклухо-Маклая, добрый Буратино и зловещий инженер Гарин, благородный и бесстрашный д’Артаньян, никогда не унывающий, находчивый бравый солдат Швейк и множество других образов и существ, движущихся перед внутренним взором, как на карусели. И особо — мальчишки Гайдара. Они жили неотделимо во мне, со мной рядом, в моих друзьях и недругах, повсюду. С ними никогда не чувствовал себя одиноким.
Каким неимоверно бедным оказалось бы моё детство без книжек, этого и представить невозможно!
А где я чувствовал себя счастливым и уверенным, устремляясь мечтами в своё будущее, где меня, жаждущего узнать всё-всё, всегда ждало новое, неизведанное, желанное? Никто и ничто не дали мне так много благ, как детская библиотека. Ей я благодарен на всю жизнь, ибо в её тишине проросло засеянное семенами Добра поле души моей, расцветшее чудесными Цветами Знаний, обработанное Великим Пахарем и Сеятелем — Книгой.
Вот я открываю калитку и поднимаюсь на невысокое крыльцо обширного одноэтажного деревянного дома, некогда служившего прибежищем революционерам. Голубоглазая, как подросшая Мальвина, девушка-библиотекарь осторожно вручает мне латаный-перелатанный томик Александра Беляева — «Человек-амфибия»!
Сажусь за стол, на ближайшее свободное место, а в просторном зале всего несколько читателей, открываю обложку… и материальный мир, окружающий меня, исчезает. Меня нет ни в просторном холодноватом зале «читалки», ни в Челябинске, я весь там, с Ихтиандром рядом. Вот оно перед глазами, морское дно, с его неисчислимыми сокровищами, вывалившимися из погибших кораблей.
— Рязанов, ты разве плохо слышишь? Я третий раз повторяю…
— Извините…
Библиотекарь чуточку рассержена. Она куда-то спешит. Может быть, опаздывает на свидание к любимому своему рыцарю. А мне торопиться сегодня некуда.
С большим сожалением и нежеланием расстаюсь с книгой. В ушах продолжает рокотать море. Я знаю, как оно шумит, — у тёти Любы Брук настоящую морскую раковину слушал, что на комоде в её комнате лежит. Большая и красивая, бело-розовая. Тётя Люба — вот счастливица! — её с черноморского курорта привезла. Ещё до войны, конечно же.
А теперь куда? На улице смеркается. Тащусь домой. Заставляю передвигать ноги.
Первый вопрос настороженной мамы: «Где был?»
Она, видимо, чует что-то неладное.
— В библиотеке.
— Ты бы лучше геометрией занялся.
Отец сидит ест. Медленно, размеренно. Он никогда не спешит за столом. Он никогда и никуда не спешит.
Перед ним столовый прибор из хрусталя, он его называет «бюргерским»: горчичница, перечница, флакончик с уксусом, солонка. Он жуёт пельмени с картофельным пюре, поддевая их изящной маленькой вилочкой с фамильным гербом какого-то нерусского буржуя. Отец всегда насыщается в одиночестве, чтобы не мешали. Нас со Стасиком мама кормит после, во вторую очередь. А сама, не знаю, чем перебивается. Тем, что от нас остаётся. Но мы частенько просим добавки, которых, как правило, не бывает.
Спокойствию и важности отца дивлюсь и завидую. И страшусь. Он всегда держит себя солидно, недоступно, свысока. Даже во время порок. Истязая меня, ничуть не волнуется. Хотя это занятие ему явно неприятно — на лице у него обычно отражена брезгливость.
Отец и ни с кем из соседей не сближается: «здравствуйте» и «до свидания». Его никто не интересует. Внешне вежливое, или как он определил — «культурное», отношение к окружающим скрывает то же самое равнодушие, безразличие. Иногда враждебность. Если кто-то его чем-то раздражает. Или обращается к нему с какой-либо просьбой. Даже нас со Стаськой заставляет работать, платя крохи, копейки за труд, который обязан выполнять сам — по решению домового совета. Туалетное дежурство, например, нашей семьи закреплено за ним — лично как хозяином квартиры. Отцу, догадываюсь, льстит, что мы, а не он, пилим дрова, носим воду домой и на огород, окучиваем и пропалываем картофельные ряды, убираем мусор, подметаем двор — последнее-то занятие и оплачивается им. А он — хоть помог бы когда. Но нет, лишь понукает: «Не ленитесь! Давай-давай!» Не отстанет, пока не выполним его задания. И называет это «трудовым воспитанием».[262]
Деньги, которые он нам отсчитывает непременно «серебром», мы опускаем в копилку-поросёнка из раскрашенного гипса. А когда набирается достаточная сумма, вытряхиваем монеты с помощью ножа и идём с братишкой в магазин «Когиз» покупать очередную книгу. Впрочем, Стасик чаще предпочитает полакомиться мороженым. Или чем-нибудь другим вкусным, чего не бывает на общем столе.
— Барин, — осуждающе отозвалась однажды об отце Герасимовна.
— А ты — горбатая и злая, — яростно заступился я за него.
Не различал я поначалу, что отец гордится своим как бы заслуженным бездельем и не желает помочь кому-либо, а также тем, кто выполняет за него тяжёлый, чёрный труд. И тем, что он, Михаил Алексеевич Рязанов, недосягаем для многих других и «начхал[263] на всех». На нас с мамой и братом, выходит, тоже. Прозрение на меня нашло неожиданно, сейчас, при возвращении из библиотеки. Сначала я отринул эти свои мысли, столь кощунственными они мне поначалу показались. А после — смирился, принял — ведь это правда. И «экзекуции» он мне устраивает, потому что я мешаю ему отдыхать, причиняю «неприятности».
…Медленно вылезает он из-за стола и ложится на диван отдохнуть после обильного ужина, отгораживаясь от всех нас развёрнутой газетой «Челябинской рабочий». Через несколько минут раздаётся его храп. А у меня одна горькая дума: где Черныш? Настрадался он, бедолага, и всё из-за меня. Где теперь его искать?
Вынимаю из тумбочки растрёпанный томище «Дон Кихота» с прекрасными рисунками Гюстава Доре, раскрываю наугад — с любого места эту книгу читать интересно, даже во второй, в третий раз.
Я не задаю себе вопрос, почему мне так полюбились Рыцарь печального образа и его весёлый и лукавый слуга, они мне просто нравятся. Особенно Дон Кихот. И мне почему-то представляется, что они близко знакомы с Тилем Уленшпигелем и его другом Ламме Гудзаком. Это одна компания. Только написали о них разные авторы — Сервантес и де Костер.
Вскоре, хотя и притих на кровати, положив перед собой большую пухлую книгу, мама справляется, почему не готовлю домашние задания.
Вынужден во всём признаться. Мама очень расстроена. Отец выслушивает её сетования и мои объяснения лёжа, недовольный, что его посмели потревожить, разбудить. Он явно не расположен усугубить испорченное мною настроение и поэтому спокойно объявляет:
— Завтра всыплю по первое число.
И поворачивается на другой бок.
У меня отлегло от сердца. Слава Богу (как говорит Герасимовна) — до завтра уйма времени. А там видно будет. Под курлыкающий храп папаши размышляю:
«А почему он «всыплет» мне по «первое число». Что это за число такое? Вывод напрашивался такой: он отстегает меня и за будущие ошибки, непредвиденные мною случайности. В общем, задаток. Непременно следует поступить так, чтобы ему не удалось расправиться со мной, выполнить свой зловещий посул. В его понимании побои сына, вероятно, чепуха, развлечение. Пусть он, бравый писарь, не нюхавший пороха, усвоит раз и навсегда — я ему не мальчик для битья! Сколько раз я уже повторял эти слова про себя, слабовольный. Но хватит! Всё! Решено. Ухожу из дому. Я давно понял, что семье в тягость. Куда только пойти? Некуда. Можно, конечно, к Альке Каримову. На их вшивую кровать. Но воровать придётся. Этого я не могу допустить. И попрошайничать, как Генка Сапожков, претит. Не могу. Единственный выход: взяться за работу. А мне всего пятнадцатый год. Не возьмут. А может быть, удастся? В общем, завтра видно будет…»
Принимаюсь опять за «Дон Кихота». Блаженство!
Правда, под отцовскую горячую руку всё же попался в тот же вечер. Он, вздремнув всласть, поднялся-таки с дивана и, проходя мимо, неожиданно ткнул меня в лоб костяшкой согнутого указательного пальца, пацаны называют такой удар «казанком», и вяло буркнул:
— Обалдуй…
Я стерпел, притаился на своей кровати. Теперь мы с братишкой спали раздельно — из-за тесноты. Смолчал, с тоскливой завистью наблюдая, как Стасик за столом, один, корпел над письменным упражнением по арифметике — он перешёл уже в третий класс (его приняли в школу на восьмом году, по новому порядку, не то, что до войны: обучение с девяти лет), и школьные дела у него шли успешно, ровно, без всяких приключений.
— Ваша, Ваша, Ваша! — шамкала в общем коридоре Герасимовна, клича несчастного кота.
Заглянула и к нам. Я трусливо умолчал о судьбе Черныша — убоялся немедленной отцовской «экзекуции» (это он ввёл в оборот ненавистное «дореволюционное» слово). Теперь я, к стыду своему, часто лгал, чтобы избежать унизительно-невыносимых отцовских побоев.
К открытию детской библиотеки я уже топтался на крылечке — единственный ранний посетитель. И в читальный зал вошёл первым.
День промелькнул, как единый миг, — в обществе головы профессора Доуэля.
Но всему, и наслаждениям, раньше, чем печалям, приходит конец. С сожалением это отметил, особенно первое, когда библиотекарь, устав меня ждать, погасила потолочные лампы.
Безысходная тоска охватила меня, словно с головой накрыла ватным удушливым одеялом. Час расправы, а точнее — расплаты за всё, что я вольно и невольно в последние дни натворил, неотвратимо надвигался. Я по-прежнему во власти жестокости.
Её приближение ощущал, как говорится, своей шкурой. Не «экзекуция» страшила, а отвращение к унижению меня как человека.
Чем явственнее сокращалось расстояние до дома, тем больше нарастало во мне нежелание войти в него. Никогда порог родного жилища не казался мне таким — почти непреодолимо высоким.
Отец, наверное, явился уже из школы, — уныло думал я. — И, как всегда, молчаливый, спокойный и внутренне злой, ждёт моего появления, положив змеёй свёрнутый ремень на подзеркальник. Мама, несомненно, стирает или готовит еду. Да и тщетно искать у неё защиту, ведь я — виновен, сам понимаю. А у неё такое жизненное привило: что заслужил — то получи сполна. И за хорошее, и за плохое. Виновного, считала она, необходимо наказать — так положено… И справедливо.
…Однажды я не выдержал и, чтобы избежать расправы, солгал отцу. Это меня на некоторое время спасло. Но одна ложь потянула за собой другую. Я настолько запутался в выдумках, что был уличён и нещадно отхлёстан, — теперь уже и за вранье, хотя мне и без того было тошно от каждого неправдивого своего слова. Вспоминая об обмане, я весь покрывался потом. Наверное, температура тела повышалась, потому что нестерпимо горели мочки ушей. Словно с твердой земли перешагнул на зыбкую кочку — ложь держала меня в постоянной неуверенности и нудном ожидании разоблачения. В общем, меня несло и кидало неведомо куда — хотя твёрдая земля находилась где-то рядом. Где? Её-то мне и предстоит отыскать, обретя.
Вспомнилась почему-то неудачная моя поездка на фронт с пропеллером к сбитому «ястребку» Героя Советского Союза Луценко, и, как заколдованный, я сел в трамвай, ехавший на железнодорожный вокзал. Там и пробыл остатки дня и весь следующий. Есть не хотелось. Со мной случалось подобное и раньше — сильное волнение отбивало аппетит напрочь на сутки, двое — только пил. Да и то лишь иногда утолял жажду, когда она давала себя чувствовать — когда во рту пересыхало.
На вокзале, днём и ночью набитом отъезжающими пассажирами и «транзитниками», а также всякого рода шпаной, разыскал расписание поездов, объявления об опозданиях и отменах рейсов, нашёл подходящий для меня — «Владивосток — Москва». Согласно расписанию состав должен был появиться в Челябе в шесть двадцать утра по московскому времени. Это меня вполне устраивало. Для объяснений с железнодорожной милицией, если они заинтересуются мною, придумал такую легенду: родители прибудут именно в этом поезде, а я их непременно должен встретить. Почему? Потому что отец — инвалид, участник войны, а мама больна. «Перекантовавшись»[264] все эти тяжкие часы — милиция почему-то не обратила на меня свой проницательный взор, — к открытию библиотеки я уже стоял у её дверей.
Быстро погрузившись в чудесный мир книги, очнулся, как всегда, от напоминания молоденькой библиотекарши, что рабочий день закончен.
Как не хотелось отрываться от раскрытых страниц! Однако пришлось.
Выйдя на зябкую улицу, меня всего передёрнуло. Восторг, не покидавший весь день над книгой, сменился унылостью неизвестности, и я решил попрощаться со Стасиком. Столько раз за многие годы незаслуженно обижал его, и сейчас это всё вспомнилось. Нельзя было исчезнуть, не повинившись, не сказав доброго слова, — ведь он мой единственный брат, и, несмотря ни на что, я люблю его — он хороший, справедливый, добрый, старательный парнишка. Ко всему прочему, Стасику судьба заменить меня дома. Случись что со мной, ему придётся помогать родителям в старости. Когда они станут совсем немощными. Тогда, наверное, все забудут обо мне и лишь для мамы я останусь всегдашним, вечным горем: родила и воспитывала сына, а он исчез. И мне стало невыносимо жаль её, настолько невыносимо, что заплакал. Плёлся, усталый, домой, и слёзы сами катились по щёкам на подбородок. Я их не утирал, а продолжал шаг за шагом приближаться к дому.
Только на углу улиц Труда и Свободы вынул носовой платок, утёр им лицо и сказал себе:
— Хватит нюнить, как малыш! Ты взрослый человек, тебя впереди ждёт самостоятельная жизнь, так будь же им, взрослым и самостоятельным.
Успокоившись, уже легко преодолел расстояние до здания народного суда, где когда-то жил Вовка Кудряшов, завернул в их двор, как-то тяжеловато перевалил через дощатый забор в том месте, где меня не могла бы узреть вездесущая тётя Таня, — в углу, возле нашего тамбура.
Когда вплотную подошёл к двери нашей квартиры, сердце у меня громко заколотилось, а в горле пересохло. Осилив волнение толкнул дверь. В комнате находился лишь Стасик.
— Ма в магазин ушла, отовариваться, во! — сообщил он, подняв голову от раскрытой тетради.
— А где отец?
— Нету. С работы не приходил ещё.
И тут остатки страха окончательно покинули меня. А почему, собственно, он бьёт меня? Потому что сильнее? Или чтобы угодить злой Крысовне? Если он — мой отец, значит, ему можно нещадно лупцевать меня? Нет, я не хочу, чтобы надо мной измывался даже он. Ни от кого не хочу терпеть побои, ни от кого — в который раз повтори я себе.
— Стасик, — произнёс я решительно. — Скажи маме и отцу, что я ухожу из дому. И больше не вернусь. И нечего меня с милицией искать, понял? Пусть отец себя порет, если ему это занятие так нравится. Я не коврик, вывешенный для просушки. Ты меня, Стасик, прости, пожалуйста за все обиды. Виноват перед тобой. Да и вообще дел понаделал — сам не разберусь.
Братишка изумлённо взглянул на меня. Не заходя в комнату, я повернулся и поспешно направился к выходу. Во мне пульсировала лишь одна мысль: только бы не столкнуться нос к носу с отцом! Или ещё хуже — с мамой.
Во дворе почувствовал себя в большей безопасности и — свободным. Как когда-то в детстве. Какое блаженство! Родителей моё исчезновение, выходит, не всполошило. Ну и хорошо.
Хотя уже смеркалось, бабка Герасимовна, возвращаясь с пустой кошёлкой и клюкой, признала меня — я проходил мимо ворот. Она неожиданно замахнулась палкой — еле успел отскочить.
— Вы что, бабушка, ополоумели? — дерзко выкрикнул я. — Чего кидаетесь с костылём?
— Ах ты, варнак! — разразилась старуха. — Ты пошто мово кота в школу уташшил? А?
— Не видел я никакого кота. Вообще вашего кота не знаю. Мы с ним не знакомы. А в школу он сам ушёл — учиться. Надоело ему неграмотным быть. В СССР все должны быть образованными, а коты — тем более. Чтобы мышей по науке ловить.
— Не ври, лешов шын. Ноне твоя ушительниша приходила, баила, што ты Вашку швяжанного неволил. Жлодей! Куды ты его подевал, лешов шын?
— Бабушка, я давно хотел Вам сказать, что я не сын лешего из детской сказки. Я сын Михаила Алексеевича Рязанова. Вот. А сейчас — до свидания!
Я вспомнил нарочито хриплые рулады Черныша, и это меня развеселило ещё больше.
— Бабушка, Вы сами сколько раз мне твердили, как Вам плохо жилось, неграмотной. Раньше, при барах.
— Ну и што, варнак[265] ты этакай! Ты мне жубы не жагаваривай…
— Вот я и решил: пусть хоть кот Ваш грамотным будет. Грамотному-то легче жить, сами знаете. Газеты будет читать вместо того, чтобы есть просить. А насчёт зубов… Так, у Вас их давно нет — все выпали.
— Ты ишшо и шуткуешь?! Вот я тебе ужо по шпине-то батагом…
— Не беспокойтесь, бабушка, вернётся к Вам Ваш кот, он дорогу домой хорошо знает.
Но разве она могла за мной угнаться? Я без промедлений шмыгнул за ворота.
Однако хватило веселья ненадолго. Настроение сразу резко упало. Я сник, поддавшись щемящему чувству вырванности.
И бабка на меня ополчилась. Напрасно я над ней изгалялся,[266] — грустно подумал я и стал насвистывать, проговаривая про себя слова, одну из любимых моих тогда песен — «Жди меня». Захотелось ещё раз, возможно в последний, взглянуть на родной дом. Вдруг Милины окна светятся? Вернулся.
Подойдя к воротам, прекратил свист. Взявшись за скобу калитки, услышал совсем тихонькое мяуканье. Высоко на столбе сидел, съёжившись, Черныш и неотрывно глазел на меня. Зелёными фарами. Почему его не заметила Герасимовна? Или он только что добежал до калитки? Но как? Как он дорогу нашёл? Впрочем, удивляться нечему…
— Черныш, Черныш, — позвал я его, обрадовавшись. — Хороший ты мой…
Он коротко мяукнул и осторожно, мягко ступая по арке и полотнищу ворот, пошёл ко мне — соскучился, бродяга, дорогой мой мурлыка. Нашёлся! Разыскал родной дом — на удивление! Ведь Герасимовне о его возвращении сказал, чтобы успокоить бедную старушку, а оно в натуре[267] так получилось.
Видимо, ещё более голодный, чем я, кот спрыгнул ко мне под ноги, громко замурлыкал и стал тереться о них — будто ничего особенного до того и не случилось. Я его поднял на руки и погладил.
Осознавая, что могу нарваться на родителей, решил вернуться. Обошёл дом слева, на всякий случай глянув на зашторенное Милочкино окно. Створки окошка Герасимовны были закрыты — лето кончилось. Постучал в стекло. Бабка оказалась в квартире и быстро приблизилась к стеклу. Она усмотрела, хотя и подслеповатая, в руках моих Черныша.
— Откройте, — попросил я.
Бабка засуетилась, дёргая непослушными пальцами шпингалет.
Со скрипом окно наконец-то отворилось.
— Бабушка, простите меня, — начал я. — Возьмите своего кота. В школу я его на прогулку носил. Больше не буду. Честное слово.
— Давай Вашку, — уже более миролюбиво прошепелявила Герасимовна, и приняла его из рук в руки. — И не фулюгань боле, Егорка, а то батагом-те по шпине полушишь.
— Прости меня, бабушка, — ещё громче повторил я.
— Бох проштит, — ответила она уже почти умилённо. — Бох милоштив. Он тебя шахранит.
Не знал я, что бабка так любит своего найдёныша, настолько к нему привязана.
Помня о нежелательной встрече, я промял в крапиве возле забора, возможно, последнюю тропку, обогнул его, отодвинул доску и протиснулся во двор, где жили Вовка, по кличке Сопля и его брат по кличке Гундосик, одногодок Стасика, живой и сообразительный пацан, — он мне нравился своей деловитостью.
К ним-то я машинально и направил свои, как говорится, стопы.
В полуподвальной комнате Сапожковых в полном разгаре гудела пьянка. Какие-то сильно нетрезвые, как мне показалось, грязные мужики гужевались[268] за откуда-то появившимся столом, заставленным водочными бутылками. На нём же валялись хлебные корки и разрезанные луковицы. Первая мысль: откуда стол взялся? С собой принесли? У сестры тёти Паши напрокат взяли?
Пиршество возглавляла счастливая и развесёлая тётя Паша, мать Вовки и Генки.
Поинтересовался, где сыновья.
— А хрен их знает. Я их не сторожу. Генка совсем дома не живёт.
Один из собутыльников тёти Паши налил три четверти стакана водки и отодвинул на край стола — мне.
— Канай сюда, хлопец. Хуякни с нами, штобы дома не журились.
— Я не пью, — ответил я.
— И баб не ебу, — подначил меня угощавший.
— Мне Генка нужен. По делу, — сказал я тёте Паше.
— К Мираедову Тольке ушёл. В карты играть.
— Спасибо, тётя Паша, — поблагодарил развесёлую вдову Сапожкову и почувствовал, что надо немедленно смываться из этой опасной комнаты с единственным украшением, висевшим над широкой, с залоснённым покрывалом, кроватью. Это был большой фотографический портрет самой тёти Паши — в молодости. Фотографию обрамляла деревянная простенькая, почему-то выкрашенная в чёрный цвет, наверное кузбасслаком, рамка. Когда-то, ещё до войны, на ярко отретушированном художником фотопортрете тётя Паша выглядела сказочной красавицей.
Бросив взгляд на эту достопримечательность былого, я быстро затворил за собой дверь и моментельно выбрался на улицу.
1968 год
Книга пятая
«БАНКЕТ»
Гундосик[269]
С огромным нежеланием, будто кто-то невидимый, но ощущаемый мною, препятствовал каждому шагу, всё же взобрался по широкой внутренней лестнице на второй этаж обширного дома номер тридцать, где обитало семейство Мироедовых.
Неприятные воспоминания всплывали в воображении: сколько раз нас, соседских пацанов, собиравшихся поиграть на широкой террасе, гонял чем ни попадя под руку отец Тольки, полусумасшедший коренастый старик, служивший в городской прокуратуре, — он числился большевиком с пятого года и входил когда-то в совершенно непонятную мне «тройку». Суровый нрав деда Семёна Мироедова известен всей Свободе. Это он измордовал старшего сына за какой-то пустяковый проступок (без его согласия привёл в дом гостей) при соседках девчонках — юноша убежал из дому, связался со шпаной и угодил в тюрьму. Отец не только ничего не предпринял, чтобы вызволить провинившегося из темницы, но, как уверял нас Толька, мой ровесник, дал указания судье «врезать» пацану «на всю катушку». С тех пор Борис Рваная Морда, такую кличку он получил среди отпетых преступников за изрезанную опасной бритвой физиономию, редко появлялся на воле. И ненадолго. Кличку же ему дали после того, как один из «кирюх» Бори по кличке Немой (он и в самом деле страдал этим дефектом) — ему побластилось, что дружок мухлюет при игре в карты, — располосовал его лицо, повторяю, опасной бритвой от мочек ушей до уголков рта — справа и слева. Позднее, на Красноярской пересылке, на большой сходке воров в законе поступок Немого блатные осудили. Его «землянули». Труп на себя взял «гандон», а не убийца. Так блатные выясняли отношения: кто прав. Ссора произошла во время картёжной игры на хазе (в притоне).
Толька, который тоже обладал кличкой — Глиста, очень гордился своим знаменитым братом и, будучи худосочным, когда ему грозила опасность, обязательно стращал противника Борей Рваной Мордой, дескать, брат вернётся с «кичмана» (из тюрьмы) и зарежет обидчика, как Немого на Красноярской пересылке.
Не без опаски поднимался я по деревянным разболтанным ступеням: вдруг нарвусь на деда Семёна? Угнетала мысль, что возвращается он из прокуратуры тоже поздно. Чего он там всегда делал до ночи?
На террасе я никого не обнаружил и постучал в дверь. Открыл её Толька. Старуха-мать, смиренная и безобидная, прихворнула и лежала в одной из нескольких комнат на сундуке в углу комнаты, над ней висела иконка с лампадой.
— Ково я вижу! — дурачась, воскликнул Толька. В тоне его восклицания отчётливо чувствовались насмешка, недоброжелание и превосходство. Вероятно, не забыл драку, когда они втроём напали на меня, пытаясь отнять кольчугу. Ладно, что я изловчился и уцепился за дрын, которым они орудовали. Это он, Толька, подговорил своих корешей избить меня. За что? Не мог простить проигрыш в жёстку и потери звания лучшего мастака в этой игре-забаве? Сейчас от Мироеда можно было ожидать любой пакости — вот в них он действительно проявлял завидную изобретательность. И дерзость. Ну, такой он, Толька, с детства, сколько я его помню.
— Мне нужен Генка, — прямо заявил я, даже не поздоровавшись с ним и ещё несколькими пацанами, игравшими в самодельные карты — стиры, какие делают в тюрьмах.
— А где мы ево выебем тебе? Нету Гундосика. Был да весь вышел.
Но я разглядел среди скучившихся ребят Генку — Толька дурачил меня. С ехидной улыбочкой, всего на год старше меня, Мироед давно пытался переманить к себе ребят, с которыми мы, тимуровцы, дружили.
Не отходя от порога, я позвал:
— Генк, подойди сюда, ты мне нужен.
— Чево разбазлался — мать болеет. По ушам хотишь получить, фраерскую пыль стряхнуть? — нашёл придирку, или, как мы называли, «солдатскую причину», Мироед, чтобы затеять спор, а после драку устроить, — ведь пацаны из компашки, несомненно, поддержали бы его, а не меня.
Но Гундосик встал и направился ко мне.
— Чо, Сапог, шестеришь Ризану?
— Иди, Ризан, к нам в картишки шпилить. Толька меня в буру научил играть. Чесная воровская игра, — пригласил меня Генка. — На шелабаны. Один щелчок в лоб за проигрыш.
— Гундосик, канай ко мне, ты мене нужен, — повторил мою просьбу Толька. — Нацирлух!
Я оставил «крючок»[270] без ответа — приглашение Мироеда. Хотя он вроде бы обращался к Генке, но вызывал на возражение меня.
Дед Семён очень мало времени отдавал родным пенатам, Борис этапничал по тюрьмам и концлагерям, поэтому Толька главенствовал в доме. Жила семья за счёт пенсий — Толькиной и матери — да квартирантов, которым сдавали угловую, с отдельным входом с веранды, комнату, в которой раньше проживал Борис. В настоящее время отбывавшего очередной срок наказания за совершённое преступление, как всегда — карманную кражу. Хотя и прошёл прекрасную выучку у лучших щипачей — всё равно попадался с поличным. Такова судьба любого вора.
— Чо ты, как тихушник, тыришься? — встрял в наш с Генкой разговор Толька. — Базарь при всех, здеся все свои. Или ты нам не доверяешь?
— Мне нужен только Генка, больше это никого не касается. — Ответил я, стараясь говорить уверенно, твёрдо, нутром чувствуя, что Мироед клонит к скандалу.
— Не доверяешь? За парчушек[271] нас держишь?
Толька явно пытался затеять бузу, скандал, ссору, а ещё желательнее — драку.
— Знаешь, Мироед, мне сейчас не до тебя, и ты меня не заводи.
— Тогда пошёл на хер.
— Так я ни к тебе и пришёл. Я Генку искал.
Отворив дверь и переступив через порог, я услышал, как он убеждает Гундосика остаться.
Наверное, минут пять Мироед удерживал Генку, и я нетерпеливо ожидал его, сбежав по лестнице с веранды и отступив несколько шагов от крыльца во двор, чтобы не оказаться застигнутым врасплох, если Толька с корешами решатся напасть на меня, — такое уже бывало раньше. Любил он с терраски и помочиться на недруга. И шмыг с хихиканьем домой!
Но вот по ступеням шустро спустился Гундосик, на ходу запахивая видавшую виды телогрейку. Из утиля, наверное, выпросил у скупщика. Осень!
— Што, Гера? — спросил он с участием. И я открылся.
— С просьбой: переночевать негде, Генка.
— Божись! И тебя тожа из хаты гайнули?[272]
Не хотелось рассусоливать о случившемся, и я сказал:
— Сначала хотел к Феде Грязину попроситься, а потом вспомнил: его же ещё в позапрошлом году охранник, сопроводитель продуктовой машины, застрелил. С Косолаповым. До сих пор не верится, что его в живых нет. Заглянул к вам. Там пьянка-буска.[273] Какие-то мужики бухие.[274] Тётя Паня, спасибо, сказала, где ты. И что ты дома не живёшь — ушёл. Я подумал: где-то же ты ночуешь? Возможно, и мне там найдётся место. Если не у Мироеда, конечно. С ним мы давно не ладим. Гадкий он человечишко.
— Не сумлевайся, Гера. Где одному есть место, тама и двам найдётся, в масть сказал. Ежли потесниться. А в тесноте — не в обиде. Я сам на птичьих правах ошиваюсь. Да ничево, не бзди. Вовку видал?
— Его в комнате не было. Не знаю. А мужики те — уголовные морды. Из тюряги, что ли?
— Значит, ты ево не усёк. Был он тама.
— Кто?
— Да Вовка жа. Ён, када пьянка-гулянка, под кровать — нырь! И тама кайф ловит: тепло и мухи не кусают. Воши только кусаются. И клопы. Во какия! Как тараканы.
В этот момент мы как раз проходили мимо окон квартиры Сапожковых, занавешенных с внутренней стороны какими-то серыми дырковатыми тряпками, похожими на старые заношенные портянки. Возможно, когда-то они служили детскими одеялами Вовке или Генке.
— Ему щас тама Ташкент! Под кроватью. Лежит себе, как барин и хуй дрочит. Его зеки научили, когда в гадючнике сидел. Мамка справку, что он дурачок, дядям-гадям принесла, ево из седьмого отделения выпустили. Всю дорогу теперача дрочиловкой заниматца. Зырит в окошко: баба идёт или девчонка — сразу трухает. По мнению. Ему мамка навяливала: чо суходрочкой занимасся, давай со мной. Я тебе, грит, подмахну, как родному. Он жа дебильный, не кумекат, што с мамкой низзя, — согласился. А ей, пьяно́й… Я им тада шухер[275] устроил. На мамку набазлал. А Вовка, дурачок, ни хера не соображат.
— Да разве такое может быть? — усомнился и удивился я.
— Могёт, ишшо как могёт. Опосля она ему всё едино дала. Я её ругал — а она только смеётца. Грит: я ему подмогнуть хотела. Ничо себе — помочь!
— Ушам своим не верю…
— У ево тама под кроватью старый бушлат. Как перина! Один зек из тюряги выскочил и нам оставил. А Вовка ево втихую себе прибрал. Да ему, зеку тому, он и на хрен не нужо́н был. Ён на гоп-стоп[276] фраера какова-та блачнул. В одних носках оставил. Кирнова.[277] Под киром то ись. Барахло к нам приволок, перелицевался,[278] а зековские все тряпки велел в печке пожечь. А Вовка все те тряпки под кровать затаранил.[279] Теперича живёт как фон-барон.
Мы миновали наши ворота, и сердце ёкнуло у меня, рядом — здание нарсуда. Когда-то на чердаке этого дома находился штаб нашего тимуровского отряда, а на втором этаже жил Вовка Кудряшов, наш комиссар. Всё это вспомнилось с такой тоской — хоть плачь. Как хорошо нам тогда было! Было да сплыло.
Я шагал с Генкой неизвестно куда, он что-то рассказывал, а я думал о случае с тётей Пашей и Вовкой — чудовищно!
— Я ещё никогда такого не слышал, Ген. Ну, что ты рассказал… о матери…
— Какие твои годы, Юра! Ишшо не такое услышишь. А ты ни разу не шворился?[280]
— Нет. А что?
Меня несколько задело, что Генка разговаривает со мной, как с младшим, а ведь я его на четыре года старше и помню его шустрым малышом. Выходит, ему только одиннадцатый. А он меня поучает. Да ещё с такими нескромными вопросами лезет.
— И живой кунки не видал?
— Почему не видел? Видел. И много. В женской бане на Красноармейской. Нас со Стасиком мать туда мыться водила. Пока какая-то старуха хай не подняла на всё отделение. На маму как закричит:
— Ты что, своих сыновей будешь в женское отделение водить, пока они на баб не полезут?
Сумасшедшая какая-то. С чего бы я на неё полез? Дура!
Мама, конечно, доказывала, что мы ещё дети маленькие, но старуха разъярилась и даже банщицу позвала, чтобы нас из мойки вытащили. А кунки — голые или лохматые — ничего особенного. Что есть они, что нет, мне безразлично.
— А сколь тебе лет было?
— Не помню. Наверное, лет семь. А Стасику годика три. После этого случая я стал в баню с отцом ходить.
— А как шворятся люди — видал?
— Слыхал. Это ругательство какое-то. Нехорошее.
— Ну, Гера, ты и фраер! Не обижайся. Такова не знать! Значит, ты и сам ни одной девчонке не влындил ни разу?
— А что это? Ты говори по-русски. А не на тарабарском языке.
— В натуре ни разу не пробовал? А хошь щас пошкандыляем в большой дом на Цвиллинга, большой такой. Там как бы подвал и у стенки две трубы горячие. На них лежат бродяги. Там и девки бездомные есть. Ежли попросишь хорошо, то дадут. Бесплатно. Им жить негде. Как нам.
— Так мы што, к ним идём?! — ужаснулся я.
— Не. Это я так, по-дружески. Туда всю дорогу лукался Питерский. И я вместе с им. Из интересу. Нада жа и тебе попробовать. Я и то попробовал. Мамкиной одной подружке — алкашке пондравился. Она мене и грит:
— Давай, Геночка, побалуемся. Люблю, грит, молоденьких мальчиков.
А мне антиресно, чо это такое.
Они с маманей мне стаканчик «сучка» налили, я выпил и раздухарился.[281] Лёгли. А хуишко у меня махонький, не то что у Вовки. Я возился-возился… не лезет. Она и зачмэкала.[282] Штобы он встал. Не маячит ни хрена. Дак она ево пальца́ми зажала, возила-возила где-то по шахне,[283] по мокрым волосам, потом как застонает! Я испугался: чо с ей? Может, припадошная? А она хуишко мой не отпущает, пока не настоналась досыта. Грит, хорошо ей было. Захороши́ло. А мене — хоть бы што. Пырка[284] не маячит.
— Так тебе же только одиннадцатый год! Эта подружка мамкина — ненормальная.
— Хто её знат. Из колонии выскочила. За аборт сидела. Трояк. Но накормила она меня от пуза: буханку черняшки смолотил.
— Всё это нехорошо, Генк. Постыдно.
— Не скажи. Я бы ишшо не отказался. От хлебушка-то. Дармовова.
Я решил переключить неприятный разговор на другое.
— А ты-то почему из дому ушёл? Какие-то мужики у вас водку хлещут, а ты скитаешься. Мне предлагали с ними «заусить».[285] Наверное, среди них и тот гопстопник пировал, который человека до носков ограбил. И с ними изрядно хмельная тётя Паня. Я её не осуждаю. Мать вообще нельзя судить своим детям.
— А вырасту — и зарежу её. За всё. Во таким ножиком.
— Ты что, Ген, с ума сошёл? Такое о матери говорить…
— А она, стерва, могёт всё это творить? Я тебе ищщо не всё… Тот штопорило[286] с мамкой переспал, а поутрянке отвалил. А другия… Пошмалял бы всех. С ёбарем мамкиным подрался. Он о папане ошкорбление хуйнул. А я ему фукнул:
— Был бы отец живой, он тебе харю начистил бы.
А ён знал, што папаня дуба дал. И кричит:
— Ён у тебя за героя хлял, а сам в обозе сидел, в навозе. Крохоборничал, грит, как побирушка. Герой — вся грудь в крови, искусана клопами. Рыбные головки собирал у пивнушки.
— Я и кинулся на ево драться. Да мамка на ево навалилась.
— Вот видишь. Тётя Паша тебя спасла от озверевшего мужика. Он придушил бы тебя.
— Она энтова гада замарьяжила на кир. А ён — фулиган чистокровный. Встреться он мене в тёмном переулке, я бы ему точняк финарь между рёбер вставил. Штобы папаню не трогал никогда своим сучьим языком. А папаня дубаря дал из-за мамки. Потому как она блядовала, а ён такова пережить не мог. Обидно! Последние дни всё динатурат глушил. Знашь, водка така синяя?
Я не знал. И подумал: ужас какой-то, а не жизнь! А я рядом живу… жил и ничего толком не знал. Видел, разумеется, что тётя Паня всё чаще встречается мне пьяной, но чтобы такое…
— Вовка, дурачок, из-под кровати вылез, видит, што тот амбал меня душит, — и засмеялся. Я дыхнуть не могу. Ён меня за горлянку над полом поднял — ноги болтаются, а Вовка гогочет, пидар нещасный…
«И на брата озлобился, — подумал я и отчётливо вспомнил: таким славным мальчонкой был — дружелюбный, беззлобный…»
…Когда отец с войны вернулся, он от него на шаг не отходил, до чего соскучился. Каждое слово, разинув рот, с восхищением ловил, фронтовые рассказы отцовские слушал. Он был счастлив, как никогда, в жизни.
Потом эта проклятая пивнушка на углу Свободы и Карла Маркса. Сначала — всё казалось нормальным: отдыхает солдат от ужасов войны. На трофейной гармошке стал таких же демобилизованных солдат веселить. Они его щедро угощали.
Я тоже частенько торчал возле Вовкиного отца — слушал разные байки, частушки, песни. Но однажды стал свидетелем неприятного разговора. Мы, пацаны, сидели в канаве, а Генкин отец — на бровке.
Захмелевший бывший солдат прицепился к дяде Ване, выйдя из пивной:
— А тебе чево, земеля, и одного «медяка» не повесили? Служил, што ли, плохо? Или кантовался при штабе?
— Служил-то я, как все. И награды у меня есть. И через штрафбат прошёл, земляк. Но не выслуживался, браток. Мне и на хрен эти «медяки» не нужны. Живой остался — вот награда судьбы. А насчёт «медяков», небось, слыхал: «Ваньке за атаку — хуй в сраку, а Машке за пизду — «Красную звезду». Пущай машки мандой заслуженные на пиздах своих ордена носят. А я и без «медяков» проживу.
— Чо ж ты побираешься, если такой герой и медалей у тебя вагон и маленькая тележка?
Дядя Ваня побагровел, но спокойно ответил:
— У тебя я ничего не прошу.
— Тогда пошёл на хрен отсюда, — и пнул гармошку, которую на время разговора дядя Ваня положил рядом с собой. Этого он не выдержал, поднялся и, матерясь, стал хлестать обидчика. Но и противник оказался не из слабаков: ударил ногой дядю Ваню между ног, повалил в канаву и продолжал дубасить, изрыгая такую же грязную матерную брань.
Я оторопел от этого страшного зрелища, Боб сидел раскрыв рот, видимо, не понимая ничего, зато Генка вцепился в оседлавшего его отца задиру и царапал ему ногтями физиономию, да так сильно, что она вся закровенила. Генка добрался до глаз верзилы, и тот выпустил из рук своих дядю Ваню, а Генку, схватив за шкирку, выбросил из канавы на тротуар.
— Убью блядёныша! — заорал он, утирая ладонями кровь. И он поднялся, чтобы доконать пацана, да не успел. Генка — как уж ему это удалось? — прокатился по тротуару, схватил кусок кирпича, которым тот когда-то был вымощен, и метнул его в голову озверевшего мужика. К этому моменту поднялся на ноги и отец Генки, вытащил из-за голенища финак[287] и вонзил его в бок взревевшего, такого же, как он, демобилизованного солдата. Совершил он это действо умело, быстро. Раненый зажал бок обеими лапищами и, качаясь из стороны в сторону, молча пошёл на улицу Карла Маркса, на углу остановился, уцепившись за побеленную стену пивнушки, шагнул дальше, оставив на кирпиче кровавый отпечаток ладони, и упал наземь.
Обомлев, я неподвижно сидел в канаве, наблюдая эту дичайшую сцену, совершенно, по-моему, бессмысленную.
На шум из пивной высыпал народ. Все стали суетиться, разузнавать, что произошло, кто-то предложил позвать милицию. Но большинство не пожелало связываться с ней. Так и решили: подрались, разошлись — всё в порядке.
Дядя Ваня подошёл к скорченному обидчику и спросил громко:
— Повтори: убьёшь ребёнка или берёшь свои слова обратно? Не откажешься — сей секунд дорежу тебя, как паршивую собаку. Не первый срок за таких козлов, как ты, волочь!
Но тот лишь охал, матерился и стонал.
— Идём, ребята, отсюда. От греха подальше. Облагоразумился наконец-то дядя Ваня.
И мы все вчетвером направились к Сапожковым домой, на Свободы, двадцать шесть, совсем рядом.
Дядя Ваня лёг на широченную кровать, застланную теми же грязными тряпками, и долго не мог прийти в себя. Я впервые увидел, что справа через всю грудь его проходит широченный шрам, — чем его так могло на фронте изуродовать?
Вспомнив сейчас ту кошмарную сцену драки с поножовщиной, сказал Генке:
— Ты на Вовку не серчай, если он такой… ну… непонимающий. Его жалеть надо. Он — больной.
— Вовка — што? Ему сё едино, один хрен. Дурак и есть дурак. Папаня пьяный ево сделал. Был бы тверёзый, и Вовка другой был бы. Он счас под кроватью спит, как кот. На нево труха сыпится из матраса, кода мамку шворят. А я не могу, када нада мной кравать всю ночь скрипит. В очередь мамку ебут. Так бы вылез и всем бо́шки поотрубал. Топором.
— А я не знал, — промямлил я, поражённый услышанным откровением. — Нехорошо.
— Да чо хорошева. Одно блядство. Мамка вовсе как самошедчая стала: пьёт, гуляет, и всё ей по херу. Я ей сказал: «Ты чо делашь?» А она: «Вас кормить чем-то нада, а то с голоду подохните». Об нас заботитца! В гробу я видел таку заботу.
Наступило тягостное молчание.
— Куда мы хоть идём-то, Гена? — наконец спросил я.
— Куда-куда: на кудыкину гору у журавлев яйца щупать, — схамил раздосадованный Гундосик.
В этот момент я дрогнул. Мелькнула мысль: не вернуться ли мне назад, домой? Там чисто, уютно. Пошамать что-нибудь мама оставила. Мне.
— В баню шкандыляем,[288] — уже более миролюбиво сказал Генка. — Куда жа ишшо.
До двухэтажной бани с третьей, технической, надстройкой на улице Красноармейской добрались молча. Я переборол в себе трусливое желание вернуться в родной дом. Надо оставаться мужественным: решил — сделал. А то чуть слюни не распустил. Вон Гундосик: моложе меня, а такое переносит, не дай бог никому. А я…
…Народу на первом этаже скопилось — не протолкнёшься. Шебутливые, горластые женщины с эмалированными тазами, цинковыми ванночками и малолетними ребятишками, смиренные старушки и старики с вениками и авоськами, шныряющая туда-сюда пацанва… Все места на скамейках, расставленных вдоль стен, плотно заняли жаждущие помыться. Многие ждут стоя. Некоторые сидят на бетонном, с белой мраморной крошкой, полу и в углах, на карточках.
— Бежим на второй, — предлагает Генка, и мы с трудом протискиваемся на следующий этаж.
Увидев вывеску «Парикмахерская», меня передёрнуло от мысли нечаянно встретиться с тётей Таней.
И здесь такая же давка. Громкие споры, кто за кем занимал очередь. Нам удаётся просочиться сквозь душную толпу до лестницы, ведущей на третий, технический, этаж, в котельную. Оттуда, сверху, раздаются словно бы винтовочные выстрелы, резко ударяющие в ушные перепонки, — там работают котлы нагрева воды. Загадочные с детства звуки. Сколько лет я пытался разгадать, что там такое взрывается? Сейчас меня беспокоит иное.
Я весь напряжён от опасности встретиться с тётей Таней, а Гундосик чувствует себя в этом человеческом месиве, как в родной стихии, даже повеселел, оживился.
В зале не то что на улице — хоть и душно, но тепло.
— Бабуля, а, бабуля, — будит он задремавшую старуху, которую мы немного оттеснили к стенке.
— Покарауль место, штобы нихто не занял. А мы прошвырнёмся, «позырим» — скоро ли наша очередь подойдёт. Уже два часа стоим.
А мне шепнул:
— Поканали в бухвет, у меня гро́ши есть. Сгоношил[289] малость.
Поскольку свободного времени впереди простиралось бесконечно много, а цели пребывания здесь не видно никакой, то я охотно поднялся, и мы, извиняясь и расплющиваясь в толпе, протиснулись к буфету, находившемуся в зале первого этажа. Даже несколькими ступеньками ниже, как бы в полуподвале, залитом густым, влажным воздухом, насыщенным терпкими запахами нечистых человеческих тел.
Над колышущейся и перекатывающейся толпой, за массивной высокой деревянной стойкой, возвышалась дородная буфетчица Зинка, известная всей округе оторва, бесконечно выходившая замуж, и всё — за офицеров. Местные анекдотчики придумали хохму, что она признаёт в жизни лишь один способ ебли — по-офицерски. До меня, смысл этого анекдота не доходил — глупость какая-то. Представить не мог, что это такое.
Завистницы азартно перечисляли, сколько у неё в сундуках и комодах скопилось трофейных отрезов, кожаных регланов, ковров, сервизов и прочих богатств, захваченных у облапошенных Зинкой демобилизованных бравых фронтовиков. Получалось — несметное количество, со слов тёти Тани, — «поболе тыщи».
Веря этим байкам, со смаком передаваемым тётей Таней соседкам по дому — как уже упоминалось, уборщицей банной парикмахерской, — я с робостью поглядываю на пышный торс хищной буфетчицы, затянутый в белый халат с перламутровыми пуговицами-блюдцами и забрызганный, словно кровью охмурённых ею «лентинантов», амарантом.[290] И кисти рук её, точно ниточками перетянутые в запястьях и суставах пальцев, всегда мокрые, глянцевые, были пропитаны тем же малинового цвета пищевым красителем, без которого чудесный морс становился бы просто подслащённой сахарином водичкой.
Генка без очереди втёрся в толпу, пролез-таки к стойке и высыпал из кулака на тарелку горсть монет.
— Тёть Зин, — пропищал он, — два с двойным. Без сдачи.
Зинка не унизилась до пересчёта Генкиных медяков, стряхнула их на поднос, на котором горкой растекалась мелочь, и поставила перед Гундосиком стакан.
— Ещё один. Я без повтора, с товарищем, — пояснил он. — С ко́решем.
Величественная хозяйка стойки налила порцию в малую пивную кружку. Кокетливо оттопырив мизинец, водрузила её перед носом Генки, словно не слыша и не видя «клиента».
Зинка редко кого одаривала взглядов своих невероятно синих глазищ в чёрной оправе мохнатых крашеных ресниц. Не смотрела на людей, вероятно, потому что они ужасно ей надоели. А вот на неё все пялили глаза. Особенно хлыщи в бурках и москвичках, крепкие развязные молодцы, не утратившие фронтовой напористости или блатной наглости тюремных завсегдатаев. Меня же будоражила четырёхэтажная башня медных Зинкиных волос — будто большую катушку тонкой проволоки распушила.
Возможно, Зинка, действительно, обладала необыкновенной, неотразимой красотой, но мне не понравилась. Более того, буфетчица мнилась мне хищной и посему — страшной, безобразной, отталкивающей. Я её представил вампиром, похожим на толстую летучую мышь.
— Гер, держи! — Генка поднял над головой стакан и кружку.
Изловчившись, я принял один из сосудов, не расплескав ни капли.
Мы протолкнулись в угол, где кто-то спал, укрыв голову полой грязного пиджака. Не торопясь, маленьким глоточками, смаковали сахариновый, яркий даже при скудном электрическом освещении, напиток. Голода до сих пор не чувствовал.
Хотя тревога во мне не рассасывалась и держала в напряжении постоянно, несколько увереннее почувствовал себя только рядом с Гундосиком в этой упруго-неподатливой толпе всяких-разных чужих людей, ни одному из которых нет до меня никакого дела.
Я ощущал себя очень одиноким, отринутым, и одновременно меня с Генкой уже связывала тоненькая ниточка неопределенной надежды на что-то спасительное в близком будущем. Мне не хотелось, очень не хотелось, чтобы она оборвалась, и я остался бы совсем одинёшенек, плотно окружённый этой чуждой мне и, похоже, враждебной толпой.
Дом мой, мысленно к которому я часто приближался, блуждая совсем рядом, находился менее чем в трёх кварталах от места, где стоял с кружкой в руке, — минут десять — пятнадцать быстрой ходьбы. А бегом и того меньше. В то же время я осознавал: его уже не существовало, того надёжного дома, в котором мы так славно жили все годы, почти всю мою жизнь, до недавних пор. До мяуканья Черныша в парте. Оно воспринималось как сигнал: всё, детство кончилось — пора позаботиться о себе самому.
Меня подмывало, тянуло вернуться под родной кров. Я мысленно видел себя в коридоре, рядом с даниловским ларём, возле дверей нашей квартиры, в комнате, лежащим на кровати, укрытым одеялом так, что лишь нос из-под него торчал. Эх, почему я не заболел? Почему мама, вырвавшись с работы, посетила Александрушку и уговорила её не отчислять меня из школы, обещая, что я буду вести себя «ниже травы, тише воды». Крысовну, полагаю, тешили упрашивания и унижения, и она разрешила мне остаться в классе «до первого замечания», после которого я механически вылетаю из школы. И такой случай не замедлил произойти именно в тот злополучный день. Почему со мной, а ни с кем другим? Да и что, собственно, такого плохого я совершил?
…Печальное настроение вызвало из глубины памяти патефонную мелодию, часто звучавшую предвоенным летом из открытых окон дома Суратов — «Утомлённое солнце нежно с морем прощалось…».
Хотелось погрустить в одиночестве, где-нибудь в лопуховых зарослях. Возле родника. Но это мимолётное чувство, посещавшее меня обычно в послеобидные минуты в детстве, таком далёком теперь, было тут же смято и смыто гулом людских голосов, вытеснено надсадным кашлем, чьей-то визгливой руганью — я вернулся в действительность, к себе, к банной публике, толпившейся рядом. И это было нежеланное возвращение.
От усталости ныли в коленях ноги, ведь я не спал ни минуты всю предыдущую ночь, скоротав её, сидя в холодном вокзальном зале ожидания, наполненном нудным беспрестанным гулом людских голосов.
Никуда, конечно, тогда я не уехал, ибо не представлял, куда податься. Потерянно бродил между сидящими и лежащими пассажирами, спящими в обнимку с чемоданами и узлами. Находившись вдосталь, я присел на корточки возле скамьи с беспрестанно орущим грудным ребёнком, отец которого называл себя, жену и младенца транзитными. Что это такое — транзитные — я не имел представления. Самым близким словом оказалось «зенитные», но оно ничуть мне не объяснило, кто же такие эти нервные измотанные — хоть реви! — люди. Выудил я из памяти и ещё одно созвучное слово — «дизентерийные». Может, в самом деле — больные? Не похоже. Их сразу в больницу направили бы.
Промучившись до утра, я на трамвайной «колбасе»[291] доехал до своей остановки и долго прогуливался возле Гарёшкиного дома, опасливо наблюдая за нашей калиткой напротив. Дождавшись друга, коротенько объяснил ему, что убежал из дому и живу теперь на вокзале, заодно спросив, не найдётся ли у него чего-нибудь съестного.
Гарёшка смотался домой, нагнал меня, мы остановились. Друг выгрузил из карманов две тёплые, изъятые из валенка большущие помидорины и пожелтевший, в сети светлых трещинок, семенной, и тоже крупный, огурец.
— Больше ничего не удалось, — как бы оправдываясь, объявил Гарёшка.
— И за это большое спасибо.
— Как же ты теперь?
— Не знаю. Но домой не пойду ни за что. Хватит!
— Факт, — подтвердил Гарёшка по-Юркиному.
Отчим его, дядя Саша, бывший моряк, на вид атлетического сложения, инвалид по ранению, пасынка никогда не наказывал, как, впрочем, и младшего Гарёшкиного братишку, своего родного сына Венку, беспокойного, нервного мальчишку.
Отец (родной) Кульши, красный командир Гражданской войны, латыш по национальности, был арестован и пропал без вести незадолго до начала войны, когда Игорю едва исполнилось восемь лет. Однако мальчишка зримо помнил отца, кадрового военного, занимавшего высокий пост в каком-то штабе, — личный шофёр возил его на персональном легковом автомобиле на работу и домой. Гарёша почему-то даже со мной всегда избегал разговоров об отце. Возможно, он стеснялся или знал что-то такое, чего не следовало упоминать даже среди друзей. Лишь однажды он показал нам коричневую фотографию, наклеенную на серое картонное паспарту, на которой отец был запечатлён среди сослуживцев — в форме, с шашкой на боку.
Проводив Кульшу до угла квартала, я задумался, куда податься. Опасность встречи с отцом оставалась велика, он в это время, завершив утренний ритуал бритья трофейной опасной бритвой «Золинген», прысканья одеколоном, надевания тёплой, только что отутюженной мамой сорочки и завязывания зелёного, с серебряными искорками, шёлкового галстука с последующим начищением до лакового блеска хромовых сапог (первым делом заказал у Фридмана, из «трофейного», привезённого им хрома), облачался в кожаное пальто, из того же хрома фуражку военного покроя и отправлялся на службу, а его словами выразиться — «в присутствие». Слово-то какое — гоголевское, где его выискал? Ведь книг он не читал. Лишь мои иногда прихватывал — «на сон грядущий».
Он важно шагал, если не ненастило, по середине тротуара — это утреннее шествие называлось им «моционом» — до пересечения улиц Кирова и Карла Маркса, где находилась его «контора».
Свободские ребята, из тех, что жили без отцов, завидовали мне — как же: папаша — «туз», начальник! И я поначалу возгордился, что у меня такой выдающийся, заметный отец. Но сейчас мне было стыдно за него. Злости либо ненависти во мне не пробудилось — я просто избегал его. Как это ни позорно, я себе признался, что боюсь и именно поэтому не желаю очутиться рядом с этим спокойным, уравновешенным человеком, полным неодолимой силы, которой я не могу противостоять, силе эгоизма (я уже знал значение этого слова), и ещё — скрытого внутри зла. А непоколебимая уверенность в себе и барская внешность бывшего бравого штабного писаря нравилась некоторым соседским женщинам. Я видел однажды, как алчно, а может быть и с завистью, наблюдала за ним из-за оконной занавески тётя Таня. Да и завмаг, резкая и нетерпимая ко всем окружающим, с отцом обходилась почтительно и разговаривала с ним другим, мягким, мурлыкающим голосом.
Но самым оглушительным открытием стала очевидность того, что отец — совершенно чужой, а иногда враждебный мне человек. Это открытие, отцеженное из многих нанесённых им обид, перетряхнуло всего меня и как бы вышибло с привычного места в семье, в жизни — я потерял опору, наверное главную для меня тогда.
Однажды почувствовал непримиримость к щёгольским нарядам отца, которые дотоле мне безотчётно нравились и я мечтал о точно таких сапогах, сорочке, а верхом шика мне мнилось его кожаное пальто с пристежным чёрным меховым воротником.
Всё перевернулось, может быть, потому, что мама так и продолжала бегать в телогрейке, как и в военные годы, — не получалось выкроить из зарплаты, её зарплаты, на пальто, несмотря на экономное ведение хозяйства и работу на полторы ставки в комбинате, куда она вернулась после Победы с завода.
Некоторые ребята, и Юрка Бобылёв в их числе, считали меня — и нашу семью — «богатой». А все наши богатства были надрючены на отца и состояли из вещей, тоже принадлежащих лишь ему.
Мне поначалу и в голову не приходило: почему у него есть всё, а у нас — почти ничего? Я привык верить, что взрослые живут так, как им положено. Мы же, дети, не имеем права вмешиваться в их решения, живя так, как нам позволят.
Так уже повелось у родителей — от меня со Стасиком скрывалось всё, чем семья жила: её материальный достаток и распределение, интимные отношения и многое другое. Правил всем отец. Но я этого не знал, а лишь ощущал на себе угнетающую, вязкую тягость его власти, от которой мне стало невыносимо жить дома.
Я стоял на углу улиц Свободы и Труда и выбирал: выждать ухода на работу родителей и наведаться домой, чтобы взять хотя бы щёпоть соли, либо… Я выбрал «либо». Чтобы не отступать. Нельзя отступать.
Необыкновенно аппетитной показалась мне сладковатая мясистая мякоть помидорины, туго накаченная кислым соком. Вторая уж не отличалась столь отменным вкусом, хотя чувство голода не прошло. Схрумал и огурец. Желудок мой наполнился, а сытость не приходила. Меня передёргивала внутренняя дрожь — озяб. И в этот момент в голову пришла счастливая мысль: вот где теплынь-то — в детской библиотеке.
Там отогрелся. Но неотвратимо наступил вечер, библиотеку закрыли, и мне ничего не оставалось, как вернуться на родную улицу Свободы.
И как же мне несказанно повезло разыскать Гундосика! Что бы я делал без него?
И вот мы пьём с ним сахариновый морс, и он наверняка знает, где можно поспать. Отдохнуть.
Раньше я как-то на него не обращал особого внимания, тем более что Генка — с тридцать шестого, а я — с тридцать второго. Огромная разница! Видел: хороший парнишка, добрый, невздорный, недрачливый, и не только.
Я всегда испытывал к нему что-то вроде сострадания. Однажды поделился ягодами боярышника, которых полную тюбетейку собрал на островах за парком культуры и отдыха имени Горького.
Он тоже добро помнил. И вот сейчас выручил. Честно признаться, я ему сочувствую во всей передряге, случившийся в их семье.
Безобидный он парнишка, все-то его шпыняют. Всякий там Мироед или Витька Тля-Тля могут обидеть безнаказанно, потому что он младше и слабее их. А заступиться — некому. Вовка какой защитник?
С Толькой я даже поцапался минувшим летом, и всерьёз, вступившись за Гундосика. Мироед, гораздый на гадости, придумал забаву — «цирком» назвал. Подкрадётся к Гундосику сзади и неожиданно сдёрнет с него штаны — на потеху другим пацанам. Да ещё и на ошкур наступит.
Поначалу засмеялся и я. Но тут же спохватился: не то что-то. Паскудство какое-то. Издевательство.
Гундосик метался на тротуаре, поддерживая обеими руками ошкур широких стариковских штанов цвета истоптанной сухой земли, обстриженных снизу под его рост.
— Ну чево ты! Отстань! — вяньгал он затравленно.
Глумление над Гундосиком зажгло во мне злость и, приблизившись вплотную к Мироеду, я решительно заявил ему:
— Отстань.
— А тебе чево — очко[292] дерёт, што ли? — оскалился Толька.
— Отстань по-хорошему, — повторил я.
Мироед не унимался — из упрямства, чтобы всем пацанам, находившимся рядом, продемонстрировать, что никто ему не указ. Чтобы доказать и мне, что мои слова ему нипочём, он поймал Генку и, как в тиски, зажал его голову под мышку. Я подскочил к Мироеду и уцепил его за полубоксовский жидкий чубчик.
— Приятно? — процедил я сквозь зубы.
Толька выпустил Гундосика и схватился со мной, но нас тут же разняли — не по правилам сцепились. А от поединка Мироед отказался. Якобы сломанные в детстве руки заболели. Может быть, и заболели. А когда Гундосика мучил — ничего, не мозжили, здоровые были.
— Тебе больно, да? А ему? — не остывал я.
— А тебе какое дело? Тоже по сопатке захотел?
— Мне? Попробуй! — ершился я. — Выходи честно, один на один.
— А чего он сопли развесил? — оправдывался Толька.
— У тебя пальто ватное, ботинки есть со шнурками и валенки подшитые на зиму. А у него? В чём летом, в том и зимой — в обносках. Вот почему у него постоянный насморк, хронический. От простуды. Понял?
Толька заткнулся, но гадливая улыбка не сходила с его узких бледных губ.
— А чего ты на меня тянешь? — перевёл он спор на другую тему — личную. — Ты вообще, Ризан, выебениваешься перед свободскими пацанами. Что, отец — начальник, дак и рыпаешься?[293]
— Не трожь отца! — рассвирепел я.
— Посмотрим, — неопределённо и как бы нехотя пригрозил Мироед. — Ещё потолкуем с тобой…
И он, фальшиво улыбаясь, отошёл в сторону, подбрасывая и ловя монетку.
Гундосик, одногодок Стасика, никогда моим другом не был, да и не мог быть — по возрасту. И я не обязан был за него вступаться. Просто получилось так. Само собой. Не стерпел.
Более того, после происшествия с «верчёной» буханкой, я избегал встреч с Бобом и его братом. Они напоминали мне о гнусном поступке, совершённом и мною. Как я решил, по безволию, из-за нестойкости и боязни связываться с жестоким блатным? Потому трусливо и поддался нажиму Юрицы. А кто он такой, Юрица, чтобы мною повелевать? Я его холуй, что ли? Я свободный пацан и никому ничем не обязан! А он меня заманивает в блудную.[294]
Уже давно, так мне казалось, я всегда должен действовать самостоятельно и осмысленно. По своим убеждениям. Не уступать в главном никому и никогда. И ни за что. И ни в чём. Если прав. Если надо отстоять справедливость. Такое правило я придумал для себя после позорной истории с «верчением» хлеба из повозки. А как же ещё назвать это, если не воровством, рассудив по совести? Ну и что, хоть и подобрал на дороге? Подобранное было краденым, я это видел. К хлебу нельзя было прикасаться.
…И вот Гундосик сидит на бетонной, сточенной ещё с царских времён тысячами и тысячами подошв, словно провисшей лестничной ступеньке и дремлет, раскрыв рот. Я растолкал его.
— А… Гоша… Чево тебе? Папка мне снился, красивый такой. Ещё довоенный. Што-то говорил мне. Хорошее. Разбудил ты меня. Эх, не узнал, чо дальше было…
— Когда спать пойдём? А то я тоже устал.
— Я ищё концерт должо́н отчебучить.[295] Только малость передыхну. Эх, такой сон видел! Воши к чему снятся? К деньгам? К богачеству?
— Представления не имею. Мне думается, ни к чему.
— Отдыхаю, — в полудремоте прошептал Генка. На мой вопросительный взгляд пояснил: «Дома-то холодрыга. Хужее, чем на улке. Папаня, ещё незадолго как помереть, пьяной, дверь изрубил. Топором. У соседев взял. Мамка с хахалем закрылась на крючок. Теперича фатеру[296] и запереть не на што… Под кровать дуёт — всю ночь в зубарики[297] играшь. А на кровать не залезешь, тама мужики с маманей шуруют — скрип стоит».
Давным-давно Сапожковы в печь пустили не только всё, что находилось в дровянике, но и саму сараюшку свою разобрали и сожгли. А потом топливо хранили в комнате, чтобы не разворовали соседи. Когда оно кончилось, в ход пошли половые доски — толстые, как плахи, — ещё хозяина дома. Повезло семье, что положены они были не на землю, а на бетон.
— А чего он разбушевался?
— Пьяной был папаня-то, сказал же тебе. Он как надрызгается, дак завсегда чудит. Или дерётся. А тверёзый — мировой мужик, муху не обидит. Маманю Пашунчиком называл. Штобы налила. А давеча и все окошки высадил. Не бывал он последние дни тверёзым-то. Совсем. Как чуствовал, что копыта отбросит.[298]
— Неужто совсем не просыхал? Мой тоже пьёт, но в своё удовольствие. И поесть вкусно любит.
— А мой, как с войны пришёл, дак и загудел.[299] Не вылезал из пивнушки. Шестерил. Кружки собирал и допивал, чего в них остаётся. Рыбные шкурки и головки жевал. А кто ему и соточку нальёт. Особенно ежли фронтовик тожа. Папаня при всех медалях — и чьи-то опивки досасывал. Да чо базарить — ты жа знашь…
— Ты б ему сказал, что негоже так делать. Зачем себя позорить?
— Думашь, не долдонил? Я ему грю: «Папань, не позорься». А он: «Цыц, щенок! Ни в чём ты не шурупишь. Жареный петух, грит, тебя в жопу не клевал. А я огонь, воду и медны трубы прошёл. А угощают меня из уважения. Как фронтовика. В рыбных головках, грит, самый смак. Это только истинные ценители понимают. Уходи, грит, а то зашибу». Маманю, кода набузгается,[300] колотил. Аж клоки волосьев у её выдирал. Топором грозился бошку отрубить.
— За что он так лютовал?
— За то, как маманя скурвилась. Кричит: «Я в окопах кровь проливал, а ты тут с тыловыми козлами тешилась в мяхких постелях!»
— А тебя?
— Меня? Без понятия. Просто так колошматил, штоб за маманю не встревал. И Боба — заодно. Всем нам перепадало. Када пьяной был.
— Правда, что Вовку в прошлом году заарканили? Я видел его что-то давно нет. Спросил у тёти Пани, она отвечает: лечится.
— Ага. В Атляне тянул срок. Лечился. Год захуярили. Прописали кирюхи в письме, он-то неграмотный. Што ящики сколачивал. Гвоздями. Рекордист! Блатная работёнка. Жить можно. Кашей кормят там, баландой. Пайку давали. Черняшку. Кайф ему тама был. Только врачи дураком признали и выпустили. А меня маманя не кормит. Вобче ничего не даёт жрать. Грит, нету. Где я тибе жратву рожу? Иди, ищи, грит. Ей и самой жевать неча. Кода клиентов нету. Это она так ёбарей своих зовёт.
— Как они могут в таких условиях жить?
— В холодрыгу маманя у тёти Стюры, своёй сестры, ночует. А меня тёть Стюра не пущает. Грит — некуда. А я бы и под кроватью мог прожить. Не хочут меня пущать. Штобы в рот никому не заглядывал, не клянчил. Тётя Стюра тожа помаленьку киряет, у её никово нету. Одна в комнате, в суседнем бараке живёт.
— Почему же тётя Паша тебя не кормит, ведь хлеб-то по твоей картинке[301] получаете?
— Папаня хлебные картинки отымал. Казачнёт[302] и толкнёт.[303] А гроши — на вино.
— А чем же ты питаешься?
— Чем попадя. И добрые люди подкармливают.
— Какие добрые люди?
— Босяки разные. Хапушники с бана. Карманники. Тётя Дора.
— Тётя Дора? — усомнился я. — Которая в доме Мироедов на первом этаже живет?
— Ага. Тётя Дора Мирмович. Соседка Екатерина Ивановна Горбатова её Двойрой Наумовной зовёт. А все другие — тётей Дорой.
— Да ведь она — бедная. У неё своих-то малышей — трое. Они же все голодают, — удивился я.
— Голодаит, а меня подкармливат. Када утром на керогазе лепёшки из отрубей пикёт. Мишке, Марке, Машке — всем по лепёшке, и мне — тоже. Ежли б не тётя Дора, я бы давно дубаря дал[304] с голодухи. А то, что она бедная, дак это точняк — половиком вся семья укрыватса. На одной кровати спят, да на полу. Все шмутки загнали на бану.[305] Бедные-то и помогают друг дружке. А ты хочь раз видал, штобы богатый кому што дал, хочь крошку? Богаты для себя живут. Обжираютца. А бедны побираютца.
— Факт, — припечатал я свое полное согласие любимым Юркиным словечком. И вспомнил толстую и пронырливую Гудиловну и её румяного Шурика-Мурика, жующего бутерброд со сливочным маслом, щедро посыпанным мелким импортным белым-белым сахарным песком. У таких богатеев, хоть помри, хлебной крошки не выпросишь. А тётя Дора поди ж последней лепёшкой делится. И с кем? С Гундосиком, который и живет-то в другом дворе. А ведь у Мирмович, кроме троих истощённых малышей, старуха-бабка, парализована. Она с кресла-то не встаёт. Ей под кресло с дыркой в сиденье ведро подставляют, когда захочет. Сам видел.
…После признания Гундосика у меня резко изменилось мнение о тёте Доре, и я причислил её к тем, кого пацаны называют «мировыми» людьми.
Гундосик уже и о старшем брате поведал:
— Тётя Дора сначала Боба жалела. Видала, што дурачок. А опосля и меня приметила. Сынком зовёт. Дак я вот что надумал: попроситься к ей в заправдашние сыны. А когда она старенькая станет, я её в кресле буду одними ливерными пирожками кормить и морсом с сахарином поить. Сколь хочет. Только не отказалась бы. Как думаешь, возьмёт? А Бобка пущай у маманьки под кроватью остаётся. Ежли охота. Ему всё до феньки. Один хрен: што золото, што гавно. Только жрать подавай. Мироед сказал: без понятия он. В обчем: дурак. И врачи тожа говорят. Жаль ево, а на своём горбу не потащишь.
Он не кумекат, какие люди хорошии, а каки локшовы.[306] Ему кто што скажет — тому и верит. Герасимиха ваша его «блаженным» зовёт. Будто всё это у его от бога. И тожа ево жалеит. А он старши меня, а сопли вытирать не научилса — всю дорогу висят сосульки.
— Так он же больной. А его обижают. Обзывают. За что?
— Я ево не обижаю. Ты секреты держать умеешь? — неожиданно спросил Гундосик.
— Умею. Ещё как!
— Тада я расскажу тебе такое, только ты чать-мондь,[307] понял?
— Не сомневайся. Мы с Вовкой Кудряшовым и не такое знаем.
— Тётя Маруся, грит, што папаня с мамкой сделали Вовку пияными. И он получился дебильный. То ись дурачок. А када я родился, маманя жила с художником. Я сын этова художника. Он на втором этаже жил в нашем доме. Ево посадили за што-то. Деньги рисовал.
— Ну и где он, твой отец?
— А кто ево знат? Он тридцадчики подделывал. И погорел. Червонец навроде бы ему дали. Ещё до войны. Маманя снова с папаней сошлась. Вот какой секрет. Ты никому — ни-ни. Задразнят.
— А за что Боба в колонию упекли?
— Мы с ним на бану крынку молока слямзили.[308] И выдули тут жа. Нас и замели с той крынкой — с поличным. Бобку зачалили,[309] а меня отпустили. Не затюряжили — лет не хватило. Год и месяц. Энто прошлую весну было.
По словам и поступкам Генка, как мне показалось, мог бы сойти за более взрослого. Головастый пацан. За четырнадцатилетнего сошёл бы по сообразительности. А вот ростом… Совсем не растёт.
Тётя Люба Брук говорит, что дети не растут или растут очень медленно, потому что плохо питаются. Пищи им не хватает. Может быть, и Генка не растёт поэтому.
— А ты почему из дому сбёг? — простодушно спросил мой спутник. — Тебя жа родители кормют, одеют, чево ещё нада? Папаня у тебя вон какой туз-начальник — весь в хромачах. Зырил я, как ево на легковушке подкатили к самым воротам. Целовался он с каким-то шибздиком в кителе и прохарях.
— Это Пахряев… Майор. В «Арктике» напились, наверное.
— Во, вишь, с кем у тебя папаня якшается, — не мелката кака-мабудь — маёр… Может, домой драпанёшь? Мамка супом накормит… Ух, я бы всю кастрюлю умёл. Сто лет супа не сёрбал…[310]
Я промолчал — стоит ли убеждать его, к чему?
— Побил он тебя, или чо? Дак это заживёт. Привыкнешь.
— Нет уж, не привыкну. Не хочу привыкать.
— Ну и дурак. От сытой житухи сам отказывашься. Што, плохой папаня у тебя? Мой был лучче? Я ево всё едино уважаю. С им лучче было бы.
— Не в том дело. Отец у меня, действительно, ничего. Есть и хуже. Но я не могу больше терпеть, как он относится ко мне.
Что-то претило рассказывать Генке о наших с отцом отношениях, но вопреки своему желанию промолчать, разоткровенничался:
— Когда выпьет, то песенки из опереток поёт. Из «Цыганского барона», из «Сильвы». А ночью во сне как закричит: «Шпарь прямой наводкой! Бей его!» И матом! И как застонет. Это ему фронт снится. Хватил он, видать, там горя. Не всё время в штабе отсиживался. И на передовой тоже побывал. Только никому из нас о пережитом не рассказывает. Возможно, маме, втайне от нас.
— Может, и мой оттого пировал?
— Мож быть.
— Нет. Из-за мамки. И чего она в этих мужиках хорошего нашла? Только обижали её. А ещё и папаня ей рёбра считал. Один раз напьётся — добрый, в другой кирнёт, как зверь! Почему так?
— Не знаю, слишком трудный вопрос.
— А у тебя папаня добрый или злой?
Я пожал плечами, не найдя, что ответить. А про себя подумал: в самом деле — какой у меня отец? Добрый? Не сказал бы. Злой? Редко. Никакой. Он и не добрый и по-настоящему злым почти не бывает. Вскипает, если его спокойствие потревожат. А меня терзает, когда Крысовна натравит. Или кто из соседей. А в остальное время как бы не замечает — что я есть, что меня нет. Со Стасиком забавляется на диване после сытного воскресного обеда, щекочет его, шутит. Я уже давно не игручий. Взрослый. Не любит он меня. А вот за что — ума не приложу. Неужели я такой плохой?
…Народу на этажах немного поубавилось. Наверное, время клонилось к десяти. В такую пору я почти всегда уже спал. И сейчас глаза слипались, так и прикорнул бы, где сидел.
Генка толкнул меня в бок и шепнул:
— Щас в самый раз…
Разомлевший, я не сразу уразумел, о чём он нашёптывает.
А Генка высоким сильным голосом вдруг запел:
Я даже не подозревал, что у него такой красивый голос. Эта известнейшая замызганная народная песня неожиданно для меня вызвала интерес банной публики, её можно было услышать на любой пьянке-гулянке и на эстрадной площадке горсада имени Пушкина, и по радио — да где только её не мусолили… Возле нас столпились многие. В солдатскую видавшую виды пилотку, которую предусмотрительно положил на пол под ноги певец, полетели, позвякивая, монеты.
В исполнении отца Гундосика мне приходилось её слышать множество раз — под гармошку, возле пивной на углу улиц Свободы и Карла Маркса. Хрипловатым, пропитым, уверенным голосом он без всякого предупреждения заводил песни, которые были любимы солдатами, друзьями его, однополчанами, собутыльникам.
У него была странная манера исполнения: прислонив правое ухо почти вплотную к «трофейной» немецкой гармошке, которую он привёз с собой аж из Германии. Но ходил слух, что добыл её Иван во время одной из вылазок в фашистском окопе.
И Генке в пилотку с поблёскивающей эмалевой звёздочкой тоже кидали монетки, «серебро», и несколько рублёвок. «Артистическая» карьера демобилизованного солдата Сапожкова-старшего продолжалась до тех пор, пока у него в пьяной безумной драке не растоптали музыкальный инструмент, а вскоре там же, в канаве, обнаружили рано утром окоченевший труп Ивана без видимых признаков насильственной смерти. Он лежал вверх лицом с широко раскрытыми глазами, и я удивлённо наблюдал, как с детства бездомный бродяга, вор, бывалый солдат штрафного батальона, дважды раненый и выживший, прошагавший по трудным дорогам войны с сорок второго по сорок пятый год (до того он томился в концлагере, не знаю, за что, кажется, за кражу), и этот, в моём понимании, мужественный человек вспомнился рыдающим, изливаясь обильными пьяными слезами, жаловался, как ребёнок, что у него испортили музыкальный инструмент. Посетители пивной, не все, но многие, сочувствовали ему, делились с ним мутным пивом, разбавляя иногда самогонкой. Наглотавшись этого «ерша», Сапожков-старший грозил неведомому обидчику:
— Я этого шакала недрогнувшей рукой ошкурил бы, как фрицака. На кого грабки поднял?! На старого солдата! Вон, смотрите, сколь у меня медалей. И все — не за штабной шмарой притыривался — за кровь свою пролитую получил. литую. я ездомный бродяга, вор, ть, разоткровенничался: рук по собственным зубам, 2) зрям, поэтому Боб и Генка постоянно крутились возле отца. Когда он «отключался», они обыскивали его карманы — всё равно не они, так ширмачи обчистят. Если в них обнаруживалась мелочь, они её забирали — на хлеб, подхватывали отца за руки, подставляя свои хилые спины, и помогали шагать домой.
После утраты инструмента Сапожков пел и без гармони. Но недели через две он погиб. Тётя Паша даже не пошла на опознание трупа, хотя её разыскивал сам участковый уполномоченный — она смоталась из Челябы к родственникам в деревню, а когда вернулась, заявила сыновьям:
— Хватит, попил он из меня кровушки. Пущай государство его и хоронит, за которое он воевал. А у меня денег даже на гроб нету.
И пошла к тёте Нюре, сестре, поплакаться о своей горькой судьбе и напиться с ней браги.
…Подогретый артистическим успехом, Гундосик затянул нравившуюся мне «Тёмную ночь». Только я любил её в исполнении Марка Бернеса — артиста из фильма «Два бойца», а не искалеченную похабниками-передельщиками. А Гундосик запел именно её, повторяя отца:
Последние строки мне кое-что напомнили. А что такое сульфидин, я хорошо запомнил. Именно такое лекарство мне выписал военный врач со странной фамилией Тасгал, когда я простудился и чуть не умер от какой-то «монии». В этой песне поётся, наверное, о маленьком мальчике, который тоже простудился. Вместе с мамой.
На этом куплете Генка прерывает выступление и, перекрывая нечленораздельную болтовню толпы, звонко выкрикивает:
— Дорогие граждани, женчины и мущины, помогите сироте бездомному кто чем может, подайте копеечку, не пожилейти сироте круглому нещаснаму. Три дня голодую, в роте три дня и три ночи хлебной крошки не было и маковой росинки!
Меня бросает в жар от этой выходки Гундосика. От стыда горят уши, и я отворачиваюсь от Генки, закрывая лицо шапкой. Он что, с ума спятил — нищенствовать, и где — в бане?! Ладно, если б на улице у знакомого попросить что-нибудь поесть, а здесь — народ! Люди смотрят на нас — позор какой!
Очевидно, не всем понравилась опахабленная песня про тёмную ночь. Известно, с каким лейтенантом сожительствует супруга солдата.
— Эй ты, Утёсов зачуханный, заткнись! — гаркнула толстая баба с большим эмалированным тазом, который держала на коленях, обхватив здоровенными ручищами.
— Чево детям попеть не даёшь? — вступилась за Гундосика другая очередница, стоявшая в гомонившей толпе, — скамеек и сейчас хватило далеко не всем.
Та, толстая, не смолчала:
— Не в бане же петь. Он ещё в парной забазлал бы — про лейтенатскую шлюху!
— И пущай базлает, ежли ему ндравится, — поддержала защитницу Гундосика третья женщина, — самое время петь да радоваться жизни. Вырастет — не до пенья будет.
Спор на тему свободы исполнения песен в коридоре перешёл во взаимные упрёки и даже оскорбления с уличением друг друга в ужасных поступках — о Гундосике забыли.
Мы с Генкой сидели на вогнутой нижней ступени бетонной лестницы, слушали яростные выкрики сцепившихся между собой женщин, и этот ор нам быстро надоел. А я постоянно чувствовал какую-то невидимую опасность, нависшую над нами.
Этого ещё не хватало: Гундосика признала тётя Таня, высунувшаяся из парикмахерской полюбопытствовать, что за гвалт возник в зале ожидания. В руках её, как алебарда, волосяная щётка выглядела грозным боевым оружием. Она с наслаждением разоблачила «сироту». А если меня узнает? От ужаса всё сжимается внутри.
— Да это же Генка Сапожков! У ево отец — антаголик, в канаве у пивной давеча околел. А мать нигде не работат — тунеядка. И с мужиками улишными выпиват.
Вовку почему забыла помянуть?
— Рвём когти, — тихо произносит Гундосик и поднимает пилотку, в засаленное нутро которой кто-то из сердобольных очередников-слушателей успел набросать с горсть мелочи и несколько рублёвок.
— Канай за мной, короче, — торопит Генка.
Мы поднимаемся туда, где продолжается беспрестанная стрельба. Чем выше забираемся, тем усиливается гул нагревательных (или нагреваемых?) котлов и оглушительнее воспринимаются хлопки.
У меня не хватает мужества оглянуться: продолжает ли обличительную речь тётя Таня и не узнала ли она меня? Не отнимая шапки от лица, шагаю по ступеням, поглядывая осторожно и внимательно под ноги, — не загреметь бы вниз — костей не соберёшь.
Находясь среди людей, ощущаю их близость и свою неодинокость. Горе, нывшее во мне нудным старушечьим голосом, постепенно приглохло, отступило. Но оно невидимкой притаилось где-то внутри, готовое в любой момент наброситься на меня, напомнить об утрате дома, родных — сейчас моей самой острой боли. И ещё не отпускала мама, постоянно возникая, скорбная, перед глазами.
— Идём дрыхнуть, — пригласил Генка, видя, что мне невмоготу.
— К вам, что ли?
Наш диалог заглушал и прерывал треск нагреваемой воды.
— Тебя рази домой зову? Под бак.
— Куда?
— Под бак. На чердаке. Лафа! Ташкент!
— А пустят нас?
— Какой дурак об таком спрашиват? Канаем — и всё.
Мы поднялись на третий этаж. По металлической громыхающей лестнице пробрались под самый потолок. Генка толкнул плечом маленькую, обитую ржавым железом дверцу, и на нас вмиг обрушились трескотня и какой-то густой обволакивающий гул. Там, в утробе чердака, рычал и клацал зубами большущий железный зверюга.
Генка захлопнул дверцу, и мы очутились в полной темноте. Со всех сторон нас долбил грохот, от которого содрогался решётчатый пол.
— Дай пять! — выкрикнул мне в ухо Генка.
Спотыкаясь, я волочился за поводырём, пока не наткнулся на тёплый, мне почудилось, вибрирующий бок, вероятно, огромной цистерны. Гундосик потащил меня дальше, вдоль этой ёмкости, в которой оружейными залпами трещала и шумела падающая вода, нагнетаемая, вероятно, мощным насосом.
— Лезь сюды, — еле расслышал я Генкин приказ. — На карачки становись.
Я опустился на четвереньки, подлез под брюхо цистерны и пополз вслед за Генкой.
— Сюды легай. Курорт! И дяди-гади не заметут — им досюдова не пролезть — больно толстые.
— Здесь и милиция бывает?
— А ты думал? Взрослых имают.
— Кого — взрослых?
— Блатных. Вороваек[311] разных, шалав.[312] Бродяг. Которы от хозяина[313] из лагеря освободились. Или чесанули из зоны.[314] Ну, всех, у кого свово дома нету.
— Разве есть люди, у кого нет своего дома?
— Ты што — совсем глупой?
Я и в самом деле полагал, что у каждого человека есть или должен быть где-то свой дом, — а как же иначе? Оказывается…
Мне от Генкиной реплики даже неловко перед ним стало — за свою наивность.
— Засмалим? — предложил Генка.
— Куришь?
— Махру. Чинариков[315] насбирал на транвайной астановке — на пару «козьих ножек»[316] с походом будет. А ты? Слабо?
— Не курю. Тошнит с табаку. Отец курит, как паровоз, всю жизнь. У меня от его «Беломора» сызмальства горло болит. Мы с пацанами баловались: листья сирени курили — тоже противно.
— А я и вино пил. Лёня Питерский угощал. Вкус — заебись! И весело так! Быдто летишь. Погодь-ка, я сичас. У меня заначка с прошлого раза осталася.
Генка куда-то стал протискиваться, в какую-то щель, наверное очень узкую, и даже заехал мне в бок своими рваными опорками.
Когда Гундосик уполз, меня полоснула жуткая мысль: а если он не вернётся и я останусь один — что тогда? Выхода-то даже не найду.
— Не стибрили! — ликующе выкрикнул Генка. — Тута!
— Кто?
— Шекспир. Держи. Из дома сюды притаранил.[317] Чтобы не стырили.[318] И в ей — фантики[319] заначил.[320] А счас рюхнулся:[321] не обшмонал[322] ли хто мою заначку — и тю-тю… Сухарики будешь?
Я общупал твёрдый картонный пупырчатый переплёт уже знакомой мне книги — Генкиного сокровища, тома, изданного Брокгаузом и Ефроном. Ещё до революции. Помнится, в тысяча девятьсот втором году. С картинкми.
— А ты прочитал книжку-то?
— Шекспира?
— Ну да.
— Всего. И другорядь. Многих листов нету. А то, что осталось, — всё прошерстил. Некоторые твёрдые знаки сначала не понимал, а посля дотумкал, что это «е» такое.
— Понравилось?
— Ух, тиресно. Короли мне только не ндравятся — убивают друг друга. Яд подсыпают в кубки с вином. А чего убивать? Чего им не хватат? Не по карточкам, поди, хлеб получают… Хорошо-то как здеся! Дадим храпака? Держи сухарь. Соси.
— А подушки нет?
Генка затрясся от хохота.
— Может, тебе ещё и одеялу дать? Ну сказанул, Ризанов.
Кое-как примостившись на каких-то тряпках, я уже почти задремал, как по шее что-то поползло. Я попытался вскочить и больно ударился лбом о гудящее железо.
— Генк! Что-то ползает!
— Тише ты! Облава, верняк. Замри, а то услышат дяди-гади, мусора подлючие.
— Да нет же. Букашки какие-то. По шее…
— А… Это бекасы.[323] Их тут — хочь горстями греби.
— Какие бекасы? Так птиц называют.
— Бекасы — птички? Ты чего горбатого к стенке мене лепишь?
— Да, у Брема в «Жизни животных» о них написано. В четвёртом томе.
— Не знаю. У кого, мож, птички, а у нас — воши.
— Вши?!
— Ага. А ты чего икру заметал?[324] Почешешься малость — только и толков. Дрыхни! Сухарь пондравился? А я думал, ты не будешь. Домашняки хуй за мясо не шитают. Им сало-масло подавай.
— Откуда у нас сало-масло, Гена, сам подумай.
— Ежли папаша така шишка, то у вас всякая-разная бацилла[325] могёт валяться — рубай[326] — не хочу…
— Да брось ты глупости говорить: то же самое по картинкам в магазинах в очередь получаем. Как положено — пайка на человека. Это отец в дни получек в «Арктике» гужуется,[327] а нам-то ничего не приносит. Только пьяный поздно приходит. И арии поёт. Не знаю, артиста из себя воображает, что ли.
…Я не мог долго уснуть. Донимали вши. В нашем доме никогда не водилось никакой подобной живности. Даже таракана я впервые увидел на рисунке в книжке Корнея Чуковского. Мама за чистотой следила очень бдительно. От знакомых, например от Альки Каримова, подхватывал иногда паразитов, но мама тут же обнаруживала их и беспощадно уничтожала.
Я долго мучился, мне всё бластилось, что по всему телу ползают отвратительные насекомые.
Не сразу удалось забыться. Очнулся я от щёлканья в ушах.
Меня томили жара и духотища. Та же непроглядная тьма царила вокруг. Ещё ночь? Или наступило утро? А может, уже день?
— Генк, спишь?
— Надрыхался вслась. Ух, как у Христа за пазухой. Ташкент!
— Как ты думаешь, сколько времени?
— Время? Баня ещё закрытая. А открыватся она в семь. Я тебе скажу, когда мыться начнут.
— А как узнаешь?
— Услышу. Вода пуще зашумит.
Голод напомнил о себе. Но не очень я от него ещё страдал, хотя за последние два дня съел лишь пару помидорин да семенной огурец.
«Терпи, — внушал я себе. — Голод — чепуха. Можно много дней не есть, и ничего — не умрешь. Думай о другом. О чём-то хорошем. О книжках любимых».
— Шамать охота? — словно угадал мои мысли Генка.
— Поел бы. А найдётся?
— Печёнки. Три штуки. В золе вчера днём испёк, пока Немого в котельной не было — уканал куда-то, бес[328] безрогий.
— Это банный слесарь?
— Ага. Гонят нас из котельной. Сильный, как сатана. Одной ручкой поднял меня за шкирку и во двор выбросил. На шлак.
— А отсюда он нас не выгонит?
— Да ты что, сдурел? Как он сюда пролезет? Я ж тебе говорю: мы тута, как у Христа за пазухой.
— Да, действительно, — подумал я. — Если б не Генка, где бы я мыкался? Опять на вокзале ёжился, сидя на плиточном холодном полу. Или в милиции на допросе.
— Держи, — Гундосик сунул мне в руку шершавую твёрдую картофелину и принялся ощупывать моё лицо.
— Ты чего? — удивился я.
— Кусай половину. По совести.
Я откусил, кажется, большую часть клубня.
— Шамай. Красотулина какая… Так бы всю жись и пролежал здеся — никто не хватаит, не лезет в душу. Тепло и мухи не кусают. Потрёкаем?[329]
— О чём?
— Про жись. Ты чего хотел бы иметь? Чтобы в твоём дому́ было?
— Из мебели, что ли?
— И небель — тожа. И всё другоя.
— Для себя?
— И для ро́дных. Для отца-матери, братана́.
— И друзей?
— И друзей. Закадычных.
— Честно?
— Давай шуруй.
— Чтобы еды было много-премного. Вдоволь для всех. И хлеба — белого. Мягкого. И молока. Ну и другого всего. Книжек разных хороших, интересных. О путешествиях. Про другие планеты. Чтобы мама, наконец, отдохнула от работы, а то…
— Чур, только про то, что можно помацать.[330] Не хвантазии каки-мабуть.
— Чтобы… — я осёкся.
— Ну, чево?
Понимал, что это нельзя никому доверять, — я думал о Миле. И если б отважился высказать вслух свои глубинные, заветные мысли и желания, защищённые от всех непроницаемой бронёй тайны, то пожелал бы, чтобы Мила всегда жила в нашем доме, рядом со мной и я мог бы видеть её каждый день, любоваться. Больше мне от неё ничего не надо.
Но поведал я о другом. Правда, тоже близком мне.
— Чтобы у мамы было новое платье — красивое. Как у Любовь Орловой. И туфли на высоком каблуке. С бантиком.
— Это хвантазия. Ещё чего хотишь? Короче!
Я призадумался. И в самом деле, чего? У отца всё, на что было способно моё воображение, есть. И даже сверх того. А мне, пожалуй, лишнего ничего не нужно. Хватит того, что у всех, у каждого. Зачем больше? И ещё…
— Ну?
— Чтобы никто никогда не обижал ни маму, ни Стаську…
— Это опеть — хвантазия.
— Чтобы с друзьями никогда не расставаться. Всю жизнь.
— А на кого ты хошь походить?
— Как на кого? На себя, на кого же ещё. А, ты вот про что! На Олеко Дундича.
— А кто это?
— Герой. Гражданской войны. Храбрец, каких поискать. В драмтеатре пьесу смотрел. Его в плен взяли, в голову раненного. И сам генерал Шкуро допрашивал его, со связанными руками за спиной, — боялся красного командира. А Олеко Дундич говорит: «Вы меня не подкупите. И не запугаете. Я лучше умру, но Революцию не предам».
— Ухайдакали?[331]
— Расстреляли. Но он и перед казнью выкрикнул: «Да здравствует Революция!» — присочинил я.
Генка умолк.
— А я буду таким, как Лёнчик Питерский. Чтобы в бостоновой лепёхе[332] ходить, в прохарях[333] — хромачах гармошкой, с подбором белым. Денег у него — не мерено, во всех карманах — горстями. И две фиксы — рыжие. В натуре.
— А почему на него-то ты хочешь походить? — не уразумел я.
— Потому что ево все уважают. И блатяги, и фраера, и марухи. Денег у ево, чесно, што семечек в мешке у базарной барыги. Дошло? А чево ты ещё загадал?
— Ничего. Всё.
— Всё? — удивился Гундосик.
Немного ещё покумекав, я подтвердил:
— Всё. Больше — ничего.
— Ну и дурак. Как мой братан. Ему тожа ничево не надо, акромя пожрать. Потому как он не сображат.
— Почему ты обо мне такого мнения? — обиделся я. — Что я дурак?
— Потому, што песенку знашь?
И запел:
Меня удивила находчивость Гундосика. Откуда он всех этих «премудростей» нахватался? А Генка уже отвечал на мой не заданный ему вопрос.
— И маманя грит, што была бы самой щасливой в мире, ежли б у её денег было, сколь хошь. Её замуж обещал взять один начальник, она у ево в конторе сиклитаршей мантулила. Дак папаня помешал, в загс утащил. Зырил, какая она на потрете раскрасависа? Народная артиска! Папаня ей жись испортил. А то она была ба в крипдишин и кружева разодета. В фильдиперсовых чулках ходила ба. В роскоши и молоке с мёдом купалася ба… А заместо энтаво папаня ей в пьяном виде Вовку-дурака заделал. А маманя щесная деушка была. Папаня поэтому за ей и гонялся, проходу не давал. Щас где целку встретишь? А она пока замуж не пошла — чесная была.
Я представил нарумяненную тётю Пашу, в праздничном платье с кружевами, барахтающуюся в роскошном корыте, наполненном молоком с мёдом, — чушь какая-то! Нелепость!
— Генк, а почему мама твоя нигде не работает? Все трудятся, а она — нет.
— Донор она. Кровь свою продаёт. Нам жратву покупает. И гадалка. За гро́ши ворожит. И вопче за антирес. На картах и по руке. А лучче всего у её получаеца на бобах. На фасоли — хужее. Правду людям грит, ей богу! К ей много народу ходит гадать. Суседки и издалёка. Всяки прутца.
Я припомнил, как несколько раз заставал, прибегая к Бобу, тётю Пашу, словно в обмороке лежащей на кровати, — после сдачи крови. И не однажды видел у неё незнакомых и нездешних женщин, которым она бойко и уверенно предсказывала «нечаянный интерес», червонных, бубновых и трефовых королей, коварных пиковых дам и известия из «казённого» дома. Слушать обо всём этом было забавно, и поначалу меня удивляла чудесная способность тёти Паши разглядеть в человеке его будущее. После усомнился в правдивости её прорицаний, иногда повторяемых слово в слово совершенно разным людям. Более того, недоумение у меня вызывало то, что она плату за свои гадания берёт. Как будто за работу на заводе. Ну ладно, цыганки на базаре, те обманывают, обирают, попрошайничают — у них обычай такой. Но тётя-то Паша — не цыганка, русская. Она и мне гадала на бобах и по линии руки — за несколько варёных картошин. Как бы понарошку.
— А ты тоже умеешь гадать? — полюбопытствовал я.
— Ещё чево! Это жа она от фанаря! Грит, штобы людей успокоить в горе. Я ей не верю — туфту гонит. Жрать-та на што-то нада.
И в этом восклицании Гундосик выразил своё презрение к позорному занятию — обману.
— Быстрей бы подрасти, — мечтал Гундосик, — фомку железную добуду, отмычки и банк колупну. В ём денег — горы! И все — в пачках, тыщи пачек!
— Спятил! Ты хоть понимаешь, о чём треплешься? Это ж грабёж!
— Ну и што? У меня и кент есть, с кем на дело пойти, — Лёнчик Питерский. Он фартовый. И к мамане хорошо относится, душевно. Гро́ши ей давал. Мы с им любой банк на гоп-стоп возьмём! И всю жись можно опосля филонить, в потолок поплёвывать, да по ресторанам шляться. Во жись!
Я не представлял, что это за жизнь такая, — гулеванить[334] без просыпу. Всю жизнь. А полезные дела кто будет делать? Без них не проживёшь. Каждый своё полезное дело должен совершить.
— Генк, а ведь банки грабят лишь за границей. При капитализме. Я так вычитал в книжках.
— А у нас — нет?
— Нет.
— Тада остаётца фраеров дербанить,[335] начальников всяких, которые…
— А почему их можно? Начальников?
— Потому што они тоже воруют, начальники. Поэтому и в начальники лезут, штобы воровать сколь в лапу влезет. Мильёны.
— Не все же начальники жулики, есть и честные. Вот у нас эвакуированные ленинградцы жили. Она была начальницей, а ничего не крала, по карточкам и талонам продукты получала. На то и жили. И вещей у них никаких не было. Только, что на них надёвано. Молодая, сын её, совсем доходяга, на кирпичах спал — койки не было.
Но тут я вспомнил, как ещё в сорок втором, зимой, у нас полмешка чёрных довоенных сухарей «реквизировали», признав излишками продуктов питания, а моему однокласснику Борьке Аверину очень приглянулся наш том Пушкина с цветными картинками, подаренный маме за отличное окончание девятилетки — с печатью и подписями. И мама решилась с ним расстаться, хотя жалко было — память. Тогда я и попал в дом Авериных. Отец его работал главным инженером ликёро-водочного завода и слыл в нашей ребячьей среде большим начальником. Даже директриса школы обращалась к нему с просьбами о покраске окон и дверей в классах. И за прочим.
Борька провёл меня в свой пятистенный домище, недалеко от школы, на углу Карла Маркса и какого-то Могильниковского. Я не мог не удивиться огромной бочке с жидким свиным салом (он его почему-то называл «лярдом») — выше меня по росту, — стоявшей в их сенках. А когда Борька откинул крышку ларя, набитого доверху окороками, я увидел шматки солёного сала. К тому же с потолка свешивались крупные гусиные туши, глазам своим верить не хотелось — я знал, почём маленький кусочек шпига на базаре, — не укупишь! Борька и расплатился с нами этим солёным салом — большой кусман секачём отрубил. Мама осталась довольна обменом. Только спросила: честно ли мы поступили, не много ли за книгу получили?
Тогда я как-то не задумался: откуда такое невероятное количество жиропродуктов у Авериных? Сейчас, не сомневаясь, сказал себе: наверняка то сало — украденное. У народа.
— Я буду шкурить[336] начальников — жуликов. Это не грех — все говорят. Ежли б они не крали, мы лучче жили бы.
— А как ты узна́ешь: честный начальник или мазурик?[337]
Генка задёргался, не находя ответа.
— Уж лучше самому заработать, — сказал я. — Честно. Своим трудом. Мне так всё время и мама говорит.
— Тада работать придётся. Есть же такие работы, где хорошо платют? Нет. Лёнчик говорил, што все начальники — воры.
— Как же! Закройщики, к примеру: какие бешеные деньги за их труд платят. Да мало ли хороших дорогих работ. Только этому учиться надо. Ты, к примеру, в школе учился, хоть класс или два?
— Я сам грамотным стал. Под антирес. Меня азбуке Мироед научил. За шелабаны… Гер, а ты чего из дому чухнул, а? — вдруг снова стал допытываться, не ответив толком на мой вопрос, уклонился Генка. Ох и въедливый пацан.
— Да так, — попробовал отмахнуться я. — Надоело… Я ж тебе говорил.
— Чево темнишь? А ещё — друг. Колись до самой жопы.
Но как было рассказать всю правду? Да и в чём она — вся?
Может, лупцовки я и терпел бы ещё. Хотя едва ли. Сколько можно? Но суть в другом. Когда папаша после очередной беседы с завучем полосовал меня ремнём, я молчал, стиснув зубы. И поклялся себе, что не закричу, не зареву. И страшился я не боли, а что не выдержу. Тогда мои вопли может услышать Мила. Вот чего я опасался. Как я после такой «экзекуциии» поздоровался бы с ней, заговорил? Крысовна и отец лишали меня такой возможности — видеться с Милочкой. И почему отец столь остервенело колошматит меня? Не любит. И поэтому надо уходить из дома. Что я и сделал.
Эта мысль стала навязчивой в последнее время. Я ни о чём другом не мог думать, постоянно возвращаясь к постигшей меня трагедии, — именно так в моём сознании виделось происходящее со мной. Лишь светлым пятном, вселяющим надежду, что не всё далее будет столь же плохо, возникало в моём воображении воспоминание о Миле.
О ней я подумал и сейчас. Эти видения часто вспыхивали неожиданно, и с пронзительной радостью. Так я узнал, что сердце может щемить не только грусть. И я вызывал Милу внутренним видением, что удавалось всегда легче лёгкого. Девушка тотчас являлась. Я видел и слышал её столь же явственно, как в действительности. Она отвлекала меня от тягостных переживаний, сомнений, угрызений, самообвинений и вела за собой в светлый мир её сдержанной чистой улыбки и чарующих переливов нежного голоса. Именно такой она мне представлялась, Милочка.
Теоретически мне были известны интимные отношения между мужчинами и женщинами. О Миле я и мысленно не мог подобного допустить. Или даже представить её в своих объятиях. А уж в чьих-то и подавно. Ведь Мила — не такая, как все, она особенная.
Минувшим летом, в одно изумительное светлое утро, я беседовал с Милой, сидя на подоконнике кухоньки Малковых, куда взгромоздился со двора.
Она мыла пол и, светясь своей чудесной улыбкой, шутила, необидно подтрунивала надо мной. И когда она нагнулась в очередной раз, я увидел в прорезе ворота её платьишка то, чего не должен был видеть, — маленькие перламутровые чашечки — груди. С розовыми плоскими сосками. Я сразу отвёл глаза и смутился настолько, что лицо набрякло от прихлынувшей крови. Мила, очевидно, не догадалась о причине моего смятения. А ведь обнажённые женские и девчоночьи тела я не однажды видел во время купаний в Миассе, и ничего — не сгорал от стыда. Наоборот, эти зрелища в последнее время бывали порой притягательны. Украдкой, незаметно, я наблюдал за купальщицами, но вскоре мне это надоедало — что в этом особенного? А тут и глаз не посмел поднять, чтобы снова не наткнуться на запретное. А запрет возник во мне же. Я его сотворил — иначе и поступить не мог, ведь передо мной находилась Мила — девочка, которую я беззаветно любил. За что? За всё. За то, что она такая. За то, что она есть на свете. И другой мне не надо. Ни Любовь Орлову, ни Марину Ладынину — никого!
…Она и сейчас присутствовала как бы всегда рядом, близко, и в то же время нас разделяло что-то абсолютно непреодолимое. Навсегда. Эта невозможность единения меня угнетала, раздражала и ввергала в отчаянье. Я мысленно стремился к Миле и одновременно не смел приблизиться. В этом-то и заключалась мука.
Я и сам не в состоянии был разобраться в том, что со мной происходит, почему меня неодолимо влечёт и не допускает к Миле. Генке объяснить что-либо вразумительно я не смог бы, даже решившись на это. Но даже не желал заикаться на эту тему, твёрдо знал — про себя! — что люблю Милу. То же подтверждали стихи. Им я доверял.
— Чево молчишь? — толкнул меня Генка.
— Стаську жалко. Без меня его задирать будут.
— Чухнуть[338] собираешься! — воскликнул Генка. — В другой город?
— С чего ты взял?
— Слиняем[339] напару! А? Мамане я и на хер не нужен. Залётными хлять[340] бум.[341] В самый фартовый город в мире. Знашь, как он называтся?
— Москва.
— Челяба тоже ништяк. Ежли б путняя хавира[342] была.
— Ну и сказанул! Челяба в переводе на русский язык — «яма». Самый красивый город на свете — Ленинград.
— Ты в ём был? Нет? В натуре фартовый? Мне Лёнчик Питерский трёкал, вор авторитетный, ночевал у нас три ночи. Залётный блатной, щипач классный.
— Так что он тебе рассказал?
— Всё там красивое: дома, улицы, дворцы, мосты. Агромадные дома — с гору! Памятник тама стоит царю — на коне. Конь — со слона! И шкиль тама есть. На крепости. Из чистого золота. Даже ночью горит. А ночи там светлее, нежели у нас днём.
— Читал я об этом. У Пушкина читал. Только не «шкиль», а шпиль. И Вовка Кудряшов, дружок мой, эвакуированный, рассказывал.
— То у Пушкина. Самому бы повидать. Город-то — герой. И люди в ём живут — герои. Лёнчик Питерский трёкал — он сам из Питера. Только нет ему в жизни щастья. Сирота он. Все с голоду померли. В блокаде. Да ты его зырил — на площади. Когда салют Девятова мая в прошлый год шмаляли. Он щипал, а мы на пропале стояли. Пропаль брали.
— Что за пропаль?
— Не знашь? Это когда с чердака или из жопника,[343] к плимеру, сдёрнешь гроши, а фраер ещё не шурнулся,[344] незаметно кенту передашь пропаль, а он — когти рвёт. Схватят щипача поганые фраера, а у ево нету ничево — докажи, что он гумажник уволок. Ты и отвода не знаешь?
— Нет.
— Это когда ты фраеру глаза отводишь, клянчишь, к плимеру, чинарик досмалить, а щипач в энто время…
— Гадость какая! Это же обворовывание. За это в тюрьму… Ты говоришь, я его видел? Доходной[345] такой, костлявый, с фиксой?
— Из рыжья́ — чистова червонного золота. И в лепёхе бостоновой, в белую полосочку. С притыркой[346] на рукаве.
— Я его знаю, гада. Он у меня сушёную рыбу украл. На паровозе, когда я на фронт ехал. С пропеллером. Для «ястребка».
— Божись, што не свистишь!
— Легавый буду! Он ещё бритвочкой хотел мне глаза вырезать.
— Ну! Энто он тебя на «забаюсь» брал.
— Вот тебе и «ну». А ты: Лёнчик, Лёнчик! А он бандюга. Последние крохи у пацана выгреб и сожрал. А меня голодным оставил.
— Не, он чистокровный карманник. Благородный. У ево и папаня урка был. Лёнчик в Ленинград сулился меня прицепом прихватить. Када-мабуть… Када куш[347] ему обломитца.
Я же, слушая Генку, размышлял:
«А почему, собственно, и не поехать в Ленинград? Без Лёнчика. Отцу я не нужен. Мама — за меня, да сделать ничего не может. Стасик с ними остаётся. Маму только жаль. Но… Не в состоянии и она понять, что не получается у меня, как ни стараюсь, чтобы в точности выполнять все их указания. Ну не получается! Что же делать мне? Терпеть? До каких пор? Пока не состарюсь?»
Об этом я ей однажды откровенно заявил.
— Плохо стараешься, сын, — упрямо внушала мне мама, жаря картошку, — старайся, и всё получится. Захочешь — добьёшься. Упорство и труд всё перетрут, сын.
И это втолковывает мне она! К кому же ещё обратиться за толковым советом? Не к кому!
— Дело придумал, — поддержал я Генку. — Поехали в Ленинград. Спросят — соврём, что родных ищем.
— Придумам чево-мабудь подходяще. Я буду песни петь в теплушках жалобные, романецы, которые мамка пела. А ты — будто мой глухонемой брат. Двоюродный.
— Нищенствовать? Ну уж нет. Робить будем. Что мы, с тобой на билеты не наскребём? Я знаю, как можно честно заработать, — в утильсырье. Мне и другие способы известны. Но сейчас они не совсем подходящи. Белых мышей, например, разводить и продавать.
— Неужто такой дурак найдётся, что мышей купит? — перебил меня Генка.
— Так то ж белые. В мединституте их с руками оторвут. Для опытов. И хорошо заплатят. А если со свалок да отовсюду с утра до вечера в ларёк на улицу Пушкина на тележке всякое добро возить, вдвоём, да мы с тобой кучу денег загребём — честно! И через месяц будем по Ленинграду гулять… Посмотрим, что там за шпиль золотой.
Генка помолчал, вероятно обмозговывая мои соображения.
А я уже видел себя в самом красивом городе, на высоком ажурном мосту через всю Неву. Под нами проплывают белые пароходы, украшенные красными трубами, из которых клубятся чёрными шлейфами дыма облака. И капитан на одном из таких пароходов — я, Юра Рязанов. В детстве любил рисовать пароходы и капитанов с трубкой в зубах. А команда отдаёт капитану честь — ведь на мне морская форма с золотым «крабом» на фуражке, кортик на боку, такой, как у Вальки Калача, свободского приблатнённого пацана из старших.
— Пошла.
— Кто? — насторожился я.
— Вода. Семь часов. Даванём клопа ещё с часок? Рано, куда переться? Понта[348] нет.
— Если хочешь — спи, а я покумекаю.
Генка притих. А меня заполнили мысли о будущем нашем житье-бытье. Дома, это очевидно, куда лучше, чем вот так, под баком. Но о возвращении не может быть и речи. Здесь я себя человеком чувствую. Не опасаюсь, что за какой-нибудь пустяк схлопочу затрещину или получу трёпку. Третьи сутки начались моей новой, вольной жизни. Ко мне возвращалось спокойное осознание собственной значимости и того, чем я занят. Я снова поверил в свои устремления, в их осуществление, в мечты, смелые, даже отчаянные.
В Ленинграде легче будет поступить в мореходное училище. Я тотчас увидел себя юнгой — сильным, стройным, с выправкой настоящего «морского волка», в бескозырке с якорными ленточками, в форменке, из-под которой видна тельняшка.
Мореходкой я заболел, когда в отпуск нынче приехал наш свободский парень по старой кличке Калач. Из шпаны, каким я его помнил, Валька за год превратился в благородного мушкетёра.
Он показывал нам настоящий кортик, чем вызвал безмерное уважение к себе, и кое у кого — зависть. Я сразу и страстно захотел стать моряком. Таким, как Валя. И сказал себе:
— Вот основная цель твоей жизни. Действуй!
Об этой своей задумке никому не проронил ни слова. Чтобы не насмехались. А то кое-кто наверняка и дразнить принялся бы:
Так одного пушкинского[349] пацана из соседнего шестого класса доводили. Он проговорился, что поедет учиться на моряка в какой-то город со странным птичьим названием Соловки.
На переменах Юрку Костина[350] подначивали:
— Эй, моряк, ракушки с жопы соскреби!
Или ещё с какими-нибудь подобными шуточками приставали к Костину. А был он не из робких — не одному заводиле достойно отплатил за насмешки. Но в травлю включились старшеклассники, а с ними не так просто было посчитаться. Юрка зло огрызался, сопротивление его вызывало ответные нападки, ещё более беспощадные. Так вот, чтобы над моей мечтой не изгалялись, оставил её втайне.
Юрка же поступил в ДЮСШ в секцию бокса, вскоре получил третий разряд, несколько раз основательно поколотил тех, кто к нему приставал, и от него моментально отстали.
Я представил себя в бескозырке с золотой надписью «Юнга» возвратившимся на побывку в будущем году. Вот я захожу во двор. Навстречу мне по тропинке идёт Мила. Выражение нежного лица её совершенно ново. И смотрит на меня она иначе, чем раньше, после собрания, — с особой заинтересованностью и участием. И я говорю ей:
— Здравствуй, дорогая Мила. Я приехал к тебе. Чтобы повидаться и сказать об очень важном, о самом важном в моей жизни: я люблю…
Тут Стасик откуда ни возьмись возник, ластится ко мне, форменку трогает, на зеркальную бляху с якорем дышит. И мама: «Гоша, где ж ты был, сынок? Я тут без тебя совсем извелась». И папаша рядом с ней стоит, смотрит, молчит, курит беломорканалину. А я ему:
— Вот, отец, я стал взрослым. И ты меня уже не посмеешь тронуть. Я тебя не боюсь.
Генка завозился, толкает в бок:
— Кончай ночевать. Выпуливайся. Сматываемся, пока наверху взрослые не встали.
— А как они нас увидят? Ведь темно, как у негра в животе.
— У них свечки есть, фонарики. Они ж там в карты шпилят, пьют да с дешёвками шухарят — малина![351]
Но на баке не мерцал ни один огарок. Все, наверное, ещё почивали. Возможно, там и не было никого.
Выйдя на улицу, мы прикинули, куда навострить лыжи.
— Похряпать бы чего ни то, — мечтательно произнёс Гундосик. — А то кишка кишке протокол пишет… К тёте Доре — рано.
— Ген, знаешь, что, — озарило меня. — Бежим в военторговскоую столовку, на Карла Маркса. Рядом с улицей Кирова. Знаешь?
— Там же по талонам. Нас и в залу не пустют.
— На кухне пошныряем. Повар мне знакомый, фамилия — Капустин. Не то чтобы лично, а видел, он к Фридманам приходил. Тётя Бася ему галифе шила во с такими кармана́ми. Он — с усиками, и волосы на голове намазаны чем-то — блестят.
— Ну и што, што блестят? Так он и раздобрился… Разевай хлебальник ширши.
— Мы не за красивые глаза, а повкалываем на кухне. Дров нарубить или угля принести. В топке пошуровать, помои вытащить — мало ли чего. Короче: заработаем, не горюй.
Быстро дошагали до улицы имени Карла Маркса. В зал нас, как мы и предполагали, не пустили, и мы перемахнули через забор во двор с запертыми изнутри воротами.
— Вам чего тут надо? — заметил нас мой «знакомый» повар. — А ну, кыш, а то собаку из будки спущу.
Собакой он нас хотел на пушку взять, её только ночью с цепи спускали.
— Дяденька Капустин, можно мы у вас заработаем поесть? — попросил я. — Чего-нибудь, что со вчера осталось.
— Три дня ничего не жрали, — добавил Генка, жалобно хлюпая носом. — Маковой росинки в роте не было.
Повар прекратил рубку мяса на выщербленном толстенном чурбане и переспросил насмешливо:
— Три дня?
— Сироты мы, добрый дядя. Отца на фронте убило, мать — с голоду померла, — бессовестно врал Генка, нарочно гундося ещё сильнее.
Я почувствовал, как от стыда у меня опять запылали уши, — он ведь и меня в «сироты» зачислил.
Но провести повара было, видимо, непросто. Он догадался, что мы не те, за кого себя выдаём, и с усмешкой спросил:
— И что желают бедные сиротки на завтрак: антрекот или месо по-строгановски? Вон тот сиротка, — он кивнул в мою сторону и трахнул палаческим топором по бараньей туше. — Не морочьте меня, я вас видел на Свободе, у Фридманов…
— Мы не просим. Мы любую работу умеем, — ответил я.
— Улепётывайте отсюда. Нищих много, а подать — нечего, всё — казённое.
Я вспомнил о еде, какую этот франт, в белоснежном крахмальном колпаке и в щегольских тёти-Басиных галифе комсоставского синего сукна, щедро отвалил для фридмановских собак, и подумал, что мы не откзалались бы сейчас от подобного лакомства. И ещё подумал: потешается над нами. Ему приятно над другими насмехаться. Вон какой упитанный и румяный. И усы, как у жука, торчат. Жук!
— Ильич! — послышался из-за затянутых марлей половинок двери женский голос. — Капустин! Быстрея! Поторапливайся, Костя!
— Айн момент, — весело отозвался повар, прислонил к обрубку брёвешка страшный свой топор (в книжках с такими орудиями изображали пучеглазых палачей) и шустро рванул к двери.
— Даже фамилие у повара — так бы и сожрал. Ежели тушёная. Как Фридманам приносил, — позавидовал Генка. — Давай кусок мяса стырим.
— Ты что, сдурел?
— Хоть вон тот мосол. Он и не заметит. А я его в штаны заначу, за пояс. А поймают — всё одно не посодют, потому как годами не вышел. Пока поварюга прибежит, я уже через забор — и аля-улю![352]
— Ну и что, што не посадят? Совесть-то у нас должна быть.
— Папаня грит, где совесть у людей была, там хуй вырос.
И шагнул к чурбану, с которого свисала туша.
— А ты кричи, ежли заарканят: «Ничего ни видал!»
— Не тронь! А то я тебе… — рассвирепел я.
— Сварили ба, — умоляюще произнёс Гундосик. — В цинковом ведре.
— Отвали![353]
— Дурак ты, а не кореш! — зло выкрикнул Гундосик.
Я ему показал кулак. Не знаю, куда нас завёл бы спор, если б не поспешное возвращение Капустина.[354]
Ждать чего-либо благоприятного от него, такого зянятого и заполошного, вроде бы не следовало. Но мы не убежали, не отступили, а топтались возле чурбака. Генка держался несколько позади меня.
Повар выпрыгнул во двор, будто вдогонку ему плеснули крутого кипятка. Увидев, что мясо на месте, и, переведя дыхание, он удивленно произнёс:
— Не спёрли месо? Не успели?
— А зачем нам чужое? — якобы равнодушно подыграл Генка. — Мы порядошные люди. Не какие-нибудь шарамыги или кусочники.
— Погодите. Айн момент, — прожевывая что-то на ходу, прошамкал повар, но уже без прежней дурашливости, серьёзно.
Он быстро и сноровисто раскромсал остатки туши, сбросал куски в начищенный до зеркального блеска бачок из жёлтой меди с тем же невероятным словом, начертанным суриком: «месо», положил туда же и секиру, легко поднял посудину и бегом, расшарашив ноги, засеменил к двери, затянутой марлей.
Ждали мы нашего благодетеля долго. Точнее, нам так показалось. Капустин появился стремительно и потому неожиданно. На ладони, как цирковой фокусник Ван Ю Ли, он держал большую тарелку, наполненную чем-то съестным. В другой руке у него были зажаты куски хлеба — несколько. Все — надкушенные.
— Ешьте, огольцы. Во что вам?
Я замешкался.
— Тарелка — государственная, — констатировал он.
— Давай сюда, — нашёлся Генка. — Сыпь!
Сдёрнул пилотку и подставил её.
Повар осклабился, уж очень его забавила эта сценка, и опрокинул содержимое тарелки в Генкин головной убор, отнюдь не отличавшийся, как я заметил ещё в бане, стерильностью.
Я протянул ладони, и повар положил в пригоршню разнокалиберные кусочки серого хлеба. Серого!
— Спасибо, — поблагодарил я.
— Рвём отсюда когти, — засуетился Венка. — Пока шакалов не видать.
— Каких ещё шакалов?
— Которы отымают у малолеток. Парни взрослые. Хапушники. Кодлами[355] ходют и шакалят.[356]
— Те, что на Миассе?
— Да они везде.
Разумное предостережение.
Устроились мы пировать на борту сухого фонтана в ближайшем сквере. Кругом — безлюдно. Палая листва тополей и сирени хрустела под ногами. Мне стало почему-то грустно.
— Смотри-кася, кирюха, есть жа ищё фраера, што хлеб до конца не доедают, — подивился Генка и показал мне ломтик с надкушенным краем. — Во буржуи! Таки и выбросить могут…
— Хлеб никто не выбросит, — уверенно возразил я. — Это ж хлеб.
— А это чо — кирпич?
— Может, он свой отдал. От пайки. Сел завтракать, а тут мы подоспели. Он и подумал, Ильич этот, Капустин: свой кровный отдам, а сам как-нибудь на супе перебьюсь.
Генка мне не поверил, но и спорить не решился.
Из пилотки он выскреб всё до крошки и удовлетворённо произнёс:
— Шик! Шикарно похряпали.[357]
Протёр горстями листвы нутро пилотки и нахлобучил её на голову.
— Знашь, почему поварюга раздобрился?
— Мало ли добрых людей.
— Чекалдыкнул. Ей-бо! От него вином так и воняло. У меня нюх, как у собаки. Маманя хлеб затырит в матрас, кода ей ёбари задатку дадут, а я всё одно найду — по духу.
— Хор. Идём работать. Пока отыщем железяки да притартаем, дядя Лёва свою лавочку откроет, — сказал я. — Местечко одно я давно заприметил — клад!
И мы пошли обратно, на улицу Труда, к трамвайному управлению. Там, за пределами худого забора, ограничивавшего двор от берега Миасса, валялось много обрезков медного провода, куски рельсов и другой металлолом. Нелегко было из свалки извлечь медь.
Мы искренне считали, что всё валяющееся бесхозно на земле, незапертое и неограждённое — ничьё и принадлежит тому, кто его найдёт, — чур, моё!
Забор, не чиненный много лет, обветшал, местами завалился, и территория берега как бы продлялась во дворе. В нём-то мы и стали хозяйничать. Правда, с оглядкой. Дважды нас прогоняла какая-то крикливая женщина в форме трамвайщика. Но мы возвращались и, собрав то, что лежало наверху, выдёргивали и выдалбливали металл, вросший в землю.
Трудились мы без продыху весь день. Очень довольный нами, дядя Лёва не запер свой ларёк вовремя. Подсчитали выручку — получилось совсем немного. Нет, за месяц нам не скопить на билеты до самого прекрасного города в мире. И за полгода не сгоношить.[358] Едва-едва добыли на пропитание. Да и то… Правда, не считая загашника.
— На утиле не сгоношишь, — подтвердил Генка. — За что-то другое надо хвататься. Айда на хату.
Дворами вышли к Генке. Я увидел свой дом издалека — и сердце сжалось в тоске. Но я скрепил себя — пора быть настоящим мужчиной, а не малолетним слюнтяем.
Заглянули в комнату Сапожковых, с незакрывающейся, разрубленной топором дверью, без половиц, в окнах — какие-то картонки и осколки стёкол. На стене, над кроватью, висит, как прежде, большой, раскрашенный акварелью, но уже заметно выцветший фотопортрет молодой и неестественно красивой тёти Паши. А под ним, на чёрном матраце, устроился, свернувшись клубком, дворовый, ничейный, забитый всеми и поэтому трусливый и визгливый молодой пёс Шарик.
Генка шугнул его со своей законной постели. Тот, скуля от страха, выскочил во двор и лишь там забрехал, залился тонко и зло.
Мы обошли дом и постучались к Юрке, соседу Сапожковых. Он оказался дома. Пошушукались с ним, чтобы Галька не услышала. Он нас репой из подпола угостил. Отец его уже не ночевал на заводе, а приходил из цеха спать домой — угрюмый, молчаливый, слова не вымолвит. Таким его сделала гибель жены, повесившейся в коридоре этого дома в сороковом. Или даже в начале сорок первого. До чего несчастливый год!
Отец Юрки мог вернуться с минуты на минуту, и мы, побаиваясь его почему-то, хотя он нам никогда никакого зла не причинял, поспешили к Гарёшке.
Как истинный разведчик, я оглядывался по сторонам, пригнувшись, пересекал открытые пространства, прятался за электростолбы и в подворотни. От отца. Вдруг невзначай повстречается.
Гарёшка попотчевал нас помидорами с солью и драниками-блинами из тёртого картофеля. Там же, на сеновале, мы основательно побеседовали, обсудив мою и Генкину дальнейшую судьбу, — мы верим, что у нас теперь одна судьба. Если б полезли в штаб, меня мог увидеть любой житель нашего дома, а этого я не желал. Поэтому и со Стасиком избегал встречи. Хотя и не терпелось его повидать, обнять на прощание, одарив ценными житейскими советами. Правда, Юрка и Гарёшка пообещали его опекать. Эти обещания меня несколько успокоили.
Гарик, выслушав нас с Гундосиком, согласился, что сбором и сдачей утиля не разживёшься, одобрил мою идею насчёт настоящей работы и на всякий случай дал нам адрес своего двоюродного брата, моего сверстника, по кличке Коля Шило.
Несколько лет Шило, потреяв родителей, обитал в детдоме, а сейчас трудился токарем на ремзаводе недалеко от Челябинска. Жил он там же, в посёлке Смолино, в бараке вместе с другими бывшими детдомовцами и колонистами.
Игорёшка обещал замолвить перед братом за нас словечко во время его очередного прихода в гости. А если мы, решил я, надумаем наведаться туда спешно, то и сами попытаемся договориться, — с Колей знакомы всё-таки. Хоть и шапочно.
С Колькой я раза два встречался здесь же, в Игорёшкином дворе, но не сблизился. Он был постарше на год-два и жил другими интересами — работяга!
Что ж, попытаемся примкнуть к детдомовским. Может быть, примут к себе. Не вечно же под баком жить. Но пока и там сойдёт. Другого-то пристанища нет. Генка уверял: можно ночевать и в канализационных колодцах, там тоже тепло, на трубах центрального отопления, или в подъезде большого дома номер тридцать шесть по улице имени Цвиллинга, однако я отстоял не менять убежища.
Выйдя дворами на улицу Красноармейскую, мы направились к бане, но мне так непреодолимо захотелось увидеть Милу, что я попросил Гундосика одолжить мне верхнюю одежду, не знаю, как её назвать: пальто не пальто, похоже, что это был ватный подклад старушечьей кацавейки, неровно обрезанный понизу под Генкин рост. Махнулись[359] мы и головными уборами. Генкина пилотка не пришлась впору — нависала на глаза. А Генке — тютелька в тютельку. А ведь с головы дяди Вани. Наследство. Вспомнилось, что в младенчестве Генка страдал рахитом и потому имел большую голову и уличную кличку соответственную получил — Головастик. Гундосиком его прозвали позже.
Этот головной убор мне явно не подошёл по размеру. Гундосик, окинув меня оценивающим взглядом, тем не менее произнёс:
— Личит.[360] Никто не додует, что это ты. Даже родный папаня.
В этом наряде, ещё глубже надвинув свою цыгейковую порыжевшую шапку, прошёл во двор двадцать второго дома никем не узнанный, влез на чердак и стал наблюдать за нашим домом.
Мне повезло. Я аж вздрогнул от какого-то внутреннего сильного толчка — увидел, как на крыльцо вышла Мила, спустилась с него с ведром в руке, быстро и легко зашагала к уличной колонке.
Я еле дождался её возвращения, весь напрягшись от переполнявших меня чувств, — даже пальцы дрожали.
Вскоре я успокоился. Сушь во рту исчезла. Спустился вниз.
Мне значительно полегчало. Сил словно бы прибавилось. В памяти, из её светлых глубин, возродилась и зазвучала прекраснейшая мелодия, та, что однажды летним утром услышал в наушнике, лёжа в своей сараюшке на железной дедовской кровати.
Женский голос, ласковый и щемяще печальный, пел о том, что зима пройдёт, и она, певица, вновь встретится с тем, кого ждала. Я млел на ходу от этой внутренней, только мне слышимой музыки, окрылённый тем, что увидел Милу. Но грусть просочилась сквозь чудную мелодию — когда-то теперь мы ещё встретимся? Зима вся впереди. Длинная-предлинная зима. А нынче она будет много дольше, вдали-то от всего родного, привычного.
Сухая колючая мелкая крупка сыпала в лицо, раскатываясь под ногами во все стороны. Генкин пальтуган вовсе не грел, и я озяб.
Гундосика застал сидящим на скамейке рядом с входом в мужское отделение. Он спал, прислонившись головой к стене и раскрыв рот, — натаскался за день железяк-то.
Рядом гоготали мужики, курившие едкую махорку. Соседи задевали его локтями, но Генка и ухом не вёл — не чувствовал.
Я его еле растормошил.
— Идём под бак. Здесь кто-нибудь из знакомых увидит, — попросил я.
Генка встал, пошатываясь, и мы, напившись из-под крана в туалете и переодевшись, подались в нашу «заначку». Сейчас лохмотья под баком представились мне мягче пуховой перины тёти Тани, которой она не раз хвасталась: «приданое, чистый пух».
Отделение на втором этаже почему-то не работало. На скамье в пустом предбаннике дремал какой-то мужчина, на которого мы не обратили внимания. Пригнувшись, вползли на площадку и открыли дверь. Опять, держась за рукав Генкиного одеяния и вытянув вперёд руку с растопыренными пальцами, я шаг за шагом приближался к желанному месту отдыха. И тут слепяще ударил направленный в глаза электросвет. Я зажмурился и отпрянул. А меня уже крепко держали, обыскивали, выворачивали карманы.
— Чего вы! — пискляво ерепенился рядом Генка. — Чего лапаете?
— Федорчук, обыскал того, что постарше?
— Так точно. Деньги.
— Какая сумма?
— Три двадцать.
— А у второго?
— Ничего.
«Милиция! Вляпались…» — догадался я.
— Вниз их. Без шума. В отделе разберёмся.
Меня и Генку сопровождали спереди и сзади двое в гражданской одежде. Тот, кто вроде бы дремал на скамье, при нашем появлении резво вскочил и что-то сказал нашим конвоирам, я не разобрал что.
Во дворе бани стоял чёрного цвета лимузин. Без окон, с зарешёченной дверцей сзади. Нас затолкнули в него, предварительно ещё раз обыскав. В автобусной утробе возбуждённо гомонили, бесцеремонно толкаясь, несколько человек. В тёмном углу повизгивала какая-то женщина. Кто-то гоготал и даже отплясывал чечётку. Как можно веселиться в такой обстановке?! Сумасшедший дом!
Мы тесно прижались друг к другу и молчали. Нас тут же оттеснили от решётчатой двери развязные и крикливые парни, во всю изъяснявшиеся — на показ! — на воровском жаргоне — фене.
— Ништяк, — подбодрил меня Гундосик. — В «воронке» прокатимся. Лафа.
— Чему радуешься? — недовольно шепнул я Гундосику.
— Весело! В облаву втюрились! Давай договоримся: друг друга не знаем, на чердак случайно залезли. В несознанку прём. Идёт? В баню пришли помыться, ясненько?
— Идёт, — ответил я и тут же поправился: — Зачем я буду врать, что не знаю тебя?
— Так надо, кирюха. Или ты расколоться надумал перед мусорами?
«Пожалуй, о себе и впрямь не следует там распространяться. К чему?» — мысленно согласился я с Генкой. А друг шептал в ухо:
— Банду имают. Слышал — «Чёрная кошка»?
— Не слыхал.
— Темнота! Слушай: они кошку подсовывают под дверь хаты, которую намылились грабануть. И сапогой р-раз! На еёный хвост. Кошка как забарнаулит: мм-м-я-йя-я… Хозяева, фраера, дверь открывают, а их глушат. Начисто. А опосля на куски режут, в чемоданы, и по городу разбрасывают. Жуть кошмарная!
— Враньё всё это, — сказал я, холодея от страха.
— Натуральная правда, — громко возразил Генка. И тут же спросил:
— Как думашь, найдут дяди-гади Шекспира или нет?
— С собакой — найдут. А так — нет.
— Пофартило — у их нету собаки.
— А куда нас повезут?
— В мелодию. Куда жа ишё. В седьмо отделения. К Бате.
— К какому бате, чьему?
— К Батуле. Начальничку. Давно с им не видался. Кликуха у его такая — Батя. Вроде как он всем нам отец родный.
Батула — знакомая фамилия. Она высветила в памяти моей портрет человека — усталого, терпеливого, озабоченного, похожего внешностью на простого работягу с ЧТЗ. Тогда, в сорок третьем, он был дежурным отделения милиции — вспомнил.
Времени-то прошло сколько — целая вечность, больше трех лет! Но встречи с Батуло я всё равно не желал. Хотя он наверняка уже сто раз забыл обо мне. Может, обойдётся? Что мы такого натворили с Генкой? Ничего ровным счётом. Зашли на чердак. Мало ли зачем можно туда заявиться.
Тем временем наши фамилии, как и других доставленных, записали в журнал.
— Ген, давай скажем, что разыскивали голубя-почтаря, который сел на крышу бани. Как?
— А чо? Законно. Подписываюсь.
Избежать встречи с капитаном Батуло не удалось, как я внутренне этому ни сопротивлялся.
— Рязанов! — вызвал меня из «отстойника» — огороженной барьером части прихожей — дежурный милиционер.
— Я! — машинально отозвался.
— К начальнику.
Во рту у меня будто самум пронёсся. И всегда так, когда волнуюсь.
— Можно попить?
— Пей. Быстро.
Я нацедил из цинкового потемневшего бачка в прикованную к нему цепью кружку воды и крохотными глоточками оттягивал время нежеланной встречи. Но вода кончилась-таки. Когда я потянулся вторично к крану, дежурный отрезал:
— Хватит! Шагай!
Я прошёл в кабинет и, не глядя на хозяина его, потупился.
— Здравствуй, Рязанов. Юрий Михайлович. Тридцать второго года рождения.
— Здравствуйте, — промямлил я.
— Да, мы с тобой уже встречались. Герой, помнится, тебя пацаны зовут.
Произошло худшее — он узнал меня. Невероятно! Ну и память.
— Так-так… Выходит, снова к нам пожаловал. Это плохо, Гера. Я тебя тогда предупреждал?
— Ни за что сцапали.
— Ни за что? А что вам с Сапожковым Геннадием Ивановичем понадобилось в техническом помещении бани номер один?
— Голубя искали. Почтарь у нас улетел.
— Неправду говоришь, Гера. Постыдись.
— Почему это неправду? — вяло оправдывался я, осознавая свою нечестность, и то, как я выгляжу перед умным пожилым человеком.
— Потому что в глаза не смотришь. Посмотри мне в глаза.
Я поднял глаза, но не смог долго удержать взгляд и снова сник.
За минувшие три с лишним года Батуло очень изменился — постарел поразительно, похудел, усы его совсем побелели, волосы на голове — тоже, под глазами чернели мешки, резче проступили морщины на щеках и лбу. Видать, начальника порядком измотала работа. Или болезнь. Всё-таки, наверное, работа. Вон с какой публикой каждый день имеет дело — оторви и брось!
— А теперь признайся как пионер, или тебя уже в комсомол приняли? С какой целью проникли на чердак бани? К кому шли?
— Я ж сказал: голубя искали. Да и не пионер я никакой, и не комсомолец.
— Голубя? Или людей? А такие тебе «голубки» известны?
И он перечислил по памяти с десяток фамилий и кличек, ранее мною никогда не слышанных.
— Нет. Не знаю никого.
— Хорошо. А по кличкам знаешь, не будешь отрицать? Свисток, Коля Маля, Коля Пионер, Валька Курица, Ляпый, Юрица, Витька Икра, тёзка его — Тля-Тля, Гудман…
Он продолжал называть клички, но я его уже не слушал. Ляпого я видел много раз — отчаянный подросток с хулиганскими замашками уличного атаманчика. Он, кстати, местный, недалеко от бани живёт, в полуземлянке. И некоторых других тоже знал или видел.
— Нет, никого не припомню.
— Опять неправду говоришь. С Ляпым ты не мог не встречаться. На улице, на реке. А теперь скажи мне откровенно: почему из дому ушёл?
Я онемел. Чего угодно, лишь не этого вопроса ожидал. Откуда, от кого он мог узнать?
— Плохо. Очень плохо, Гера. Ты стал неискренним. Скажи мне и поверь, что добра тебе желаю: что произошло? Дома неприятности? Мать зашпыняла? Отец наказывает? В школе учёба не совсем гладко идёт? Или ещё что? Почему из дому-то ушёл? Или тебя на этот шаг кто-то подбил? Кто?
— Никто меня не подбивал. Просто не пошёл домой, да и всё, — замкнулся я.
«Ишь чего захотел — чтобы я пацанов предал», — воспротивился я мысленно.
С этого мига мне стало ясно, что ничего ему не скажу. Не мог я рассказывать этому чужому, возможно и хорошему, человеку об отце, о его отношении ко мне, о пацанах, о моих мыслях, устремлениях, мечтах… И о себе я подумал с какой-то ясной беспощадностью: сам во всём виноват! Делал бы то, что положено всем, не было бы ничего этого. Испорченный я человек. Не как все обычные хорошие ребята. Правильно Александрушка пилила меня в своём школьном кабинете. Я ту беседу запомнил. Завуч раздражённо выговаривала мне:
— Почему ты, Рязанов, не хочешь быть таким, как все? Почему? Учишься неважно, хотя способности у тебя есть. Отвечай: почему? Это так просто: выучить вовремя слово в слово, что задано преподавателем. И никто тебе замечаний делать не станет.
— Я не могу слово в слово. Не получается, — ответил я правдиво.
— Почему не получается? Другие могут, а ты не можешь?
— Я могу повторить, как понимаю. Своими словами. Я ведь не попугай.
На этом добрый наш разговор завершился. Далее он пошёл в другом тоне.
— Своими? — разозлилась Крысовна. — Как понимаю! Да ты у нас, Рязанов, мыслитель! А этого от тебя никто не требует. Никакие твои «оригинальные» мысли никому не нужны. От тебя требуется вы-у-чить! Понятно? — вы-у-чить то, что положено. Что напечатано в учебнике и рассказано учителем. И запомни на всю жизнь: повторение — мать учения.
— Зачем зубрить то, что и так понятно? Или не хочу.
— Знаешь, Рязанов, либо ты будешь учиться, как все и как полагается по программе, либо распростишься со школой. Такие, как ты, нарушители режима, школе не нужны. Усвоил? Не попугай.
Я упрямо промолчал. Хотя подмывало заявить: да, я не попугай. Она поняла меня правильно.
На том мы и расстались. Довольно мирно. Похоже, школе я и в самом деле не нужен, права Крысовна. Не хватает мне послушания. Не умею я безоговорочно подчиняться приказам старших. Это мой большой недостаток. И ничего поделать с собой не могу.
— Так что? — услышал я голос Батуло. — Не глупи. Будешь со мной откровенным? Пойми, я тебе помочь хочу. Пока не поздно.
«Ничем ты мне не поможешь, — ответил я начальнику мысленно. — Никто мне не поможет. Только я сам».
— Так. Не хочешь. Ты скоро убедишься, что напрасно вёл себя неискренне. И повторяю тебе как сыну: не надо сюда больше попадать. Пойми — ты уже почти взрослый. Дорогу в жизнь следует пробивать не с милицейских приводов и протоколов. Без образования в жизни трудно сделать то, что тебе предстоит. Парень ты, похоже, неглупый, вот и не валяй дурака. Топай домой. Условились?
Явившийся дежурный спросил начальника:
— Под расписку родителям?
— Отпустите его. Сам до дому дойдёт. Не обманешь меня, Гера? Домой пойдёшь?
— Домой, честно говорю, не пойду, — ответил я — чтобы не видеться с отцом. — А Сапожкова вы отпустите? Он тоже ничего плохого никому не причинил. Честное слово. Он просто несчастный пацан. Не везёт ему в жизни. А он хороший мальчишка. Сегодня мы с ним весь день работали. Три двадцать за сданный металлолом выручили. Это разве не заслуживает похвалы? Пусть подрастёт — где-нибудь устроим. Работать будем.
Батуло долго изучающе смотрел на меня, тяжело вздохнул и ответил:
— И Сапожкова отпустим. Чего ему у нас делать? Иди. Прощай. Отцу скажи, чтобы пришёл ко мне на беседу, я направлю повестку. Я здесь всегда. Пусть приходит в любое время.
Так он и разбежался. Хотя по повестке, возможно, и придёт. «Вот и беседуйте с ним, мне всё равно», — подумал я. И машинально сказал:
— До свидания.
Я безошибочно чувствовал, что начальник милиции продолжает рассматривать меня, словно ожидая продолжения беседы. Откровенной. Обо всём, что мне известно. Однако она не состоялась. Я не взглянул ни на него, ни в его глаза и молча вышел из кабинета.
С облегчением миновал обшарпанные, окрашенные в тёмно-зеленый цвет и захватаные, грязные стены милиции, с силой захлопнув за собой раздрызганную входную дверь.
Куда теперь? Дождусь Гундосика.
Ждал я его довольно долго. Совсем смеркалось.
Появился он вместе с тётей Пашей. Когда она успела пройти в отделение, не заметил. Наверное, когда Батуло меня допрашивал.
«И вовсе никакая не страшная милиция, — подумалось мне. — Чего её бояться? И Батуло — ничего мужик. Справедливый… Но чем он мне поможет? Лишь навредит. На тех, кто якшался с милицией, пацаны смотрели косо, а иногда и колотили «втёмную».[361] Ох и память у него! Такую бы мне…»
— Пошкандылял я, — объявил Генка тёте Паше, когда я к ним приблизился.
— Куда попёрлись-то? — напутствовала нас Генкина маманя, судя по внешнему виду — с глубокой похмеляги.
— По своим делам. Тебе-то чево? Поканали, Гера.
— Ты что с ней зубатишь? Мать всё-таки, — пожурил я друга.
— Да кака она мне мать… Глаза бы не видали. Деньги наши менты казачнули?
— О чём ты?
— Жухнули? По-русски не понимашь? Деньги где?
— Вот. Отдали всё, до копейки. Я за них расписался.
— Прожрём? На пирожках?
— По штуке. И в баню идём, в прожарку, — предложил я. — Не могу больше — кусаются. А после — к Шилу. Ночь где-нибудь перекантуемся? Иначе мильтоны опять загребут.
— Не забирут, не бзди. Облава закончена. Гады по новой в один день не шманают. Ежли только каво пасут. К примеру, мокрушника какова-мабудь. Аль побегушника из зоны. Не, не приканают по новой — нарыхали[362] уже. Отметились уже в милодии. А о прожарке — непривышный ты, Ризан. Они тебя потому и кусают. А меня — так, маненька. Ну, пошкандыляли!
— Куда?
— Напару, темнота. Под бак. Я заоднем Шекспира заберу. И фантики. В Лёнчиковом лопатнике притырены. Из натуральной кожи.
При упоминании Лёнчика я моментально опять вспомнил праздничную городскую площадь девятого мая сорок пятого года, и меня захлестнуло возмущение.
— Сволочь — твой Лёнчик. Он подлый вор!
— Тебе што, фраеров жалко? — хорохорился, явно копируя кого-то, возможно самого Питерского, Гундосик.
— А ты кто — не фраер?
— Я? Я босяк! Меня в закон блатные примут, потому как я с ними на воле бегаю. И братан мой в колонии чалился… Во! Блатным буду. Чистокровным…
— Ну и шуруй к своим блатным, если у тебя ни стыда ни совести нет. И заткнись — не смей об овоще мне говорить, который якобы вместо совести вырос, — глупость чужую повторяешь, как попугай. Ты лучше сам своим шарабаном подумай: с ворами или со мной? Выбирай!
Ещё малость, и мы расстались бы. Рассорились вконец. Гундосик, однако, колебался в выборе. Я продолжал:
— Если ты своего Лёнчика ждёшь, то и жди. Я один, без тебя, на работу устроюсь. Ну?
Генку охватило смятение. И, видя, что я решительно приготовился выполнить своё обещание, он спросил:
— А в Ленинград чухнём?
— Непременно. Как только заработаем на билеты.
— Ну лады, айда… А пока возьми свой чесно заработанный рупь шестьдесят.
И мы подались в неизведанное. Всякое могло ждать нас впереди. Генка думал о чём-то своём. И мурлыкал любимую песенку тёти Паши:
Поздно ночью, но без приключений, мы добрались до ремзавода, в нескольких километрах от Челябинска, недалеко от деревни на берегу озера Смолино. Место нам давно знакомое. В прошлые годы мы бегали на озеро купаться, загорать.
…Усталые, измочаленные до опустошения событиями трудного дня, мы сидим за длинным, грубо сколоченным дощатым столом, по обе стороны которого стоят такие же скамейки. Барак выглядит неуютным — сарай сараем. Нас окружили коротко стриженные ребята в рабочих спецухах. Одни почище, другие позамурзаннее, неотмывшиеся, с въевшимися в поры кожи чёрными точками. Они все явно старше меня. У некоторых — предмет моей зависти — пробиваются усы. И говорят эти бывшие детдомовцы басовито, не то что мы с Генкой, — Гундосик вовсе пискля. И с виду — замухрышка.
Шила нет в бараке — на работе.
Вкалывают ребята в три смены. Его-то мы и ждём, глазея по сторонам. Слушаем радио, висящее за нами, на стене, да отвечаем на бесконечную вереницу вопросов любопытствующих бывших детдомовцев и колонистов, а точнее — бывших обитателей детских концлагерей. Не уверен, что место и нашей будущей работы и остальной жизни чем-то будет отличаться от прежней жизни этих ребят, разве тем, что не за колючкой. И только. Знаю из рассказов того же Коли Шило.
Наконец появляется Колька. Он узнал меня и Гундосика. Деловой парень — распоряжается, командует. Парни ему подчиняются. У них тут, видать, дисциплина, что и у взрослых на заводах и в мастерских — государственная.
В умывальной комнате, совсем неотапливаемой, Колька, оголившись по пояс, ополаскивает себя холодной водой, фыркает и беседует с нами. В основном со мной. И это беспокоит Гундосика. Он нервничает, суетится, предчувствуюя что-то неблагоприятное для себя. Коля успокаивает его.
— Скоро воспет придёт. Он у нас — человек! Мужик честный. Всё обскажешь ему, как есть. Не ври — назад потопаешь. День рождения залепишь такой: двадцать восьмого декабря тридцатого. Короче: скоро шестнадцать. Не забудь, а то придётся сматывать удочки. Феню не любит — учтите. Матерщинную.
— Я так и буду кричать, — вклинился Генка.
— Не поверит, гайнёт, — заверил Шило. — Старый воробей — на мякине не проведёшь.
— Поверит. Я умею… От фонаря…
— И не рыпайся. Он мужик тёртый и битый, сам детдомовец и колонист — не проханже тебе этот номер.
Гундосик приуныл.
— Вообще-то в механический цех работяги нужны, — продолжал Шило. — Только темнить не советую. Лучше скажите как есть.
Но Генка ершился, надеясь обмануть воспитателя. И я высказался за друга: ничего, что маленький, зато сообразительный и ловкий. На заводе у мамы во время войны такие же ребята, не старше, работали на сборке. А продукция, ответственней не придумаешь — мины. Для фронта!
Как-то неприметно появился воспет. Поначалу он мне не понравился. В такой же серой, из бязи, форменной одежде, что и его подопечные. Стрижен тоже «под нулёвку». Он выглядел очень состарившимся детдомовским пацаном. Хмуро спросил ни у кого:
— Где Струк? Почему опять не вышел на смену? Кто знает?
— Из города не вернулся, — пояснил Шило.
— Я ж запретил ему. Он к хозяину, что ли, рвётся? Режим злостно нарушает. Не хочет здесь честно вкалывать — под конвой пойдёт, на лесоповал. Он этого не понимает, что условно освобождённый? Ус-ло-вно… Ещё и за самоволку намотают.
— Толковали мы с ним. По душам, — сказал снисходительно Шило. — Обещал. Но вот… Вертухнулся.
— Если моё слово ему не авторитет, пусть послушает мнение совета. Сегодняшний его прогул обсудить. Виноват — наказать. Никакую туфту в оправдание не принимать. Предупредить: не хочет по законам коммуны, и вообще по нашим законам, жить — нехай лагерную лямку тянет.
— Будет порядок, Николай Демьянович, — заверил Шило. — Мы со Струка стружку снимем. Он у нас попляшет. Второй раз всех подводит под монастырь.
— Не забывайте о мере. Чтобы по справедливости. Всё взвесьте: и против, и за него. Учтите: судьбу человека решаете. О справедливости не забывайте. Это главное.
— Всё будет выполнено точно, по штангельциркулю,[363] Николай Демьяныч. Если уж припекло — у него маруха в городе, — договорился бы о подмене. Не отказали бы.
— Короче, сразу же как нарисуется[364] — собирайте совет.
— Лады.
Неулыбчивость воспета, скучный, суровый тон его речи, какая-то вялость движений насторожили меня: ох и зануда, видать!
— Николай Демьяныч, — продолжил Шило. — Вот тут припёхали ребята из Челябы, просятся к нам. Работать и жить. На общих правах.
— Здорово! — поприветствовал нас воспет. — Лопать будете?
— Мы вообще-то… — начал было я.
— Как из пушки жрать хочем, — поспешно перебил меня Генка.
— Садитесь за стол. Сейчас завтракать будем. Или ужинать? Совсем время потерял. Кто дежурный?
— Я, — откликнулся одни из парней. — Сёдня картошка мятая без ничего и по неполной кружке молока. Хлеб — паёчный. Лепёшек не напекли — отруби кончились. В обед на болтушку остатки засыпали.
— Поделишь и на этих двоих. Осталось что-нибудь? Как вас по именам-то? По именам, не по кликухам.
Мы назвались.
Вблизи я разглядел: у Николая Демьяновича было бледно-бумажное лицо, будто он никогда не попадал под лучи солнца.
— Щас я сполоснусь малость, и начнём толковище за вас, — произнёс он хмуро.
— Чего он такой? — спросил я Шило, когда воспет вышел в умывальный отсек.
— Ухайдакался — чего. Две смены оттрубил. Вместе с нами вкалывает, наравне. Не смотри, что воспет. А сёдня ещё и за Струка…
— А где он живёт?
— Здесь, в бараке. В каптёрке. Он с нами в коммуне. В общий котёл свою зарплату бросает. Даже две. И лопает с нами. Такой воспет. Вы его по имени-отчеству называйте, поняли? Так положено.
Прошло несколько минут, Николай Демьянович вернулся, выглядя уже бодрее.
— Братва, — обратился он к коммунарам. — Забьём козла перед ужином? Сейчас сил нема. Пойду отсыпаться. Коля, будешь за меня. В случае чего — разбудишь. А ты рассказывай, мы слушаем.
Я застеснялся — столько глаз на меня уставилось, столько ушей оттопырилось, что ограничился несколькими словами, еле-еле произнеся их. Нехорошая привычка — робеть перед кем-то. Ну ладно — перед Милой, а тут-то такие же пацаны.
— Да ты не штопорись, — подбодрил меня воспет. — Здесь обо всех всё знают. У нас — коммуна.
— Я все рассказал, — пробормотал я.
— Родителей не жалко? — спросил воспет, не глядя на меня, чтобы, видимо, не смущать ещё больше.
— Жалко. Маму и братишку.
— А отца — нет?
— Пахан у него — пьянчуга, — ввернул Шило. — Запойный. Ханурик.
— Не ври, Коля, — вскипел я. — Никакой он не запойный. И не ханурик вовсе… Он под Сталинградом воевал. И Будапешт освобождал. У него медали есть. Боевые.
— Если у тебя такой хороший папочка, чего ж ты к нам прикостылял, домашний мальчик? — язвительно спросил меня какой-то парень с отсутствующими передними верхними зубами.
— Не при рогом, Карзубый, — одёрнул его Шило, — куда собака хуй не суёт.
— Шилов, — поправил Кольку воспет, — со словечками поаккуратней. Не то штрафные заработаешь.
— Я… я… — замялся я — комок подступил к горлу.
— Успокойся, — сказал мне примирительно Николай Демьянович. — Значит, дома тебе не светит?[365]
Я молчал. А во мне бушевала буря. Пот выступил на лбу. И весь я повлажнел — от волнения. Решалась моя судьба.
— Хочешь с нами жить и работать? — спросил воспитатель.
— Хочу, — моментально ответил я. — Без дураков.
— Сколько тебе стукнуло?
— Шестнадцать. Двадцать восьмого декабря будет.
— Ну, ну…
Больше всего в этот момент опасался, что воспет уличит меня во лжи. От этого переживания стало трудно дышать. Превозмогая себя, твёрдо сказал:
— Четырнадцать. Пятнадцатый в мае пошёл… Честно. — Поправился я, не желая лгать.
Генка ткнул меня в боку. Я оттолкнул его руку локтем и взглянул в глаза воспета — будь что будет!
— Учти — работа у нас в три смены. Нелёгкая. Короче, тяжёлая. Утомительная. И грязная. К тому же ответственная — трактора ремонтируем. И всякую другую сельхозтехнику. Живём по режиму. Потянешь? Не испугаешься? Силёнок хватит?
В голосе воспета я уловил что-то такое, что сразу сбросило с души моей давившую тяжесть. А моего признания он будто не расслышал. Или сделал вид, что не обратил на мои слова внимания.
— Не испугаюсь, — поспешил убедить я воспета. — Я выносливый. И к работе с детства приучен.
Но как-то не по себе мне стало от слова «режим». Не умею я безоговорочно действовать по чьёму-то приказу. Не могу безропотно подчиняться любым велениям старших. И сверстников. А теперь, хочешь не хочешь, придётся смириться. Хотя с детсадовских времён испытываю отвращение к этому слову — частенько же меня наказывали за «возмутительное» непослушание и «неположенные» увлечения — стоянием в углу, уверяя, что так будет всегда, если я не прекращу нарушать режим. Ну и далее.
— Нет, не испугаюсь, — повторил я уверенно. — Обещаю.
И подумал: лишь бы не домой. Лишь бы отец за спиной не стоял. Лишь бы не опасаться ежесекундно, что на загривок с размаху опустится его тяжёлый кулачище. Лучше уж режим. Да и презрение его постоянно скребёт. Я ему докажу, что никакой не балда,[366] а нормальный человек.
— А что делать умеешь, Рязанов? — спросил воспет. — Конкретно.
— Всё умею.
Кое-кто из ребят заулыбался. Раздались реплики:
— Универсал.
— Слава универсалу — по хлебу и салу!
— Профессор! Кислых щей…
Воспет неодобрительно глянул на остряков-самоучек, и те умолкли.
— Так что ты умеешь?
— Воду носить, пол мыть, дрова пилить и колоть, печь топить…
— Этим ты займёшься после основной работы. У нас самообслуживание. Никогда не слесарил, не приходилось? На заводе или в мастерских не рабатывал?
— Нет. Плотнику помогал в КЭЧ.[367] Старичку. Всё лето. Без прогулов.
— Так. Сначала на мойке потрудишься. А после посмотрим, куда тебя определить. Условия такие: весь заработок — в общий банк. Из него платим за доппродукты. По заявлениям, устным, деньги выдаём на что-то нужное. Для покупки барахла и прочего. Годится? Если на твоём счёте накопится кое-что.
Я согласно кивнул — горло от волнения перехватило.
— Всем заправляет совет — пятёрка. Выборная. А всего нас тридцать один гаврик. Ты — тридцать второй. Коммунары! Примем Геру Рязанова в свою семью? Кто — «за»?
— Вообще-то в метрике я записан Юрием.
Против оказался один — Карзубый.
— Доказательства? — потребовал Шило, председательствующий на собрании.
— Чухнёт он от нас — домашняк. Нежного воспитания. Такие сразу сопли распускают, — резко высказался Карзубый.
— Ручаюсь за него, — заявил Шило. — Я этого пацана лично знаю. Добрый хлопец. В блудягу не заведёт. Надёжный.
— Если подписываешься — другое толковище, — сдался Карзубый. — А я остаюсь при своём мнении.
Как мне сразу полегчало, когда воспет произнёс:
— Принят.
И тут Генка, ёрзавший рядом со мной, как на гвозде, выкрикнул:
— А я — тридцать третий! Я тоже всё умею. И на мойку согласный. Хоть посуду, хоть што…
— Кружки от пива ополаскивать, — съязвил Карзубый.
— А с пряников пыль сдувать умеешь? С кондитерской фабрики заявка поступила, — схохмил другой коммунар.
— Братва, имейте совесть, — урезонил ребят воспет и внимательно, даже пристально всмотрелся в Гундосика. И глаза у него стали такими, словно испытывал боль, которую терпел и скрывал. Такие глаза у мамы бывали, когда что-то очень неприятное обрушивалось на нашу семью.
— Тебе сколько? — спросил он тихо.
— Пятнадцать, — выпалил Генка. — Шишнацатый.
— Эх, — выдохнул Николай Демьянович. — Не надо, Гена, слона в спичешный коробок заталкивать. Десять лет тебе.
— Всё равно примайте в коммуну, — отчаянно потребовал Гундосик. — Не раскаитесь — я тожа сильный.
— У тебя и шея, как у быка, — опять подначил бедного Генку Карзубый. — …Хвост. Гы-гы…
— Он ловкий, — вступился я за друга. — Примите его… пожалуйста.
Последнее слово прозвучало в компании, окружавшей нас, нелепо.
Лицо воспета со следами старых шрамов перекосилось, как от занывшего дуплистого коренного зуба.
— Эх, Гена, да разве я против тебя. Всех бы вас, таких бедолаг, возле себя собрал, да не имею права. Меня за тебя по головке не погладят. Пустят в тасовку.[368] Не оправдаешься.
— Ну, не откажите, — взмолился Генка. — Не откажите сироте, пожалста…
Интонация, с какой Гундосик произнёс свою просьбу, очень походила на ту, когда он попрошайничал.
— Не могу, — выдохнул воспет. — Братва не даст добро. Не могу. Малолетка ты.
И тут случилось непредсказуемое. Гундосик завопил — дико, изо всех сил. Он повалился со скамьи на пол, уронив ворохом рассыпавшуюся книгу, которую держал за пазухой, и стал кататься, рыдая и что-то выкрикивая. К нему бросились ребята. Я бухнулся рядом. А он вырывался и даже кусался. Я мельком, случайно взглянул на воспета. Лицо его побелело ещё больше. В глазах, похоже, светились слёзы.
Он встал из-за стола, сказав никому и всем:
— Успокойте его…
И вышел из половины жилища, которое обитатели барака называли халабудой.[369]
Дежурный уже расставил алюминиевые миски с картофельным пюре, разложил ложки из того же металла, и многие сели за стол, приступили к еде, не обращая ни на кого внимания.
— Не хочу! Не хочу! — орал Генка. — Не хочу домой! У меня нету никакова дома! А-а-а!
— Генк! — потянул я его за рукав. — Ты чего? Что с тобой?
Но он не слышал меня, сотрясаемый горем — огромным горем, которое, казалось, давило и корёжило его.
Шило подхватил Гундосика под мышки, поднял и усадил на скамью, причём оголился живот сопротивлявшегося Генки с крупным пупом. Какой-то коммунар возрадовался этому зрелищу и засмеялся.
Гундосик сидел, поникший на скамье, закрыв лицо цыпочными[370] ладонями, и рыдал. А позади нас развесёлой песней надрывалось радио, словно пытаясь заглушить истерические Генкины вопли.
— Почему я такой нещасный уродился! — гугнил он, захлёбываясь. — В колонию не содют — лет мало, в детдом не берут — мать есть. Э-а!!! Штоб она подохла, маманя моя! Отцу хорошо, он копыта отбросил… А меня, как собаку, бросил…
«Легко на сердце от песни весёлой! — назойливо верещал репродуктор. — Оно скучать не даёт никогда…»
И, уже обессиленный рыданиями, он проговорил:
— Не хочу к мамане с еёными ёбарями. Не хочу под кроватью на полу валяться! Они меня изнасильничают! Как Боба… Не хо-чу! Я лучче под паровоз брошусь. Как Моня.
Так вот почему Генка не желает возвращаться к себе домой — боится. И это небезосновательно. Подонки — собутыльники тёти Паши — способны на любую мерзость, любое преступление! Бедный Вовка! Он даже не осознаёт, что с ним совершили.
Я обнял Генку, но он отталкивал меня. Тогда я принялся подбирать листки книги, часть которых уже ходила по рукам коммунаров, — они жадно разглядывали иллюстрации.
…После оформления привода в отделение милиции мы решили, что нам ничего не остаётся, как вернуться в баню, под бак, выспаться и уже днём попытаться добраться до заводской общаги. Так мы и поступили.
Генка вытащил из заначки[371] все свои сокровища: книгу, фантики и другие драгоценности. Мы благополучно выбрались на свежий воздух и направились, минуя улицу Свободы, на озеро Смолино — я настоял.
И вот мы здесь в общежитии. Ждём решения Генкиной судьбы. Окончательного.
Вернулся Николай Демьянович.
— Успокойся, — сказал он Генке доброжелательно. — Я за тебя, Гена Сапожков, скажу слово в детдоме. Может, и примут. Как исключение.
— Да, возьмут, как жа, — всхлипывал Гундосик, — держи карман шире… Мне сказала тётка из райно, что сирот много, а у меня… А-а-а… — И он снова завыл. Никак не может успокоиться. Разбередили пацана, за живое задели.
— Да, ты не сирота. Ты несчастнее, чем сирота, — сказала Николай Демьянович. Мы тебе постараемся помочь, Ген. Писать умеешь?
— Умею. Я грамотный. Сам научился. Шекспира читаю.
Генка ожил и завертелся, озираясь по сторонам в поиске тома. Я протянул ему книгу.
— Вот, — показал её воспету владелец раритета.
— Хрен с ним, с Шекспиром, — сказал Николай Демьянович. — Напиши все свои данные: родился, крестился и прочее. Как звать родителей. Где работают.
— Нигде не работали! — закричал Гундосик зло. — Всю-ю жись на дармовом!
— Так о себе и пиши, дошло? Без закидонов. Я с той бумагой в детдом поеду, а потребуется — и в районо, гороно… Пока не вышибу. А ты у нас поживёшь. Помогать будешь.
Генка прекратил метаться и суетиться и лишь икал беспрестанно. От растерзавшей его дикой истерики. От предельного отчаянья. Такого психоза я ещё никогда не видел. И о несчастьи Боба тоже ничего не слыхивал.
— Есь ручка и чернила? — заспешил Генка, вероятно, опасаясь, что коммунары могут передумать. — Но у меня лучше получатса карандашом.
— Сейчас — завтракать. А то всё остыло.
Генка утёр слёзы рукавами своего немыслимого лапсердака и схватил ложку. Ему подтолкнули миску, поставили кружку, маленький ломтик чёрного хлеба положили.
— У нас три двадцать есть. Кому отдать? Мы их чесно заработали. В утильсырье, — обратился он к Николаю Демьяновичу. — У дяди Лёвы. Гадом буду, не чешу. Можете у Ризана спросить. Он подтвердит. Чесно.
— После. Ешь, — приказал воспет. — Дядя Лёва какой-то… На хрен он нам сдался. Своих забот хватает. Обойдёмся.
Мы принялись за ужин. Генка все ещё икал и не всегда попадал ложкой в рот, звякал ею по зубам.
За столом почти никто не разговаривал. Лишь мой сосед пробурчал:
— У меня нашлись бы отец или мать да дом родной — от радости обхезался[372] бы…
Но его никто не поддержал. А я вспомнил распахнутый дверной проём квартиры Сапожковых и неряшливую широченную кровать, на которой спал злобно зыркавший на нас Шарик, и подумал:
«Чему бы ты обрадовался в их квартире?»
После ужина мы с повеселевшим Генкой помылись в общем умывальнике, одежду свою прожарили в большой духовке и приволокли из каптёрки воспета матрац, ватную подушку, две простыни и одеяло. И завалились спать. Валетом.[373]
Несмотря на гнетущую усталость — к гудящим рукам и ногам будто по тяжёлой гире привязали, — я не смог сразу заснуть. Рядом, на ближайшем месте соседней двухъярусной деревянной вагонки, которую он назвал шконкой, расположился Карзубый. Его враждебность я чувствовал даже на расстоянии. Но не это беспокоило меня: я старался представить нашу с Генкой будущую жизнь в коммуне. Надо постараться наладить со всеми нормальные отношения и исполнять обязательный режим. Честно.
Радио тут, вероятно, никогда не выключалось, и я невольно слушал с грустью знакомую, уже наизусть запомнившуюся песнь о соловьях, не дающих солдатам отдохнуть. Она-то и связала меня с домом — сейчас её слушают и там… Вся семья в сборе. Кроме меня.
И надо же такому произойти: зазвучала прекрасная мелодия, посетившая меня в то далёкое летнее солнечное утро, когда я проснулся в сарайке и понял, что волшебная музыка вовсе не чудится мне, а струится из круглой эбонитовой коробочки наушника, лежащего возле моей подушки-мешочка, набитого высушенной огородной травой.
Мелодия была та же, но без голоса певицы. Сердце моё сладко зашлось. Я опять, как тогда, летом, замер, пока последний звук не перекрыли барачные шумы. Голос диктора произнёс: «Мы передавали музыку Грига к драме Ибсена «Пер Гюнт». Я сразу и навсегда запомнил название произведения — ведь мне так хотелось слушать ту музыку ещё и ещё, пока не наступит полное насыщение.
Только что услышанное, когда я закрыл глаза, подсветило как бы изнутри воссозданное памятью лицо Милы. С ней, с Милой, мне стало спокойно, и я как бы растворился в забытьи.
Во сне Генка крутился, брыкался, что-то возбуждённо бормотал и выкрикивал, несколько раз будил меня.
Вечером, умывшись и подкрепившись варёной картошкой и молоком, я отправился с гурьбой ребят на завод.
«Какие же они все чумазые», — подумал я, встретившись в раздевалке с коммунарами, которых мы пришли сменить.
Мне дали промасленную насквозь чью-то спецовку, показали большущее корыто с керосином, в котором отмокали детали тракторов, подлежащие ремонту.
Работа оказалась несложной — отскабливать от грязи разные шестерёнки, тяги и валы, отмывать их тряпкой дочиста, протирать ветошью насухо.
В обеденный перерыв в цех, закопчённый, холодный, продуваемый сквозняками, к тому же темноватый, пробрался Генка и яростно взялся мне помогать. Николай Демьянович, углядев его, выпроводил добровольца из цеха.
— Ништяк, — заверил я друга, встревоженного таким с ним обращением. — Всё будет хорошо. Нутром чую.
Но взвинченный Генка ещё несколько раз заглядывал в цех и лишь к ночи убрался в общежитие, пообещав: если пацаны не гайнут его и он не рванёт тогда к тёте Доре, то будет меня ждать на месте. Кроме тёти Доры не оказалось никого, где бы Гундосик мог спастись.
Дома меня, уверен, ждут. Мама, наверное, плачет. Сердце у меня сдавило жалостью, когда представил эту сцену.
Сегодня же напишу на Свободу письмо. Обо всём. Чтобы мама не переживала. И надо узнать у Николая Демьяновича, могу ли я в ближайший выходной сбегать в город — повидаться со Стасиком и друзьями. И с ней. Если повезёт. Хотя бы издалека. Шило, по крайней мере, приезжал по воскресеньям к Игорёшке Кульше. У него-то мы и познакомились, как упомянуто выше. Разумеется, ученические деньги — мизер. Но я и их не получал. Завод-то — на хозрасчёте.
Какое это прекрасное, блаженное чувство — осознавать себя свободным и равноправным, самостоятельно зарабатывающим на жизнь! Отец уже не упрекнёт: «издивенец!» И посему — бесправный, существующий лишь по его милости. А деньги, когда я работал учеником плотника в КЭЧ, получал исправно. Даже меня не оповестив. Добро, если б отдавал их матери. Или мне что-нибудь из самого необходимого купил. Я даже не знал, какой у меня зароботок.
Бултыхаясь в ванне с грязным керосином, я вовсе не испытывал отвращения или стыда, что занят столь «чёрной» работой, и усердно очищал одну железяку за другой. Иногда — тяжёлые и неудобные. Пыхтел, стараясь выполнить задание как можно тщательнее.
К концу смены изрядно утомился. Это была приятная усталость. Извазгался,[374] разумеется, весь — с головы до ног. Зато на верстаке высилась гора подготовленных мною деталей. И во мне проклюнулась гордость — добросовестно отработал первый заводской день, никого не подвёл, справился с заданием. Самостоятельно!
В табеле напротив моей фамилии Николай Демьянович вывел крупную восьмерку.[375] И впервые улыбнулся. Мне. Как равному.
Это была победа. Я могу работать не хуже, чем коммунары. Теперь, наверное, меня уже не посчитают чужаком. Но торжествовать пришлось недолго.
Во время первой побывки чуть не со слезами — такое испытание вынести нелегко — пришлось убеждать маму, где и чем занимаюсь.
В следующее воскресенье она вместе со Стасиком (отец не пожелал участвовать в этой, как он выразился, «катавасии»[376]) пришла на завод — в мастерские. И с ними Игорёшка — к брату.
Встреча с мамой была для меня полной неожиданностью. И ещё, признаюсь, неприятной.
— Здравствуй, мама, — сказал я достаточно бодро при встрече. — Но домой я не вернусь. Об этом и разговора не заводи.
— Почему, Гера? — глотая слёзы, спросила меня она.
— Потому что вы с отцом плохо ко мне относитесь. Я вам не нужен. Особенно отцу. Не маленький, понимаю, почему вымещаете на мне свои неприятности. А здесь мне хорошо. Меня здесь за человека признают. А не балдой.
— Гера, ты неправильно нас понимаешь. Мы желаем тебе добра. Хотим, чтобы ты вырос порядочным человеком. Заботимся о тебе. И о брате твоём. Хотим, чтобы вы стали образованными людьми. Культурными. Как настоящие люди.
Слёзы струйками стекали по её смуглым щекам.
— Неужели тебя не трогает, что я твоя мать и из сил выбиваюсь ради вас? А ты бросил нас.
Беседа происходила в присутствии Николая Демьяновича, остальным коммунарам он приказал выйти из помещения, которое почему-то все называли не комнатой, а бытовкой.
Пуще всего я опасался, что мама начнёт обвинять Николая Демьяновича и требовать моего возвращения домой. Но этого, к счастью, не произошло. У неё хватило здравого ума и выдержки.
К матери я испытывал такую щемящую, острую жалость, что мог разрыдаться. Как в детстве. Когда меня на весь день оставляли запертым на ключ в комнате. Но выдержал.
— Гера, умоляю[377] тебя, вернись… Что тебе ещё нужно?
— Это невозможно, мама. Тебе этого не понять. Чтобы я жил дома как дома, а не как в казарме для экзекуций.
— Ну хорошо, хорошо, пусть будет так. По-твоему. Только идём домой. Не мучай меня. Ты знаешь, как мне нелегко живётся. И ты своими выходками…
— Это не выходка. Я работаю на производстве вместе с такими же…
Стасик и Игорёшка во время нашего разговора, как в рот воды набрали, лишь смотрели на меня. Молчал и Николай Демьянович, нахмурившись. Я ожидал, вдруг он заявит: «Идите и разбирайтесь у себя дома».
Я обратился к нему:
— А Вы отпустите меня или нет? Я хочу остаться у Вас. Вы ко мне добрее отнеслись, чем родной отец. И я Вам благодарен.
Когда я произнёс последние слова, мама заплакала навзрыд. Да и у меня ком стоял в горле.
— Я не имею никаких юридических прав удерживать тебя, Гера.
Герой он меня назвал впервые, раньше окликал по фамилии.
— Спасибо Вам за всё, Николай Демьянович. Я остаюсь с Вами. Со всеми.
— Только сейчас в своё переоденусь, — предупредил маму и пошёл в раздевалку, где в отведённом мне ящике висела домашняя одежда.
— Ну, чо? — спросил меня Струк, встретившись в коридоре.
— Ничо, — ответил я коротко.
— Линяешь, домашняк? — задал он ехидный вопрос.
Я промолчал.
Через несколько минут я вернулся в бытовку. Мама сидела на табурете, охватив лицо морщинистыми, натруженными ладонями.
— Я готов, — сказал я.
Мама встала, покачнулась, но её подхватил Стасик.
— Спасибо Вам за всё, — повторила она мою фразу, обращаясь к воспету.
— Всего Вам доброго, — произнёс Николай Демьянович. — Живите дружно.
Выйдя из барака, сказал маме:
— Я вас провожу до развилки. Мне сегодня во вторую.
— А как же? Ты же согласился?
— Нет, мама. Ты не сейчас, но после поймёшь: мне с отцом не ужиться. А вас буду проведывать по воскресениям. И может быть, иногда в субботу. Жить и работать буду здесь, на Смолино. После в армию пойду служить. А потом — видно будет. Так что, до свидания. И не беспокойся — со мной всё будет в порядке.
Мама, с её проницательностью, поняла, что я не уступлю.
— Угощение, Юра, возьми. Я тебе напекла. Не забывай нас.
— Спасибо! До свидания. Прости за всё, что тебе причинил. И будьте здоровы. Обо мне не беспокойтесь. Со мной всё в порядке, — повторил я.
Повернулся и пошагал к бараку. Хотя мне очень хотелось догнать маму со Славиком, обнять их и продолжить путь вместе, до самой Свободы.
Но увидел барак. Возле него стояла одинокая фигурка Гены. Он наблюдал за нами.
И меня пронзила мысль: куда же он без меня, мой Гундосик?
1974 год
P.S. Меня при переиздании книг долго мучила нерешимость: восстановить подлинные отчества Вовки и Генки Сапожковых — некоторые читатели могли подумать, что это моя выдумка, насмешка, — ведь по паспорту отец их числился Ильёй. Спьяну и первенцу дал имя — мода! Поскольку я изменил фамилию этой несчтастной семьи, то и Сапожкова-старшего решил назвать Иваном. Естественно, пришлось опустить все шутки, насмешки, издёвки, которыми щедро осыпала беднягу Вовку уличная шпана вроде Юрицы, Альки, Тольки Мироеда и других, кому поизмываться над беззащитным доставляло истинное наслаждение. Поначалу мне думалось, что они зло хулиганят, но со временем, кажется, понял: своё ничтожество, бездуховность уличные паханы и паханчики пытались подменить насилием над другими, жестокостю, запугиванием. То же, к сожалению, мне пришлось наблюдать и испытать на себе от советской, так называемой воспитательной, а на самом деле — жесточайшей репрессионной, системы, результатом которой стал невиданный за всю историю человечества геноцид народов России.
2009 год
Кони
Летом, во время летнего (первого) отпуска, я ещё крепче подружился с Игорем Кульшой. Его семья жила в большом двухэтажном (низ — каменный, верх — бревенчатый, обшит досками) доме по улице Свободы, семьдесят девять, выступавшем на улицу из двора, мощённого булыжником. Отсюда и можно было войти в Гарёшкину кваритру.
В конце другого длинного многоквартирного строения, его все называли бараком, обитало семейство Фридманов, о котором упомянуто в рассказе «Водолазка». Барак продлевался сараем со множеством клеток — «сараюшек», — по одной на каждое жилое помещение. За ними, упираясь в угол двора, прилепилось архитектурное сооружение на пару «очков» — все мыслимые удобства. Разумеется, в порядке живой очереди, как везде и за всем. За уютной двухместной конурой существовала, как и полагается, выгребная яма.
Барак почему-то значился временным жильём, построенным в начале тридцатых, но он наверняка стоит и по сей день, когда эта книга выходит в свет, на своём месте, как и тогда, в сорок седьмом, потому что нет у нас в стране ничего более постоянного, чем временное.
В него в начале тридцатых поселили семейства, ютившиеся в подвалах, в таких не приспособленных для человеческого существования помещениях, о которых я умолчу вовсе.
Новые жильцы попали в барачный рай. И водонапорная колонка была устроена как раз напротив широкого проёма, на месте которого когда-то стояли ворота.
Игорёшка, а у него имелся сводный младший братишка от неродного отца, которого Игорь никогда отчимом не называл, даже за глаза, — уважал. Рыжий-прерыжий парнишка сорокового года рождения, которого старшие ребята беспощадно, стоило ему показаться на улице, дружно дразнили (травили) словом «рыжий» либо глупой песенкой:
Повторяя её множество раз, выводили Венку из себя, и он со слезами и воплями набрасывался на бидчиков. Шишки всегда доставлялись ему, бедолаге.
Игорёшка при случае заступался за братишку, но не дрался — он так же, как я, не любил мордобой. У нас со старшим Кульшой была одна общая любовь — книги.
Мы старым, испытанным способом добывали деньги на их приобретение — разыскиванием и сбором пивных бутылок. И когда набиралась достаточная сумма — отправлялись в магазин «КОГИЗ» к его хозяину дяде Мише Яшпану либо ехали на ЧГРЭС в «Подписные издания». Если удавалось что-нибудь приобрести или выкупить, по подписке, мы устраивали «пир». Чтобы дома родители не отвлекали на всякие «отнеси-ка — принеси-ка», мы забирались в тёплое время года на огромный сеновал, двухэтажный сарай, и там, развалившись в душистой траве, часами упивались чтивом, погружаясь в волшебный мир вымысла.
Иногда к нам с рёвом прибегал Венка, ему лет семь, наверное, исполнилось, и, всхлипывая, рассказывал нам о своих горестях. Приходилось прерывать наслаждение и идти разбираться с обидчиками. Если их оказывалось больше или силой превосходили, то доставались синяки и нам — улица! «Уважают» и не трогают того, кто умеет хорошо «отмахнуться». Или у кого есть надёжный защитник. И, несмотря на нелюбовь обоих к дракам, мы решили поступить в детскую спортивную школу на ЧТЗ. Ещё до моего ухода из дому. В секцию бокса. Я, правда, не перенёс, не выдержал психологически этого вида спорта, всё-таки, как его не называй, а тот же мордобой. И перешёл в секцию классической борьбы. А Игорёшка упорно занялся боксом, вскоре заработал третий юношеский разряд и после на общегородских соревнованиях — и второй. Я же так и остался безразрядником.
В нескольких, ставших привычными для Венкиных обидчиков стычках Игорёшка достойно «чистил мурцалки» наглым драчунам. Многие из них подолгу ходили с «фонарями» под глазами — метки за глумление над братом. А тех, кто имел неизбывную наглость и продолжал изводить мальчишку, Игорь вылавливал — улица широкая, не спрячешься — и предлагал честный бой — над малышом всякий оболтус мнит себя богатырём, а попытайся отстоять себя самостоятельно, если ты такой задира и смельчак. Получив согласие, кто хочет прослыть «бздилой», Игорь «считал» им рёбра до тех пор, пока те не дадут честное пацанское слово больше не задирать, не дразнить Венку. И огненный факел его волос уже не вызывал ни у кого желания безнаказанно поиздеваться над беззащитным мальчуганом.
А вообще Игорь никогда не лез в драки, будучи флегматиком. Видимо, в отца пошёл, бывшего латышского стрелка, которого расстреляли как «врага народа» перед началом войны, — у него было какое-то высокое воинское звание. И орден Красного Знамени за Гражданскую войну. И командовал он полком. А начинал службу рядовым бойцом латышского отряда в Гражданскую. Из пацанов лишь я знал эту историю. Тётя Люба, его вдова, после ареста и расстрела отца Игорёши вышла замуж за бывшего моряка, высокого, красивого, атлетически сложённого, молчаливого, доброго человека. Но контуженного. От него и родился Венка.
После расстрела Игорёшкиного отца, их семью, с грудным Венкой, переселили из просторной квартиры в доме по улице имени Ленина в барак. Отчиму каким-то образом (может быть, как бывшему фронтовику, хотя наград своих он никогда не надевал), удалось получить комнату в старинном доме на нашей улице и поселиться в нём.
Меня мама предупреждала, чтобы я не водился с ребятами из «неблагополучных» семей. Но когда я увидел паренька, читающего огромный том в жёлтом дерматиновом переплёте и мне стало известно, что это «Гаргантюа и Пантагрюэль» Франсуа Рабле, сразу познакомился с владельцем этой чудесной книги. После он дал мне прочесть её — великое доверие! Я ему отплатил сторицей: «Дон Кихотом» Мигеля Сервантеса с рисунками Гюстава Доре. «Гаргантюа и Пантагрюэль» тоже была иллюстрирована забавными рисунками. Мы читали и рассматривали иллюстрации этих книг и хохотали — оба! Наш сумасшедший хохот доносился с сеновала, и, наверное, кое-кто недоумевал: что там творится?
Так я стал завсегдатаем «неблагополучной» квартиры.
…Безжалостные свободские подростки постепенно прекратили издеваться над Венкой и опасались связываться с Игорем. Видя меня постоянно вместе с ним, переменили отношение и к моей персоне, дотоле не пользовавшейся «уважением», потому что по их понятиям я был «маменькиным сынком», «домашняком», то есть совсем неуличным пацаном, одним словом — неполноценным.
В пределах нашего квартала улицы Свободы Венку оставили наконец-то в покое. Однако продолжительная травля пацанвы не прошла для него беспоследственно, но об этом я скажу в конце рассказа.
Не стоило бы вообще об этом случае даже заикаться, если б он не превратился в трагедию для Венки и двух оболтусов, любителей повыпендриваться[378] перед сверстниками. На этот раз — перед девчонками.
Читатель может с недоверием отнестись к моему повествованию о рыжих, но почему-то моими соседями оказались несколько человек, на мой взгляд, с редкого цвета шевелюрами. Сами посудите: Толян, сын тёти Тани, великий мастер сапожного дела, он же и классный закройщик, дядя Лёва Фридман, о нём речь пойдет дальше, его сын Исаак и Венка.
Мне его до сих пор жаль, ведь я его помню совсем малышом — нервным, задёрганным мальчонкой, когда мы с его братом старались защитить неспособного постоять за себя человечка от беспощадного уличного хулиганья, переживали, когда и над нами измывались всякие Тольки Мироеды и другие безмозглые носители зла. И ещё один парень, он был намного, на несколько лет, старше нас с Игорьком, — Шура, сын тёти Любы Брук, из дома номер двадцать шесть, тоже имел красноватый цвет волос, но он ни с кем из уличных не только не якшался, но и знаком-то не был. Кроме меня, ибо жили мы по сути, в одном дворе и связывала нас в течение нескольких лет одна цель — обмен книгами. Так же, как и с его братом Борей. Отец их, очень старый человек в очках, служил в госбанке. По нашим понятиям — большим начальником. Шура благополучно после окончания школы поступил в офицерское училище, но мне не привелось увидеть его ни курсантом, ни в золотых погонах, потому что наступил тысяча девятьсот пятидесятый год и в моей жизни произошёл столь резкий вираж, что пришлось «пикировать» по просторам Родины четыре с половиной года, подгоняемому, а точнее сказать — гонимому, изменчивым и беспощадным вихрем судьбы в образе «человека с ружьём».
…А сейчас, летом сорок седьмого, мы с Игорем, забравшись на чужой сеновал, читали в своё удовольствие книги, радовались и печалились о судьбах придуманных, но оживших в наших головах героев, и жизненное небо простиралось над нами голубым, чистым и безоблачным — нам исполнилось по пятнадцать лет, и бесконечная перспектива, полная радостных открытий и разнообразных интереснейших событий, манила и звала вперёд.
Дома жилось терпимо. После отпускного возвращения из коммуны на целый месяц отношение ко мне родителей изменилось, меня не шпыняли по пустякам, к тому же я стал рабочим человеком и сам себе добывал средства на пропитание и содержание. То учеником токаря, то слесаря, то подсобным рабочим, короче говоря, на заводе не было принято отказываться от любого поручения, не зазорно взяться и за рытьё траншеи чернорабочим.
Работы эти меня, честно сказать, не увлекли. Хотелось чего-то другого, более интересного, значительного. Захватывающего. В мечтаниях — героического.
Самым захватывающим во время отпуска, тем не менее, оказалось чтение книг. Соскучился. Но это не профессия..
Настоящую работу мне помог найти Игорёшка — научиться сапожному ремеслу — вечная профессия. Необходимая. Но об этом — другое повествование.
А тогда, приходя к другу по «чернокнижным» делам, так называл наше увлечение мой отец (охотно, кстати заметить, читавший «на сон грядущий» приобретённые мной книги). Я не мог не сблизиться с семьей Фридманов. Хотя меня всегда интересовали и притягивали необычные, не как все, люди, непохожие на остальных.
Рыжим, причём очень ярким, уродился и колченогий глава семейства Фридманов, великий труженик, вызывавший у меня восхищение. Он с раннего утра и дотемна, весной, как только становилось тепло, всё лето до поздней осени, ремонтировал всевозможную обувь обитателей нашей улицы. Брал дядя Лёва — так звали знаменитого чеботаря-универсала — за свою работу по-божески, а с бедных — совсем немного, приводя в порядок обутки всех размеров, фасонов и состояния, причём делал это с замечательным знанием дела, добросовестно, крепко — на совесть.
Это была по-своему знаменитая личность. Более выдающимся и известным слыл лишь закройщик высочайшего класса Сурат, живший и трудившийся в собственном большом доме в соседнем дворе. Его знал весь Челябинск. Всё крупное начальство, их жены и родственники обшивались у него. К тому и к другому занимались длинные очереди. Эти личности были известны каждый по-своему. Хотя дядя Лёва представлял из себя менее чем метрового уродца с пышной шевелюрой и смешно болтающимися детскими ножками, аккуратно зашитыми в мешочки из женских старых чулок, и должен был вызывать, особенно у нас, пацанов, дикий хохот, ничего подобного на моей памяти ни разу не произошло — его уважали все в округе. Даже дети не позволяли себе и за глаза насмехаться, не то что глумиться над его нелепой внешностью. Мы, мальчишки, понимали, что чеботарь дядя Лёва заслуживает большого уважения. За то, что он по-настоящему Человек. Трудился и жил для людей, для нас всех. В это слово мы, уличные пацаны, вкладывали особый смысл, и этого звания удостаивались далеко не все, точнее скажу, очень немногие. Мы интуитивно чувствовали, кто есть кто.
Тогда, прибегая в гости к Игорёшке, я уяснил, что истинного уважения достойны не физическая красота и не высокий чин, даже не пачки денег в карманах, а другое, то, чем владел дядя Лёва, — доброта, понимание, в каком положении человек находится, снисходительность, что этот человек из себя представляет в самом деле, и труд ради людей. Для людей. Желание помочь им, когда эта помощь требуется. Необходима.
Обычно мы занимались ребячьими играми на выстланном округлым булыжником дворе дома номер семьдесят девять или забирались на сеновал двухэтажного сарая, кстати заметить, принадлежащего семейству Суратов, — в нём жила их корова, и находившегося напротив барака, и там, на сеновале, мы, как правило, читали книги. К этому времени нам с Игорем удалось приобрести приблизительно по два десятка томов. Даже больше. Ими-то мы и упивались.
Начали с тоненьких и маленьких приложений к журналу «Советский воин». Накопив деньжат на сдаче макулатуры, металлолома и бутылок, повадились, как я уже упоминал в магазин «КОГИЗ» и к продавцу (или директору другого магазина) дяде Мише Яшпану. Он, сам больной и старый человек, но опытнейший книголюб, знаток, приучил нас к беллетристике, время от времени одаривая нас «по блату» шедеврами, как он однажды пооткровенничал, мировой литературы. Мы читали и зачитывались его книгами. Стоит вспомнить лишь «Бравого солдата Швейка» Ярослава Гашека, от проделок которого мы впадали в неописуемый восторг и не раз перечитывали с хохотом изрядный по объёму том. Постепенно появились у нас и «серьёзные» книги: тома невыкупленных подписных изданий собраний сочинений классиков русской и мировой литературы, за которыми я гонял в субботние и выпавшие на будние дни выходные из посёлка Смолино в Челябу, а там на трамвае на ЧГРЭС — где приютился этот магазин — драгоценная для нас находка. Мы пировали!
В обоих магазинах всегда мельтешили настоящие «библиофилы», личные библиотеки которых составляли сотни, а то и тысячи томов. Но суетились и спекулянты.
Кое-что из «дефицитного» перепадало нам и от них. Так начинали комплектоваться наши (Игоря и моя) личные библиотеки. От знакомого, уже очень пожилого, библиофила узнал, что многие песни, значившиеся в моём рукописном «поэтическом» альбоме как народные, имеют своих авторов, одним из которых оказался Есенин, «запрещённый» поэт. Почему он «запрещён», я сначала понять не мог. После догадался: наверное, потому что его похабные песни гарланят блатные во время своих сборищ на улице Свободы. Как и «запрещённая» «Мурка». Его прекрасные стихи попали в разряд проклятых. От свободских пацанов я слышал: если при «дяде-гаде» (милиционере) запеть кровавую «Мурку» иди «С одесского кичмана бежали два уркана», то схлопочешь несколько лет тюрьмы. И за еврейские хохмаческие песенки — тоже.
Я подозревал, что многие уличные и воровские, блатные «романецы» не мог сочинить такой чудесный поэт, как Есенин, автор «Выткался над озером алый цвет зари…», что ему приписывают чужое. Узнал я, что звали его Сергеем. И что погиб он трагически, вскрыв себе вены и написав посмертное стихотворение собственной кровью. Честно признаться, мне совсем не верилось в эти страшные байки, но сама личность поэта, его жизнь вызвали у меня жажду узнать правду о нём, прочесть напечатанные его стихотворения и отделить пошлые, похабные частушки-подделки, приписываемые ему, от строк: «Ты поила коня из горстей в поводу» или «Письмо к матери». Подобное мог написать лишь гениальный поэт! Такой, как Пушкин, Лермонтов, произведения которых я тоже очень любил и кое-что знал наизусть, — сами заучились, не зубрил.
В то же время, в сорок пятом, сорок шестом годах, я ещё кропал собственные стихи на любовные и исторические темы, но, прочитав поистине «кровью сердца» написанное «Вы помните…», осознал, что это не мое призвание — стихи получались плохими, и, устыдившись, больше уже никогда не брался за перо, чтобы клепать вирши. А похабные, блатные «романецы», слышанные мною на улице часто под бренчанье гитары от приблатнённых доморощенных «бардов», уверен, никакого отношения к Сергею Есенину не имели. Не могли иметь. Хотя бы из-за дикой безграмотности.
В этом я сам убедился, пролистав драгоценный томик стихотворений и поэм великого поэта, изданный, к моему радостному удивлению, в сорок шестом году и без промедления сактированным из государственной публичной библиотеки. Прежде я дал Яшпану честное слово, что никому даже не заикнусь о приобретённой им книге. Весь вечер допоздна просидев на стуле в квартире, хотя кровать моя стояла заправленной — ожидала, я не отрывался от стихов, пока не прочёл последнюю строку. И ещё долго оставался под впечатлением нахлынувших чувств.
Потом часто вспоминал тот счастливый для меня день. Дождавшись, когда рядом с прилавком кроме меня никого не оказалось, дядя Миша тихо, почти шёпотом, сказал:
— Есть Есенин. Списали из библиотеки. В макулатуру. Возьмёшь со штампом?
— Без разговора.
И он вынул из-под прилавка завёрнутый в коричневую бумагу небольшого формата томик.
— Засунь быстрее в карман и никому не показывай. И обо мне не упоминай. Договорились?
— Даю честное слово, — ответил я, засовывая свёрток не в карман, а за пазуху.
Продавец назвал сумму. У меня таковой не набралось. Я не предполагал, насколько дорогой окажется книга, к тому же дефектная. У меня было незыблемое правило — продукцию с библиотечными штампами не брать даже задарма. Только со свалок — в обмен на макулатуру. С походом, понятно. Но сейчас я не помышлял об этом, соображая, где бы немедленно перехватить несколько недостающих рублей.
Сунув в руку рулончик рублёвок, я спросил, пренебрегая ещё одним незыблемым своим правилом:
— Вы мне в долг поверите? До завтра?
— Здесь ни у кого не следует просить или спрашивать, — сказал Яшпан. — До завтра лично тебе поверю.
Мне помнится, никогда позже, приобретая очень дорогие фолианты вроде дореволюционного издания «История русского искусства» Игоря Грабаря, я так не радовался и не волновался.
Остаток дня, вечер и почти всю ночь моим желанным спутником был томик стихов неизвестного, полюбившегося мне поэта. Я читал всё подряд, наиболее понравившиеся стихи перечитывая дважды и трижды. Великое пиршество!
Конечно же в назначенный день я расплатился с Яшпаном, поблагодарив за долгожданный подарок. В тот раз он сказал мне:
— Называй меня просто дядей Мишей.
С того дня он, улучив момент, стал иногда предлагать мне книги, которые другие покупатели и в глаза не видели. Ими, действительно, оказывались замечательные произведения, спасённые дядей Мишей от варварского уничтожения. Но первой ласточкой прилетел ко мне, как уже упоминалось, сборник стихов и поэм Есенина. Где только он со мной в последующие годы ни скитался! И дожил до сего дня.
Я никак не мог уразуметь, почему произведения поэта, пользующиеся невероятными успехом в народе, — их читают, переписывая из альбома в альбом, поют и наизусть знают очень и очень многие, кем-то прокляты, объявлены преступными, за них даже сажали в тюрьму, но они продолжали жить и там и оттуда, из неведомых мне лагерей, возвращались к нам, сюда, на волю, и их снова и снова переписывали в альбомы, пели под гармошку или под гитару. Почему? Даже недавно вышедший томик в государственном издательстве нигде, например у нас, в Челябинске, не продавался, а библиотечный экземпляр списан в макулатуру.
Долго для меня этот вопрос оставался неразрешимым. Минуло много лет, пока удалось разобраться в этом «почему?», и тайное стало явным.
Странным мне тогда показалось, что книга, со слов дяди Миши, уже побывавшая в государственной библиотеке и списанная из её фондов, имела вытравленные штампы и инвентарные номера, следы которых остались даже после обработки бумаги обесцвечивающей жидкостью, — ни на титульной, ни на семнадцатой страницах ничего разборчивого. И осталось неизвестным, где она побывала до того, как попасть в мои подрагивающие от счастья руки. Зато томик с наклеенной на обложку гравюрой поникших, продрогших на осеннем ветру берёзок стал для меня навсегда символом Родины. Этот уже изрядно потрёпанный экземпляр и сейчас хранится в нашей домашней библиотеке.
Но вернёмся в пока безоблачный сорок седьмой год.
Лето. Чужой, пока неизвестно чей сеновал. С конька его в марте я спрыгнул, испытывая свою храбрость, силу воли, и попал на булыжники между травяных кип, привезённых на трёхтоннке. Вывих левого голеностопного сустава. Гипс. Мучительная прикованность к кровати. Спасители — книги. С утра до ночи. И, ещё хромая, снова на работу, на завод.
Эта глупая выходка мне аукнулась через три года, и ещё как! Не вылежав положенного срока, я разогнул гипс и с опухшим суставом, преодолевая боль, опираясь на палку, пошкандылял на Смолино. Но через три года… Впрочем, не будем забегать вперёд событий, которых хватило с лихвой и в тот «безоблачный» год.
Тогда книги заменяли, а точнее — восполняли, ту заботу и внимание, которые мечтал в военные годы ожидания получить от отца, которого редко сейчас видел дома, — вечерами он где-то развлекался, наверстывая упущенное на фронте, а маме, как всегда, было недосуг до меня — уйма дел заставляла её, как она сама говорила, «вертеться словно белка в колесе». Постепенно я смирился почти с беспризорным своим положением, хотя мама традиционно, систематически и упорно, проверяла, контролировала меня во всём, «чтобы я не сбился с пути истинного». Вернее, пыталась установить контроль за каждым моим шагом. Её докучливость вынудила меня в который раз погребовать одной из моих заповедей: говорить лишь правду. Как у меня повернулся б язык изложить ей мои чувства к Милочке? Ведь я почти дословно представил ей «мораль» наших отношений. Приходилось лгать, чтобы за каждую ерунду, как говаривал отец, и выеденного яйца не стоившую, не получать хотя и устные, теперь уже без штатного «экзекутора», нравоучения и выговоры.
Физические наказания — столп, державший моё «воспитание», рухнул, исчез после моего возвращения на выходные из коммуны, и отдаление от родительского связующего увеличивалось. Отсутствовала, как я сейчас сказал бы, духовная близость, душевная теплота, внимание, участие, сочувствие, в которых я тогда так сильно нуждался. Мне необходимы были родители-друзья, которым поверил бы, как себе, за которыми, не сомневаясь ни в чём, пошёл бы. А мама свято верила, что она абсолютно во всём права и безупречно, грамотно готовит из меня будущего хорошего человека. Из её «моралей» следовало, что каждый за содеянное им добро должен получить то же самое, за причинённое зло — возмездие. И это, как говорили в подобных случаях пацаны, «железно». Только почему-то за добрые дела свои я не слышал почти никогда похвал. Она, вероятно, полагала, что добрый поступок — само собой разумеющийся. Обязателен для каждого. И всякого. В общем-то правильно. Только в жизни получалось всё наоборот. И очень часто. Не считая колонистов, среди которых я жил, с кем делил кров, работу, еду. Да и у них случались «проколы».
А у мамы просто характер такой — что-то с нервами не в порядке, так мне думалось.
Сначала недоумевал: не все концы с концами сходятся в «моралях» мамы. Да и в окружающей меня жизни — тоже. Но она с младенчества внушала мне, что слово матери — закон и опровержению, даже сомнению, не подлежит. Читатель уже знает, что следовало за несоблюдение, нарушение этого правила. И постепенно оно вошло в меня, впоследствии стало и моим законом жизни. А сейчас мне, не всё ещё понимающему верно, приходилось под влиянием разных жизненных обстоятельств иногда лукавить и изворачиваться, хотя понимал, осознавал, насколько моё поведение унизительно и нечестно. И это мучило меня. И приносило горькие плоды от общения с окружающими. Но часто и удавалось отстаивать своё мнение, видение, понимание, одним словом — принципы.
Многие взрослые считали меня упрямым в своём непослушании. А я лишь отстаивал себя, своё понимание жизни, отличное от их убеждений, предубеждений, предрассудков, не давал себя, как мог, обмануть, хотя всё равно попадался, потому что, несмотря ни на что, верил людям. Позднее, когда подрос, старался понять, кто на самом деле есть человек, с которым имею дело. Например, я долго не мог уразуметь, что неряшливый, сопливый Вовка Сапожков, мальчишка из соседнего двора, поддакивающий всем, кто что ни произнёс бы, совершает это не потому, что вечно голоден (вдруг что-нибудь дадут пожевать), а из-за болезни — он родился умственно ненормальным, поэтому достойным сочувствия, сожаления, помощи, в которой нуждался.
Я удивлялся Вовкиной способности жевать что угодно съедобное и даже малосъедобное, лишь бы набить желудок. У меня, наоборот, такой постоянной потребности насыщаться не существовало: я мог обходиться без пищи сутки и более и не испытывал никакого голода. Пока мама не заставляла поужинать. Это была тоже какая-то ненормальность работы моего организма, и поэтому лет в двенадцать у меня развилось малокровие — участились носовые кровотечения. Но я как-то быстро справился с этим недугом, и в дальнейшие годы, особенно при рабском «строительстве коммунизма», эта особенность моего организма многократно выручала меня. Неоднократно приходилось быть свидетелем жестокой расплаты за невоздержание в еде.
Трудясь журналистом после окончания университета в областной газете, я более чем двое суток не принимал никакой пищи, пока не завершил статью, в которой доказал вину партийных чинуш в гибели женщины, матери двух несовершеннолетних детей, за что и был изгнан из редакции «за обострение отношений в коллективе», «за дискредитацию партийных органов», «за натравливание рабочих на руководящие и партийные органы». Пошёл я на этот рискованный шаг (последствия его были точно предсказуемы, и я знал, что меня ждёт за публикацию материала под заголовком «Почему погибла Евдокия Владимирова?») сознательно, выполнив долг газетчика перед своими читателями и своей совестью. Редактор за мою выходку не пострадал, потому что статью я подписал своей фамилией и уговорил его взять отгул именно в день публикации. Выступление моё не могло остаться незамеченным как коллективом, в котором произошло ЧП, так и не спускавшими с нас бдительного ока кураторами. Но это другая тема, и я её не буду касаться и развивать. Да, собственно говоря, я уже рассказал в одном из своих очерков, сейчас же упомянул его в связи с анализом моего воспитания и логическими последствиями его. Далее в жизни моей всё происходило по законам этой «логики»: за каждой инициативой следовал ответный удар, за доброе дело — наказание. Случались и парадоксы: сначала наказывали и преследовали, а после — награждали. За одно и тоже. Се ля ви.
…Вернёмся в благополучный сорок седьмой. Хотя, называя его «благополучным», сейчас подчас становится настолько муторно и тогда погостить не хотелось идти домой. Я осознавал, что ещё не дорос, чтобы распоряжаться своей судьбой самостоятельно, да и мама несёт за меня, за мои поступки и проступки ответственность. А мне очень не хотелось причинять ей неприятности. Я ждал момента повзросления — хотя бы получения полной свободы действий согласно своей собственной совести. Я рвался куда-то на простор, но одновременно не представлял себе, смогу ли обойтись без мамы, Стасика. Даже — без отца. Какой-никакой, а всё-таки — отец.
Вот такие противоречия раздирали меня в пятнадцать лет. За год до получения паспорта. И то, что я получил после публикации вышеназванной статьи о трагической гибели рабочей Владимировой, абсолютно закономерно. Иного и быть не могло: пошёл против течения. И какого!
…Когда я обращался к маме со своими соображениям о жизни и сомнениями, как поступить, она, как всегда, раздражённо отвечала:
— Да есть мне, когда тебя слушать! Лучше воды пару вёдер из колонки принеси — бельё надо стирать (или: ужин варить, полы мыть и т. д.). У неё даже минуты свободной не оставалось, чтобы побеседовать со мной, вникнуть в мои дела, посоветовать, посочувствовать.
У меня составилось представление, что она никогда не отдыхает, постоянно чем-то занимаясь по дому. А я постоянно лезу со своими глупыми вопросами и расспросами. Дом казался мне настолько узким, обытовленным мирком, как бы отрезанным от всего остального огромного мира, окружающего всех нас, что возникало одно желание — вырваться!
К стыду своему, я даже не знал своих, догадываюсь, многочисленных родственников, кроме маминой сестры тёти Лизы и её дочери Людмилы, приезжавшей к нам в гости из Кунгура вместе с мужем-офицером после окончания Великой Отечественной войны. Изредка мама получала какие-то письма, вроде из-за рубежа, и по прочтении рвала в мелкие клочки. О родственниках удавалось случайно услышать, когда о них упоминали родители. Отец вспоминал иногда о своей тётке, которую называл Полей. Когда (ещё в раннем детстве) разговор заходил о еде, которую он неизменно называл жратвой. Полное имя тётки было Полина. Но так её никто не называл, а я понимал как «поле». Она жила в Заречье.
В моём детском воображении эта сестра моего деда непременно возникала в воображении толстой женщиной с поварёшкой и большой кринкой, где растут вкусные пельмени, потому что ничего, кроме того, насколько мастерски она умела готовить это блюдо, отец о ней не рассказывал. Вот мне, маленькому мальчонке, эта тётя и привиделась среди пельменного поля и с большой поварёшкой в руке для полива. Да ещё как-то отец проговорился, что муж её, пимокат дядя Яков, умер от запоя. Отчего скончался пимокат, мне тоже не захотели пояснить, и я представил толстого, с длинной бородой, на бочку похожего моего родственника с огромным валенком в ручище, лежащего на той же пельменной поляне. Он пал ниц на заросли пельменей и пьёт без остановки из родника, такого как в нашем дворе. После он лопнул, и пельмени вырвались из его бочки-живота. И он умер. Это воспоминания и фантазии раннего детства. Вот к чему может привести безмерное поедание пельменей, которые, кстати, я тоже любил в предвоенные годы.
Картинка получилась комичной. Я, шестилетний проказник, тонко засмеялся. Родители недоумённо смотрели на меня.
— Ты чего, Гоша, — встревожено спросила мама.
— Он… лопнул, — сквозь смех вымолвил я.
— Кто — он? — прицепилась мама.
— Дядя Яков, — честно признался я.
— Балда, — вяло произнёс отец, только что до отвала наевшийся пельменей, «не таких вкусных, как у тёти Поли», — упрёк маме.
— Ты же о нём ничего не знаешь, кто он, а такие глупости выдумываешь, — укорила мама. — Постыдился бы.
— А кто он? — тут же спросил я.
— Тебе не надо это знать, — лениво произнёс своё слово отец, лёжа на диване, закрылся газетой «Челябинский рабочий» и захрапел.
— Займись лучше полезным делом, — выпроводила меня мама. — Подмети пол в коридоре, а мусор совочком собери — и в ведро. Чем ненужные вопросы задавать. И вообще, нехорошо слушать, о чём взрослые беседуют. Неприлично.
Позднее, спустя несколько лет, меня задело, что я почти ничего не ведаю о своих бабушках и дедушках, а мама (отец находился на фронте) мне ничего о них не рассказывает. Скрывает. Почему?
И я всё-таки после долгих отнекиваний сдвинул таинственную завесу — мама чуть-чуть приоткрыла прошлое. А то у всех есть дедушки и бабушки, а у меня их будто не было вовсе. Так же не может быть.
С большой неохотой мама сообщила, что дед мой по отцу был купцом. Вот почему бабка Герасимова выкрикнула мне однажды в ответ:
— А твой дед лошадником был!
Тогда слово «лошадник» я не понял, а у мамы спрашивать не решился. Подумал: лошадник — тот, кто на них ездит. Вроде кучера. С дедом по матери дело обстояло хуже. И опаснее. Он служил кондуктором царского поезда. После крушения стал инвалидом. На его пенсию и жила семья. В Петербурге. После свершения революции дед посчитал за благо перебраться в родное село Макарово, в Саратовскую губернию. И до него, похоже, не добралась ЧК. А мама и старшая её сестра доучивались в Саратове. Обе стали медиками. Мама закончила аж два факультета: санитарный и ветеринарный. По распределению её направлили в Семипалатинск, где молодая выпускница университета встретилась с высоким, стройным и, наверное, красивым Мишей, по фамилии Рязанов. Жил он там на широкую ногу, кутил. Осыпал её подарками и цветами, пропивая и прогуливая свою немалую долю отцовского наследства, — дед Алексей, кроме барыша от торговли лошадьми, имел в Челябинске несколько домов и, весьма пристрастный к спиртному, собственную пивную недалеко от Троицкого собора.
О грядущих нелёгких переменах в жизни деда предупредил местный большевик, его зять (освобождаясь из тюрем и возвращаясь из ссылок, он укрывался в одном из домов купца, сожительствуя с дочерью деда, тоже большевичкой и тоже с дореволюционным стажем, — Клавдией). И хотя жандармы во время одного из «эксов» прострелили боевику дяде Саше мошонку, и он навсегда остался инвалидом, тётя Клава не изменила ему, не бросила, не ушла к другому, здоровому, мужчине, потому что считала революционную деятельность важнее личных интересов, и семья не распалась. Жили они в гражданском браке, не венчались. Своё приданое она передала в кассу большевиков. Ни в бога, ни в чёрта молодожёны не верили. Верили они в коммунизм.
После революции дядя Саша трудился в ЧК, а его гражданская супруга вела массы в светлое будущее, став пропагандисткой великих идей. Закончилась их бурная революционная деятельность в тридцать восьмом — дядю Сашу «излечили» от недуга, нанесённого пулей жандарма, которая попала не туда, — выстрел в затылок «врагу народа» Александру Авдееву прекратил его беспощадную борбьу с «контрой» и «строительство коммунизма во всём мире». Расстреляли его такие же, как он, чекисты, а тёте Клаве повезло, её почему-то оставили в живых, но лишили всех должностей и званий. Она, вмиг состарившись и превратившись в молчунью и отшельницу, доживала свои дни в каменном доме на левой стороне Миасса, подрабатывая на жизнь домовой швеёй. Её я видел всего два-три раза, когда она перешивала нам со Славиком байковые стариковские штаны слоновых размеров — драгоценный подарок американских друзей, правда изрядно поношенные. Двое штаников попугаечьего цвета из них всё-таки получились. Тётя Клава мне своей угрюмостью не понравилась. Разговаривала со мной командирским, приказным тоном и нахмурив брови. Как будто я был в чём-то виновен. За время наших встреч на застывшем, словно одеревеневшем лице её ни разу не мелькнуло даже тени улыбки.
Мама (со слов отца) знала, что дядя Саша Авдеев некоторое время в восемнадцатом году году был комендантом арестованной царской семьи, но его сместили вскоре якобы «за слишком лояльное отношение» к узникам. Возможно, именно это припомнили ему сослуживцы и поставили к стенке. «Отблагодарили» за всё. А ведь он в дореволюционные годы постоянно получал деньги от тестя, своеобразную добровольную «дань» на революционные дела, — дед Алексей почему-то помогал большевикам.
Судьба мамы могла стать не менее печальной, если б «любопытные товарищи» докопались до факта с четырнадцатилетним братом, вступившим в добровольческую белую армию. Она даже имени его при мне не упомянула. Вступив в белую армию, он оказался вытесненным вместе с остатками её за границу. Нигде в официальных документах мама вообще не упоминала о нём. И даже год своего рождения сместила — из предосторожности на три года «помолодела». Когда я стал малость сведущ во всём произошедшем с Рязановыми и Костиными, что мне доверила мама, то понял, почему родители упорно помалкивали о своих семьях. Скрывали. Чтобы не оказаться среди репрессированных. И не моего ли дяди письма она, прочитав, тут же сжигала, оставляя без ответов.
Чудом и отцу удалось вырваться из «объятий» «энкавэдэшников». Рано или поздно «знакомство» с ними должно было состояться. Его встретил нечаянно на улице бывший работник деда Алексея, который никогда никому раньше не жаловался, что ему у Рязановых плохо живётся. Он, несколько от природы придурковатый, свою работу тем не менее освоил: подмести, поднести, отнести, принести. Звали его Гаврюшей. И вот тысяча девятьсот тридцать седьмой, встреча, задержание, НКВД… Помог «непролетарскому элементу» Мише Рязанову дядя Саша Авдеев, который знал его, вероятно, со дня рождения в тысяча девятьсот пятом году.
Дед, повторюсь, не знаю почему, часть дохода от торговли передавал дочери-большевичке, а уж от неё деньги перекочёвывали в партийную кассу. Успел-таки дядя Саша для Миши, Мишеньки, которого знал сызмальства, сделать доброе дело: младший сынишка купца Рязанова отбыл в тюрьме тридцать седьмой, а в следующем его вызволил дядя Саня. Мама рассказывала, что о тюремном следователе отец отзывался хорошо. Причина состояла в том, что он ещё в реальном училище овладел каллиграфическим, очень чётким и красивым почерком, и малограмотный следователь, ведший его и других «дела», доверял ему переписывать казённые бумаги и выполненной работой всегда оставался доволен. Писарский талант отца, вероятно, сыграл бы над ним злую шутку, если б Авдеев не вытребовал следственное «дело» и, по уверениям мамы, не уничтожил его. За сим последовало освобождение отца. А дяди Саши в том же, тридцать восьмом году, не стало. Но отца больше не забирали, и в соответствующую контору даже не вызывали. Однако страх в семье остался. Надолго. До самой кончины родителей.
А я, подросший, но ничего не ведающий, обижался на родителей, подозревал, что они вообще хотят скрыть, кем были мои предки. За что такое недоверие? А оно, оказывается, вон в чём. Я успокоился. И помалкивал. Вон Вовка Кудряшов, на что друг был закадычный, а ведь так и не назвал подлинную фамилию своего отца — умный пацан! Как ему там, в Ленинграде, живётся? Обещал письма присылать, да так, видать, и не собрался. А я скучал по нему. Единственный друг был. Игорёшка тоже, несомненно, друг, но подобной близости пониманий у нас не получилось — лишь интерес к книгам связывает нас. Ну и дружба, конечно.
С отцом вроде наши отношения, как он выразился, «ушамкались». Но не совсем. Я кожей чувствовал его прежнюю отчуждённость. Стасик, спокойный и послушный мальчик, был отцу чем-то ближе. Даже тон разговоров у него с младшим сыном слышался мне иным — более приветливым и шутливым. Со мной он не шутил никогда. А поскольку большую часть своего оклада отец тратил на «культурную жизнь», подражая своему начальству (купил двуствольное тульское ружье и всё снаряжение для воскресных «пикников» в лесу, регулярно устраиваемых этой компанией), я редко виделся с ним, а маме отдавал мизерную часть своего заработка. Но что значили мои гроши в семейном бюджете? Копейки…
В общем, в один далеко не прекрасный день я осознал себя опять лишним в семье. Как до ухода на ремонтный завод в коммуну. И ещё я почувствовал, что бытовое ярмо так же тяжело давит на плечи мамы. Надо было что-то предпринимать. Решительное. Что хоть немного освободило бы маму от домашней каторги.
Отец, по всей видимости, готовился вступить в партию, потому что вечерами, вместо просматривания «Челябинского рабочего» после ужина, перед впадением в сладкую дремоту с храпотцой раскрывал новенький том дешёвого издания «Краткого курса истории ВКП(б)» и тут же засыпал. Это его настропалил сослуживец и собутыльник майор Пахряев — для продвижения по службе. Но в партию он так и не вступил. Может быть, потому что опасался разоблачения своего «непролетарского» происхождения.
…И вот в один из дней, о котором я упомянул выше, отец этак спокойно заявил мне, что «хватит болтаться», а пора поступить в ФЗУ. После его окончания мне общежитие дадут. И я «капитальную» рабочую профессию обрету. Я понял всё. Он жаждал выписать меня из домовой книги. Вот почему я от него слышал несколько раз странные вопросы: не собираюсь ли в ближайшее время жениться? Поначалу я посчитал его вопросы шутками. Но он со мной никогда не шутил. Значит, он хотел предупредить делёж жилплощади в случае моей женитьбы. Вот что его беспокоило.
Но эти события произошли позже, летом сорок восьмого, о чём, собственно, и рассказ. Мне наконец-то исполнилось шестнадцать, и я получил паспорт.
…В то ранее утро, как всегда, чудесное, отец энергично выпроводил меня (а то я сразу вцепился в недочитанную в прошлое посещение книгу) к Фридману с сеткой обуви — не ему же, начальнику, стоптанные башмаки нести — позориться. Я охотно направился к дяде Лёве. Мне нравились беседы с ним. Не вынимая берёзовых шпилек или малюсеньких железных гвоздиков из почерневших зубов, как с равным, как с другими, взрослыми клиентами, он обстоятельно беседовал со мной об обуви, принесённой мною. Как и другие свободские ребята, я его уважал за такое, можно сказать, дружелюбное отношение к людям. Нет, он не унижался, не заискивал, зная свой физический недостаток, но, на уличном языке, «не залупался» — он знал, что делает нам добро и преподносил его как щедрый, от души, подарок. Повторю, что у самых дерзких и бесшабашных или дурных подростков — ни у кого! — язык ни разу не повернулся, чтобы прилепить великому мастеру обидную кличку, на что пацаны ох какие непревзойденные мастаки! Ведь редко кто из мелюзги и взрослых не носил метко приклеенный ярлык. А дядя Лёва оставался один просто дядей Лёвой. Уверен, что такое исключительное уважение никак не увязывалось с его сыновьями, хотя их, конечно же, многие боялись. Он был сам по себе — один.
Ради потехи приведу несколько примеров: высоченный нищий и сумасшедший со шрамом на голове по имени Вася, носил кличку Пердильник, а он был опасен, этот Вася; моего отца (за глаза, конечно) обозвали Гусём и Гусём Лапчатым — за гордую походку и за то, что он числился у шантрапы «начальником» (одевался в шикарную комсоставскую форму, но без погон). Дарье Александровне Малковой прилепили кличку Воровайка только потому, что узнали о её заведывании магазином; даже беднягу нищую старуху Каримовну и ту не обошли, прозвав Опайкой (с татарского языка вроде бы «девочка»). А ей уже лет девяносто, а то и все сто стукнуло! Шутники! Никого не щадили, ни во что никого не ставили уличные шкеты,[379] всех, кроме себя. Они считали себя хозяевами улицы и тех, кто на ней жил, так называемых фраеров и фраерш, владельцев имущества, которое они должны обязательно, обязаны были украсть. Призваны судьбой, что ли.
— Почему? — спрашивал я.
— Так велел Володя Лысый.[380] Всё должно принадлежать народу. А што — мы не народ, што ли? Мы и есь народ.
Такую кличку они, оказавшиеся на дне общества, изгои его, дали Ленину, в их понимании — такому же блатарю, и мнили себя владельцами мира, разумеется всю это «философию» впитывая от взрослых носителей этой идеологии, из извращённо понятых революционных лозунгов прошлых лет. Позднее до меня дошло: россйский люмпен всё понял очень верно. И Сталину они приляпали кликуху: Хозяин.[381] Обоих великих вождей подонки общества обожали, на полном серьёзе считали старшими блатными, «паханами».
Клички давали всем. Одного парня, жившего в угловом доме в конце правого квартала и с раннего детства страдавшего рахитом, беспощадно дразнили Глобусом. А он от рождения страдал болезнью, называемой водянкой головного мозга. Меня почему-то некоторое время кликали Китайцем, хотя, по-моему, с представителями желтолицей нации, как ни вглядывался в своё отражение в бабушкином зеркале, не находил сходства. Кое-кто носил и матерщинные кликухи. За что? Да просто так. Проявление обыденного хулиганства. Традиция тысяч лет существования так называемого преступного мира, о котором я тогда имел смутные представления. В самом же деле они были отходами общества, которое не желало заботиться о них, а карало. И только. Иначе не могло быть, ибо вся наша госсистема держалась на репрессиях.
А дядя Лёва так и оставался дядей Лёвой. Впрочем, чтобы не трогать его даже словом, имелись и другие обстоятельства.
…Так вот, в это изумительное — тогда почти все солнечные утра казались мне невыразимо прекрасными, обещавшими непременно что-то радостное, новое, неизведанное, давно ожидаемое, — в подобное раннее утро я заявился к великому чеботарю, таким словом называли всеобщего кумира местные обувовладельцы и посетители — заказчики. Явился я в самом лучшем расположении духа, насвистывая «Красотки, красотки, красотки кабаре, вы созданы все для наслажденья». После сдачи обуви дядя Лёва ничего не записывал, он отличался изумительной памятью. Я намеревался увидеться с другом, таким же запойным книгочеем Игорёшей, и обсудить с ним самые последние «библиофильские» новости.
Я упомянул выше, что из десятков знакомых по улице нам пацанов — мы давно были знакомы между собой — никто из них не занимался чтением книг столь азартно, упорно и продолжительно, как мы. И регулярно приобретали новинки, тратя на них свои накопления. Поэтому частые встречи и беседы приносили нам весёлое удовлетворение — разрядку. Мы делились своими мыслями, соображениями, предположениями, «фантазиями». Фантазировал в основном я, друг вёл себя более сдержано. Может быть, потому что родной отец его, по национальности, как я упомянул, латыш, по воспоминаниям сына являл само спокойствие. Игорёк, обладая, вероятно, характером, полученным по наследству, и обидчиков братишки наказывал без злости, а во мне иногда вскипала восточная струя крови — ведь бабушка-то моя по отцу степнячка. Однако не помню, чтобы бабушка и мама повздорили, — мама всегда хвалила её за доброту и отзывчивость. И уважать старших нам, сыновьям своим, постоянно внушала. Но часто её мудрые слова не имели должного воздействия, если я улавливал несправедливость в словах или поступках взрослых. К дяде Лёве мы относились даже подобострастно за неизменную доброжелательность и честный труд — вот у кого следует учиться, каким быть в жизни. Труд — основное занятие, которое из обезьяны превратило нас в человека, повторял я часто школьную аксиому.
Разумеется, я верил в эту деревенскую нелепость, придуманную выжившим из ума стариком или приписываемую ему, и полагал, что дядя Лёва дальше всех нас (кроме мамы, разумеется) отстоит от нашего общего предка. И чем ленивее встречался мне человек, тем больше, по моему искреннему убеждению, в нём осталось от обезьяны и растеряно накопленного человеческого.
Человек, на то он и человек, чтобы творить, создавать. На потребность и радость другим и себе. Ранее я упомянул, что некоторые уличные сорванцы, которым на показуху никто не указ, может быть, они и стали бы глумиться надо дядей Лёвой — наплевать им на все его достоинства. Если бы не одно «но». Даже два «но». У многодетного дяди Лёвы имелся сын Аарон (все знавшие его мальчонкой продолжали называть Арончиком). Славился он на всю Свободу тем, что почти не вылезал из тюрьмы, и вся шантрапа безоговорочно признавала его вором в законе. В нашем, ребячьем, понимании вор в законе являлся как бы главным над всякими мазуриками в округе. Его боялись. И перед ним трепетали. И отчётливо представляли: если кто обидит несчастного уродца-папу, тому не жить.
Но банды дерзкого хулиганья оставались «храбрецами» до какой-то черты: над младшими, «домашняками» (детьми правильного домашнего воспитания), пожилыми людьми, которым не угнаться за проворными и быстроногими, отчаянными будущими «бомбилами», «громилами», «карманниками», «домушниками» и прочими «специалистами» подрастающего очередного поколения в завшивленных клоповых хибарах преступного мира. Это подрастало голодное шакалье, которое сменит тех, кто погиб в мясорубке «закрыток», концлагерей, будет зарезан, задавлен, застрелен… и снова «клоповники» поставят обществу новые поколения паразитов. Человеческий чертополох, сколько не вырывай его, вымахает ещё гуще и выше — пока есть почва, питающая его, — бездуховность, он будет плодоносить.
Уже летом сорок седьмого мы кое-кого не досчитались из свободской, ещё вчера сопливой, шпаны, их «зачалили». Пока по мелочам. Но вот вышел новый указ от четвёртого июня сорок седьмого года. Я ещё не ведал, что это такое. Не знал, что государству требуются новые рабы для «великих строек», великое множество рабов, чтобы на людских костях «строить всемирно-человеческое счастье». Как будто возможно руками и умом сделанных «по указу» несчастными людей сотворить кому-то счастье. Это абсурд. И это доказала всемирная история человечества. Всем доказала, но только не большевикам.
Выпустили на волю Исаака. Полумёртвого. Туберкулёзника. С одним сгнившим и поэтому удалённым (вырезанным) лёгким. А я не мог расшифровать слова «вор в законе». Как может существовать вор в законе, если закон его наказывает за содеянное зло? Тем не менее авторитетный вор в законе Исаак Фридман неожиданно появился на лавочке за домом номер семьдесят девять по улице Свободы. Утром. Цепляясь за доски заборов. Я ему помог дошкандылять до лавочки. А его место в концлагере занято достойными сменщиками и ни в чём неповинными недавними гражданами «Великой страны советов» — для выполнения плана. Госплана СССР.
Исаак был каким-то неприметным вором, не то, что брат его Аарон.
Аарон же славился тем, что, «выскакивая» из узилища, являлся перед всеми ни в каком-нибудь рваном бушлате или «зековской шкуре позорной», а всегда с иголочки одетый и обутый. Эффектное зрелище! На белоснежной шёлковой косоворотке, обязательно расстёгнутой (блатная шик-мода!), накинута коверкотовая «лепёха» (пиджак), брюки к нему, навыпуск (верх воровской моды!), на хромовые или лаковые «прохаря» (сапоги на вывернутом белоснежном «подряде»). Головки сапог сверкают на солнце, как в зеркале, отражая всё вокруг. В верхний карман «лепёхи» треугольником вставлен платочек, белее снега и с вышивкой — сердце, пронзённое стрелой. Буйную, чернущую, смоляную, кудрявую шевелюру залихватски прикрывает кепочка — восьмиклинка с малюсеньким козырьком — бостоновая! Обычно синего цвета.
Высокий (в маму, которую, напомню, звали тётей Басей, поначалу я думал — из-за её голоса-баса), статный, красивый, «чернявенький», как его, млея, называли алчные девицы, — они слетались во двор, как разноцветные бабочки, сразу же — и откуда только узнавали о появлении Арончика?
Аарон, на мой взгляд, не выделялся какой-то особой красотой, но у него на губах теплилась почти стеснительная очаровательная улыбка. На неё-то, думалось, и клевали влюбчивые и легкомысленные девчонки. Дурочки, как мне тогда, в тринадцать — пятнадцать лет мнилось. В то время мне ещё не пришлось испытать полное половое удовлетворение с женщиной — того, на что способны оторвы-девицы, о которых я наслышан от их хвастунов-любовников. Не о такой скотской «любви» я мечтал. Для меня в те времена существовала лишь одна девочка, для которой были открыты все шлюзы сокровищницы моей души, все мысли, помыслы, мечты, и я рвался к ней всем существом своим. Но она не ведала об этом. Хотя, надеялся, догадывалась. Если мои стихи дошли до неё и не подверглись уничтожению бдительной Дарьей Александровной.
Да не мог я в корявых, бездарных стишатах своих выразить и крохотной частицы чувств, испытываемых к Миле. Её скромность, кротость, необъяснимая чистота взгляда голубых улыбчатых глаз превращали меня почти в глухонемого. Я знал, что смешон со своей подавляющей всё моё существо любовью к этой девочке-подростку, за которую без раздумья отдал бы свою жизнь. Несколько попыток девчонок сблизиться со мной, «поэтом», закончились неуспехом. Я сам отдалился от них. Потому что убедился: моё стихоплётство не имеет ничего общего с истинной поэзией. И перестал наблюдать за Милиным окном, занавешенным прозрачными тюлевыми занавесками. И хотя эрекции мучили меня постоянно уже в четырнадцать лет, а по ночам случались нередко поллюции, я не мог перешагнуть невидимую грань запрета приближаться к Миле, и другую, преступив которую, я получил бы плотское удовлетворение от иной. Или, как говорили уличные подростки, мои сверстники, «перепихнуться» или «дурную кровь сбросить». И как ни противны были поллюции, приходилось терпеть.
Поэтому девицы, слетавшиеся к Арончику, а он мог «принять» их несколько за день, не вызывали во мне похотливых желаний. Среди них или их подружек, уверен, я мог найти себе подходящую девчонку и «склеить» её (на языке улицы) «на поебон» — тем более что в моём распоряжении имелась спальня — сарайка. Четно признаться, удерживало от «близких» знакомств и боязнь — опасался венерической заразы.
Однажды я рискнул «стать настоящим мужчиной», но не буду здесь обо всём рассказывать, ограничась лишь тем, что убедился, — Милу, какой я себе её создал, оказалось невозможно подменить никем другим. Она стала мне ещё дороже и… недоступнее. Я сам отдалил её на недосягаемое расстояние. И очень раскаивался о содеянном.
Но возвратимся к Аарону. Он действительно обладал особой привлекательностью. На его продолговатом лице с небольшим горбинкой-носом и безупречного очертания чуть припухлыми губами не только светилась манящая полуулыбка — глаза, большие карие глаза, опушённые длинными чёрными ресницами, как у младшей сестры его Розки, полагаю, стали омутом, в котором утонула ни одна девичья любовь. Улыбка Арончика, обнажавшая ровный ряд белых зубов, подсвечивалась «фиксой», и ни какой-нибудь дешёвенькой коронкой, выточенной из патрончика «мелкашки», а откованной из царского червонца. Фиксы в это время представляли блатной канон моды и статус носителя их. Каким же вором слыл Арончик? Карманником высшего класса. Пацаны, близкие к блатной «элите», говорили, что даже сами щипачи называли его «фокусником».
Не скрою, мне нравился Аарон, хотя был жуликом, в моём понимании — представителем позорной, несправедливой профессии. Такое двойное, противоположное восприятие, такие контрчувства испытывал я к Аарону Фридману, пожалуй самой яркой личности среди свободских блатных. Мне же он был просто интересен как необыкновенный человек. И я пытался его понять.
Когда он в конце концов попадался (никогда с поличным!), ему давали год или два. И всё повторялось, как спектакль на сцене театра.
Но однажды мне удалось наблюдать действо, которое в корне изменило «героический» облик Арончика.
…Возле сортира собралась хевра. Среди воров, а нам отличить их от других прочих было довольно просто, я не мог не заметить блистательного Аарона. О чём «шёл толковище» в «хевре», не знаю, нас близко не подпустили. Тем более в их разговоре месились феня и матерщина, да и далековато мы, пацаны, от них отстояли.
Но приказание «держись!», произнесённое Арончиком, все мы расслышали. Один из пяти-шести собравшихся «качать права», закинул обе руки за голову и сцепил пальцы на затылке. Арончик, стоявший к нам почти в фас, вынул из правого голенище сапожный «косой» нож и полоснул им крест-накрест по лицу «коллеги», державшего за головой сцеплённые в замок кисти рук.
Я невольно ойкнул, но на мой восклик никто не обратил внимания. С ужасом подумалось, Арончик перерезал несчастному горло!
Двое из компании моментально по-милицейски завернули порезанному руки за спину и повели через двор к проёму ворот.
Когда его проводили мимо нас, а мы скучились возле сеновала, то кровища густо залила светлую рубашку пострадавшего, а моментально удалившаяся через забор в соседний двор «хевра» не оставила после себя ничего, словно она никогда не появлялась, — только лужицу крови, мираж!
Порезанный плакал, всхлипывая. Арончик аккуратно, двумя пальцами, длинными и тонкими, как у пианистки Матильды Берх, вынул из наружного карманчика накинутой на плечи «лепёхи» кружевной платочек с вышитой надписью «лублу» и красного цвета сердечком в уголке, встряхнул его, брезгливо вытер бритвенной остроты лезвие, вновь засунул его за отворот голенища и, поднявшись на ступеньки сортира, открыл дверь и оаустил «марочку»[382] в «очко».[383] После он подошёл к рукомойнику жёлтой меди, висевшему на стенке тамбура над ведром, и тщательно вымыл руки. Будто чужую кровь можно смыть и остаться чистеньким.
Лицо Арончика светилось безмятежностью, словно бы ничего особенного и не произошло.
Лишь отец, не прерывавший ни на минуту работу, произнёс что-то на непонятном языке.
— Не надо нервничать, папа. Вы напрасно волнуетесь: ничего не было.
Лишь дорожка из потемневших под солнцем капель напомнила: всё-таки это произошло. И по-моему — страшное!
С тех пор я стал Аарона побаиваться, признаюсь честно. И симпатии к нему поубавилось.
А в то утро, в сорок седьмом, подойдя к дяде Лёве с сеткой стоптанной и рваненькой обуви, я наткнулся на Аарона. Меня пронизала, подобно лучу инженера Гарина, улыбка знаменитого карманника, который впервые в моей жизни обратился ко мне лично:
— Мальчик, я слышал: у тебя есть Есенин.
Откуда, от кого он мог узнать о моём сокровище, если, похоже, только чуть ли не вчера «выскочил» от «хозяина»?
— Будь добрый, доверь мне на время. Розка в тетрадку перепишет.
Видя мою нерешительность, добавил:
— Не бзди. Свою вещь получишь… через неделю. Или две. Слово вора.
Я всё же не решался расстаться с запавшей мне в душу книгой. Никому, даже на день, не собирался отдать сборник. Соображая, что ответить, молчал.
— Вижу, ты минжуешься.[384] Не знаешь, пацан, что такое воровское слово. Оно твёрже финаря.[385] Знай. Ну лады, не веришь — не надо. Бери задаток. Сколько хочешь?
И он ловко извлёк из кармана отутюженных брюк пачку аккуратно сложенных банкнот. Мне показалось — отутюженных, как брюки. Тем же утюгом.
Аарон, чуть насмешливо наблюдал за мной.
Нет, я его не боялся. Знал, что он не вынет из-за сверкающего голенища бритвенной остроты сапожный нож и не перережет мне горло. Да и тому, несчастному «коллеге» по ремеслу, он, может быть, всего-то по щеке полоснул.
— Вот тебе гроши. Держи. Наша жись — в тумане: коротка и обкакана, как детская рубашка. Сёдня — живой, завтра — зажмурился. Поэтому не верь никому. Все люди — бляди, весь мир — бардак.
И он сунул мне в свободную ладонь вылощенные зелёные тройки и красные тридцатки, как фокусник, — развернув их в пальцах веером и снова сдвинув в пачку.
Где-то в подсознании у меня промелькнула догадка: краденые… А может, у дяди Лёвы взял? Всё равно Есенина не могу продать. Ни за сколько.
— Не надо, — вдруг твердо ответил я. — Дам на две недели. Так.[386] Я Вам верю.
— Почему в отказную идёшь? — с подозрением спросил он, и что-то угрожающее померещилось мне в тоне его голоса.
— Чужие деньги не беру в руки. И в долг — тоже.
У Аарона приподнялись стрельчатые воронёные брови. Его мой ответ, вероятно, удивил.
Он ловко врезал купюры, которые только что мне предлагал, в пачку и как бы небрежно засунул её в карман. Он демонстративно равнодушно, даже с явным оттенком презрения, относился к деньгам. Странно, что и я никогда не испытывал к ним тяги. Ни малейшей. Никогда. Всю жизнь.
Я же свои деньги всегда держал крепко в кулаке, чтобы не обронить, — они и матери, и мне трудом давались.[387]
— Папа, примите у этого мальчика (а этому «мальчику» уже пятнадцать!), пожалуйста, его заказ. И сделайте без очереди. А он сбегает домой. Он напротив живёт, и принесёт книгу Серёжи Есенина. Мне, папа. Вы это можете оценить.
А меня сверлила мысль: как можно так легко искромсать лицо человеку, оставить его на всю жизнь уродом и быть вежливым, почти ласковым к другому? Хотя бы — к отцу. И ко мне. Ведь он ни разу не обмолвился со мной грубым словом. Но, оказывается, знал, где я живу и что у меня есть.
Молча положив обувь возле детского стульчика дяди Лёвы, недоумевал, насколько легко согласился дать самую любимую свою книгу в чужие руки. Но отступать или переиначивать — поздно. Не выполнить своё обещание, не сдержать слово — позор. Этого я не мог допустить.
— Что, уже сдал? Так быстро? — удивилась мама.
— С утра народу мало, — отговарился я, — сейчас вернусь, книжку занесу. Пообещал.
— Кому? Сапожнику? — ещё больше удивилась она.
— Нет, Игорю, — бессовестно обманул я маму.
— Потом унесёшь. Не к спеху. Сейчас воды принеси.
— Вот по пути и принесу, — выкрутился я.
И про себя в тысячный раз отметил: стыдно маму обманывать. Но не открыть же ей правды — она тут с ума сойдёт: пошёл в «неблагополучный» барак, да ещё к кому! По её понятиям, Аарон тут же научит меня по карманам шарить. Даже мама от соседок наслышана, кто такой Арончик. И я решил, что поступил правильно, скрыв, кому предназначена книга, которую извлёк из-под подушки. Вообще-то маму мало интересовало моё книжное собирательство, это лучше, рассуждала она, чем с «плохими» мальчишками знаться.
В разговоре с отцом, который неодобрительно относился к приобретению мною литературы на копейки и рубли, добываемые в пунктах приёма макулатуры, стеклотары и металлолома, а теперь из своего мизерного заработка. («В бюджет, в семью отдавал бы, чем тратить на всякую ерунду», — однажды заявил он мне, хотя охотно читал «на сон грядущий» мои книги, особенно часто «Бравого солдата Швейка».) Мама в сердцах вставила:
— Перестань, Миша. Постыдился бы. Он тебя не объедает.
И ушла на кухню. Потом я долго размышлял над услышанным. И жалел маму. Если те копеечные сбережения я стал бы отдавать маме, она расходовала бы их на еду. А гурманом в семье всегда был один человек — отец. В его желудок попали бы вкусности, купленные на мои заработанные крохи.[388] В виде водки, по его выражению, «под хороший закусон».
Прихватив ведра, я направился к Фридманам. Заодно и по воду, к колонке.
— А я подумал, что ты двинул динамо, мальчик, — объявил Арончик, поджидавший меня.
— Я своё слово держу, — не без гордости заявил я. — И я не мальчик, дядя Аарон. Меня звать Юра. Георгий, точнее.
Слушая меня, Арончик снисходительно улыбался и одновременно разглядывал томик.
— Это всё? — недоверчиво спросил он.
— Что — всё? — не понял я.
— Серёжа написал много больше…
— Вы правы, дядя Аарон. В двадцать пятом и, кажется, двадцать шестом вышли четыре тома. Но практически…
— Практически я в курсе дела. Жухнула псарня у Серёжи наши песни. Так?
— Пока издали вот этот. Может, выпустят ещё…
— Или казачнут и этот. Как те. В этой книжке тоже есть кое-что наше.
— У меня просьба, дядя Аарон: не утеряйте ненароком.
— Не бзди, Юра. Потерять может девушка целку. Арон никогда ничего не теряет. Только находит. — Покедова, Юра, — улыбнулся Арончик. Но даже ухмылка-улыбка его получилась хоть и ироничной, но вроде бы симпатичной и доброжелательной. А у меня опять в глазах сверкнул взмах сапожного ножа.
Передо мной реально и в воображении существовали два разных человека, несоединимые, несовместимые. И я не пытался воссоздать из них единое целое — контрасты оказались непреодолимы.
Признаюсь, очень не хотелось расставаться даже на две недели с полюбившимся сборником, на дерматиновой верхней обложке которой наклеена гравюра на бумажном прямоугольничке в две почтовые марки величиной: на белом весеннем фоне печалились поникшие чёрные берёзки… Это что-то мне напоминало и было близко.
Мне весьма по душе пришлись эти печальные тонкие деревца, и подтаявшие в ростепель сугробы, и чёрная раскисшая дорога, ведущая в дальнюю-дальнюю даль. Тоска. Слякоть. Словно срубленные гигантским серпом, укороченные верхушки берёз… Они напоминали о короткой жизни поэта. И весь этот пейзажик я воспринял как жизнь самого автора чудесных, музыкальных стихотворений, только что открытых мною, — мир, существовавший когда-то без меня. Неспроста, хотя и интуитивно, я не принял «залоговые» деньги — они, сколько бы их ни было, не могли восполнить стоимость книги — она для меня оставалась бесценной.
Игорёшке, единственному, посетовал об отдаче, хотя и на время, книги Арончику. Признался: смалодушничал. Что он мне мог сделать, если б ему отказал? Да ничего!
— А вдруг отдаст? — успокоил меня друг. — Он из тех, кто слов на ветер не бросает.
Такая надежда теплилась и во мне.
С великим нетерпением ждал я возвращения книги, не забывая о ней хотя бы на день.
Я уже упоминал выше, что из всех знакомых свободских ребят только мы с Игорем стали собирать домашние библиотечки. К этому времени у меня в выпрошенных у мамы ящиках старинных, ещё бабушкиных, шкафов скопилось уже несколько десятков брошюрок и книг, среди которых имелись ставшие любимыми: «Гаргантюа и Пантагрюэль» Рабле, «Похождения бравого солдата Швейка» Гашека, «Дон Кихот» Сервантеса, четыре огромных тома «Жизни животных» Брема; жемчужина коллекции — пять фолиантов дореволюционного издания «Истории русского искусства» Грабаря (опять же списанных из библиотечного фонда, к великому удивлению моему), роскошных, три из них — с золочёными образами, они сами являли собой произведения книжного искусства — всё, от шрифта до чудесных иллюстраций. У кого, какого варвара, рука поднялась отправить в макулатуру высочайшие образцы подлинного русского книжного искусства? Я был счастлив, приобретя их у того же Яшпана. Дядя Миша, вероятно, имел какое-то отношение к той странной комиссии, и часть обречённого на уничтожение «материала» попадала не в кучи списанного хлама, а к нему, после и тем, кто становился счастливыми от подобных приобретений. Кстати сказать, отношение к книге как к произведению искусства впоследствии сыграло в моей жизни роковую, чуть не погубившую меня «шутку». Но до этого момента, когда свердловский следователь А. Торопов состряпал «со-товарищи» нелепое уголовное «дело», оно ещё немыслимо много времени, больше трёх десятилетий, висело надо мной, как топор на ниточке, но это отдельный сюжет, поэтому сей печальный факт в рассказ не включаю — после расскажу.
А сейчас я с жадностью поглощал том за томом Горького, Флобера, Мопассана, Доде и множество произведений других интереснейших писателей, оставивших глубокий, неизгладимый след в моём мироощущении и познании психологии человека.
Дядя Миша явно симпатизировал мне — он и сам, уверен, был запойным книгочеем. И верил в мою искреннюю заинтересованность кладом знаний, оставляя книги именно для меня, ждал, пока не расплачусь. Под честное слово, что никому не покажу, он недорого продал мне забавные «Одесские рассказы» расстрелянного чекистами прекрасного писателя («враг народа»?!) Бабеля. Оказывается, за небольшую книжечку из нескольких рассказов могли лишить жизни человека! Мне не верилось, что такое зверство могло случиться, и в то же время я не мог не доверять Яшпану! Это какая-то страшная, чудовищная ошибка!
Все деньги, зарабатываемые мною, кроме тех, что отдавал маме на житьё, тратились на книги.
И всё приобретённое являлось моей личной собственностью. Это значило, что в любой момент я мог выдвинуть книжный ящик шкафа и взять в руки любимую книгу и, как в детской библиотеке, «утонуть» в ней. Такого момента я ждал с вожделением и немало бед натворил по-домашнему хозяйству: то чайник выкипит до дна, то картошка сгорит на сковороде, да ещё мало ли чего! Читая книгу, я забывал обо всём. «Отключался» целиком.
Но зато я открывал и осваивал огромный, необъятный мир прекрасного, мир знаний. И, «проглатывая» книгу за книгой, наполнялся радостью познания мира прошлого, настоящего и будущего. Каждый день дарил мне бесценные сокровища книжных кладовых.
Очередная прочитанная книга не только утоляла на время жажду почерпнуть неизведанное, новое, но оставляла неизгладимый отпечаток в моей душе, в моём существе. Персонажи книг становились спутниками, друзьями, советниками, теми, на кого я желал походить поступками, жизнью.
Ещё в детской библиотеке, которую перестал посещать после ухода в коммуну, у меня отпала надобность пользоваться ею — свои, личные, не успевал осваивать. Но я не мог забыть то, с чем познакомила меня детская библиотека. Они, художественные образы, объединились в несколько групп: развлекательные («Приключения капитана Врунгеля», «Похождения барона Мюнхгаузена»), познавательные («Рассказы о Шерлоке Холмсе», например), о природе («Жизнь животных» Альфреда Брема, Житков, Рябинин и другие), приключенческие — героические («Три мушкетера», «Граф Монте-Кристо» Дюма и прочие), исторические («Гулящие люди», «Разин Степан» Чапыгина и подобные книги), поэзия (Пушкин, особенно нравились Лермонтов, Некрасов). Почти все перечисленные книги теперь имелись в моей домашней библиотеке, так что скучать не приходилось и во время приездов в гости домой. Связь с домом налаживалась.
Книги про любовь я читал и перечитывал часто, и они занимали особый уголок в душе моей («Повесть о первой любви» Фраермана, «Белеет парус одинокий» Катаева), да разве всё перечислишь? Но мне думается, что книжечка Фраермана наиболее глубоко вспахала, словно плугом, заросший всякими травами, нетронутый, но уже набухший чувствами участок душевной почвы. А такие книги, как «Повесть о первой любви» Фраермана и «Серебряные коньки» Додж, мне думается, помогли разглядеть Милу и робко безответно мысленно приблизиться к ней. Из этого источника потекли первые мои (неумелые) стихи. Он же, считаю, пробудил во мне интерес к поэзии Есенина, правда во многом тогда ещё непонятной мне. Но в пропаханной борозде взошли первые цветы. Ах, как они пробились кстати… Какое будущее ждало бы меня без них?
Я не стал бы обо всём этом столь подробно рассказывать, если б вскоре обретённые знания не стали мне едва ли не основной опорой в резко крутанувшейся моей, по сути, только начавшейся взрослой жизни. Да ещё почти не начавшейся.
Но отрываюсь от книг и возвращаюсь к дяде Лёве. Он довольно быстро, добротно и недорого (что для нас было немаловажно) отремонтировал всю нашу обувь — и летнюю, и зимнюю. Даже быстрее, чем можно было ожидать.
В общем-то, понял я, это и неудивительно, если трудиться столь упорно и с такой сноровкой, да ещё и каждодневно с восхода солнца и до сумерек. Всю жизнь. А разве не так «крутится как белка в колесе» (по её выражению) мама? Каким же настойчивым надо сделать себя, чтобы, не покладая рук, отдавать свои силы, ум, способности, если они у тебя есть, людям! Главное, чтобы в тебе бурлило желание трудиться. Я должен овладеть профессией, а лучше — несколькими, и «вкалывать», радуясь, а не проклиная то, что делаешь. До конца дней своих.
Впрочем, что такое конец дней и когда он может наступить, я не видел даже в воображении. Жизнь тогда всё ещё казалась мне бесконечной. Или такой длинной, что последний день и не разглядишь «в туманной дали».
…Две недели тянулись нудно долго, как пребывание в детском садике. И вот однажды в нашу дверь тихонько постучали.
Во дворике возле нашего тамбура стояла розовощёкая красавица, сестрёнка Аарона. Такой блистательной её доселе не приходилось видеть.
— Брательник велел передать и сказать спасибо, — произнесла она подчёркнуто жеманно. Её синие глазищи в такой же чёрной бахроме длинных и густых ресниц, как у Аарона (у нёе имелся ещё один брат, о котором я упомянул в одном из рассказов, рыжий, как и отец, его звали дядя Исаак), мне показалось, сияли какой-то лукавой весёлостью. Выпалила и быстро повернулась, намереваясь убежать (Розка, кажется, ещё совсем недавно выглядела гадким утёнком среди стаи расфуфыренных поклонниц Арончика. У неё уже сейчас и грудки оттопыривались под платьишком — это в двенадцать-то лет!), но я остановил её, попросил подождать минутку.
— А если мне некогда? — кокетливо заявила она. Но осталась.
Я сбегал в комнату, достал из ящика дублетный комплект миниатюрных фотографий поэта, наклеенных на паспарту, выбрал самую красивую, где он запечатлён в шляпе, немного в профиль, и, рванув к открытой двери, подумал: «Наверное, усвистала, вертушка».
Оказывается, Розка никуда не спешила, спокойно стояла возле заборчика из штакетника и разделывала стручок акации — детская забава.
— Мог бы и в квартиру пригласить. Из вежливости, — произнесла она совершенно неожиданно, жуя горошины. И «стрельнула» своими изумительными синими и, при солнечном свете я рассмотрел, с фиолетовым оттенком, глазищами. Я, обомлевший, не знал, что и ответить.
— Понравились стихи Арону? — спросил я, пропустив мимо ушей предложение Розки.
— Спрашиваешь… Всё прочитал. Сказал, что до хера локшовых.[389] Фуфло[390] кто-то другой под Есенина затуфтил и под ево фамилией в книжку вставил. Залепуха,[391] в общем.
— Не понял, — растерявшись, ответил я.
— Чево же непонятнова? Пишется ксива[392] одним, а фамилию туфтовую лепят.[393]
— Так не бывает, Роза. Почти все произведения опубликованы при жизни поэта.
— Мусора переделали. Так Арончик сказал. Он крестиками отметил стихи, которые Есенина, а фуфло велел не переписывать. А книжку всю прочитал.
Я пребывал в недоумении, глядя на ярко-алые полные губы Розки, на которых зеленели бледные мелкие крошки горошин акации.
— Я тоже всю книжку прочитала.
Она опять «состроила» глазки. Ну игрунья! Кокетка! Ещё молоко на губах не обсохло… А что с ней будет через три-пять лет? Не одного с ума сведёт с такой-то красотой.
— Некоторые очень даже чувствительные. Мне написал бы кто-нибудь такие. Я его полюбила бы.
«Это намёк? Или розыгрыш? — подумалось мне. — Ну и дурочка! Баловница! Заигрывает. Несомненно, подражает кому-то. Неужели она разнюхала, что я кропал стишата? Отвратительные! Все до единого сжёг!»
— Я для себя переписала. Самые любовные. У меня их целый альбом. Переводными картинками украсила. Стихи по вечерам читаю. В постели. Когда одной грустно. Ты, случайно, не знаешь, кто такие стихи пишет? Как Есенин.
Я моментально ответил:
— Никто! Такие поэты рождаются раз в сто лет. А то и в двести-триста. Это гении.
— Неужели никто не умеет? — приподняла она бровки-стрелки. И тут же добавила: — Мне один мальчишка… знакомый. Можно сказать, ухажёр. Написал свои стихи. Такие забавные… Я думаю, он их с чьего-то альбома сдул.
— Тебе-то нравятся?
— Мне Есенин нравится. А остальные — не очень.
Меня наша беседа стала потешать.
Она сделала гримаску, тоже, вероятно, кого-то копируя.
— Может быть, ещё Пушкин.
«Кокетничает», — подумал я и спросил:
— Брату передай, пожалуйста, фотопортрет. Есенина. За то, что он любит его творчество.
— Давай. Но не сейчас. Подзалетел Арончик. Зачалили на новый срок.
Вот так новость! Месяц прошел, как мы виделись, беседовали…
«Когда же он успел?» — удивился я.
— Позавчора. По новому указу подзалетел. Большой срок светит. Мама икру мечет…[394]
Я про себя удивился: никакой досады или тревоги за произошедшее в её словах не чувствовалось. Видимо, привыкла: посадили, отсидел, выпустили, снова посадили, опять вернулся…
— Мне безумно ндравится «Шаганэ, ты моя, Шаганэ…», «Никогда я не был на Босфоре». Я её даже на гитаре сбацала.[395] Ну, там еще: «Глупое сердце, не бейся», «Несказанное, синее, нежное…» — пооткровенничала она.
И меня вдруг внутренне передёрнуло: передо мной стояла и рассуждала не девчонка, не ребёнок, а созревшая, расцветшая девушка, женщина, как будто внутри этой девчонки жило другое существо, жизненно опытное, мудрый двойник её… С такой же цепкой памятью, как у отца.
— Заболтались мы с тобой, Роза. Родители потеряют.
— Не… Они меня не беспокоются. Меня никто не тронет. Я свободная девушка.
— А как же теперь фотку Арону передать? Ты на обороте какое-нибудь стихотворение перепиши. Наверное, теперь только в лагере получит?
— Почему в лагере? В тюряге. С «конём».
— С каким конём? — не понял я. — Там лошади, что ли, работают?
— Не-ка, — улыбнулась чудесной жемчужной улыбкой Розка. — «Коня» привязывают к ниточке, а из камеры через форточку за ниточку тянут. Вот тебе и «конь». На карточке я напишу «Глупое сердце, не бейся».
— До свидания, Роза. Дяде Лёве — спасибо. За добросовестную работу. Очень благодарны.
— Досиданья, — попрощалась она. — Не бзди, Гера. Все стихи Арошкины марухи в ксивах луканут.[396] Не сумлевайся.
И вышла за калиточку вихлястой походкой.
За все годы, сколько знал её, я ни разу так с ней не беседовал. И когда успела лихо феню выучить? Хотя чему удивляться: два брата — воры. Она была гадким утёнком, на которую никто не обращал внимания: кудрявая замарашка. Да и какие могли быть с ней лясинские-балясинские[397] — при нас пи́сала даже. На бздюм. Не стеснялась. И к пацанам помладше постоянно в игры лезла — более мальчишкой, что ли, себя чувствовала. Никто из пацанвы не обижал её никогда. Она и была почти как пацан. С девчонками не водилась. С нами ей было интереснее. И среди нас держалась уверенно — пацан и пацан.
И вот какой вдруг стала. Чудеса!
Но больше меня обрадовало возвращение томика сочинений Есенина. Счастливым вернулся в квартиру. И опять утонул в мире голубого, зелёного, золотого…
…Эта книжечка и сейчас стоит на одной из полок нашей домашней библиотеки.
Растёрханная, с оторванной нижней частью титульного листа — в концлагере пытались отнять, чтобы «смастрячить»[398] из листов её пару колод «стир» (самодельных игральных карт). Отстоял.
Позже наша библиотека пополнилась пятитомником сочинений великого поэта, всё же, когда взгрустнется, я заглядываю в эту книжечку. И она воскрешает в памяти моей уже давно, кажется, забытые лица, звучит, казалось, навсегда угасшими разговорами, которые слышала.
Она напоминает мне о юности. И я сожалею лишь о том, что из-за своей стыдливости так и не отважился дать прочесть её Миле. Ведь многие строки сочинены, родились, возникли как будто в глубине моей души. Для неё. Так мне, по крайней мере, тогда мнилось.
Но не нашлось подходящего «коня», который из моего узилища прискакал бы по желанному адресу, неся на своих сказочных крыльях кровью поэта начертанные огненные строки, «обещающие встречу впереди».
…Жизнь моя сложилась так, что в последущие годы не привелось повидаться ни с красавицей и бывшим гадким утенком Розой Фридман, ни с её братцем Аароном, ни с дядей Лёвой, ни с тётей Басей, ни с Игорёшкой, да и не до них стало — другие заботы не давали мне покоя. Другая жизнь наступила, и она полностью поглотила меня.
…В июне пятьдесят четвертого меня освободили из концлагеря. Встретившись с однодельцами, на предложение Серёги Валожанина «гульнуть по буфету», то есть под его «мудрым руководством» воровать и грабить, высказал ему всё, что думал о блатных и о нём лично, за что получил финаком удар, нацеленный в бок, но помешали — промахнулся и проткнул лишь рукав моего пиджака. На Серёгу накинулись Кимка и Витька, не позволив совершить злодейство. Однако Серёга пообещал, что мне «не жить». Чтобы не искушать судьбу, помня совет «комиссара» Леонида Романовича Рубана, я пошел в райвоенкомат и попросился на службу в Армию. Меня вскоре призвали, но не в пограничные войска, а в железнодорожно-строительные, в которых я и отработал положенный срок. Рядовым.
Вернувшись в Челябинск, почёл целесообразным покинуть его, вернувшись в места, где получил «путёвку в жизнь» — справку об освобождении из заключения, — достраивать коммунизм. Только вольным и комсомольцем — в ВЛКСМ меня приняли, наведя справки в судебных органах и убедившись, что рекрутировали в многомиллионное стадо рабов Рязанова Юрия Михайловича в результате «тотальной мобилизации». В пятьдесят пятом году меня избрали в члены батальонного бюро ВЛКСМ. Тогда же я написал первые заметки в воинские газеты, и их, к великой моей радости, опубликовали. Материалы эти (и другие более поздние) стали «конём», которого я закинул в Уральский государственный университет, и меня приняли. Вступительное сочинение абитуриента Рязанова было посвящено другой личности, захватившей его помысли и устремления — Павке Корчагину, — и «конь» умчал «всадника» на факультет журналистики.
Алое знамя трепетало в моей руке на переменчивом ветру Истории. На излёте революции я помчался в бой с идеями Павки, полный рвения драться и побеждать. Но это были уже совсем иные времена с иными жизненными целями и интересами.
1971 год
Лучи Голубой звезды
Это долго копилось в моей душе. Несколько месяцев ждал. Меня сковывало заведённое раз и навсегда правило: во что бы то ни стало выполнять указания родителей.
Уже неделю, многократно, каждый день, проиграв в воображении наиболее запомнившиеся случаи и подведя им итог, я делал соответствующий, естественно логический, вывод (чтобы овладеть умением правильно мыслить, я усердно изучил школьный учебник логики, как мне когда-то советовал Вовка Кудряшов). Кстати, замечу, что эта наука, пришедшаяся мне по характеру, почему-то не входила в перечень обязательных предметов школьной программы, что меня удивило, — ведь каждый человек должен её знать и владеть логическими приёмами, постоянно пользоваться ими в течение всей жизни.
Проштудировав учебник логики от корки до корки, я решил правдиво видеть и активно участвовать в этом обманном представлении, называемом повседневной жизнью.
Действовать предстояло решительно и самостоятельно.
Сегодня, двадцать восьмого мая тысяча девятьсот сорок восьмого (Николай Дементьевич поэтому случаю выдал внеочередную увольнительную), мне исполнилось шестнадцать. Будучи в квартире один, я долго разглядывал себя в огромном, до потолка, зеркале в резной деревянной раме с навершием, на котором рельефно были изображены средневековые европейские музыкальные инструменты, стоящем на сделанном для него столике на двух ножках-балясинах.
Зеркало за свою невообразимо длинную жизнь видело многое и многих, ведь бабушка по любви вышла замуж за моего русского деда ещё в последней четверти девятнадцатого века, приняв христианство (она была казашкой или киргизкой по национальности и мусульманкой по вероисповеданию), и, получив солидное приданое от своего отца-бая, поселилась в Челябинске в усадьбе деда, тоже небедного купца, миновала все потрясения, коснувшиеся и нашего многочисленного семейства после октября семнадцатого года, перевернувшего Россию с ног на голову, и особенно в последующие, послереволюционные, времена, уцелев, к моему удивлению, как я позднее уразумел. Правда, не полностью: умертвили в доме для умалишённых сына тёти Поли — «артиста-куплетиста» — за стихи. Сгинул где-то за границей, в Китае, младший брат мамы — с остатками белой армии
…И вот я предстал пред рязановским зеркалом, внимательно вглядываясь в себя, в копну волнистых, каштанового цвета, волос пышной шевелюры, еле заметно пробивающиеся усики, в небольшие карие глаза, задававшие один вопрос: «Как будешь дальше жить, Юра, кем станешь в жизни?» Сегодня ты должен решить этот вопрос. Впереди — длинная жизнь, и, какой она будет, зависит от твоего решения. И насколько верно ты его выполнишь, так всё и сложится. Главное — не отступать. Как Павка Корчагин. Бороться и не сдаваться.
Все мечты, задумки, твои голова и умение рук, и то, что удастся тебе сделать, свершить для людей и себя, и будет твоей жизнью. Начинать её необходимо сейчас. Твоя работа на Смолинском ремзаводе — проба. Неизвестно, на что ты вообще способен.
Кем ты хочешь стать? Врачом. Только человек, овладевший этой профессией, имеет шанс[399] принести максимум пользы другим людям. И реализовать свои способности. А они, несомненно, имеются у тебя, Юра-Георгий. Как у многих.
Но за твоими плечами всего шесть с половиной классов школы. Этого мало, чтобы получить даже специальность фельдшера.
Мила уже окончила школу и собирается поступить в мединститут. Тебе её предстоит догонять и догонять. Когда ты завершишь ШРМ, она уже получит диплом врача. Но всё равно ты должен сравняться с ней, несмотря на потерянные годы.
Да, ты прочёл много разных интересных и умных книг. Всё. Хватит. С этим увлечением необходимо кончать. Книгочей — не профессия. Берись за дело.
Но за какое? Придётся начать с рабочего. Параллельно — ШРМ. А до того — отслужить в армии.
А пока вкалывать по-чёрному и жить в коммуне, в общаге. Когда исполнится восемнадцать, заявиться в военкомат и убедительно попроситься служить в пограничные войска. До общего призыва успеть. И вот тогда, зеркало, придётся попрощаться с тобой! Может быть, надолго. Или очень надолго. Но я вернусь сюда. Чтобы помогать состарившимся родителям и выполнять свою программу жизни.
И опять буду вглядываться в тебя, как смотрелись мои предки. Только меня будет интересовать не насколько изменилась моя внешность, а как двигаюсь по лестнице жизни, что хорошего успел сделать для других, какие ошибки допустил, что надо предпринять для их исправления и недопущения в дальнейшем. Перед тобой, зеркало, я буду отчитываться и строить планы на будущее.
Может быть, в моей жизни появится человек, который станет моим «зеркалом», и тогда я буду проходить мимо тебя, мельком взглянув на своё двойное отражение?
Сколько ты за свою жизнь видело разных людей! Тех, кто сделал тебя. Потом — юных деда и бабушку. После — их многочисленных детей. Отца во все возрасты жизни. Маму, молодую и красивую. Меня — малышом-несмышлёнышем. Кроху Стасика. Ты видело всё. А сколько предстоит ещё увидеть!
…Помню себя лет четырёх. Положив ручонки на подзеркальник, разглядываю себя: вот, оказывается, какой я. Интересно. Положил мордашку на лакированную поверхность столешницы, повернул голову на бок, и вот я совсем другой.
В последующие годы редко, даже мельком, ловил своё отражение в необозримом глубоком стекле.
В нашей семье почему-то никогда не отмечаются дни рождения. Лишь я сегодня… Впервые. Причём совершеннолетие. И отмечаю его сам с собой.
Этот обычай, вернее забвение его, позднее, в последующие годы, удивлял меня. Естественно, неоднократно я пытался у родителей выведать причину такого отношения к распространенному обычаю. И не получал никогда толкового ответа. Только когда родители состарились, мама раскрыла мне семейную «тайну». Но об этом я расскажу ниже.
Обычно на мои домогания мама раздражённо произносила:
— Да будет тебе, Гера, заниматься ерундой. Мне просто некогда отвечать на твои праздные вопросы. Видишь, сколько у мамы работы.
Но она лукавила.
Отец же огорошивал меня вопросом на вопрос:
— Зачем тебе об этом знать? Лишние знания могут лишь навредить, Гиряй. Садись за стол и разберись со своими школьными тетрадями.
В его ответе звучала даже какая-то издёвка. Больше о предках я его не донимал. Он сам позднее, во время нечастых домашних застолий, в которых я принимал участие, поведал кое-что. К тому же без особого желания. Уже будучи весьма пожилым человеком, он всё ещё опасался властного ночного стука в дверь квартиры, ожидая тёмного «воронка» и ночных «откровенных» бесед с представителями органов. Страх массовых расправ над «чуждыми элементами и их последышами» с юных лет в него вогнали так глубоко, что он не верил властям до самой глубокой старости, чувствуя за своей спиной тень человека в кожанке с маузером. Всегда заряженным. А ведь на фронте во время Великой Отечественной ему пришлось хватить лиха не меньше, чем любому другому, — пехотинец, после в артиллерии служил, ранен: задет был лишь мизинец малюсеньким осколком снаряда, правда, нетяжело, обошлось без госпиталя. Позднее ему повезло ещё больше — забрали в штаб писарем.
А за что же ему вручили медаль? За то, что через «передок» на своем горбу приволок оглушённого и связанного «языка». Выходит, через смертельную простреливаемую (и нашими и не нашими) нейтральную линию сползать на брюхе не побоялся, а «своих», любопытных и бдительных, всю жизнь опасался, родному сыну о себе и своих родителях помалкивал. Усадьбу дедовскую так и не показал. Чтобы чего не вышло. Помня роковую встречу с бывшим усадебным дворником Гаврюшей, родимые места обходил стороной. Мне такое поведение отца казалось по меньшей мере странным.
А мама? Тоже старалась молчком жить, у неё никогда не существовало подруг. Почему? Да потому что дочерью бывшего кондуктора царского поезда родилась. Чтобы не схватили и не расправились, тоже как в рот воды набрала. И метрики себе исправила, на три года дату рождения сдвинула. Вверх. Стала на три года моложе. И, следовательно, Костина Надежда Федоровна, да не та.
А я ничего не боялся. Всех «врагов народа», начитавшись лживых книжек, ненавидел и готов был бороться с ними не на жизнь, а насмерть. И отдать все свои способности, силы, всего себя на защиту советской Родины и строительство сказочного коммунизма. Забегая вперёд скажу: мне это в полной мере удалось осуществить. С помощью родной милиции и самого гуманного суда в мире.
Смешно, наверное, читать, но у меня, человека неверующего, перед глазами много десятилетий стоял святой образ Николая Островского. Перечитывая книгу не меньше десятка раз, я впитал в себя дух непримиримого борца за счастье всех трудящихся людей, и в последующие годы, уверен, этот книжный «герой» продиктовал мне многие поступки. И университетское вступительное сочинение написал о нём, об этом Герое Героев. А ведь к упоминаемому моменту мне пришлось отбыть не только положенные, как любому гражданину Советского Союза, армейскую повинность, но и четыре с половиной года концентрационных (родных, советских, разумеется) лагерей. За что? Если успею, расскажу правдиво, всё, как случилось. Нет, слово не то. Не случай затолкнул меня окровавленными оперскими сапогами за лагерные ворота и «запретку» из колючей проволоки. Совсем другая причина прибавила к миллионам заключённых ещё одного «строителя светлого коммунистического будущего». Только оказавшись на нарах, я узнал о «тотальной мобилизации масс» для воплощения грандиозного ленинско-сталинского плана в явь. Узнал, познал, но не поверил. Продолжал носить икону Николая (Островского) в душе своей, как великую святыню. Как христианин, распятие.
Фактически там я оказался овцой в волчьей стае. Но продолжал верить в то, что строю коммунизм, попав в концлагерь всего лишь по ошибке. По чьей-то злой воле. Всего лишь следователя-садиста и оперов-палачей. А коммунизм — свят.
Однако это роковое, а по сути дела тривиальное, событие произойдёт почти через два года. А пока я стою перед нашим зеркалом и придумываю себе жизненный кодекс чести, которому намерен следовать все грядущие десятилетия, до конца.
Накануне, как упомянул выше, сделал последнюю попытку вызнать у отца, кем же были его родители, чем занимались.
Обидно оставаться в неведении, потому что ни отец, ни мама почему-то не желают посвятить тебя в семейную хронику, которую обязан знать каждый, — так мне тогда думалось. Иначе, получается, что я человек без роду-племени. Почему? Почему в немногих фотографиях, хранившихся в альбоме наряду с художественными открытками и портретом какой-то Наты Вачнадзе, некоторые фигуры оказались аккуратно вырезанными? Почему? Об этом приходилось лишь догадываться. Но всё — хватит, как я вычитал в старой книге с ятями, гадать на какой-то кофейной гуще. Я поставил себе задачу посложнее алгебраической: придумал тот самый кодекс чести, чтобы руководствоваться им всю жизнь.
Часто для меня, выросшего, но всё равно мальчишки, становилось очевидным: многие, даже взрослые, утверждают на словах одно, а в жизни поступают совсем иначе — противоположно. И ни какие-нибудь книжные герои, придуманные писателями, а живущие с тобою рядом. Как это так получается? Почему?
То, что врут и лукавят пацаны и девчонки, понятно. Но когда этим занимаются далеко не дети — вот что возмущает. Таким, как они, взрослым, я не хочу вырасти. Надо следовать своим, честным, путём: никого не обманывать и не поддаваться лицемерам. Всегда оставаться правдивым. Как трудно тебе ни приходилось бы. Защищать своё достоинство всеми доступными способами. Честными, разумеется. И других — тоже.
Бабка Герасимовна как-то в сердцах высказалась:
— Вот што, Егор. Родился ты в мае, вшую жижню тобе маятьша. Потому как не умеешь швой яжик жа жубами держать. Попомни меня — на каждо швое шлово правды будешь больши тумаки[400] полушать. Дак лущше уймиша, пока не пождно.
А я ей возразил:
— А ты сама, бабушка, как поступаешь? Ведь тоже правду говоришь?
— Я шеловек штарой, мене шкора помирать. А у тебя вша жижня впериде. Вот. Прошла, Егорка, та пора, кады мождно было правду-матку в глажа режать. Ноне жа энто ух крепко шкрибут. Неушто шам-те швоими глажами не видишь?
Я достойно ответил бабке, верно поняв, к чему она клонит разговор:
— Бабушка, ты, видно, совсем ничего не понимаешь. Советская власть у нас — не капиталистическая. Не царизм проклятый. Когда за правду можно было на каторгу сослать. Сейчас — свобода! Социализм!
Герасимовна вытаращила на меня мутноватые глаза, словно на сумасшедшего, — ходил к нам в дом один дурачок, побирался, и звали его почему-то по уличному Гоп со смыком, так вот он зачастую такие соображения высказывал, что семеро умных не смогли бы смысла в них отыскать, такая чушма[401] и околёсица,[402] — махнула на меня руками, быстро повернулась и уковыляла к себе в комнату.
А я подумал:
«Ну бабка! Совсем сбрендила. От старости, похоже».
Я-то твёрдо верил, что большинство советских граждан — честные люди. А всякая нечесть скоро отомрёт. Как динозавры. И наступит во всём мире коммунизм! Ура!
К наступлению этого счастливого времени себя и надо готовить. Бороться с недостойными и «под Ленина себя чистить», как сказала великий пролетарский поэт. Которого я, между прочим, хоть не часто, но с удовольствием читал. Но чаще других, пожалуй, я доставал из нижнего ящика бабушкиного шкафа заветную книжечку Фраемана «Дикая собака Динго, или повесть о первой любви». Лет в четырнадцать-пятнадцать.
Перечитывая эту небольшую по объему книжицу, многие эпизоды я видел мысленным взором, словно происходящими в натуре, и становился как бы соучастником их или представлял нарисованными праздничными нежными акварельными красками.
Теперь уже откроешь тугой ящик и не извлечёшь заветную книгу. Зато и не услышишь скрипучий отцовский голос, когда папаша, лёжа, как всегда, на диване и шелестя свежим номером «Челябинского рабочего», меланхолично произнесёт:
— Хватит тебе, Юряй, чернокнижничеством заниматься. Иди. Займись каким-нибудь делом, перестань валять дурака…
Откуда, по каким понятиям чтение равноценно «валянию дурака»?
Значит, газету листать — не «валяние дурака», а упоение «Утраченными иллюзиями» Бальзака или тем же произведением Фраермана…
А когда был помладше, лет пяти-шести, надоев своими «почему?», «что такое?», «кто?» и «что?» и прочим, жгущим меня любопытством, молча получал щелчок пальцем по лбу.
Естественно, подобное «воспитание» отнюдь не радовало меня, и я тут же распускал слёзы. Спрашивается, зачем применялись такие «воспитательные меры» и кому они приносили пользу?
Если мои хныканья и рыдания слишком беспокоили отдых папаши, то он удалял меня подальше: в угол комнаты, к окну, стёкла которого зимой всегда серебрились узорами листьев пальм и других волшебных растений, на них я, не ведая, что творю, оставлял многочисленные дактилоскопические оттиски своих малюсеньких пальчиков. Это занятие увлекало, и лишь мама меня, продрогшего, оттягивала от сказочных ледяных волшебных рисунков. И уже на следующий день её предсказания сбывались — я заболевал. Чаще не выдерживало горло, и мама лечила меня тёплым молоком и ватными повязками с шерстяным шарфом. Но ей обычно недосуг заниматься мною, и я обзаводился насморком, или ангиной, или ещё какой-нибудь «холерой», в жизни моей начиналась новая эра не только с питьём горячего молока, пертуссина и прочих прелестей, с тепловыми повязками на горло, полосканиями, откашливающими и тому подобным. Это, когда моё «воспитание у ледяного окна» обнаруживалось через несколько дней.
Отцу было хоть бы хны. Он помалкивал, пока мама металась с лечением меня.
Стасик, более спокойный, чем я, не докучал отцу и где-нибудь тихонько играл сам с собой в уголке или под огромными дубовыми раздвижным столом — братишка жил непохожей на мою беспокойную жизнь, своими интересами — четыре года разницы всё-таки диктовали иные интересы.
Глупые мои вопросы становились опасными для меня, когда папаша пребывал в пивных грёзах, — в такие минуты его лучше не задевать даже словом. Он изволил дремать, закрыв колышущимся листом газеты лицо, от которого всегда пахло тройным одеколоном, флакон которого с пульверизатором всегда стоял на подзеркальнике. Трогать их строго запрещалось. И я не прикасался ни к синему фигурному флакону, ни к красного цвета резиновой груше, заключённой в шёлковую сетку такого же оттенка, но тщательно разглядывал их — запретное всегда интереснее доступного.
К слову пришлось, от бабушкиного приданого нам досталась ещё одна вещь, к которой мне строго-настрого запрещалось приближаться (зная моё непомерное любопытство), — к настенным большим квадратным, похожим на застеклённый сундучок часам, украшенным резными балясинками (справа и слева от покрытого белой эмалью золочёного циферблата), с крупным, из жёлтого металла, круглым маятником. С красивым, как с удовольствием повторял отец, «мелодичным» боем по удару каждые полчаса и определённым количеством их — согласно цифре на эмалевом циферблате, которой косались одновременно малая и большая стрелки.
Эти часы, вероятно, напоминали отцу его детские годы и тёплую утреннюю булочку под подушкой. Поэтому он столь категорично запретил мне трогать их — память о том, о чём мне никогда не рассказывал, а доверил лишь маме и почему-то приятное это воспоминание унёс с собой навсегда. С мамой в какие-то минуты он иногда откровенничал — у них существовала своя интимная жизнь, в которую они меня и брата никогда не допускали. Со слов мамы, бабушка будила любимца Мишу, он был девятым ребёнком в семье и единственным мальчиком. Под бой часов он, проснувшись, тотчас просовывал ручонку под подушку, вынимал из-под неё тёплую булочку с изюмом — с этого начинался Мишенькин день. Вот какими воспоминаниями, возможно, были дороги отцу эти настенные часы. И не только. Мало ли что могло происходить под их звоны.
Тем более что мною были безвозвратно разобраны по винтику настольные часы в стеклянном футляре, которые в полдень и полночь исполняли какой-то гимн, а каждые четверть часа издавали один тонкий звуковой сигнал, похожий на звон колокольчика.
Мама упросила очень сердитого отца, который не мог смириться с моими выдающимися способностями превращать сложную вещь в груду простых металлических деталей, не наказывать меня. За настольные часы.
После я и сам горько посожалел об этих своих способностях. Но было поздно — всё за годы куда-то растерялось. Вероятно, в играх со Славкой дома и на улице.
Они, эти утраченные настольные часы, напомнили мне о бабушке, которую смутно припоминал. И знал лишь одно точно: именно она, бабушка, спасла меня от, казалось бы, неминуемой смерти. Когда мы жили (или скрывались?) в Азии, в Семипалатинске. Там я и появился на свет. Но родным местом, Родиной своей, почитаю Челябинск. Спасительница же моя родилась где-то в бескрайних казахстанских степях. Там росла и расцвела. И влюбилась, по моему предположению, в одного из покупателей, так сказать клиентов её отца, расторопного и смышлёного рязанского голубоглазого парня. Вышла за него замуж и нарожала ему, наверное, не меньше полудюжины детишек. Самым любимым её дитятком стал младшенький, Мишенька, мой будущий отец.
Бабушка привезла меня из Семипалатинска в подоле в родной город моего отца грудным младенцем, умирающим от малярийной лихорадки. Однако мне с помощью бабуси удалось выкарабкаться из лап курносой, за что я ей благодарен навсегда.
Вскоре она уехала в казахские необъятные просторы и как бы растворилась в них. У нас остались старомодные небольшие очки в затёрханном футляре, видимо забытые впопыхах. Но благодарная память не забывает добро. Хотя и смутный, образ бабушки сохранился во мне до сих пор.
Так эти очки пролежали в одном из ящиков комода, променянного в военные годы за буханку серого хлебушка. К удивлению, они уцелели до сего дня.
Иногда они попадают мне в руки, и задумываешься на вечную тему: ради чего живёт человек? Что и кого после себя оставляет?
Как часто, к сожалению, приходится наблюдать, точнее — видеть: жил человек, умер и после себя не оставил ничего. Даже добрых воспоминаний. Как будто и не жил вовсе.
Если такой человек заглянет перед кончиной в зеркало жизни, то не увидит своего отражения, — пустота. Человек отражается лишь своими положительными либо отрицательными делами, поступками. О последних я пока не упоминаю.
Например, одно из воспоминаний: детдомовский паренёк по кличке Моня. Впрочем, о нём ещё придётся упомянуть в связи с персонажем следующего сборника рассказов. А цель их — разобраться правдиво, что же всё-таки есть моя жизнь. Возможно (хотя маловероятно), что хоть кто-то из читателей извлечёт каплю полезного для себя из этого повествования. Зачем же тогда я их пишу? Без «Ледолома» трудно понять, объяснить моё поведение в советских тюрьмах и концлагерях, в армии, в комсомоле, участие в качестве рабкора в газетах, учёбу в университете, коллекционерскую деятельность, работу корреспондентом, работягой и, наконец, библиотекарем. Вот и вся моя жизнь. Но тогда…
Стоял перед бабушкиным зеркалом в сорок восьмом и размышлял о том, как построю будущую свою жизнь. А скорбная история её уже маячила в ближайшем грядущем, но я этого не видел. Уже тогда я решил бороться за цель изо всех сил. Не то что детдомовец Моня.
Но сейчас не о Моне разговор. Хотя в сознании мелькнул нелепый отрывок его, Мони, жизни. Конечно же, он явился уроком, что такого со мной не должно, не может произойти. Я наизусть помнил слова Николая Островского о том, как надо прожить жизнь, чтобы не было мучительно больно за бесцельно прожитые годы. Эта формула и стала моей истинной целью. Хотя чётко и объёмно тогда она ещё не вырисовывалась. Просто внутри возникали отдельные мысли, не скреплённые единым стержнем.
Не знаю, не считал часов и минут, проведённых один на один перед старинным зеркалом, но многие из этих подобных мыслей промчались в вихрастой голове моей, как единый миг. Помню лишь, что именно в те часы и минуты всё во мне торжествовало: наконец-то достиг совершеннолетия и готов к выполнению задуманных планов. Наконец-то! Кончилось слишком затянувшееся детство. И, как в старинных книгах вычитал, началось моё отрочество.[403] Думалось, теперь стоит лишь обрести полную свободу — и дерзай! Себе я казался человеком бесстрашным (как глубоко ошибался! хоть чуточку бы об этом имел жизненного представления) и способным на добрые, бескорыстные поступки. Свободы, вот чего мне не хватало. Теперь я её обрёл. Скоро у меня её будет более чем предостаточно. В этом я совершенно уверился.
В такой эйфории[404] пребывал несколько дней и вечеров. Их я истратил на сочинение правил поведения и поступков.
Ничего особенно нового в сравнении с тем, по которым я уже жил, не прибавилось. Многое, как ни странно, заимствовал из маминых «моралей». То, что ещё недавно мне казалось бесконечно повторяемой «нудягой», в эти дни и вечера «устоялось». Например, зарабатывать на жизнь только честным трудом. Иным способом я просто не мог, не способен был существовать. Вся трудовая жизнь моя это правило в дальнейшем подтвердила. Вдруг потом признал я и другое: необходимо выучиться хорошей, полезной людям и нравящейся тебе специальности, да и не одной, не обязательно медицине, а такой, которая приносила бы радость другим, ну хотя бы пользу, удовлетворение от собственного труда. И учиться. Продолжать всегда учиться. Насколько позволят способности. Например, писать хорошие, приносящие пользу читателям книги. Когда будет, о чём поведать другим.
Ещё тётя Даша Малкова, когда ей какими-то неведомыми путями попала в руки тетрадка моих стихов (как я уже признался, плохих, подражательных и во многом беспомощных), она поспешила сообщить маме, что Гере следует после окончания школы поступить в только что открывшийся в Свердловске университет на факультет журналистики. Уже почти полвека я удивляюсь её пророческим словам — сбылось в точности. Некоторые, наверное, не поверят или усомнятся в сказанном мною, но это — правда. Через много лет, в шестьдесят первом, казалось, и надеяться-то было не на что. Позади: тюрьма, концлагеря, армия, «чёрный» труд на заводах, и в то же время — учёба в школе рабочей молодежи, рабкорство, длинные полки прочитанных книг, желание познать богатство жизни, накопление житейского опыта, борьба, постоянная, неустанная борьба за справедливость, множество поражений в этой вечной схватке и всё-таки продолжение её. По сей день.
Эти мои шаги в жизни, возможно, кому-то могут показаться нелепыми, но в пятьдесят пятом году армейские комсомольцы оказали мне почти невероятное доверие: приняли в свои ряды. И я старался оправдать это великое для меня доверие. Думаю, работая в комсомоле, я ни словом ни делом не нарушил корчагинские заповеди, честно отслужив в этой организации не только положенный срок, но и после пытался во всём оставаться ей полезным. Друзья по комсомолу поддерживали меня в этой борьбе за справедливость даже, когда я выступил в городской газете с критической корреспонденцией против директора ангарского завода КВОиТ[405] о беспорядках, происходивших на нём. А ведь я работал на этом производстве рядовым слесарем и был очень уязвим со стороны руководства. Общественная моя жизнь складывалась напряжённо, как и положено активному комсомольцу, вплоть до отъезда в Свердловск. Да и в нём тоже.
…Как-то на кухне бабка Герасимовна в неоднократно повторявшемся споре на религиозную тему, помню и сейчас какую (я всегда упорно доказывал своё), неожиданно спросила:
— Георгий (по крещению имя назвала!), ты в каком мешаше [месяце] уродилша?
— В мае, — ответил я.
— А шишло како?
— Зачем Вам это, бабушка, знать? Какая разница?
— Отвешай правду, — почти приказала она.
Мне тогда лет тринадцать исполнилось, если не ошибаюсь. А может, двенадцать.
— Ну, двадцать восьмого. Да зачем Вам?
— Молши.
Она минуту покумекала и уверенно заявила:
— Век тебе маятша. Ох, много горя примешь! Ты на меня не шершай, иштинну правду тобе молвлю.
— Да Вы, бабушка, цыганка, что ли? Я в разные предрассудки не верю. Откуда Вам знать, какая у меня жизнь будет? Чепуха всё это… Да и не впервой я это от Вас слышу.
— Ох, попомнишь меня… Я ж тобя нашкрожь вижу… Но ш пути швово, на который тобя Гошпоть наштавил, не шворашивай. Такова шудьба твоя. Вшо примай без ропата: и хулу и похвалу. Швоей дорогой иди, не шумлевайша, и в Бога уверуешь, как Хома.
— Бабушка Герасимовна, мне смешно Ваши слова слушать. Тем более что человек я неверующий. Вот уж поистине бабушкины сказки.
— Айда-айда,[406] куда пошёл… Неверуюшший! Ты крешшоный. И тепериша жа тобой ангел-хранитель штоит. Вот ш ним ты и пойдёшь до конша.
Я обернулся и шутливо произнёс:
— Где он? Я его что-то не вижу. Он невидимка, что ли?
— Дурак ты, Егорка. Поболе поживёшь, дак ужнаш. А шишаш ижиди вон ш глаж моих, ахальник.
— А Вы не обзывайтесь! Старая, а хулиганите, — сдерзил я, разозлившись.
На том с ней тогда и расстались. Но случайно перехватил взгляд её. Раньше глаза её виделись мне мутноватыми. На сей же раз они смотрели твёрдо, зорко, будто буравчики сверлили. И что-то в них увидел пугающее меня. Словно другой человек, не бабка Герасимовна, вперился в меня её глазами.
Полагаю, долгонько она присматривалась ко мне. Изучала. Прежде чем своё предсказание в очередной раз выложить. А я на неё то издалека поглядывал, то вблизи, но скользя. Что интересного можно увидеть в восьмидесятилетней или девяностолетней старухе, кроме многочисленных морщин на лице да дряблой кожи на руках? А она вон какой оказалась! Совсем другой. Шилья её маленьких чёрных глаз после неоднократно возникали в моей памяти и через много лет.
Оставим Герасимовну в покое, потому что она давно умерла, бедолага. Кстати, чуть ли не в один день со Сталиным. И с моим братом Станиславом. И с мамой Эдочки Васильевой (у неё мы иногда покупали такое вкусное молоко от коровы Бурёнки, которую я любил угощать травой после возвращения её с пастбища). Богат урожай оказался для курносой — не только для страны, но и для нашего двора и семьи в пятьдесят третьем — не обошла она его стороной. Смертонос притягивает жертвы, даже когда сам становится трупом, тленом, пока дьявольские силы не покинут его.
Чтобы закончить рассказ о Герасимовне, должен признаться, что вообще её предсказания сбылись. Прозорливая оказалась бабка. Природный психолог. Только верующим я так и не стал. Хотя многие «профессионалы» упорно натыривали[407] меня, убеждая, что я христианин. И ласковыми голосочками, и отборным тюремным паскудным матом. Надо было им, надо… Очень! Ну позарез! Чтобы «мясорубка» работала беспрестанно. Не получилось. Потому что додумался до неоспоримой истины: из ничего невозможно создать нечто. Посему следует, что Мир, Мироздание, Вселенная (читай — Глобальный разум) не создан никем, а существовал, существует и будет существовать всегда. Слово «Мир» я употребил неточно. Под ним следует подразумевать все миры, все пространства, что существовали, существуют и будут существовать во Вселенной и за её пределами, ибо Разум безграничен.
Вероятно, мои рассуждение не совсем верны с точки зрения высоких наук, о которых и представления не имею, но логичны. Собственно, логика и легла в основу моих выводов.
…Тогда перед зеркалом во мне укрепилось убеждение, что в определённых случаях надо сознательно идти на жертвы. А понадобится — рисковать собственным здоровьем, собственной жизнью. И такими незначительными мелочами, как благополучие. Ради чего многие люди и существуют. И был готов на подобные поступки. Если цель стоила того.
За примером далеко не нужно ходить: мама, она имела все возможности, по крайней мере во время войны, устроиться очень благополучно. И наша семья не жила бы столь скудно и голодно. Но она сама выбрала трудный путь. Потому что так требовала обстановка в стране. Она жила не только ради наших семейных, точнее сказать личных, интересов, а всего Отечества. И шла туда, где осознавала себя наиболее нужной.
В прошлые, юные, годы я как-то не задумывался над этим, хотя знал. Её поведение мне казалось обычным. Так должен поступать каждый гражданин страны. Хотя даже детским своим умом понимал, что далеко не все руководствуются этими правильными понятиями. Видел и прямо противоположное. Таких людей я осуждал в себе. И верил, что, поскольку будущая наша жизнь, несомненно, изменится после победоносного окончания войны, все люди станут лучше, добрее — ведь пережить такое… Моя личная судьба виделась мне бесконечно радостной. И я стремился в неё, преодолевая трудности. Как почти все.
А то, что всякие допотопные старухи бормочут о каких-то муках, якобы ожидающих меня в мифическом потустороннем мире, — всё это че-пу-ха! Какой жизнь сам выстроишь, такой она и станет. Ведь главные трудности — позади. И они никогда не повторятся. Всё зависит от тебя самого. А то, что маме сейчас по-прежнему нелегко содержать и кормить уже не нас троих, а лишь отца и Славку, я просто облегчил её жизненную ношу.
Когда изматывающая, кровопролитная война закончилась и с неё вернулся отец всего с одним небольшим осколочным ранением, мама снова перевелась на предприятие, где продолжила работу по своей университетской специальности.
Мне есть с кого брать пример, чтобы сделаться полезным обществу человеком. Примеров и кроме мамы сколько угодно: десятки раз смотрел наши фильмы — их герои не прекрасные ли образцы для подражания? Не однажды перечитывал и книгу Николая Островского «Как закалялась сталь». Она, как уже отмечал, давно превратилась в настольную, самую мудрую, насущную, духовно-руководящую книгу. И сейчас в нашей, ещё небольшой по количеству экземпляров, домашней библиотеке она числится под номером один. По значимости[408] для меня. Похожим (по духу) на Корчагина мне очень хотелось стать: целеустремлённым, честным, готовым вступить в бой, в схватку (не обязательно с винтовкой или наганом) с теми, кто противодействует достижению заветной цели — добиться справедливости. Участвуя в борьбе за создание справедливого общества, в построении его, я продолжу Великое Дело, за которое сложили свои головы миллионы таких, как Павел Корчагин. Я хотел бы стать одним из них. Именно так восторженно я думал, вглядываясь в своё отражение в зеркале, не допуская мысли, что меня может ждать иная судьба.
Мелькнуло лишь сомнение: хватит ли духовных сил, чтобы продолжить путь Павки? Не дрогнуть? И решил — не отступлю!
«Конечно, столь героических поступков уже не совершить — времена не те, — подумал тогда я. — Но строить счастливое будущее — для всех! — работать, не щадя себя, не жалея тратить свои силы, эту возможность мне даровала судьба. Теперь — за дело! И судьба мне такую возможность явно предоставила. Но сначала в зловещем, карикатурном виде — зеком в советских концлагерях. Она, как я понял, испытывала меня на твёрдость.
О как по-детски я был самонадеян в те блаженные минуты, даже не допуская мысли, что совершенно не знаю настоящей жизни и многочисленных её превратностей! Но уверенность, что на моём пути обязательно встретятся хорошие, добрые и честные люди, будущие спутники и единомышленники, их в стране — миллионы, и помогут в опасную минуту, я же помогу им, придала мне ещё больше уверенности и надежд, всколыхнула, казалось, бурлящую внутреннюю силу. И вот тут я не ошибся. Правда, их оказалось не столь много, как в моих фантазиях. Но…
…У меня уже есть хотя бы один такой друг, пусть со смешной и не нравящейся мне уличной кличкой — Шило. Двоюродный брат Игорёшки. Я его звал только по имени — Колей. Детдомовец, а это слово обычно произносилось многими не с положительной окраской, он тоже любил читать книги не меньше меня или Игоря и был честным парнем. Не то что, например, Толька Мироедов, сын «троешника» из прокуратуры. В общаге, в тумбочке, Коля имел небольшую личную библиотечку из любимых произведений художественной литературы, десятка два экземпляров. Я это про себя отметил: не вкусную жратву, не шмотки[409] с барахолки,[410] а книги приобретал он на очень трудно зарабатываемые рубли. Доверяя Коле, мы с Игорёшей познакомили его с букинистом Михаилом Яшпаном, и он стал его «клиентом». Несколько книг Коля раздобыл самостоятельно, на базарных развалах. В общем, «заразился». Остальные коммунары не проявляли интереса к книге, кроме Вали Бубнова, приёмного сына расстрелянного «врага народа», бывшего большого советского начальника. Коля, черноглазый, кудрявый парень, испанец по национальности, был дважды сиротой: сначала от фашистов погиб его родной отец, коммунист, а в тридцать восьмом отчим получил пулю в затылок от своих единомышленников-большевиков.
Всё. Разглядывание себя в зеркало прекращаю. И беседу с собой — тоже.
Решив пойти после почти недельного прогула на работу, я опять через Колю рискнул попроситься к Николаю Демьяновичу — снова на ремонтно-механический завод. Почти два прошедшие года я с ребятами поддерживал товарищеские отношения. А это было непросто. Иногда очень даже непросто. Дружил я по-настоящему с Колей Шило. А пытался якшаться с остальными пацанами. Судя по всему, они на меня особого зуба не имели — знали и, главное, поняли, почему мне пришлось из родного дома добровольно уйти. На их поддержку я теперь и рассчитываю. На их прощение. Несколько дней я угробил на получение паспорта. Мама всё это время уговаривала меня «поискать» работу в Челябинске. Почище.
В нагрянувшее воскресенье я встретился с Колей, объяснил ему, не тая ничего (как бы там ни было, увольнительную обязан был получить), и он обещал поддержать за меня «мазу»[411] перед Николаем Демьяновичем.
Он отнёсся к моей просьбе, хотя меня постоянно терзали сомнения, сочувственно. Только одно неприятное предупреждение сделал: чтобы родители более ко мне не приходили. «Не качали права».[412] Значит, мама побывала здесь, пока я возился с получением паспорта. Я пообещал.
Застав маму на кухне, признался ей, что продолжу работу на том же заводе в Смолино. Я догадывался, почему ей не нравится смолинский коллектив. Но меня связывало с коммунарами слово чести, данное при приёме.
Ожидая истерики, запрета, требований лучше устроить своё будущее и прочих «сюрпризов», я даже удивился, что к моему решению она отнеслась спокойно. Вероятно, папаша убедил её: пусть уходит хоть куда, лишь бы ему «глаза не мозолил».
Но всё-таки спросила:
— А получше другого ничего не мог подыскать?
— Меня этот завод устраивает. Буду на слесаря учиться.
Конечно, не обошлось без слез. Я видел, как они текли, поблёскивая, по её щекам.
У меня комок застрял в горле. Но вспомнил, что мне уже шестнадцать, и я не собираюсь всю оставшуюся жизнь держаться за её юбку.
— А с пути истинного они тебя не собьют? Попадёшь в какую-нибудь шайку…
— За себя, мама, ручаюсь. Твёрдо. Не беспокойся.
— Все они какие-то бывшие беспризорники…
— Вот именно — бывшие. А в настоящее время зарабатывают на хлеб своим горбом. Не виноваты же они, что без родителей остались…
— Это, разумеется, так. Но у тебя-то…
— Давай об этом не будем затевать разговор: живы мои родители или нет, главное — оставаться честным человеком.
— Ты своё-то заберёшь или здесь оставишь?
— А что тут моё? Книги.
— Вещи разные.
— Кое-что из одежды, если позволите, возьму. Когда понадобится.
— Забирай, что нужно. Тебе собрать или сам?
— Сам. Если и отец не против, по воскресеньям буду проведывать. Как прежде. Когда прогул отработаю.
— Приходи, конечно же. Только душа у меня по тебе всё равно болит.
— Не переживай. Всё будет хорошо. Паспорт на всякий случай оставляю у вас. В пятом томе «Жизни животных» Брема будет лежать.
— А как же тебя на работу без паспорта примут? Не положено.
— Так меня никто и не увольнял. Паспорт показал воспету. Сегодня уже не пойду — завтра. Последний раз дома переночую.
Мама заплакала вновь, закрыв лицо ладонями.
— Не надо, мама. Деньги лишние от зарплаты останутся — поделюсь с вами. Отец как-то говорил, что моя помощь не помешала бы.
— Да ладно. Какая там помощь. На пропитание себе заработал бы. А если трудности материальные возникнут, ты мне, сынок, скажи. Обязательно. Только так, чтобы отец не слышал.
Да, уютно папаша устроился в своей КЭЧ — всё чаще со службы возвращается навеселе. И пахнет от него водкой и пивом.
Какой-то сослуживец у него появился. По-нашему, по-уличному, кореш. Майор. Что ему, рядовому запаса, очень льстит: собутыльник — офицер. Отец иногда в разговорах с мамой называл его, вероятно, по фамилии — Пахряич.
Я давно знал, куда они после службы заходят «заправиться»: в ресторан «Арктика», что открылся после окончания войны на улице Кирова. Об этом своём случайном открытии я умолчал. Там они «под рюмашку» вспоминали и смаковали эпизоды своих фронтовых биографий, о чём, возвратившись, отец пересказывал маме.
Утром, тщательно выбрившись трофейной опасной бритвой «Золинген» и густо оросив физиономию «Тройным» одеколоном, в выглаженной мамой военной форме из дорогого материала, но без погон (воинское звание у него было ефрейтор), начистив до зеркального блеска хромовые, тоже новые, сапоги, он чинно отправлялся в свою КЭЧ,[413] и это всё повторялось будто по расписанию — изо дня в день. Служил он поначалу рядовым бухгалтером, но через некоторое время его заметило высокое начальство, и он стал руководителем этой «конторы» (как сам называл её) — начфином.
Денег маме из своей зарплаты, как выше упоминалось, он не давал, а оплачивал лишь коммунальные услуги. Эту жертву он, вероятно, считал вполне достаточной. Для семьи.
Однако, заявляясь поздно вечером в родные пенаты, первые слова, произнесённые им, звучали обычно так:
— Фёдоровна, жрать подавай!
Далее папаша ни к чему, кроме столового прибора, не притрагивался.
Когда же мама, раздосадованная его «лежебоченьем», пыталась вынудить принести хотя бы пару вёдер воды из колонки, то он, продолжая пребывать в незыблемо горизонтальном положении на уютной, с младых лет привычной, из резного дерева, кушетке (диван-кровать мы искромсали на разжиг, замерзая зимой сорок первого. За ним последовал и погибший от уральского мороза фикус с разобранной по дощечкам кадкой). Но это произошло в сорок первом. А сейчас отец каждый раз отвечал.
— Это немужицкое дело, Фёдоровна. Пусть Юряй принесёт. Или Славяй.
А когда я поступил на завод, то адресат изменился — вместо «Юряй» появился мой «последователь» — «Славяй».
Я же отнюдь не почитал это занятие (или выгреб золы из топки и поддувала кухонной печи) «немужицким» делом, хотя пацану большущие оцинкованные вёдра даже на коромысле, от которого оставались мозоли на плечах, казались тяжёлыми. Но терпел.
Маму такое отношение мужа к домашним делам (и к ней лично) злило, и она иногда в подобных препираниях срывалась на повышенный тон. Мне всё это было больно слышать, и я или бросался выполнять нужную работу, успокаивая разнервничавшуюся маму, или быстро исчезал на улицу. Мне обидно становилось на отца, потому что она всегда оказывалась права. А он этого упорно не признавал. Не желал. Позднее «немужицкие дела» вспоминались мне, потому что легли целиком на плечи Стасика. А ему сейчас меньше, чем мне было в сорок пятом и сорок шестом. Но он вроде крепкий пацан и, уверен, будет помогать маме по хозяйству.
Написал эту строку, и сердце больно сжалось: когда я стоял перед зеркалом и, не сомневаясь ни в чём, «планировал» свою будущую жизнь, задевая и дальнейшее родных, Славке не оставалось жить и пяти лет. Ох уж эти «планирования»!
Всё в нашей семьи сложилось бы иначе и существовать стало бы попроще, если б мама не продолжала мантулить[414] на полторы ставки. Работа отнимает у неё не восемь, а двенадцать часов. Так будет и дальше — семью кормить надо кому-то.
Не обрадовали поведанные мамой кое-какие подробности отцовского детства: сызмальства его обихаживала персональная прислуга, а по дому всю необходимую работу («грязную») выполнял наёмный мужик по имени Гаврюша. «Барчонок» Миша называл его не Гавриилом и не по отчеству, а уменьшительно. В тридцать седьмом Гавриил случайно встретил ненавистного барчука на улице и с ликованием сдал чуждого пролетариату элемента чекистам. Судьба отца была бы, несомненно, очень печальной, если б не старый большевик (и тоже чекист) Александр Авдеев, который в дореволюционные годы скитаний скрывался в домах деда Алексея. Но об этом я уже упоминал выше.
Двухэтажный особняк деда в Заречье после октябрьского переворота большевики не успели конфисковать, и хозяин продал его со всеми дворовыми постройками и постоялым двором. Помог деду «неимущий пролетарий» Александр Авдеев, невенчанный муж (безбожник), гражданский супруг одной из дочерей деда — Клавдии, охранявший царскую семью, кажется по пути из Тобольска в Екатеринбург, и короткое время бывший комендантом знаменитого поезда, в котором содержались Романовы.
Сняли его с этой должности якобы за попытку усыновления царевича Алексея и проявленную «гуманность» к узникам императорской фамилии — в чём я основательно сомневаюсь, зная немного дядю Саню со слов отца. Якобы эту «провинность» ему припомнили «друзья»-чекисты, и он в тридцать восьмом году получил пулю в затылок. А вообще-то расстрел Авдеева — тёмное дело.
«Вот с какими «героями» состояла в родстве семья деда», — подумал я, когда узнал от мамы эту легенду. А возможно, и правду.
Я не стал бы отвлекать читателя на персонажей, которые лишь мелькнут в моём повествовании, но услышанное в пересказе мамы немного разъяснило вопрос: кто я? кто мои дальние и близкие родичи? где они сейчас? Иногда отец получал письма из далёкого города Фрунзе, но не отвечал ни на одно, уничтожая по прочтении. Так же поступала и мама.
И мне стало понятней, почему отец не любит трудиться физически, «заниматься немужицким делом», — здоровенный, сорокалетний, он даже на своих детей сбагрил уборку общественного туалета. Правда «щедро» уплатив за этот унизивший бы его, труд. Так же поступила и Малкова, «Даша, мила дочь», наняв работягу, который и выполнил за кусок хлеба её общественный долг. Такое, в моём понимании, барство я осудил про себя. И решил: настоящий мужчина не должен брезговать никаким трудом. Это стало одним из моих жизненных правил. И я всегда, в любых обстоятельствах выполнял его.
Случайно взглянув на кисти рук мертвого, лежащего в гробу в восемьдесят шестом году отца, белые и пухлые, как у неработавшей физически женщины, и небольшие, словно у подростка, я оценил справедливость маминых упреков, когда она мужа в сердцах называла «белоручкой»… Но какими чугунными они мне чувствовались, опускаясь на мой затылок!
…Пошарив в верхнем ящике шкафа (буфет вынудила нужда обменять на продукты питания ещё во время войны), достал папки (благо, находился дома один) и извлёк отцовские документы. Раскрыл военный билет. Интересно: за что же он получил медаль, ту, «языковую». В документах значились ещё несколько: «За взятие Будапешта» и другие. Но не это меня удивило и не воинское звание «ефрейтор», а должность: «писарь». А ведь об этом он ни разу даже не заикнулся. Понимаю, что и писарская должность на фронте нужна. Но для него она часто слушила жизненным щитом. Чтобы облегчить своё существование.
В моём сознании никак не соединились в один образ: лихой разведчик-диверсант, на своём горбу волокущий полузадушенного фрица, и писарь, притулившийся в землянке рядом с командиром. В свободное от писарских дел, что ли, занимался он бросками через линию фронта? Разве так бывает? Вероятно, бывает. В Челябе его обучили диверсионному делу, а на боевой линии потребовался грамотный штабной писарь. Командир приказал — рядовой Рязанов выполнил. А я в глупое положение попал: всем знакомым пацанам растрезвонил, что отец у меня диверсант-разведчик. Но ведь я и сам не знал, что его на писарскую должность назначили. Или перевели. Приказ не обсуждается.
В общем, с той поры в моём представлении об отце как отважном вояке зародилось некое сомнение. Героический ореол постепенно начал тускнеть. Хотя теоретически я допускал, что такой случай мог произойти в действительности. В таком случае, почему сомневаюсь в отце? А насчет писаря — я уже упоминал об отличном каллиграфическом подчерке отца. Вероятно, эта способность и определила его место в боевом строю советской армии. И профессиональное знание канцелярского дела, обретённого ещё на гражданке. И стыдиться следует мне, а не ему, что столь упрощённо, по-детски рассуждал. Подумал: сказываются личные обиды. И отношение.
Теперь читателю легче представить, в какой семье и обстановке я рос и воспитывался. Существует и широко бытует вера, что ребенок, повзрослев, становится другим. Возможно, так бывает. Иногда. Но мои многолетние и многочисленные наблюдения дают основание утверждать: заложенное в основу остается навсегда. И развивается сообразно обстоятельствам. От кого я мог узнать, кроме, как мне тогда думалось, выжившей из ума бабки Герасимовны и её уверенных, на всю мою жизнь, предсказаний: что меня поджидает, какой великий град напастей и другие, по её выражению, «муки»? Тем не менее впереди сияла и манила на подвиги целая жизнь, почти бесконечное количество лет, где всегда найдётся место тому, что, повторюсь, манило, — подвигу. Как мираж в пустыне. Но жизнь-то вокруг меня и во мне бурлила настоящая: вот она, а вот я, думал, мы одно целое. И отражение в зеркале это подтверждало.
…Сейчас, в тихий теплый летний вечер сорок восьмого, вышел в давно ставший родным двор, где каждая травинка, каждый камушек знакомы на глаз и на ощупь, где под крышей большого старинного дома живёт тихая красивая, самая красивая на свете, девочка по имени Мила, а над тёмной, в сумерках, крышей её жилища всегда висит в одном и том же месте — посередине — крупная хрустальная Голубая звезда.
Не знаю, существует ли в природе хрусталь столь яркой голубизны, но мне эта звезда всегда виделась сотворённой из мерцающего кристалла неповторимого нежного цвета и острых игл — если прищуриться.
Я её любил и всегда при встрече произносил про себя:
— Здравствуй, Голубая звезда!
А после прекращал насвистывать мелодию, запавшую из какого-нибудь фильма, и шептал, хотя кто меня мог услышать, кроме Голубой звезды:
— Здравствуй, Мила!
Даже если в окнах Малковых не светилась лампа под оранжевым шёлковым абажуром и не виднелась склонённая над столом русая голова девочки с двумя косичками. Пусть Мила уже спит, я каждый раз повторял эту фразу, возвращаясь с концерта из сада культуры имени Пушкина или с позднего сеанса кино. По сути, я произносил бессмысленную фразу, для меня же она всегда была наполнена, сам не понимаю, но очень дорогим содержанием. Наверное, безграничной радостью, что живёт на свете такая девочка, просто живёт. И всё. Ведь своим внутренним взором я даже в сумраке вечера, во тьме ночи видел её глаза, мерцающие, как моя Голубая звезда, и не только очи её, но даже поры кожи на бледных щеках. Когда на экране моего воображения возникало лицо Милы, меня охватывало то необъяснимое чувство тихой радости, которое я не мог понять разумом (ведь все остальное я понимал), и оно наполняло меня всего. Иногда эта вроде бы беспричинная радость взрывалась, становилась бурной и пронизывала каждую клеточку моего организма, захлёстывала до спазма в горле, и мне хотелось петь, мчаться с бешеной скоростью куда-то, не чуя собственных ног, даже — лететь! Так, как иногда летаешь во сне. И всё это творилось со мной, потому что на белом свете существует эта девочка.
Конечно, я полностью осознавал: все мечты о Миле — сладостный самообман, я никогда не посмею сказать ей заветное слово, потому что не достоин её. Кто я сейчас? Работяга. И ещё несколько лет мне придётся навёрстывать упущенное. Но с Милой мне никогда не встать на одну финишную черту, у неё — своя личная жизнь, у меня — своя. И едва ли наши пути пересекутся. Разве что на дорожке, ведущей на улицу.
Но жизнь оказалась более жестокой и беспощадно посмеялась надо мной. Даже пытки оперов седьмого отделения милиции города Челябинска выглядят в сравнении с этой встречей невинной шуткой. Не посмею никогда прикоснуться к ней, к её нежной и, кажется, хрупкой коже — не дано мне будет ощутить её телесную теплоту… Уже тогда я достоверно знал, что никогда не встану перед ней на колени и не произнесу срывающимся от волнения голосом: «Будем вместе всю жизнь, до последнего вздоха — ты и я». Это откуда-то из старинного романа. Или из пьесы.
Я абсолютно уверился, что не достоин этой девушки, — так оно и было. И поэтому она недостижима для меня.
Мила иногда снилась мне, но даже в сновидениях я не смог прикоснуться к ней. Не говоря о том, чтобы обнять. Поцеловать.
Хотя сны с поллюциями уже посещали меня. Но не однажды та являвшаяся во сне не оказалась Милой. И я, к непростительному сожалению, сблизился с девушкой. Наяву. Мне её «уступил на раз» товарищ по улице Женя Глотёнок. Я проболтался ему, что девственник. Отказаться было невозможно: сразу разнёсся бы слух среди знавших меня, что я «неспособен». И я не устоял перед позором и соблазном. Хотя после сожалел о происшедшем до слёз.
Плотская любовь, да ещё с девчонкой мало мне знакомой, и само совокупление вызвали во мне отчаянное разочарование. Своей обыденностью. К тому же, мне показалось, ей было все равно, с кем совокупляться. Или она ожидала от меня чего-то большего. Не ведаю. Но вместо радости я испытал угнетение. И угрызение совести перед образом той, которую любил. Я перешагнул черту, за которой началась моя другая, сугубо личная, жизнь. Навсегда без Милы. То, что я сумел получить от Светланы (Женька называл её Светкой), оказалось какой-то жалкой пародией на Любовь, придуманную мною.
В моём сознании она, возможно, неплохая девушка, которой просто требовался парень, чтобы удовлетворить плотское желание, — и всё. Что и произошло. Но выглядела она куклой, живой куклой. Я убедился, что больше не смогу с ней встречаться. Если б Женька даже поделился. И продолжать делать то, что мы сделали. На дедовой железной кровати в сарае.
Я честно признался ей о невозможности дальнейших встреч. И обидел.
— Не хочешь — не надо, — оскорбилась она. — Подумаешь! Я снова к Женьке пойду. У меня парни и ещё получше есть.
И перед подъездом её дома по Цвиллинга, тридцать шесть, она отомстила мне за мою глупую неблагодарность.
— Да и парень ты никудышный. У Женьки лучше получается.
Мне стало стыдно перед девчонкой. И перед собой. Не оправдаешься же перед ней, что с тобой такое произошло впервые, и не попросишь за свою неопытность извинения. Я осознал, что совершил подлость перед Милой. Но объяснить Светлане что-либо вразумительно я не мог. И чувствовал себя виноватым.
Зайдя в подъезд, она с ехидной улыбкой зло бросила мне:
— Дурак!
В ответ не проронил ни звука и опустил глаза.
Даже слово «прости» не в силах был вымолвить. Мучительно лишь старался, силился не думать о преданной мною Миле.
Так, по-ребячьи глупо, я изменил своей любви. Уже поэтому был уверен, что не достоин её. Навсегда.
Когда вернулся домой, Голубая звезда по-прежнему висела над серединой крыши. Но я не сказал ей «здравствуй!», не произнес и других слов, кроме «прощай!».
Зайдя в сараюшку, скомкал и бросил в угол простыню. Сбегал к уличной колонке и, раздевшись донага (благо, что улица была пуста), пополоскался под освежающей струей.
Ночь оказалась бессонной. Только под утро задремал. Но заставил себя пробудиться и рысцой побежал на Миасс. Долго отмывался у водокачки, словно от какой-то скверны.
Вечером, в парке культуры и отдыха имени Пушкина я, как условились, встретился Женькой.
Я предполагал с опаской, что он будет надо мной насмехаться за мою неумелость, но услышал сочувственное:
— Не бзди, Рязанов. У меня в первый раз тоже не получилось. И знаешь, с кем? У нас в подъезде, в подвальном этаже, бездомные бабы ночуют — спят на горячих трубах. Так с одной девкой. Тоже возился-возился, а попасть не попаду никак в шахну.[415] Я её расшарашил, а всё равно — мимо. Баба рядом лежала, говорит:
— Чего ты елозишь? Иди, я тебе поддам.
И правда: подмахнула несколько раз, и я поплыл. Получилось.
— У меня вроде получилось тоже.
— Что ты треплешься? Она мне сама сказала… Ну да ладно, не буду её слова пересказывать. Хочешь, в подвал спустимся? Они там всё ещё кучкуются.[416] Какую хочешь, выбирешь. Бутылку «Плодовоягодной» прихватим, и всё будет на мази…[417]
Чтобы не вызвать подозрений, я ответил неопределённо:
— Давай как-нибудь в следующий раз.
— Было бы предложено, — с оттенком превосходства, а возможно и презрения, ответил Женька.
В подвале дома, куда он пригласил меня (и где четырьмя этажами располагалась когда-то квартира, которую они обменяли на деревянный, более просторный, дом на нашей улице), я так и не побывал. В этом же подъезде жила и моя гостья, с которой мне очень нежелательно было встретиться на лестнице или даже на улице. А в подвале была велика вероятность подхватить какую-нибудь венерическую заразу, чего я очень боялся, начитавшись медицинской литературы.
Мне повезло. С этой девушкой, Светланой, я никогда не виделся более.
…Поздним летом (или ранней осенью), собрав в сетку необходимые вещи, я последний раз забрался в «свою» сараюшку, решив ни с кем не прощаться и пойти на Смолино ночью. Дорога мне была хорошо знакома.
До позднего вечера провалялся на своей железной кровати. И вдруг нежданный подарок судьбы: в соседнюю сарайку Малковых зашла Мила. Неизвестно, что она в ней искала, но я замер и даже глаза закрыл и так лежал, пока она не удалилась. Думаю, она не услышала, как громко билось моё сердце.
Когда совсем стемнело, вместе со своими пожитками я покинул гостеприимное жилище. Разумеется, лучше было бы уйти из дома днём, но я выбрал ночь. Во-первых, всевидящее око тёти Тани не заметит меня. Во-вторых, мне очень, прямо-таки нестерпимо, захотелось хотя бы издалека увидеть Милу. В-третьих, мне никто не помешает проститься с домом, возле которого когда-то неспешно бил прозрачный родник холодной и, как мне казалось, очень вкусной воды. И в-четвёртых, я мечтал унести с собой не только образ девушки, который заполнил большую часть моей души, но и мерцание чудесной Голубой звезды, которую поначалу я принял за небесный спутник нашего дома, а после, когда Мила внедрилась, проникла в сердце моё, стала в моём воображении как бы её символом — хрустальным двойником. Впрочем, я отчётливо понимал, что раздвоение Милы — это моя фантазия. Однако в душе моей эти два разные понятия объединились, независимо от моего желания. И пусть! Я даже ликовал в себе, вспоминая о девочке Голубой Звезде. И об этом никто не знал, лишь я.
Обход-прощание начал с тёмных окон, за которыми ютилась семья бабки Герасимовны. После, согнувшись, неслышно прошёл мимо двух окон нашей квартиры, заглянув в оба и на кухню. Отец читал на диване, конечно. Об этом можно было бы и не упоминать, силуэт мамы мелькнул на общей кухне. Стасик что-то творил на столе — чертил, что ли. Или рисовал. Сердце мое ёкнуло.
Казалось, неслышно и невидно прокрался я назад мимо окон Герасимовны и с молотом стучащим сердцем приблизился к окнам большой комнаты квартиры Малковых. Но в ней боковым зрением я обнаружил лишь Дарью Александровну. Она отдыхала — слушала репродуктор. Мила отсутствовала. Где она могла быть в столь поздний час? Да мало ли где? У подруги. Но вернее всего, во второй семье. У отца и брата. На ЧТЗ. Я ни разу не видел бывшего мужа «Даши, милой дочи», а вот двоюродного брата Милы (от второго брака), парня, вероятно моего одногодка, встречал у Малковых неоднократно. Славный такой парнишка. Дружелюбный.
Стоя на тропинке, ведшей к уличным воротам, я вдруг почувствовал на себе чей-то пристальный взгляд. Напротив меня чернело кухонное окно Даниловых, в кухне почти всегда была выключена свисающая с потолка на шнуре тусклая лампочка — сороковка — из экономии. А возможно, и для поглядывания за всеми.
Я пригляделся к окну. И мне стало как-то не по себе: за стеклом смутно вырисовывалось чьё-то бледное лицо. И вдруг — растаяло. Ясно, что за мной следила бдительная тётя Таня Данилова.
Свою миссию она выполняла сверхдобросовестно и в течение многих лет. Иногда я заставал у неё участкового оперуполномоченного Косолапого, но не придавал этому никакого значения — мне-то что? Ни со мной, ни с другими жильцами нашего дома он не заговаривал — ему с лихвой хватало баек тёти Тани — ведь она знала, казалось, всё и обо всех. И даже то, о чём они и не догадывались.
Я повернулся и пошагал к воротам. Не стал совершать обманный ход — будто в квартиру вернулся. Все равно разнюхает о моём исчезновении. И всем растрезвонит и кому нужно донесёт. Не скроешься. Да и чего мне таиться — на работу пошёл.
У калитки, ведущей на тротуар, остановился, снова развернулся к дому и, как раньше неоднократно, прищурил веки. И от Голубой звезды вмиг вытянулись острые, соединяющие меня и её лучи.
Название этой звезды — Венера.
1981 год
«Свадебны драгасэности»
Воскресным летним днём тысяча девятьсот сорок девятого года, получив долгожданный отпуск, насвистывая полюбившуюся мне мелодию выходной арии из оперетты Имре Кальмана «Мистер Икс» и про себя напевая запомнившиеся слова «Устал я греться у чужого огня…» и далее, я бодро шагал по всё ещё родной (так мне тогда думалось) улице Свободы, перебирая в памяти события последних дней, произошедшие в моей жизни.
…Между прочим, более полувека безвозвратно минуло с того момента, а именно улицу моего детства я считаю и до сих пор родной. Сам не понимаю, почему. Ведь увидел я свет не только не на этой улице, но даже в другом городе, а теперь и в ином государстве — в Казахстане, в городе Семипалатинске.
…Недавно мне исполнилось семнадцать, но я не пошёл в Челябу, чтобы отметить дома эту не ахти уж какую важную дату, за что в очередное своё появление получил упрёк, разумеется от мамы.
— Уж мог хотя бы прийти на час-два повидаться, — сказала она с обидой.
— Да ведь у нас как-то не принято отмечать эти дни. Они пережитки прошлого.
Пришлось, чтобы успокоить маму, солгать, что именно в этот день пришлось отрабатывать в цехе двойную смену. Вот ведь парадокс — не признавал неправду, а врал, чтобы причинить неприятность другому.
— Отпросился бы у бригадира, или кто он там у вас, мастер, может быть. Небось, отпустил бы повидаться с матерью. А я пельменей настряпала. Ждала.
— Так уж получилось, прости меня, мама.
Я заметил, что отношение её ко мне в последнее время, а я не каждый месяц посещал их, значительно изменилось к лучшему: она стала внимательней и доброжелательней. Может быть, скучала? Жалела? Раскаивалась? Ведь столько незаслуженных наказаний получал раньше, попадая под её горячую руку. Иногда, может быть, и следовало меня приструнить, чтобы не слишком распоясывался (выходил из повиновения), кто знает, маме тогда было виднее.
Я тоже часто вспоминал о ней и о том, что между нами в последние, и даже ранние, годы происходило. Само собой, всё виделось уже не так, как тогда, переосмысливалось. Возникали мгновения, когда мне становилось её очень жаль. Чувствовал: она, очевидно, не очень счастливый в личной жизни человек. И ещё больше жалел её — ведь всё самое ценное, свою жизнь по минутам, часам, годам она отдавала нам. Не сомневаюсь, она любила нас, своих сыновей, видела, наверное, смысл своего существования в том, чтобы вырастить и воспитать нас. Любила она и отца, и прощала ему многое, чего другая женщина не смогла бы сделать, или не пожелала, — простить. Но это уже не моё право — судить о взаимоотношениях родителей. Главное, я увидел то, чего не замечал раньше или чему не предавал должного значения.
А в предпоследний наш разговор (о дне рождения) я, грешник, умолчал о нежелании встретиться с отцом. И избежал общения с ним.
Он, возможно, и не попрекнул бы, что «Юряй заявился пошамать на дармовщинку», однако я опасался чего-то подобного, произнесённого им даже вскользь или какими-то другими словами, даже отдалённого намека, — уже давно «харчевался» на честно заработанные грошовые заработки, которых хватало на хлеб, картошку и иногда на молоко. В общем, «харчевался» на свои кровные. И оставался собой вполне доволен — никому ничего не должен. Пусть моя работа тяжела и грязна. Меня она не позорит. И я её не стесняюсь. Правда, стыдился лишь одного человека, но какого! — Милы.
…Всеми отрядами мы выполняем одну работу: отмываем ветошью в большущих поддонах с керосином детали разных сельскохозяйственных машин. Мы же определяем степень износа части механизмов. Слесарим. Нашлись и такие, кто кумекал в электрике.
На токарно-слесарном участке трудились наши же ребята, научившиеся обращаться со станками или слесарным инструментом. Меня вначале приставили к токарю, но, видать, не судьба: раскалённая стружка, махонький кусочек огненной спиральки, вонзился прямо в правый глаз.
Местный фельдшер удалил её пинцетом. К станку меня больше не допустили. С повязкой, как пирату Флинту, пришлось «красоваться» с неделю, пока не зажило. В общем, отделался ожогом роговицы. Повезло. Хотя зигзагообразный шрам, если смотрю в небо или потолок, вижу отчётливо. И рисунок его каждый раз напоминает мне о жизни в бараке ремонтно-механического завода.
Со слесарными работами у меня тоже не очень гладко поначалу получалось. Поэтому доверяли мне лишь грубое шкурение. Наварку и тонкую доводку, до микронов, завершали другие, более опытные и, наверное, способные коммунары, кто обладал лёгкой рукой, обычно бывшие карманники, как правило «оттянувшие срок» в колонии. Частично или полностью. За примерное поведение их направляли на завод. Закрепощали. Как до тысяча восемьсот шестьдесят первого года. Да и куда им оставалось податься — без документов, с дьявольской «справи́лой» в зубах? Снова красть? К нам поступали лишь те, кто «завязал». Документов им почему-то на руки не выдавали. Их хранили где-то в неведомой мне «спецчасти», которую все попросту называли «спецухой». Как прозодежду. Всегда грязную, истёрханную, облачившись в которую, мы добывали свой хлеб насущный, дожидаясь совершеннолетия.
Я получил паспорт, но храню его дома. Живу по какой-то справке («справиле» или «правиле»). Я её и в глаза не видел. Мне, как и другим, отдел кадров завода (совместно с прикреплённым к нам оперуполномоченным) выдаёт на дни, свободные от работы, если не имеешь замечаний, «увольнительную». Ведает этим комендант общежития. «Вольняшка» может выдаваться на день, сутки, отпуск — по трудовым заслугам. Учитывается и стаж, и поведение твоё в общаге и на рабочем месте. И кто ты есть, на что способен, если окажешься вне коммуны.
Ребята втихаря называют себя «крепостными». Может быть, от этих строгостей случаются иногда побеги. И меня «разбирали» на совете отряда после неожиданного исчезновения Генки Сапожкова. Хотя я уже не «керосинил» с ним (перевели «на подхват» — разнорабочим), но в отряде нашем он не числился. Видимо, «бугор» решил лишь меня из списка не исключать: вдруг дома, если мама настоит на увольнении, жить станет снова «не климат», и я опять приду в отряд. Генку до последнего дня, когда его в бараке видели, совет отряда почему-то не утвердил. Чуяли, наверное, что ненадёжный «кадр» и может в любой день «лыжи надеть» и «слинять».[418] Только в «шестёрках» бегал, на вспомогательных работах. По понятиям коммунаров — «шестерил».[419] Чаще Стюрке пособлял по хозяйственным делам. Костлявая уборщица, совсем «штрундя» (старуха), которой, вероятно, под сорок настукало, неизменно оставалась довольна его трудолюбием. Нравился он ей. Стюра, вроде бы, из местных, смолинских. Некрасивая, всегда хмурая, навечно с тряпкой и ведром в руках — нас ни много ни мало тридцать с лишним «гавриков», и каждый какую-то грязь в барак тащит. А ей за всеми нами убирать.
Замужем она никогда не сподобилась побывать. Говаривали, что целку ей «жених» поломал и смылся. Тоже из местных парней донжуанов. А она, бедолага, забеременела. Чтобы избежать вседеревенского позора, пошла к знакомой бабке-повитухе. Та ей сделала аборт веретеном. В результате Стюра попала с непрекращающимся кровотечением в больницу. Чуть не померла от большой потери крови, но врачи спасли. Поскольку аборты у нас запрещены, за неё взялись блюстители закона и осудили несчастную женщину (а ей едва восемнадцать исполнилось) всего на три года концлагерей. Она отбыла весь срок наказания, от звонка до звонка, вернулась в Смолино и поступили на завод. Уборщицей общежития.
Коммунары уважали её, несмотря на зловредность, за то, что Стюра во время следствия не «сдала» повитуху, всю вину приняла на себя, и того донжуана не «заарканили». Стоило ей обмолвиться, что донжуан её «изнасильничал», туго пришлось бы ему в тюряге, ох туго. Лишили б и его «девственности», а червонец кукарекать[420] не всякий выдержит. Так рассуждали те, кто знал тюремные законы.
Коммунары старались её «отблагодарить» по-своему: у кого пырка стояла, мог спокойно переночевать с ней, бояться ещё одной беременности ей было нечего — криминальный аборт сделал её бесплодной. А пацаны её не выдали бы начальству — «джентльмены»! Да начальство было в этом расследовании не заинтересовано. И знало всё и обо всех — служба!
Пацаны утверждали, что более других Стюра «глаз ложила» на новичков и заманивала к себе их простым способом — пиршеством, состоявшим из варёной картошки, краюхи хлеба и крынки молока. А вообще-то Стюра старую обиду и наказание никому не хотела простить. Поэтому, говорили, она такая злая. И мать её тоже, видать, старуха недобрая, не хотела девичий грех дочке скостить. Она и домой-то перестала ходить, в бараке обосновалась. Её отгородка располагалась в левом углу. Отрядникам запрещено в её конурку без разрешения «бугра» входить. Под угрозой наказания. Но, как я выше упомянул, многие из бывших колонистов, пренебрегая запретом, по ночам к Стюре всё-таки наведывались («лукались»). Похоже, это была правда, не бахвальство. Хотя все видели: помоложе в посёлке девчонки есть. И кое-кто не прочь дружить с колонистами.
Правда, один дерзкий парень со странной фамилией Струк (белорус, говорит) единственный, как еж — словом не затронь, — уверял меня во время работы (на промывке тоже вкалывал), что «шворит»[421] Стюрку «во все дырки», когда пожелает. «Пока её не «заберёт» и она начнёт стонать и тело ему царапать.
Видя моё недоверие, он скинул «спецуху» и задрал рубашку: в самом деле, на боках его отчётливо виднелись красные полоски.
— А чего это она — ненормальная, что ли? — удивился я.
— Сам ты олух. Чо, ни разу не пробовал ещё?
Я промолчал. Не трепаться же ему о Светке. О Миле и заикнуться не смел — святое, личное. Тайна. Струк (его имя — Иван) ухмыльнулся и сказал:
— Суду всё ясно и понятно, суд удаляется на совещание. Так бы и сказал, што живой пизды не видал в жизни.
И на сей раз я промолчал. Не по себе мне лишь стало от Ивановых откровений. А он ликовал, что такого тюху[422]«блачнул» (разоблачил).
Зная злобный характер Струка, не чурался его, не спорил по пустякам, и у меня мелькнула мысль: поделится теперь со всеми, какой я охламон,[423] до сих пор девку не попробовал, домашняк[424] штампованный. И всё-таки промямлил:
— Вообще-то я с одной девахой переспал в своей сарайке. Так что имею представление, о чём ты толкуешь, Иван.
— Свистишь! — не поверил Струк. Или нарочно «заводил» меня. Вызывал на откровение.
— Дело хозяйское. Только зачем мне врать? Что было, то было. Тебе, что справку от неё принести? С чекухой?[425]
— Ты чо это? Не залупайся! Ёбарь нашёлся… Тоже мне… Я в детдомухе в двенадцать лет одной десятилетке салазки загнул. А опосля всю дорогу с корешами в окна к им лазили. И шворили всех подряд. Воспеты двери на висячие замки от нас с калидора закроют, на ночь. А мы с окна спустимся по верёвкам и к своим марухам.[426] Они нам сами отворяли окошки.
— Да что с десятилетней-то можно? Ребёнок ещё…
— Не скажи. Это сначала они пищат, а опосля сами просют. Тама и постарше были. Им тожа хоцца перепихнуться.[427] У их пиздёнки, как мышиный глазок. Елду[428] еле засунешь. Не то что у Стюрки — лоханка. А мы девчонкам не за просто так кунки тёрли. За день чо-нибудь да уволокёшь: семечки с колхозного поля или ещё чего, они в прогаде не оставались.
— Ну и ну, Струк! Это же уголовное дело!
В ответ на моё замечание Иван выматерился.
Меня его хамство разозлило. И я не сдержался:
— Ну и скотина ты, Струк.
— А ты домашняк штампованный. Зачем ты к нам привалил, если такой чистенький?
— Не твоего ума дело, — ответил я и поближе придвинул металлический скребок.
Ожидал, что Струк может броситься драться. Но пронесло.
И мы молча принялись за работу. Через минуту-другую Иван продолжил рассказ о Стюрке, к моему удивлению. Выходит, он не был таким злым, как выглядел. Вспыльчивый. Про себя я отметил, агрессивно вели себя почти все коммунары. Вышколили их в детдомухах да колониях: чуть что — сразу материться или драться. Редко кто обратится без брани и нахрапа, разве что Валя Бубнов.
— Она баба што надо. Подмахивает, аж на пол могёшь загреметь костями. Злоебучая![429] Ей всю дорогу[430] ебаться[431] хотса, хочь всю ночь пили. Изголодалась по мужикам у хозяина. Кода в колонии срок тянула.
Я к подобным похвальбам отношусь с недоверием — многие пацаны пытаются выглядеть самцами-производителями, чтобы скрыть занятия онанизмом. Работал в отряде один бывший колонист, тоже о себе мифы сочинял: девки чуть ли не в очередь возле его койки стояли и визжали. А попался в сортире и получил кличку Дрочила. Доняли его этим прозвищем. Может быть, поэтому и сиганул с завода. И из общаги вообще. По-моему, грехом Онана страдали многие из коммунаров. Дурная привычка, въевшаяся в них в детдомах и колониях.
— Там у её вроде бы как свой ёбарь был. В натуре, баба. Кобёл называется. Друг дружку пальцами как бы шворили.
Струк не унимался. Всё о Стюрке судачил, какая она азартная: хуй[432] не выпускает из шахны. Стонет, как самашедшая. Я и не подумал, к чему вся эта трепотня.
И вдруг последовало совершенно неожиданное предложение:
— Када яйца подожмёт, мне втихую вякни. Я Стюрке наколку[433] дам. Назовёшь кликуху,[434] она дверь откроет. Хорошенько покнокой[435] кругом, штобы никто не засёк. Пиздятины у её — до отвала. Она и чмэкает,[436] и в очко[437] не отказывает, тоже ндравитца.
В двенадцать по радиву. На подъём не прокукуй. Поня́л? Хлебальник разинешь — из коммуны гайнут. А ей — кранты.[438] Новый срок намотают. А ты за всю эту канитель[439] в ответе. Опер за этим делом всю дорогу секёт. Учти: у тебя форы нету — ты «домашняк». Выгонют. Да ты не бзди, Стюрка тебе не даст покемарить.
С чего это ради мне Струк свою «маруху», как он зовёт Стюру, навязывает? На всякий случай спросил:
— Иван, она же твоя баба… Ты сам сказал.
— Не бзди, Ризан, пиздятины на всех хватит. Корешами будем. Хошь ты и фраер.
Покоробило меня, что Иван даже не спросил, нравится ли мне Стюра. Получается как-то по-собачьи: один кобель слез, следующий взгромоздился.
В детстве такие склещенные собачьи пары пацаны на улице разгоняли палками. Я, правда, собак не бил никогда, но всё равно эти сцены на улицах, на виду у всех вызывали у меня прилив стыда. Что вот такое бесстыдство, как я тогда понимал, собаки совершают при всём народе, иногда на проезжей части дороги или на тротуаре, — тогда они почитались мною такими же разумными существами, как мы, люди.
И вот мне Струк предлагает почти такую же «случку» с женщиной, которую не только не люблю, — она мне вовсе не нравится и даже вызывает антипатию. Если он не «туфтит», и всё произойдёт, как он живописал, то что я буду чувствовать перед Милой, встретясь с ней во дворе? И я понял, осознал, что никогда не войду в Стюрину отгородку. К тому же она мне совсем безразлична как женщина. Ни одна живая ниточка не соединяет нас. Временами я чувствую к ней сильную неприязнь — тупая деревенская замарашка.
И я не придал значения россказням Струка. Вскоре так случилось, что пришлось остаться один на один со Стюрой: грязную воду вёдрами вычерпывал из чана и вытаскивал, выливая в помойную яму. Горячей же из трубы водяного отопления (вентиль самовольно врезали) наполнял ту посудину. И Стюра, дотоле молчавшая и как бы даже не смотревшая на меня, вдруг тихо вымолвила, глядя себе под ноги:
— Ежли хошь побаловаться, приходи посля отбоя. Три раза пальцом стукнешь в дверь, я отворю.
Это приглашение оказалось неожиданным, и я не нашёл ответа — так оно меня смутило. Не думал, что без меня меня женит «сват» Струк. Оторопев, промолчал.
На том наше «любовное» объяснение и завершилось. Иванова «забота», а без него здесь явно не обошлось, разозлила меня.
Вечером, лёжа на своей железной койке (их почему-то все коммунары называли «шконками»), мне вспомнились Стюрины слова, но в моём воображении до мельчайших подробностей возник живой портрет, я бы даже сказал видение Милы. У неё было такое выражение, как у той найденной нами в храме на Алом поле Богоматери, икону которой со слезами расщепил и сжёг в плите по приказу мамы. Мне до сей поры казалось, что я такой же соучастник безобразного поступка — не защитил. Наверное, я сфантазировал, ведь на доске с голубым фоном была запечатлена не девочка и даже не юная девушка, а молодая женщина с мальчиком, но мне виделось очевидным сходство черт лиц той и другой. И подумалось: изрубил красивую картину, а сейчас, пойдя к Стюре, наверное, навсегда исковеркаю в своей памяти светлое, наполненное тихой радостью лицо Милы. И не останется у меня ничего, кроме укоризны себя в «случке» со старухой Стюркой.
И меня непреодолимо потянуло на родную улицу Свободы, двадцать четыре, к заветному окну, задёрнутому тюлевой занавеской, на сырую и тёплую межу, откуда видна склонённая над книгой русая головка той, кого нет дороже и желанней на свете. И я, укрывшись суконным одеялом с головой, с громко забившимся сердцем стал упорно ждать, когда Мила повернёт лицо в мою сторону и я взгляну в её чистые и добрые голубые глаза — хоть мельком, хоть один раз. Но почему-то увидел апельсинового цвета абажур, да и тот вскоре погас, растворился. И вдруг оказался в цехе над ванной с чёрным керосином. В ней лежали какие-то замазученные детали. Я с тоской подумал, что должен их отмыть и принялся искать ветошь. Но её нигде не обнаруживалось… Тогда я осознал, что завтра перед бригадиром мне никак не оправдаться — любой темнила[440] придумал бы точно такую глупую историю с ветошью, которой всегда в углу цеха лежит гора, и меня с позором вышвырнут с завода. Неожиданно сверкнула ясная мысль, что тряпьё унесла к себе Стюрка, чтобы я пришёл к ней. Но я ни за что, ни за что! не зайду в отгородку, хотя за последние месяцы произошли трижды обильные поллюции — насколько сладостные сами по себе, настолько отвратительные — от ощущения нечистоты, когда грёзы улетучивались и приходилось бежать в умывальник — помыться и запачканное бельё простирнуть, а после на горячей трубе просушить. Ребята, конечно, всё понимали и подсмеивались:
— А ты, Ризан, к Стюрке забурись. Она тебе такой минет замастырит,[441] что опосля месяц из тебя ни одной капли не вытекет.
Другие советовали:
— Дуньку Кулакову почаще гоняй, лучче для здоровья.[442]
Я страдал, что такие интимные случаи происходят, если не на виду у всех, то все о них знают. Но упрямо стыдился онанировать. По ночам само получалось. Какие-то девушки снились, и я сливался с ними. Но ни разу — ни разу! — не привиделась Мила.
…Я бредил между сном и явью. Но всё-таки усталость переборола, и я никаких снов более не увидел.
Дня через два Струк, приблизившись, гневно процедил, шёпотом обращаясь ко мне:
— Што ты мне ебёшь мóзги, Резан? Нестояк[443] у тебя, што ли? Бабу заставил икру метать, она тебя на стрёме[444] всю ночь поддежуривала.
— Я ей ничего не сулил.
— Сулил… Ежли задроченный,[445] так бы и сказал, по-честняку. Не стал бы бабе мóзги пудрить. Занимайся тады суходрочкой.[446]
— Не занимаюсь я этим, Иван.
— Ну, смотри, тебе с горки виднее: или Дуньку Кулакову гонять в сральне, или натуральной пиздятины до отвала… хошь кажный день.
— Я не могу, — пробормотал я.
Что он с этой Стюрой ко мне прилип? И тут до меня дошло: она его подкармливает. Из посёлка всякую еду (молоко, сметану, творог и прочее) приносит, а Струк за жратву пацанов блатует[447] на оргии с развратной женщиной, которая всем половым извращениям научилась в концлагере. И теперь свой богатый жизненный опыт пацанам передаёт.
— Так бы сразу и колонулся: затруханный начисто. А то, как целка выебониваешся,[448] — зло заключил Иван.
— Тебя я не дурил. Откуда ты взял эту чушь?
— Короче, ты мне не товарищ. И пошёл от меня на хрен. Понял?
— Понял, — твёрдо ответил я. — К тебе я ничего не имею.
Впрочем, моё «недостойное» поведение со Стюрой, которая подрабатывала и прачкой, все наши шмотки проходили через её руки, жилистые и красные, как у гусыни, — наше бельё она ухитрялась отстирывать в растворе каустической соды — вылезло мне боком.[449] Без промедлений. Моё бельё и спецуху она отказалась стирать. Без объяснений. Вещи с моими номерками она просто отбрасывала в сторону и даже под ноги себе. Мстила. По-своему эта несчастная женщина, вероятно, была права. Но я-то тут причём? Не хочу я её.
Конечно, можно обратиться к воспету и пожаловаться на капризную сотрудницу — в грязном походи-ка. Но я постеснялся. Да и не принято кляузничать пацанам друг на друга. И на обслуживающий персонал. Все свои личные дела коммунары должны решать между собой, причём по-хорошему, по правилам, установленным в коллективе, ведь за каждым коммунаром, всем известно, ведётся негласный надзор. Если кто-то совершил преступление, даже незначительное, его судят и отправляют в концлагерь. Если же коммунар намеревается совершить противоправное действие, его отправляют в колонию или концлагерь без суда. Досиживать ранее данный срок. Это мероприятие называется «профилактикой». Но такие случаи происходят довольно редко. У нас, например.
В общем, ребята стараются вернуться в нормальную жизнь, хотя на душе у каждого из них немало шрамов и незаживающих ран — ведь все они детдомовцы, безотцовщина, беспризорщина, сироты… Калечить их начинают именно в детдомах, но особенно — в ДТК. Большинство ребят, с кем мне приходилось общаться, — озлобленные, с криминальным прошлым и «идеологией» блатного существования — платформой для будущих преступлений. Но это — отдельная тема, которой мы не будем касаться и глубоко вникать в неё. Тем более что я всегда оставался для коммунаров чужаком, «маменькиным сынком», неполноценным пацаном, «непонимающим», то есть не знающим, как жить по понятиям, правилам, установленным преступным миром для всех отверженных.
Многое, чем жили и на что рассчитывали некоторые коммунары, оставалось для меня неприемлемым. Поэтому и не признавали меня своим. Они это нутром чувствовали: не наш. Это и в самом деле было так. Но терпели. Большинство из бывших детдомовцев и колонистов будто выкроены под одно лекало. Их откровений я не пересказываю, как не пережитое лично мной. Разве что о Стюре, потому что соприкоснулся по жизни с этой несчастной женщиной. Я не поладил и не мог поладить с ней. Сомневаюсь, что «бугры» ничего не знали о её «забавах». Однако не избавлялись от неё, потому что она трудилась как приговорённая, получая за беспросветную, с утра до ночи выматывающую работу, кроме мизерной оплаты, пацанов в свою постель.
Я же попал почти в безвыходное положение. Можно было позаимствовать чужие «марки», как их называли отрядники. Но подобное мошенничество претило мне, я не мог пойти на него. Не мог! Не потому что весь чистенький, а другой. Проще всего, чтобы не затевать скандал, можно было пойти на мировую с прачкой. Я и на это, оказалось не способен. Уверен, «случки» не получилось бы физически. Такой своенравный мой, дурной характер. А окажись несостоятельным в таком обыденном деле — ни от кого не скроешь. Тому же Ивану обо всем насплетничает. И он — кирюхам в отряде. И станешь всеобщим посмешищем: бабе не смог в дырку попасть! Позор! Порчак![450]
Мне такая репутация в отряде не светила.
Зная, что мама очень переживает об отношении ко мне в отряде (она его называла бригадой), бессердечным выглядел бы мой поступок, если б привёз грязное бельё на стирку домой. Мама-то взялась бы за эту работу, а вот как это оценит отец? Да как бы ни оценил он, я не позволю никогда опять запрячь маму в эту лямку.
Посомневавшись, решил посоветоваться с Колей Шило. Хотя он ко мне как-то настороженно стал относиться, ведь ему больше всех за побег Гундосика досталось — на полгода лишили отпускных в город. Понятно, почему он осерчал, — я «хлял» за «кореша» Гундосика. И поступок одного отражался на другом — так испокон заведено. И всё-таки, улучив момент, я откровенно поговорил с Колей. Умолчав, правда, об истинной причине нашей размолвки со Стюрой. Сказал, что невзлюбила меня, и всё. И что я не хочу никакой «разборки». Шило, парень сообразительный, зла на меня не имел и пообещал потолковать с Валей Бубновым, моим одногодкой, вроде бы.
Судьба этого почти юноши была необычной. Симпатичный паренёк, даже, вероятно, красавец, имел совсем другое — подлинное — имя. И фамилия его вовсе не Бубнов. По национальности он испанец. Его усыновил прежний советский нарком, расстрелянный как «враг народа» ещё в тридцать восьмом году после возвращения из Испании, где сражался с фашистами. В бою погиб республиканец, истинный отец мальчонки, друг Бубнова. И нарком усыновил сироту, дал ему новое имя и свою фамилию.
После гибели отчима, о котором он никогда ничего не упоминал, Валю «определили» по малолетству в детский дом. В нём он провёл несколько лет, а после — колония для несовершеннолетних, из неё «за примерное поведение» — на завод, но не в наш отряд. Он, помнится, успешно освоил специальность токаря. Валя значительно отличался от других колонистов обилием знаний и внешним видом: кудрявый, черноглазый. Южанин. И поведением: не матерщинничал, не нарушал правил общежития, причём не из боязни наказания, а потому что в нём чувствовалась внутренняя дисциплина, я бы сказал — самодисциплина. И вообще выглядел культурным подростком. Он безукоризненно освоил русский литературный язык, потому что постоянно читал книги. Именно на общем интересе к книгам мы и сошлись с Валей. И дружили («корешили») втроём: Шило, Бубнов и я. Но это сближение произошло несколько позднее.
О чём же Шило обещал мне «потолковать» с Валей? Бубнов уже с год встречался с какой-то местной девчонкой из посёлка. Он уходил к своей знакомой на выходные дни. Никаких подробностей их отношений я, да и никто из коммунаров, не знал. Это меня как-то задело. Их отношения, возможно, походили на мои с Милочкой. Когда-то. В россказни Струка я не поверил. Каждый мерит других по себе. Так и Иван. Здорово исковеркали его детдом и колония! И повторял он о Вале сплетню, сочинённую кем-то, вероятно, по злу. А мне хотелось о людях думать, что они хорошие, добрые, честные, достойные. Как это ни покажется странным, но эту черту характера я пронёс сквозь всю жизнь, — как она меня ни мордовала, как ни бичевала, ни бросала на гибельное дно, ни обманывала…
…Вале-то и поведал Шило о моём затруднении. Подруга Вали выручила меня. Выяснилось, что в одном доме с ней (у неё вроде бы ещё сестра имелась) жила бабушка их. Она уже не мантулила в колхозе (или совхозе, не помню сейчас) но взялась «обстирывать» меня — внучки уговорили. И я стал носить этой бабусе своё бельишко. Работу её я, естественно, оплачивал. И хотя брала с меня тётя Катя совсем небольшие деньги, на покупку книг от заработка почти ничего не оставалось. И дядя Миша Яшпан, заведующий (вроде бы) челябинским магазином «Подписные издания», потерял интерес ко мне. Однако трудное дело разрешено. Избавил маму от лишней стирки, которая и так была каторжным наказанием, вечной мукой её за неведомый грех: всю жизнь не отходит от корыта. Меня иногда не отпускала мысль: что-то не так в нашей семье, но до конца смелости не хватило разобраться. Мне почему-то казалось, точнее, я был убеждён, что мама — несчастный человек. Она всегда скрывала это от нас, и сейчас, когда я возмужал и вроде бы уже многое понял, для меня многие поступки её остались необъяснимыми. Вероятно, это загадочное «что-то» скрыто в отношениях между родителями.
Все мои недоразумения, догадки и размышления о жизни нашей семьи и почему мама несчастна, все эти вопросы гасли, когда кто-то из бывших детдомовцев и колонистов рассказывал о своих злоключениях, испытанных им в этих учреждениях, на «хазах», в милиции, иногда не в силах поверить, что такое может твориться у нас, в Советском Союзе, и совсем в недавнее время. Я убеждал себя, что многие из рассказчиков все эти ужасы придумывают. Хотя мытарства, а зачастую самые настоящие издевательства, выпавшие на долю этих сирот, воспринимались настолько правдиво, что оживали в воображении моём. И я переживал, мучаясь, как мучился тот, кто исповедался передо мной. Я гнал от себя жуткие видения, повторяя про себя: «Нет, такого не может быть, не могло быть!»
И заставлял себя не верить. А сейчас умышленно не пересказываю ничего, о чём слышал от коммунаров. Кое-что, не исключаю, могло быть ими придумано, превратилось в легенду, анекдот, вольное изложение, когда-то где-то с кем-то случившееся. Следующий год с лихвой подтвердил мои худшие предположения о детдомовской и концлагерной неволе, но об этом я, как участник «строительства коммунизма», встретившийся в тюремных камерах и за колючей проволокой концлагерей с такими же «комсомольцами», как и сам, раскаялся, что не верил недавним моим товарищам по совместитной работе и жизни на заводе посёлка Смолино. Но об этом этапе моей жизни — в рассказах следующего цикла.
Тогда же, в сорок девятом, чтобы избавиться от преследовавших моё воображение «баек», всё свободное время отдавал книгам. Самой любимой, скажу точнее, даже необходимой стал том вишнёвого цвета, верхняя обложка которого по диагонали была разделена выпуклым тиснёным штыком, — жизнь Павла Корчагина. Пришёл и первый успех — мне присвоили третий разряд слесаря. Комиссия Кировского завода (ЧТЗ).
Удостоверение давало мне силы надеяться выстоять в нелёгкой борьбе за существование, правду и справедливость. Работая на смолинском заводе, я убедился: противоборство между Добром и Злом не завершилось, во что я верил в детстве, что после Победы в Великой Отечественной войне жизнь сказочно преобразится. Воочию убедился: жестокая борьба за кусок хлеба продолжается, и мне придётся принять участие в ней и далее, на какой стороне — понятно. Так мне, по крайней мере, тогда виделось.
Почему-то в те дни меня посетила мысль, да и не только меня, но и других отрядников, что нами пройден уже больший участок наших жизней, ведь у детдомовцев короткий путь существования, как ни вертись и ни крутись. А мне в то же время верилось: впереди ещё уйма лет. И необходимо лишь верно их истратить. Жизнь надо уже сейчас активно осваивать. Чтобы испытать и выдержать всё, чтобы сделать её интереснее, полезнее для общества, достойной настоящего человека, чтобы хоть на миллиметр приблизить, превратить в реальность мечту многих, в том числе моего любимого героя, Павла Корчагина. Этот момент я осознал как настоящее моё достигнутое, наконец-то окончательное взросление и самостоятельность. Но разобраться до конца, что же на самом деле происходит объективно вокруг нас, я ещё был не в состоянии. Пытался увидеть себя со стороны, без самообмана.
Оставшись наедине с Колей, я расхрабрился и спросил его:
— Коль! Только это между нами. Скажи честно: правда то, что пацаны о детдомах и колониях для малолеток рассказывают?
— Бывает и хуже. Но и трёкают[451] тоже. По-разному бывает. Кому как пофартит. А ково и жареный петух в жопу клюнет.
— Тебе — верю. Но что про Атлян[452] рассказал Витька, это же фашизм!
— А как хошь, так и понимай. Я лично в Атляне не был, бох миловал. Так что не знаю, кто кого там ебёт и чем погоняет. Но как о лагере, хуёвая о нём слава идёт. Одно слово — сучий.
— Генка пуще смерти боялся в него загреметь. Говорил: живым оттуда не выйти. Или там начисто дрынами забьют, или после за то, что там отволок ходку, — блатные зарежут.
— Твой Сапог, Юра, подлянку мне захерачил…
— Да не серчай ты на него, Коль. Несчастный уличный мальчишка. Всю жизнь голодный. Безотцовщина. Отец с войны вернулся — года не протянул. Всё пропил. И умер. В канаве напротив пивнушки. Мать, тётя Паня, начисто спилась. Бардак в квартире устроила. Какие-то лагерные подонки у неё денно и нощно тусовались, пили. Вовку, брата Генкина, старшего, изнасиловали. На Генку посягали. Но он отбился. Поэтому и на завод упросил тебя устроить. Чтобы где-то жить. Хоть под какой-то защитой. Тётя Паня подвал свой цыганскому табору продала. Вернее, пропила.
— А чево же он, мудило,[453] от совета все скрыл? А опосля вобще чухнул?[454]
— Коля, кому охота о себе и своих друзьях этакое-такое выкладывать?
— А я почему за нево должон шишки получать?
— Ты уж его прости, Коль. Сам понимаешь, что пацана ждёт. «Дорога дальняя, казённый дом»…[455] Запутался мальчишка. А так он добрый…
— Да и хрен с ним. Добрый! В другой раз будет умнее…
— Другого раза у него может не быть. Тебе-то известно: стóит лишь забуриться, а дальше… Ты это лучше меня знаешь. С Генкой что-то мы все проморгали. Ему не уделяли внимания. Не пытались помочь, пока было ещё не поздно.
— Это всё трепатня… Тары-бары. Каждый должон кумекать своей черепушкой. Я лично никакой своей вины за этого Генку не чувствую… Он твой кореш.
— Я и считаю себя виноватым…
— Это — твоё личное дело, — закончил разговор Шило.
После я ещё долго обмозговывал нашу беседу с Колей — Генкино будущее беспокоило. Не хотелось, чтобы он угодил в страшную колонию, где бывшие воры и грабители, перевоспитанные в «сук», измесили бы бедного пацанишку дубинками до полусмерти, покалечили на всю жизнь или совсем лишили её.[456]
Мне же всё-таки удалось преодолеть ту невидимую черту, что теперь разделяла меня с семьёй после ухода из дома. Смирился. Лишь мысли о страданиях мамы, о беспросветном её существовании ради сладкой жизни отца да забот о Стаське иногда всерьёз беспокоили меня. Но ведь она сама согласилась на такую жизнь. Хоть я-то теперь не отягощаю «заведённую, как белкино колесо» её домашнюю каторгу.
Чего опасаюсь по-настоящему, так неожиданного её прихода на завод: не хотел, очень не хотел, чтобы она всё увидела своими глазами, — как мы живём. Да ещё если с воспетом затеет разговор по душам… И мне позор на весь отряд: мамкин сынок! Припёрлась с «ревизией»…
Поэтому я старался вести себя так, чтобы почаще получать увольнительные. Но от посещения родного дома не испытывал того удовлетворения и восторга, как в детстве. Хотя Голубая звезда, висящая над ним, ещё волновала, ввергая в какое-то иное состояние — отстранённости.
…Вот и сегодня всё неизменно в нашей квартире. Вещи и предметы, как прежде, находятся неизменно на своих местах. Всё, вроде, как раньше, но чувствую — не то. Всё — не то. Даже настенные часы тикают иначе: ход их убыстрился. И говорить не о чем, даже со Славкой, лишь о школьных и уличных делах. Которые меня, честно признаться, мало интересуют. Беседу веду «для блезира» (не всерьёз).
Мама, конечно, всплакнула, как и полагается, и без конца задаёт вопросы: насколько хорошо, комфортно я чувствую себя в новом, непривычном для меня коллективе, сыт всегда ли, не обижают ли, и так далее и тому подобное, — час, а то и более могут продолжаться подобные расспросы, и надо терпеть. Необходимо набраться очень крепкого терпения, чтобы ответить и не попасться на лжи. А приходится извергать неправду. Разоткровенничайся — с ума сойдёт. Прицепится и со слезами никуда не отпустит. Ни за что. Я её успокаиваю и вдохновенно, бесстыдно вру. И картина моей житухи в коммуне получается вполне приличной. И работа не особенно грязная и тяжёлая. И ребята как ребята: всякие — разные, как везде. И общий язык с ними нахожу, не вздорю. С некоторыми — дружу. И никто меня на дурные поступки не подбивает.
— Главное, сынок, лишь бы между ними не оказалось жуликов, — со страданием в голосе произносит она. — Чтобы в шайку какую-нибудь не заманили, не дай бог!
Я-то знаю, что ни в какого бога она не верит, но когда разговор касается моей жизни, то она и его поминает. Лишь бы любую беду отвести. Чует материнское сердце надвигающуюся беду, а противостоять ей не может. И я не могу. Вернее, это в моих силах, если б не единственная ошибка, уступка вопреки интуиции, нежеланию, воле своей…
…После, через месяц-другой, уже в тюремной камере я определю случившееся роковой случайностью. Но едва ли она, эта «случайность», явилась таковой. Через несколько лет придёт ясное осознание того, что я попал в ловко расставленную ловушку. И этой ловушкой стал я сам. Вернее, моя уступчивость, отсутствие твёрдости характера, в какой-то мере — беспринципность. Сейчас же никто ничего не знает о том, что стремительно произойдёт всего через несколько месяцев.
Поэтому возвращаемся в нашу квартиру, где тикают старинные большие настенные часы и где все мы — вместе. Пока. И нам кажется, что так будет всегда. Иллюзия! Не подобными ли иллюзиями мы подменяем бóльшую часть нашей жизни?!
…Стасик забежал домой на минуту за бельевой прищепкой, чтобы закрепить свою штанину, — они с дружком гоняют по Свободе по очереди на стареньком велике. Поздоровался. Улыбнулся. И только его и видели. Вымахал за эти годы, хотя ему лишь четырнадцать. В отца. Вот почему папаша любил его всегда больше, чем меня. Если здесь можно применить это слово — «любовь». Уже тогда я был совершенно уверен, что отец в своей жизни никого никогда не любил. Кроме самого себя. Так устроен.
— Стасик у нас почти отличник, — хвалит Славку мама. — В восьмой перешёл.
— Молодец! — подхватываю я. — На кого собирается учиться после школы?
А о себе думаю: «Даже седьмого не доканал, шалопай. Но ничего, после армии наверстаю — и в институт».
— Вроде как на врача, — охотно и не без гордости отвечает мама.
Маме, и это очевидно, приятно рассказывать о Славике, который в тринадцать лет успешно завершил семилетку.
— В медтехникум? — интересуюсь я.
— Нет. Решили: пусть школу закончит, а после — в мединститут. Я ему посоветовала. Учёба ему недтрудно даётся… И профессия для людей нужная…
Да, парень он усидчивый и башковитый. С хорошей памятью. И честный. Справедливый. И добрый.
Бедная мама, откуда ей было знать, что летом пятьдесят второго пьяный конный милиционер, объезжая детский парк, где на скамейке сидел Славка с девчонкой, с которой недавно познакомился, и они целовались (это, наверное, были первые и последние лобзания в его очень короткой жизни), сдуру вытащит наган и выстрелит… Спьяну. Просто так. Захотелось пострелять. Может, не в духе был. Кто знает…
А тогда, в сорок девятом, счастливая мама продолжила:
— Уже к Милочке ходил, расспрашивал: как успешнее в институт поступить. Она, умница, уже первый курс завершила. Она и в институт прошла среди первых. Да и как её не принять: в аттестате одни пятёрки. Умница!
Мама дважды назвала Милу умницей, а мне стало не по себе от её похвалы. Мила, Мила… Она и сейчас заполняла собой меня, потерянная навсегда…
Ну ладно, если я такой непутёвый, братишка вместо меня будет радовать маму. И фамильную профессию продолжит. В медицине. Необходима для всего живого.
Нестерпимо захотелось увидеть Милочку и сказать ей хотя бы два слова: «Здравствуй, Мила!» Как это было давно, когда я называл её по имени! Кажется, целая вечность минула. Теперь — не смею.
Я объявил, что пора на завод (хотя увольнительная действовала сутки), — муторно так мне стало, не по себе. И я решил вернуться вечером, до заступления второй смены. Однако невозможно было отказаться от обеда, вернее, от маминого приглашения.
Видно было, что она очень довольна моим посещением и беседой со мной, — такой радостной я её видел очень редко. И не припомнить, когда она выглядела столь спокойной, ничем не озабоченной, почти весёлой. Наверное, лишь в тот день, когда отец вернулся с войны. А в дальнейшем почти всегда — неприкасаемо-сосредоточенной, раздражённой и занятой по горло домашними делами — не подступись. Мне казалось, что она навсегда запряглась в тяжёлую телегу обыденщины и треволнений по добыванию пищи для семьи — изо дня в день. И тянула этот каторжный воз без роздыху всю жизнь. А ведь любила музыку, чтение, кино. Не однажды повторяла: вот на пенсию выйду, тогда будет время и отдохнуть и развлечься. Не удалось. Человеческое равнодушие, пренебрежение врача к больному человеку, категорический отказ медика в необходимой помощи: ждите своего участкового хирурга, когда она выйдет из отпуска, — сгубили её.
Участковый врач пробыла в отпуске целый месяц. И болезнь запустили. Болезнь перешла в неизлечимую стадию, и, по сути, нежелание врача возиться с чужой больной стало для мамы смертельным приговором: «Ждите своего участкового. Я вас обслуживать не обязана!» Заведующая поликлиникой подтвердила, что она поступает по инструкции. Жаловаться на бесчеловеческое поведение медиков было некому. Да и мама ходить не могла с переломом ребёр. Отец отказался пойти в поликлинику из-за нежелания «разводить кляузы». Правда, после иногда шастал в магазины за продуктами или просил кого-нибудь из соседей «купить харч», приплачивая за наёмный труд, не забывая о традиционной бутылке водки, — едва ли ни единственный продукт, который он и раньше приобретал «самолично».[457] Я приезжал из Свердловска в Челябинск на субботу и воскресенье, чтобы помочь родителям, благо, если в эти дни меня не вызывали на допросы в милицию, пытаясь отнять мою коллекцию древних русских книг и икон. Но об этом — другой рассказ.
Мне удалось выбрать будний день, и я побывал в поликлинике, чтобы выяснить, каково состояние больной мамы, болезнь уже приняла необратимый характер. Судьбу мамы решила трагическим образом инструкция. Согласно ей врач стала убийцей. Безнаказанной. А началось всё, как нередко бывает, с пустяка. Бытового пустяка. Мама решила снять оконные шторы, чтобы простирнуть их (ох уж этот стиральный бзик!). Влезла на огромный дубовый стол (которой исчез куда-то после гибели матери) и попыталась снять гардину, на которой висели шторы. Ей это оказалось не под силу. И она позвала отца, лежавшего рядом на диване:
— Миша, поддержи гардину с другой стороны!
Отец недовольно пробубнил стереотипную фразу, даже не шелохнувшись:
— Не мужицкое это дело.
Не мужицкое так не мужицкое, мама сняла с крючка один конец гардины, в него сдвинулись тяжёлые старинные шторы, она не удержалась на столе и боком упала на спинку девана.
— Ты что, с ума сошла? — крикнул потревоженный отец.
Далее повествовать нет смысла. Всё — по инструкции.
Дежурная-регистратор отказалась прислать скорую помощь, объяснив:
— У нас больные с ушибами приходят сами или приезжают на своём транспорте. Скорая только для тяжелобольных.
Не знаю, как несчастная доползла до поликлиники. Что произошло далее, читателю уже известно.
Умирала несчастная мама тяжело. Даже рецепты отец выкупал не сам, а просил соседей. Вероятно, новая квартира (он получил её как участник Великой Отечественной войны) в новом городке понравилась «сердобольным» соседям после кончины мамы в том же восемьдесят пятом году (на похороны матери отец не пожелал ехать, переложив эту обязанность на меня и мою жену, — ему это было «неприятно»).
Я никогда в жизни не скандалил с родителями, но в этот раз не удержался, и мы с женой высказали ему всё, что об этом трагическом случае думали, то есть правду о его бесчеловечном отношении к моей матери.
Допускаю, что её можно было спасти, сделав операцию. Но и этого не сделали врачи — ей даже не предложили хирургической помощи: больной семьдесят семь лет, чего с ней валандаться? Только время, усилия и медикаменты напрасно тратить! Хватит, отработала своё! В общем, «неперспективная» больная. Что я как сын мог сделать, чем помочь? На дорогую оплату частной операции средств нет, а всякие жалобы и заявления — только нервы себе мотать, бесполезно. Да и что для них, чиновников от медицины и тяпкиных-ляпкиных в белых и зелёных халатах, жизнь пожилого человека! Да и вообще человека! Ещё одно подтверждение, что жизнь «совка» с момента рождения и до его кончины — концлагерь.
Мама, умирая, не проронила ни единого упрёка в адрес своих угробителей. Она медиков почитала и боготворила профессию эскулапов. Как и старшая сестра её. Ведь поэтому и завершила два факультета Саратовского университета. Я же не разделял её радужных мнений после того, как насмотрелся, что творилось в советских тюрьмах и концлагерях. И в тот роковой год окончательно убедился, что так называемая воля мало чем отличается (по крайней мере, для простого советского человека) от жизни в концлагере простого советского заключенного. Впрочем, человеческая жизнь в Советском Союзе ничего никогда не стоила и не стоит, потому что единственный закон страны — Произвол.
Вернёмся, однако, в тысяча девятьсот сорок девятый год, в нашу старую квартиру на улице Свободы, двадцать четыре. Мама потчевала меня традиционными пельменями и как можно дольше пыталась продолжить нашу беседу, вернее, моё пребывание в родных стенах. Ей, видимо, не хватало меня, хотя за предшествующие годы уж кому, как не ей, я принёс столько неприятностей, хлопот и огорчений! Будь моя воля, поставил бы посреди России бронзовый памятник и на вершине его — вечно бьющееся Сердце Матери, которое каждую секунду издавало б звук, и в этом едином звуке слилось бы всё, чем наполнены материнские сердца женщин всего мира: любовь, трепет за судьбу детей, готовность отдать всё, даже собственную жизнь, лишь бы уберечь дитя от опасностей. На том и стоит человеческий мир. Пока.
…Надо же такому случиться, что именно в этот вечер я безошибочно и в полную меру почувствовал, как сильно любит меня мама. И насколько я ей нужен. Необходим, чтобы она постоянно меня видела, знала, что я жив, существую. И благополучен.
Подспудно, как бы параллельно беседе с мамой, я возвращался мыслями к Миле. Она стояла у меня в глазах. Я был бы счастлив встрече с ней, и одновременно всё во мне сопротивлялось этому нечаянному случаю.
Распрощавшись под предлогом, что время истекло, а опаздывать на завод нельзя, у нас — строго, вышел в тамбур. Мама не утерпела проводить, а отец лишь буркнул: «Пока, Юряй!» Хотелось обнять маму, но подобных нежностей я себе не позволил и проследовал быстро по двору.
В голове крутилась одна мысль: «Встречу или нет?» Лишь за воротами переключился на заводские заботы, заставил себя отвлечься от Милы и всего, что связывало с домом. Минуту-другую ещё держала мысль, что тётя Таня в окошко неотступно следила за мной. Что ей надо? Чего она ждёт? Неужели всё ещё простить не может разоблачённого мною подкопа картошки?
Я уже насвистывал нравившиеся мне мелодии из киношек или оперетт и приблизился к двухэтажному приземистому и внешне обшарпанному дому пивнушки на углу улиц Свободы и Карла Маркса, как вдруг передо мной предстала удивительная картина: напротив входа в это злачное заведение, где всегда толпились страждущие и жаждущие с кружками в руках, а кое-кто с бидонами, любители пенистого напитка, ожидая своей очереди, или наслаждались бледно-жёлтой жидкостью, сдувая пышные шапки на мостовую, возникла хорошо знакомая мне личность.
То и дело слышалось: «Маша, повтори!» Но не это меня заинтересовало и даже остановило: на краю ливневой канавы, где четыре года назад обнаружили бездыханным тело Сапожкова-старшего, на том самом месте сидел, раззявив рот, Вовка, брат Генки Сапожкова, в замызганной пилотке отца, нелепо натянутой на несоразмерно большую голову. Этот головной убор, доставшийся ему по наследству от братишки, он, вероятно, не снимал ни днем ни ночью. В руках Вова держал знаменитый фотопортрет своей матери, тёти Паши, молодой, неестественно красивой и румяной (ретушёр на славу потрудился!). Гнусавым и обречённым голосом он заунывно повторял:
— Купите патрет заслуженной народной артиски!
Подойдя к Вовке, я с удивлением спросил:
— Вова! Ты что тут делаешь? Ну и ну! Ведь все на Свободе знают, что это фотка тёти Паши! Да и как ты можешь фотку своей матери продавать?
Вовка рванулся из канавы, прекратив торговлю.
— Гера, я узнал тебя! — засипел он. — Я чичас никаво не признаю, а тебя признал, друг луччий!
Он повис на моих плечах и отчаянно зарыдал. Я терпел, хотя друзьями мы никогда не были, соседями — да. Вовка разницы этой не осознавал.
Поклянчил:
— Жрать охота, Гера. А нихто не даёт. Ты хочь дал бы мне хлебушка.
— На платок, сопли-то утри, до подбородка висят, — предложил я, подавая свою «марочку».
— Не нада… Нос всё одно текёт. Ты мне лучче хлеба кусок отломи. Ты начальник, небось… Возьми меня к себе… Я улицу подметать буду.
И он опять заревел. Видать, накипело на душе.
— Володя, — разочаровал я Сапожкова. — Никакой я не начальник. Сам на птичьих правах живу. На заводе рабочим числюсь, на Смолино. Помнишь? Давно, пацанами ещё, купаться на озеро бегали.
— Никаво не помню. Совсем дурачок стал. Генка в турме сидит. Ксива пришла. Мамке. Дак он пишет, штобы ему передачку послали. А какая передачка? Сами десятый хуй без соли доедаим…
— Где Генка-то? — не утерпел я.
— В малолетки. Дай што-мабуть пошамать.
Я вынул из кармана куртки большой кусок пирога с картофельным пюре, мама успела тайком от лежащего на диване отца затолкать.
Вовка алчно принялся есть, отбросив в сторону чистую тряпицу, в которую он был завёрнут.
С набитым ртом спросил:
— Ишшо есь?
— Ты сначала это прожуй…
Мокротá из ноздрей его тянулась, свисая, через толстые губы в рот и на подбородок, но Вовка этого не замечал.
— Утрись хоть, смотреть противно, Вова, — снова предложил я, не в силах зреть его лицо, и отвёл глаза в сторону.
— А зачем? — прошамкал Вовка.
«Да, подобное зрелище явно не для слабонервных, — подумалось мне. — Как же он будет жить среди людей?»
— Ты сходил бы домой, умылся, — посоветовал я и услышал нежданное:
— Не. Тама цыганы живут. Не пустют. Мамка толкнула[458] им фатеру. Они ей многа: во! Горсть гро́шей дали. И теперича в ей живут. Много! А меня не пущают. Кровать железну выбросили в калидор. На полу спят. Много их, цыганов-то. Идём, покажу.
— Вова, да нешто я их не видал? А вот с тобой не по совести поступили. Тётя Паша не имеет права продать квартиру, это же не её частный дом. Она нарушила закон, а тебя, сына своего, без жилья оставила. Тебе надо пойти в милицию и сказать, писать-то ты не умеешь?
— Не. Буквов не знаю. И сколь чево — тоже не знаю.
— В милицию пойдёшь? Милиционеры придут и выдворят цыганский табор из вашей квартиры. Ты, как прежде, будешь опять почивать на вашей железной кровати.
— Не пойду в милицию: тама бить будут.
— Вова, не выдумывай. За что тебя бить? Не за что. Да и нет у них такого права избивать человека ни за что ни про что.
— Пойдём лучче цыганов покажу…
Я хорошо и давно знал квартиру Сапожковых, вернее полуподвальную их комнату. Вовка заманивал к себе, чтобы выклянчить варёной или сырой картошки. Для него — лакомство. И я, поддавшись уговорам, в которых принимала активное участие тётя Паша, застеклённый портрет которой в засиженной мухами и клопами деревянной рамке висел над просторной, закрытой чёрным одеялом кроватью, — на ней могли уместиться ещё пять-шесть человек. А сейчас он валялся в канаве.
…Когда-то в этой мрачной полуподвальной комнате жило семейство Бобылёвых, мой друг по начальным классам Юрка Бобынёк с маленькой сестрёнкой Галькой (их мать, которая в сороковом повесилась в коридоре, рядом с дверью в квартиру) и отцом — мастером, работавшим на ЧТЗ). А семейство Сапожковыж (по уличному — Сапоги) квартировало на верхнем этаже, где после «уплотнения» жильцов дома в сорок втором году сделали общежитие для «мамочек», бывших девушек-фронтовичек. Тогда Бобынька с сестрёнкой переселили в соседнюю квартиру, в которой жила до того девочка с мамой. Бобынёк был влюблён в соседскую девчонку и постоянно сочинял ей письма на четвертушках листов школьных тетрадок. Точно знаю, ведь он был моим другом, что его любовь была обоюдной и он получал от юной зазнобы точно такие же записочки. Любовная история Бобынька прервалась с переездом куда-то девочки и её матери. Уплотнили.
…Я доставал, сбегав домой, из подпола несколько картофелин, скрыв, конечно, от мамы это деяние, и приносил их в карманах Сапожковым.
Вовка настолько привык попрошайничать (как после проговорился Генка, его учила этому мать), что при каждой встрече со мной первыми словами его были:
— Гера, дай што-мабуть пожрать!
И заглядывал мне в глаза. Попрошайничество стало его привычкой. Однажды я отказал Гаврошу (ещё одно его уличное прозвище), так он заплакал. Я не выдержал — сдался.
Тётя Паня (большой фотопортрет которой лежал сейчас в канаве, а все годы украшал серую стену над постелью) действовала иначе, хитрее, убеждая меня ласковым голосом погадать на картах или на бобах, а когда сыновья их сгрызали (твердокаменные!), то в ход шла засаленная, грязная, затёрханная колода игральных карт. Тётя Паня (всё это действо походило на игру) предсказывала мне будущее сказочным добрым бубновым валетом, который нечаянно появится в моей жизни, и столь же неожиданной пиковой дамой — её якобы я должен опасаться. Как всякая сказка, гадание заканчивалось благополучно: король «бил» «опасную» даму, и меня уговаривали смотаться до дому всего за двумя-тремя картофелинами, лучше — тремя, чтобы никому не было обидно (меня в счёт не принимали).
Иногда, ловко тасуя колоду размохначенных карт, тётя Паня, очаровательно улыбаясь, расспрашивала, что мама варила на обед, и, если от него или от ужина хоть немного чего-то осталось недоеденного, предлагала прихватить поскрёбыши в консервной банке — для кошки. Я точно знал, что у Сапожковых никогда никакой кошки и даже котёнка не водилось, поэтому всё это ещё больше походило на игру. Иногда я приносил в той самой консервной банке остатки супа или ещё что-то съестное, и хотя Вовка рвался исполнить роль кошки, тётя Паня не позволяла ему столь прозаически заканчивать спектакль, спрашивая назидательным и ласковым тоном:
— А чем же мы угостим кошечку, когда она придёт к нам в гости?
— Какую кошечку? — простодушно вопрошал Вова.
— Которая к нам по ночами приходит, когда маленькие дети крепко спят, — артистически объясняла тётя Паша. И сын верил ей, как верил всем, что бы ему ни говорили, — во всё.
Тётя Паша с завидным постоянством внушала мне, что до рождения Вовки (а мы с ним были одногодки) она была артисткой и «выступала на эстрадах города», но после появления сына и неудачного замужества «потеряла голос и карьеру». Сначала меня удивляло: как можно «потерять голос» и какую-то «карьеру»? Правда, она пела мне хриплым голосом романсы (значит, она его не потеряла?), и наиболее часто «Не говорите мне о нём».
И я верил ей, что она была артисткой. И вообще принимал за правду многие её хитрости и обманы. Даже в существование таинственной кошки, приходящей к ней по ночам. И приносил этой киске еду. Банка пряталась тётей Пашей под кровать до появления таинственного мяукающего существа. И быстро под каким-либо предлогом я удалялся ею из квартиры.
Однажды мама приметила, что картошка из подпола убывает слишком быстро. Крысы, что ли, завелись. Но следов их зубов почему-то не обнаружилось на клубнях. Я, мучительно стыдясь, всё-таки промолчал. С того дня гадания на бобах и на задрызганных картах с моим участием прекратились. И визиты к Сапожковым — тоже.
Ещё одна неприятность сопутствовала нашим играм: мама стала находить в моей одежде так называемых насекомых-паразитов. Появление их, причём неоднократное, насторожило маму, и она устроила мне допрос. Ничего не оставалось, как признаться, что «заходил играть к Вовке Сапожкову». Мама, видимо, всё поняла и запретила появляться в подвале, где они проживали.
— Юра, не понимаю, что ты хорошего нашел в Вове Сапожкове. Он больной, недоразвитый, умственно отсталый мальчик. Чему хорошему ты можешь у него научиться? Подумай, кого надо выбирать в друзья, — читала мне нотацию мать.
— Я его не выбирал. Он сам захотел со мной играть.
— И что хорошего ты в нём обнаружил?
— Он добрый. Ни с кем не дерётся. Я не люблю тех, кто задирает других. И сам не дерусь, если меня не трогают.
— Это хорошо, что ты не драчун. Но ещё лучше иметь друзей умных, верных, которые тебя не предадут, у которых ты можешь чему-то полезному научиться.
— Вовка меня не предаст.
— Ты посмотри, что у них за семья. Мать нигде не работает. Отец в тюрьме сидит за кражи. Как можно жить, не трудясь? И вдобавок мать его — нечистоплотный человек. Это ж надо: педикулёз! И ты завшивел от них. И эту заразу тащишь домой. Матери приходится тебя избавлять от вшей. Ты и нас можешь этими паразитами наградить. Слушай маму. Мама тебе никогда плохого не пожелает. Я тебе запрещаю водиться с Сапожковыми. Ослушаешься — накажу. Понял?
Я молчал.
— Скажи сейчас же: понял или нет?
Как ни жаль было расставаться с безобидным Вовкой, пришлось согласиться. Так я перестал якшаться и с Генкой, и с их матерью. Генка тогда ещё был совсем мал, у нас не находилось общих интересов. Уличные игры — вот и всё, чем он был занят. Да и по возрасту не подходил — мал. Он родился в том же году, что и Славка.
В то время среди уличной пацанвы широко пронёсся слух, что Вовка якобы дебил, то есть дурак, и он стал презираем всеми, предметом вечных насмешек. Врачи так определили, когда его к ним повели, чтобы выяснить, почему он в школе не учится и не трудится.
И принялись его, бедолагу, дразнить все кому не лень Вовкой Дураком и дебилом. Он, вечно сопливый (ему и кличку приклеили Сопля), ревел, не понимая, за что над ним все изгаляются, — от постоянных дразнилок хоть на улицу не выходи. А где ещё корку хлеба выпросишь? Мне было жаль Вову.
Именно на этом примере я убедился, какими жестокими могут быть обычные уличные пацаны, если попасть им на язык или оказаться беззащитным (по их понятиям — «спустить слабину»). Поэтому при всей моей нелюбви к дракам всегда защищался от нападавших на меня, а иногда и за младших вступался. Если мог. Считал, что так и надо.
Несколько раз мне приходилось заступаться и за Вовку. Поэтому-то он, вероятно, и зачислил меня в свои друзья. А мне было просто жаль его. Как беззащитного.
…Эти воспоминания промелькнули в памяти моей, пока Вовка, давясь в спешке, доедал кусок маминого пирога. Покончив с ним, он ещё раз спросил:
— Дай ишшо чиво-мабудь похавать.[459]
— Хватит, — сказал я. — Я с тобой поделился поровну. Честно.
— Чо, жилишь? Ты домой пришкандыляишь, мамка тебе ишшо пирогов напекёт. У вас дома всиво навалом. Дашь? А я тебе тайну расскажу. В натуре.
— Не жадничай, Вовк. Откуда у нас навал? Ведь я дома не живу, а в заводской общаге. И денег у меня нет. Вот в отряд возвращаюсь, на Смолино. Помнишь, бегали на озеро купаться? Там сейчас работаю. В следующее воскресенье отпуск получу, тогда, мож быть, тебе чего-нибудь прихвачу из ларька.
— Щас бы умолотить буханку черняшки и попёрдывать, — размечтался Вовка. — Все богатеи так живут.
— О какой тайне ты заикнулся? — на всякий случай полюбопытствовал я — вдруг меня касалась?
— Я богатей, в натуре, — оглянувшись по сторонам, шёпотом прогнусавил он. — Золото у меня есь. Свадебны драгасэности. Сука буду… В натуре.
Чего-чего, но подобного признания я не ожидал. Чушь какая-нибудь. Откуда у этого оборвыша, Гавроша, как его звали в детстве дошкольного возраста (хотя он в первый класс так и не попал), могут появиться золотые «драгасэности»?
— Ты какую-то ерунду порешь, Вова.
На моё недоверие он отреагировал возбуждённо.
— Лигавый[460] буду — ни свищу. Сыганка, котора квантиранка у нас, божилась. Иконку показала. Миколу.
— Нашёл кому верить, Вова. Да они же все обманщицы. И воровки.
— Она боженьки молилась!
— Да она будет хоть дьяволу молиться, лишь бы обмануть и украсть последнюю копейку. А ты веришь!
И Вовка сам перекрестился, неловко, не так, как это делала старуха Герасимовна, а стукнул себя щепотью в лоб, после ткнул ею в правое плечо, в левое и в пуп, который виднелся из-под грязной рубахи, короткой и треснувшей под мышками.
— Сказала: найдёт меня красависа — блуддинка, и я поженюся на ей. Во!
И, приблизив свои толстые губы к моему уху (я успел отодвинуться на безопасное расстояние), ещё тише прошептал.
— И дала мене золоты серёшки да обручально колечко. Заговореныя. На щастье вечное.
— Вовк! Ну как ты можешь этой ахинее верить? — не выдержал я. — Какая красавица? Сказка это для детей грудного возраста.
— А золото с сарскими пробами! Во! И с камушками красными, драгасэными! Я за это крестик на гумаге поставил, што согласный, штобы они у нас жили. За табор, во.
И без всякой связи с только что произнесённым вдруг опять зарыдал. И, размазывая слезы по щеками, пролепетал:
— Меня, Гера, в дурдом забирают. Дохтара. Психушники. Не говорят, на сколь. Я бы лучче с тобой поехал, под кроватью бы жил. Забери меня с собой, Гер! Я в дурдоме пропаду. Не сображаю ничиво. Шишнацать лет, кричат,[461] в прошлом годе мене стало. Гера, возми, буть другам.
— Вова, я сам без прописки, на птичьих правах с бывшими малолетками-колонистами живу. В бараке. Разве мне позволят больного человека с собой привести, да ещё чтобы он спал под кроватью?
— Не. С колонистами не хочу. Приставать начнут.
И опять заревел.
Я его успокаивал как мог.
— Возми, — гнусавил он.
— Подумай: как я с тобой? Куда?
В ответ — всхлипывания. И безнадёжное предложение своей услуги:
— Я бы двор вам подметал…
— Эх, Вова, Вова…
Что ему можно ответить, чем обнадёжить? Мне было до боли жаль смотреть на плачущего парнишку.
— Ну пока, Вова. Мне идти надо. Шагать далеко.
— А драгасэности? — спохватился Сапожков. — Тебе одному верю, Гоша. Божись и покрестись, што не казачнёшь.
— Да не нужны мне, Вова, никакие драгоценности.
— А куды ж я их подеваю? Куды заховаю — найдут. В дурдоме казачнут. А у тебя целыи будут. Я знаю: ты ни у кого ничо не стибрил. Картошку нам таскал. Када нам жрать неча было.
— Ты тёте Нюре отдай на сохранение. Она сестра тёти Паши, тётка твоя.
— Она меня к себе не пушшает, гонит. Говорит: заразный ты. Што меня мужики в жопу ебут. А куда от их денисся? Из тюрмы выпустют — и прям к нам… Пристают. Выпрашивают. Под кроватью. Я тама от их прятался. Ишшо до сыганов. Мамку пьяную на кровати шворят, а посля к мене под кровать лезут. Хлебушка дают пошамать.[462] Аль жмыха. Просют тока на полшишки. Што приятсвена мене будет. А в натуре как засунет — бо-ольна! Опосля жопа долго болит. Хезаю посля с кровью. Барнаулю,[463] не даю. А они всё едино лезут, штаны не дают надеть.
Теперича места и под кроватью нету. Мамка посылала к дохтору, штобы скорея забрали меня в дурдом. Всю плеш я ей, грит, переел. В дурдоме дохтор лечить будет. Зачем, грит, я тебя радила, придурка? Лучче бы задавила своими руками. А я-то чем виноватый, што она меня радила?
— Что ж так она к тебе относится? Ведь родная твоя мать!
— Пьёт потому как. С сестрой своей набздюм. Из глины в такой круглой хуёвине… большой…
— Кринке?
— Ну. Брагу мастрячат и пьют. А мне не дают. Грят, шибко большой вырос, воровать нада. А я не умею. В столовке сожрал обед какова-то дядьки, меня зачалили. В тюрме сидел.
— Подожди, Вова, чего она-то ополчилась на тебя? Что ты ей такого сделал плохого?
— Грит, лучче бы своими руками тибя задавила, када из пизды вылезал… Я грю: «Я-то чо тебе изделал? Нивиноватый я».
Мне вспомнился один давний эпизод общения с семьёй Сапожковых:
— Не ты, а отец твой, сволочь, виноватый. В пьяном виде тебя сделал. Ежли б не ён, скотина пьяная, я бы артиской была. Я в «ракушке» в саду Пушкина романсы пела. А он подвалил, негодяй, в антракте и приставился исполнителем лехкова жанра. А он жулик был, твой отец, по карманам лазал. В клетчатом таком модном спинжачке, в брючатах узких, в дудочку, в штиблетах лаковых. Из кармашка спинжака платочек торчал. С бабочкой вишнёвой в крапинку. Красавéц! Весь в духах. Набрилининый. Я и поверила, дура. Кутнули мы с им в номерах. И омманул меня он. Я деушка была чесная, сразу забереминила и вот тебя, урода, родила.
Последнюю фразу она, негодуя, адресовала Вовке.
— Только успели расписаться, ево в тюрьму посадили. Я чуть с ума не сошла! А уже шестой месиц пошёл. Мама живая была, дак выкрутилась, няньчитьса не пришлось самой. Она верующая, меня припёрла: аборт сделашь — прокляну! К попу водила. Я и не посмела. А женихов у меня куча была. Любова выбирай! Один даже анжинер был. С квартирой. Втюрился в меня по уши. У меня коса была — до колен. Солидныя клиенты заглядывались, на разбивку шли, штобы со мной сойтится и жить. Один абвинчатца обешал. Зубодёр. Всё Ванька, подлец, испоганил, всю-ю жисть мою испортил.
— А что за «разбивка»? Что он разбить обещал? — спросил я, лёжа на широченной кровати рядом со всем семейством Сапожковых. Лишь дяди Вани не хватало. Он тогда уже на фронте был, в штрафбате.
— Это когда со своей старой женой развестися, а на мене женитца. Красивая я выглядела, ну, чисто, из кина артиска, — ответила мне тётя Паня.
Странное дело. Но эта, подумалось мне сейчас, «артистка из кина» ничего не умела или не хотела делать. И в их полуподвале всегда было мусорно, неопрятно. И даже метёлки или веника не имелось, чтобы пол подмести. У меня возникло такое представление о тёте Паше (её звали тётей Паней и просто Паней, но мне думалось, что это её ненастоящие имена, например оставшиеся с детства), что она ничего не умеет делать, как только играть в карты, гадать на бобах, петь и дрынкать на гитаре с оборванной струной. Удивляло, как же так? Взрослая женщина, и ничему не научилась, никакому делу. И, похоже, не хотела ничему полезному, чтобы зарабатывать деньги на жизнь, учиться. Находясь в хорошем расположении духа, а такое случалось, когда им удавалось добыть еду и насытиться, тётя Паня снимала с гвоздя видавшую виды гитару и пела романсы.
Голос её не отличался (на мой слух) красотой или силой, но что-то в нём звучало такое, что находило отклик в моей детской душе. Тётя Паня помнила много песен и романсов, но чаще других исполняла один, от которого я немел, а внутри меня что-то начинало трепетать и больно сжиматься, вызывая грусть, жалось к певице и замершим её несчастным сыновьям.
Этот романс у Сурата я уже неоднократно слышал, прокручивая патефонные пластинки, но в исполнении тёти Пани он неотразимо нравился мне в те отзывчивые детские годы.
И я его запомнил в таком её исполнении:
Каждый раз, слушая этот романс, мне думалось, что тётя Паня поёт о себе, о своей несчастной доле, и становилось неимоверно жаль и певицу, и Вовку, и Генку, прижавшегося к ногам матери, тогда ещё малыша. Ещё помню его копошащимся в шибалах, пытающимся поуютнее и потеплее устроиться в этом тряпье. Полуподвал Сапожковых с цементным полом наверняка не был рассчитан на человеческое жильё. В этот полуподвал их опустили из двухкомнатной светлой квартиры на верхнем этаже с террасой под предлогом уплотнения, когда с фронта стали прибывать бывшие телефонистки, штабные делопроизводители, санитарки и другие, кто не удержался от соблазна или не пожелал пострадать от фашистских бомб, снарядов и прочих смертоносно поражающих предметов. Новых жиличек все почему-то неодобрительно или с насмешкой называли «ППЖ».[464]
Сапожковых оставили существовать в полуподвале, где до них жили Бобылёвы, после получения писем Ивана из госпиталя (а не из концлагеря и не из штрафбата), а позднее из пехотной части, куда его направили после ранения.
Их семью переселили со второго этажа, куда, освободив несколько квартир, привезли из роддомов молоденьких стройных мам в армейском обмундировании с детишками фронтового происхождения. Я уже упоминал об этой многочисленной, отнюдь не смирной компании, постоянно устраивавшей баталии насчёт места для просушки пелёнок и прочих важных вещей, но Сапожковым прежнюю квартиру не вернули, несмотря на то, что тётя Паня об этом хлопотала в райвоенкомате. Чтобы возвратить Сапожковым квартиру, надо было расселить «мамочек», а сделать это не представлялось возможным: куда девать фронтовичек?
…С общего коридора у Сапожковых отапливалась, чуть-чуть нагреваясь, всего одна стена, та, на которой красовался знаменитый фотопортрет и висела раздрызганная гитара, знавшая более весёлые времена, о чём свидетельствовал алый бант, венчавший гриф, сейчас, правда, замызганный и из красного превратившийся в серый — от прикосновений грязных рук, ведь инструмент хватал почти каждый из многочисленных гостей певицы и клиентов гадалки. В конце концов один из разбушевавшихся клиентов тёти Пани (в такие моменты Вовка и Генка спасались под семиспальной кроватью) разбил инструмент. Вдрызг.
Когда слушал романсы, особенно тот, что воспроизведён выше (причём так, как пела его тётя Паня, в её «редакции»), мне иногда думалось: горе, прилипшее к самодеятельной певице, захватило и всю её семью. И мучает их. Ведь иногда она с явным надрывом восклицала:
Эти строки адресовались явно Ивану, её мужу, принёсшему всем Сапожковым незабываемое вседневное горе, обиду, несчастье… Так думал я о нём заочно, ведь мы не были знакомы.
Но вот в сорок пятом наконец-то вернулся с войны Иван Сапожков, и начался сплошной праздник, с утра до ночи. Все были радостны безмерно. Из скорбного жилья слышались то гармонные наигрыши, то романсы и песни, но уже другие, не грустные, а отчаянные, удалые. Это дядя Ваня под трофейную гармошку шпарил в основном тюремные и похабные, но среди них иногда попадали и фронтовые, народные (он обладал приятным баритоном), только почти все они оказывались переиначенными, опошленными, вероятно, как и сама жизнь исполнителя, до войны завсегдатая тюрем, а после прошедшего штрафбат, получившего ранение в грудь осколком вражеского снаряда, на его гимнастёрке, скрывавшей страшный шрам, висело несколько медалей, и даже одна «За отвагу»!
Два огромных кожаных чемодана, набитых немецкими вещами, не могли сравниться с бездонным ларцем Аладдина, но содержимое их неумолимо с каждым днём уменьшалось. Как-то быстренько исчезли с запястий дяди Вани наручные часы, они имели чёрный циферблат с зелёными светящимися стрелками и двенадцатью точками (как на картине Николая Ивановича), а другие, карманные, со слов владельца, — «рыжьё», то есть золотые. Он нам показывал и несколько карманных серебряных часов с гравированными на крышках гербами, а одни заводились малюсеньким ключиком, хранившимся под задней, второй, крышкой. Все знали, что дядя Ваня и раньше был большим любителем «бочат»[465] — так он называл карманные часы. Но всё когда-то кончается. Казалось, не кончался лишь пир горой на чёрном одеяле огромной кровати (стола Сапожковы не имели и почему-то не пожелали приобрести после геройского возвращения Ивана).
Чего только на знаменитом одеяле не появлялось: сало, консервированная в довоенные годы и всё это время где-то хранившаяся паюсная икра, огромные буханки хлеба (белого!), конфеты, водка «казёнка» с белой сургучной головкой по несколько бутылок, рыба копчёная, мясо, и всё это съедалось дружной семейкой Сапожковых в огромном количестве. Но, оказывается, и пир на весь мир в один далеко не прекрасный день иссяк. Очередь дошла даже до остроконечной шляпы с зелёным «павлиньим» пёрышком сбоку под чёрной шёлковой ленточкой — тётя Паня продала её и ещё кое-что из «тряпок»[466] на барахолке. А ведь в день приезда дядя Ваня презентовал её Вовке, и тот на радостях бегал по всей Свободе и показывал каждому встречному:
— Во! Отец подарил! У фюлера сдрючил! С фронта!
Песни не умолкали в полуподвале Сапожковых, и после того как чемоданы окончательно опустели. Вовка только успевал таскать из пивнушки бидон за бидоном, а тётя Паня где-то добывала мутный, как очень жидко разбавленное водой молоко, самогон.
Дядя Ваня называл это смешанное пойло «пиво с прицепом».
Почти с первого дня появления бывшего фронтовика к нему заявились двое довоенных знакомых, живших по соседству: полный, невысокого роста толстячок по кличке Витька Бульончик, тоже экс-карманник, заключённый, штрафник. Он лишился левой руки по плечо. Из подмышки лишь торчал пучок серых волос. Несмотря на отнюдь не младенческий возраст, ему уже далеко перевалило за тридцать, он постоянно якшался со свободскими пацанами. Другой «кент» дяди Вани по кличке Пашет обитает в том же дворе под номером тридцать. Это показалось бы фантастикой, но у Пашета тоже нет левой руки, и она удалена тоже по плечо. Он бывший вор, заключённый, штрафбатовец и теперь инвалид войны. Но не щипач, занимался каким-то другим промыслом — до фронта. И характер у него угрюмый. Как и Бульончик, получает небольшую пенсию и, похоже, не ворует. Мы, свободские пацаны, всех блатных, полуцветных и кто вокруг них роится — знаем наизусть.
Так вот они, эти двое бывших «коллег», покорешились с дядей Ваней и сейчас усердно пропивают то, что он привёз из Германии. У них-то ничего похожего нет — что можно притащить с собой из госпиталя? Но к разгулу склонны оба — воровская натура.
Тётя Паня хвасталась соседкам, что теперь её Ваня не ворует, завязал. За то, что он воевал, Вовка со мной пооткровенничал, воры его как бы исключили из своей компании. И если отец опять «зачалится» за карман (его «специальность» — карманник, то есть кражи часов), теперь, даже если он «залетит» за какой-нибудь другой вид воровства, то с ним в тюряге будут обращаться бывшие дружки по «весёлому делу», как с фраером, то есть, я понял, плохо.
Но нет худа без добра, как любит повторять мама: Иван Сапожков благодаря службе в армии вроде бы стал честным человеком. Хотя злобы в нём не убавилось — ведь говорят же все, что воры — злые люди. И это правда. Когда тётя Паня продала последний пустой чемодан, а деньги были пропиты, как и всё, на пару, бывший солдат, не снимая военной формы, чёрных обмоток и ботинок, перебрался зарабатывать на «пиво с прицепом» недалеко от дома — на угол улиц Карла Маркса и Свободы.
Вначале он выступал в пивном зале, как говорится, при полном параде: начищенные мелом медали сверкали, планка о ранении свидетельствовала о том, что это не тыловая крыса, а боец. Иногда он расстёгивал пуговицы гимнастёрки, как будто вспотел, и все могли полюбоваться багровым шрамом на его груди, но вскоре тёте Маше «концерты» и матерщина («мемуары») бывалого фронтовика надоели, и его не стали пускать в заведение. Хотя несколько начищенных медалей должны вроде бы производить впечатление на посетителей, большинство из них были такие же солдаты, недавно демобилизованные по домам из действующей армии. И теперь приблатнённый голос Ивана Сапожкова (всю жизнь и он, и дети его страдали насморком, отец ещё с двадцатых лет беспризорничал, Вовка с Генкой, бесконечно простывая в квартире — бетонном склепе, надрывно кашляли и хлюпали носами и сейчас у входа в пивнушку — со дня возвращения отца с войны они ни на шаг не отходили от него, как приклеенные). Отец для них стал всем. Все блага, которых они были лишены много лет, они получали от него, постоянно что-то жуя. Таскались они за ним и в пивную, раскрыв рты, слушали байки о сражениях, в которых участвовал их папаша.
Впрочем, однажды от тёти Пани я услышал загадочную фразу. Она, поглаживая Генку ладонью по русой голове, ласково произнесла:
— Младший сыночек у меня умничка, другой породы. Не то что этот дебил.
Вовка моментально заревел горючими слезами.
И вот сейчас они толклись возле дяди Вани. Что он делал? Он побирался! Похабно перевирая тексты известных и любимых народом песен. Так звучал один куплет в его исполнении:
Мне было известно, что сульфидин — лекарство от дурной болезни, называемой в народе триппером, и я страшно боялся заразиться им. Мне не нравилась исковерканная Сапожковым песня «Тёмная ночь», которую я очень любил и часто напевал про себя так, как написал её поэт Сурков.
В нетрезвом виде Иван иногда затевал скандалы в зале или возле пивной. Дрался Сапожков отчаянно. Это он здорово умел, я сам раз видел. Почему он так злобничал? Словно мстил встречным, вымещал на них свою неиссякаемую обиду. Но его всё-таки побили. Их было больше, с кем он связался, — четверо или пятеро. Однако они отступили. Не выдержали бешеного напора.
На следующее утро с «фонарями» под глазами и опухшим носом он снова оказался на «боевом посту». Пел. Играл на гармошке. Пил. Нищенствовал. Мелочь — Генке.
Вовка с Генкой крутились вокруг него. Чтобы защитить, если на отца посмеют опять напасть по пьянке.
Иван не мог остановиться. На пропой пошло всё. Он ухитрялся даже продавать хлебные и продуктовые карточки, оставляя семью на произвол судьбы. Вовка и Генка словно перестали для родителей существовать. Теперь все существовали сами по себе. Пацаны попрошайничали. Тётя Паня пила брагу у сестры. Возможно, она припрятала кое-что из «трофейного» на чёрный день. А Иван, охмелев, оставался на ночь в канаве.
Тётя Паня спрашивала утром или днём, когда Иван появлялся в полуподвале, где он был, муж отвечал коротко:
— Там меня уже нет.
Не берусь пересказывать скандалы, происходившие между супругами перед неотвратимыми трагедиями, — о них я узнавал от Генки, который попутно просил что-нибудь «пожрать». И для Вовки тоже.
Кое-что из съестного мне иногда удавалось для них раздобыть — они терпеливо ждали. Но не всегда мне фартило для них тайком утащить, даже варёной картошки в «мундире», — мама часто варила её впрок, но в последнее время приглядывалась.
Надвигалась осень. Иван всё чаще не ночевал дома. Обычно валялся в канаве напротив входа в пивнушку. Собирал вокруг рыбные головки и кости воблы, обсасывал.
— Папа, идём домой! — умолял Генка. Вовка тупо глядел на пьяного отца. Или тоже жевал огрызки.
— Вы! Шмакадявки![467] Што вы понимаете в рыбных головках? Эт-та пища богов!
И прогонял:
— Бегите к матери! А то отлуплю.
Эту агонию довелось наблюдать и мне. Но не догадывался, чем всё это закончится. Ну продолжается и продолжается.
Я заметил: в недопитое пиво, оставшееся в чужих кружках, Сапожков доливал голубоватую светлую жидкость. И тут же валился наземь.
Однажды Иван появился в пивной и надрызгался до беспамятства. При этом гармошка, всегда висевшая на плече его, отсутствовала.
Кое-как Вовке с Генкой удалось притащить отца к себе. Я им помогал.
— Где гармонь? — накинулась на мужа тётя Паня.
— С-пи-з-ди-ли, — промямлил Иван и, уткнувшись лицом в колени, сидя на корточках (заметил, у многих пацанов, особенно оттянувших срок наказания или побывавших в тюрьме, осталась привычка сидеть в такой позе), вдруг зарыдал. Я впервые увидел плачущего Ивана Ильича. Не знаю, почему он разнервничался, то ли сыновей и жену своих стало жаль. То ли непутёвую жизнь свою. То ли украденную гармошку…
Я долго смотрел, как он обливается слезами, содрогаясь всем телом. Вовка ревел ему в унисон.
И опять, в который раз, я осознал ясно своё бессилие чем-либо пособить этим людям.
— Всё, всё, — отрывисто произносил он.
— Што «всё»? — зло спросила тётя Паня. — Ты што делаешь, сволочь? Ты нам всем жизь испортил! Дети с голодухи подыхают из-за твоей пьянки!
— Всё… — повторял дядя Ваня, закрыв глаза, как он это делал, играя на гармошке.
И вдруг отчётливо произнёс фразу:
— Все пиздой накрылось.[468]
И свалился на спину, ударившись затылком о бетонный замусоренный пол. И затих.
— Давайте ево на кровать затолкаем, — тонким голоском пропищал Генка. И мы втроём, кажилясь, затаскивали дядю Ваню на постель — руку, ногу, но всего поднять не могли.
— Чтоб ты сдох, скотина! — злобно напутствовала супруга тётя Паня. Она явно находилась в «поддатии». Только некоторое время спустя я подумал: на какие же деньги она пьёт? Гитару, что ли, продала? Нет, новый инструмент, подарок Ивана, висит на своём месте под неестественно красивым портретом той, которая словно выстрелила страшными словами в своего мужа.
— Пошёл домой, — сказал я, ступив на бетонную ступеньку, и отворил тяжёлую дверь, но без врезного замка — дядя Ваня, наверное, на базар унёс, продал на пропой. Или пацаны без него. Чего сторожить? Из всего осталась лишь гитара.
Утром следующего дня, шагая по опавшей с поредевших крон тополей листве, я с удивлением увидел Ивана Ильича сидящим на краю канавы. Он понуро уставился на раскрытую пилотку, лежащую на тротуаре. Заметил и то, на что вчера не обратил внимания: на груди его гимнастерки лишь темнели как бы тени медалей, что недавно блестели, весело позвякивая.
Как-то один из собутыльников не без иронии спросил Сапожкова:
— Что ж ты, солдат, одних медяков насобирал? Ни одного орденишка не заслужил? В штабе на побегушках кантовался?
Дядя Ваня ответил зло:
— Ты, видать, тыловая крыса, и не знаешь, что полагалось Ваньке за атаку, — хуй в сраку, а Машке за пизду — Красную Звезду. А мой кажный пятак моей кровию полит. Понял, сука?
И дал «юмористу» в морду. Началась потасовка. Дядя Ваня, отскочив в сторону с пьяной удалью, ухватившись ладонью за правый карман галифе, скомандовал:
— Кто хотит девять грам меж рог получить — шаг вперёд! Куда, гадёныш, притырился?
Охотников обрести обещанное не нашлось, и остряк-самоучка юркнул в дверной проём пивной.
Дядя Ваня спокойно допил из чьей-то кружки и, шатаясь, поплёлся домой.
Я после спросил Генку:
— Неужели отец застрелил бы человека? Он что, с «дурой»[469] ходит?
— Да он фраера на понт[470] взял. Фраерюга и обхезался![471] У папани тама подсигар трофейный был. Пропыжил[472] он ево, на прошлой пятидневке.
Теперь уже нет и медалей. Куда делись? То ли с пьяного сняли, то ли пропил…
— Пожертвуйте бывшему фронтовику на пропитание, — время от времени заученно повторял дядя Ваня. Рядом с ним, слева, сидели на краю канавы Вовка с Генкой. Молча. Как два воробышка. Пивунов было много, кажется, в этот воскресный день, они сновали туда-сюда с кружками и закусками. Но пока я стоял возле Сапожковых, никто ему ничего не «пожертвовал». Кроме опивок. Мне стало стыдно за него, ещё недавно храброго солдата. Я дал бы ему денег. Хотя бы несколько копеек. Но в моих карманах ничегошеньки не имелось. Кроме «панка». Не предложишь же ему игровую кость.
Во что превратился менее чем за полгода жизнерадостный, весёлый бывший солдат Иван Сапожков! Глаза бы не смотрели! Сейчас бурная радость вернувшегося с войны главы семьи сменилась на растерянность сыновей и озлобленность их матери. Как они из этой беды выкарабкаются? У всех них, наверняка, были надежды на лучшие перемены в жизни. Да и каким счастьем было для сыновей возвращение отца с войны живым! А счастье это обернулось горем. Для всех.
Мне вспомнилось опять лето сорок первого, двор, где живут Сапожковы, крылечко с двумя ступеньками, невысокого роста, кучерявый, на цыгана похожий, жилец этой однокомнатной барачной квартирки, сидящий на краю крыльца. Он плакал навзрыд пьяными слезами, уткнувшись лицом в колени, как недавно Иван Ильич. Рядом с ним почему-то никого не оказалось. Я спросил какую-то соседку по бараку, которая, подперев кулаком щёку, печально смотрела на пьяного кудрявого мужчину: «Почему он плачет? Кто его обидел?» Женщина коротко ответила, как будто осерчав на меня, недогадливого. Сурово так ответила. Будто я в чём-то провинился.
— На войну идёт. На смерть.
Ответ оказался неожиданным для меня, девятилетнего пацана, настроенного весьма восторженно и воинственно: как это так — на смерть? Наши идут убивать фашистов за то, что они напали на нашу страну. А не нас они.
Кучерявый сосед, он тогда выглядел лет на тридцать с небольшим, вообще с войны не вернулся. И ни слуху от него ни духу — пропал без вести. Я этого поначалу никак не мог понять. Ушёл как в воду канул. А у него, оказывается, жена осталась и сынишка Федя Грязин, старше меня года на два-три. Долго для меня оставалось загадкой: как может человек без вести пропасть? Каждый по документу числится — никуда не скроешься.
А у тёти Тани муж. До сих пор его ждёт. И тоже ни весточки не получила, кроме такой же бумажки из райвоенкомата: «Пропал без вести». Пошла в военкомат, который его призвал. После долгих расспрашиваний тёте Тане объяснили: «Пропал без вести». Не может такого быть! Как же это так можно пропасть человеку — без вести, не иголка, чай? Этот вопрос я задавал себе много раз, так и не найдя разумного ответа.
Запомнился мне тот кучерявый и сердитые слова соседки:
— На войну идёт. На смерть.
И он бесследно исчез в этом страшном кровавом омуте. Как выяснилось много позже — с миллионами других.
А дядя Ваня вернулся. Хотя когда война началась, в тюрьме сидел. И стал из авторитетного вора в законе Вани Бока рядовым штрафной части Иваном Ильичём Сапожковым. А далее читатель обо всём, что автору известно, кроме того кличка Вани произошла от слова «бокá», что на русский литературный язык переводится с блатной фени (воровского языка) как «часы». Дело в том, что Ваня, родители которого были репрессированы, когда он находился чуть ли не в грудном возрасте, как зажиточные крестьяне, то есть кулаки, и растворились среди тех, кто рыл каналы, нещадно изводил лес, просто замерзал посреди бескрайних ледяных просторов, чтобы унавозить собой эти поля, на которых должен был вырасти по мановению большевистской кровавой палки прекрасный, сказочный коммунизм — счастье всего человечества. Ваня, на котором от большого и богатого семейного хозяйства остались каким-то чудом не реквизированные шерстяные вязаные, наверное матерью, обутки в виде сапожек, то и получил он имя, по моим поздним расспросам тёти Тани, новое, и фамилию согласно этому предмету: Сапожков. А отчество, чтобы оторвать младенца от поклятого капиталистического прошлого, — ведь должен был вырасти новый — советский! — прекрасный человек, строитель коммунизма, дали самое дорогое — Ильич! Вероятно, те, кто спас его от, казалось бы, неминуемой гибели, были украинцы, да и сам он, не исключено, тоже.
Далее он прошёл все круги ада, именуемого советским образом жизни, и стал вором. Понятно, почему воры, в среде которых беспризорник оказался, сняли с него прежнюю кличку Сапог и заменили её более подходящей его таланту — уж очень ловко он научился извлекать из чужих карманнов часы. И превратился он в Ваню Бока.
Разъезжал Ваня по городам СССР, облегчая карманы их жителей. Время от времени ему не везло, и он оказывался в родной компании, отделённой временно от других, «неродных», то есть фраеров и фуцанов,[473] колючей проволокой.
Короче говоря, мир, народонаселение для Вани составляли две категории людей: воры (люди) и неворы (фраеры).
Если б не Великая Отечественная война, так всё для Вани Бока и оставалось бы по-прежнему. На неё он «подписался» с одной целью: «чухнуть»[474] и продолжить свою «артистическую» деятельность, ведь часов в карманах у фраеров оставалось ещё видимо-невидимо, не пересчитать.
Но ошибся Ваня, когда увидел, что везут их на бойню, как живое мясо. О том, чтобы чухнуть, нечего было и мечтать — за спиной энкавэдэшники с пулемётами. Пришлось выполнять приказ: так смерть и так — тоже. Если рвануть вперёд — хоть какой-то шанс есть, назад — свои пристрелят. Рану в первом же бою получил. Но выжил. Все дороги и ямы войны шагами измерил и на брюхе исползал. Повезло человеку. Домой, в семью вернулся. И что? Успел, когда находился в благодушном настроении, не очень пьян, поведать о своей трудной, неправедной, захватывающей ребячье воображение приключениями жизни.
…Сидит Иван Ильич в двух шагах от меня. На тротуаре под ногами лежит развёрнутая белёсая пилотка. Пустая. Много таких попрошаек вокруг шляется. Шмотки солдатские надрючил и: «Подайте…» — так, вероятно, думает кое-кто из окружающих о нём.
— Работать надо! — многие советуют. А он работать-то и не умеет. Воровать и убивать — вот две профессии, которым его обучила блатная жизнь и война. Да и рана…
Но я-то доподлинно знаю, что этот оборванец — отец моих знакомых — вчерашний настоящий солдат, действительно воевавший на фронте, осколком вражеского снаряда раненный… И никто ему не помогает. Не сочувствует. Никому до него дела нет.
…Занятый нашим огородом, я прозевал необычное событие: Стаська прибежал с улицы и сообщил весть о «потрясающем событии» — Ивана Сапожкова рано утром нашли в канаве напротив входа в кабак (пивная и до революции была кабаком), присыпанного опавшей листвой тополей. Его сразу признала Каримиха, дворник наш. Тротуар от Карла Маркса до Труда она содержала в образцовом порядке, «вылизывала», как говорили все о её добросовестнейшей работе, а о ней отзывались как о честнейшем человеке. А сыновья её — воры! И дочь — проститутка. Вот что меня удивляло и озадачивало. Почему? И у Фридманов ведь тоже самое. И в других семьях такое же происходит…[475]
Она и обнаружила тело дяди Вани. Побежала к Сапожковым.
— Туда ему и дорога, — прохрипела похмельная, растрёпанная и ничуть не огорчённая вдова Ивана, но поплелась вместе с проснувшимися сыновьями к роковой пивной. В шесть-седьмом рядом с буйным домом никого не оказалось — все ещё спали. Лишь Вовка с Генкой прибежали вперёд матери, и старший сын, не соображая, будил отца: «Вставай, пап!»
Тётя Паня подошла на шаг к недвижимому телу мужа, постояла, убедилась, что он не дышит, и, позвав за собой Вовку с Генкой, направилась назад, домой. Перед уходом она приказала Генке:
— Пошарь в карманах, есть там што или пусто? Всё пропил, небось…
— Пусто, — установил Генка, быстро обследовав карманы отца, — он лежал на спине, в полусидячем положении, как бы опершись на край канавы, и надел его пилотку.
— Кода хоронить отца будут? Мабудь, с оркестром? Как героя? — спросил мать Генка.
— На кой хрен ево хоронить? Денег нету. Всё пропил. Голых нас оставил. Без копья.
Тётя Паня лукавила: немалая часть потраченного на пиршества приходилась и на её долю, но на свой счёт угощения она не засчитывала, как и сэкономленное и припрятанное. Генка поведал мне, что мать обязательно, когда и раньше дядю Ваню доставляли домой в невменяемом состоянии, шмонала[476] его. Все заначки вытряхивала. На опохмелку притыренные.
Мне трудно было разобраться, почему всё это происходило в семье Сапожковых. Милиция вскоре, часа через два-три, появилась на месте происшествия. Написали о произошедшем какую-то бумагу.
Потом, рассказывали, приехала машина. Дядю Ваню закинули в кузов и увезли. Более его никто и никогда не видел. Тётя Паня всем знакомым рассказывала, что похоронили мужа «за казённый счет» как участника войны. Только никто об этом ничего не знал.
Я прибежал на место печального события, когда участок канавы, где ещё недавно находился мёртвый Иван Ильич, уже ни о чём не напоминал никому, лишь на нём лежало больше палой листвы тополей. Каримова не стала из-под него выметать.
Как ни в чём не бывало в широко раскрытые двухстворчатые двери пивной туда-сюда сновали любители этого напитка.
Я помчался к Сапожковым, чтобы повидаться с семьёй умершего.
Впрочем, не все разделяли такую причину его кончины: упорно распространялись слухи, что дядю Ваню убили. Впрочем, эта сплетня разбухла позднее.
А сейчас я примчался к Сапожковым. Всё семейство (кроме главы, разумеется) оказалось в сборе. Вовка и Генка спали, на голову старшего натянута пилотка отца — всё-таки хоть какое-то наследство. Тётя Паня, тоже лёжа на постели, негромко пела нетрезвым голосом:
Поздоровавшись, спустился по коварной ступеньке на пол (не раз падал с неё, в потёмках-то, ведь никогда не мытые стёкла окон, круглогодично запылённые и заляпанные брызгами тротуарной грязи, на уровне которого они возвышались, даже в солнечные дни пропускали мало света, а в пасмурную погоду или зимой здесь всегда стояли потёмки), чем вызывал хохот Вовки и писклявые звуки, которые издавал Генка.
…На моё «здравствуйте» мне никто не ответил. Тётя Паня же, видимо, в изрядном хмелю, продолжала напевать про стаканчики, а Вовка с Генкой, утомлённые ранним пробуждением, дрыхли под монотонную мелодию, как под колыбельную маленькие детишки… Меня быстро охватили жалость и тоска. Тётя Паня, наверное, даже не заметила моего прихода и удаления тоже.
Возвращаясь к себе через двор с домами под номерами двадцать восемь, хотя единственная табличка с этой цифрой пришпандорена только на уцелевшем столбе ворот, давно пущенных жильцами на растопку, я горевал о дяде Ване — весёлый он поначалу был человек и сыновей никогда не бил: как они теперь выживут без него? Какой-никакой, а отец. Защита. Подмога. Поддержка. И пришёл к выводу: как Сапожковы плохо жили без отца, так и дальше придётся им существовать. Надеяться не на что, и не на кого.
…И вот Вовку с «потретом народной заслуженой артиски» застаю на том же самом роковом месте напротив адских широких кабацких дверей. Незаметно почти три с лишним года минуло.
Ничего не изменилось за прошедшее время. Так же снуёт пьющий народ в адские двери туда-сюда, не обращая внимания на сопливого подростка с «патретом» в давно не мытых руках.
— Ну ладно, Володя, мне пора. Завтра рано на смену заступать.
Попрощались. Что поделаешь, любой мог таким родиться. И я. Так о Вове подумалось.
Не успел дойти до трамвайной линии, как вопль заставил меня обернуться.
— Гер! Я эта!
Он, уже без «патрета», остановил меня, озираясь.
— А как же свадебны драгасэности?
— Что ж мы на рельсах стоим? Давай хоть на тротуар перейдём, — предложил я.
— Канаем, Гош, за драгасэностями…
И он повлёк меня назад, вероятно к себе домой.
Честно сказать, очень не хотелось возвращаться, но моя слабохарактерность, опасение обидеть другого заставили повернуть назад, и я пошагал за Вовкой, который за прошедшее время стал ещё больше оборванцем, но у меня не имелось ничего, чтобы я мог ему отдать в носку.
— Хошь на сыган покнокать, которы у нас живут?
— Не хочу, — наотрез отказался я.
— Самый большой начальник — дохтор по чокнутым — обещал меня вылечить. В дурдоме. А сыганка щастя нагадала. В натуре.[477] Бытто женюся на красвисэ. Но без драгасэностей она за меня не пойдёт. Такой распорядок у их. И падарила мене золата та сыганка. А притырить их где? Да вот ты встретился. На щасте мене. А то кому одай — обдурят. Меня все обдуряют, потому как я дурак. Дурачок. И я тыбе…
Мы вошли в Вовкин двор, миновали вход в полуподвал, где в бывшей Сапожковых квартире кочевал табор, завернули за угол дома и остановились у крылечка квартиры, где когда-то проживал с матерью Федя Грязин, парень года на два-три старше нас. Он удачливо воровал продукты питания с автомашин и повозок. Однажды угостил нас, гурьбу пацанов, колотым на куски горьким шоколадом. Краденым, разумеется. Только никто из нас не задумывался тогда, в сорок третьем или четвертом, откуда у него этот «чикалат» взялся. Мне он не понравился. А другие с голодухи — ничего, морщились, но лопали. Через несколько дней Федю застрелил охранник, когда тот «вертанул» что-то с проезжавшей мимо, по Свободе, продуктовой машины, — не спасли его быстрые ноги. Федя пустился наутёк, но пуля догнала, пробив сердце вора. Кто-то говорил — опер Косолапов шмальнул, что к тёте Тане Даниловой частенько захаживает.
Где-то тут это несчастье произошло, недалеко. Я Федю мёртвым не видел. Но слух о том, что его начисто «шмальнули», разнёсся сразу по всей Свободе — молниеносно.
Отец его, по слухам, находился в действующей армии. На фронте. Но вестей от него не поступало. Мать где-то работала, я её не знал и ни разу не встречал. Узнав о смерти сына, она скоропостижно скончалась — сердце разорвалось. Я уже об этом упоминал.
Да, коротка воровская жизнь. Некоторым везёт чуть больше. Но насильственная смерть почти для всех неминуема. Либо от пули охранника или милиционера, либо от ножа такого же блатаря, как он сам… Смерть ходит, спешит по пятам блатного.
И вот мы остановились у пары ступенек, ведущих к дверям бывшей квартиры Грязиных. Вовка опасливо оглянулся по сторонам, после присел на корточки и просунул кисть руки под нижнюю ступеньку, пошуровал под ней, и на ладони его оказался маленький узелок из куска цветастой ткани.
— Рвём когти отседова, — пугливо произнёс Вовка, и мы направились на улицу. Перешли её и забрались в густой, запущенный сад, принадлежавший седому старику, как и дом с глухими воротами, на столбе которых прибита эмалированная табличка: «Докторъ Сурьяниновъ». Сад с аллеями, по которым когда-то прохаживались пациенты доктора Сурьянинова, мне был отлично знаком: несколько раз мы, свободская пацанва, лакомились здесь черёмухой. И я, грешник, тоже. В военные годы.
Помнил отчётливо, как однажды ко мне подошёл седовласый красивый старец. Я даже крикнуть не успел «атанда!», чтобы предупредить ребят об опасности. Это и был хозяин дома и сада. Он спокойно сказал мне: «Ребята, рвите ягоды, лишь деревья не ломайте». Седой дряхлый старик подходил к нам, взобравшимся на деревья, и очень вежливо просил нас не ломать ветви! Добрый человек! К сорок девятому году мне таких людей встретилось очень немного, по пальцам перечесть. Перемёрли, что ли? Или их на войне поубивали? Какой-то другой народ появился, хуже…
…Забравшись в заросли крапивы (дом с мутными стёклами окон показался мне нежилым) и какого-то колючего кустарника, оглядевшись, Вовка развернул узелок. В нём оказались две серёжки и одно надраенное кольцо. Поскольку я обладал солидным опытом добычи цветных металлов (со свалок в основном), то, поразглядывав начищенные до блеска изделия и розовые стекляшки в серёжках, не сомневаясь, сказал Володе:
— Тебя, Вова, надула та цыганка. Это не золото, а медь. Или какой-то медный сплав.
— Не мож быть, — растопырил толстые губы Вовка. — Ты зырь[478] лучче? Вона… этто… тама написаны есть… сарски. Сам сарь на золоте… накарябал.
Я пригляделся внимательнее. На каждом изделии, и в самом деле, имелись оттиснутые цифры «56». И буквы, похожие на «л». Уж не начальную ли букву слова «липа» оттиснул фальшивомонетчик?
— Ты за них что-то отдал? — спросил я.
— Не. Гумажку на каку-то казённу крестик нарисовал. Што они наши квантиранты у нас. А на сколь — не знамо. Она ничиво не говорила. Я сразу драгасэности под ступеньку и заныкал.[479] А то мамкины ёбари по карманам шарят. Чо найдут — казачнут.
— Что за мужики?
— Не знаю. Мамка их приводит. Грит — из трюряги выскочили. И к нам лезут. Мамку шворят на кровати, а меня на полу. В жопу.
— Не надо! Не надо об этом. Какая мерзость! Их всех под суд следует отдать. Должен же у нас быть такой закон! Ты в милицию с заявлением на них обращался?
— Не. Никово я не знаю, Гера. А милисыю боюсь. Тама бьют сильно.
— Как же ты терпишь? С тобой такое творят, а ты молчишь. Эти тюремные подонки глумятся над тобой, неужели ты этого не понимаешь?
— А я их не знаю. Никово не знаю. Тёмна жа… Под кроватью ить ни хера не видать. А они: один уползёт, другой по новой ползёт. И штаны стаскиват, очко ишшит. Да с вином ползут. Я глотну — сласть! Харашо! И никово не помню. Поди узнай — хто. Жопу ночью надерут — болит!
До меня вдруг дошло, что убеждая Сапожкова, я совершаю глупость — ведь он сам сказал, что врачи признали его дебилом. Это, вероятно, вроде быть не всё понимающим дураком. А я с ним толкую как с разумным. Как и чем я могу его защитить? Никак. И ничем. Бессилен я. Всё чаще меня посещала мысль, что во многих случаях жизни я бессилен против Зла.
На работу необходимо топать. А то опоздаю — статья за прогул. Срок. Тюрьма. В СССР мало кто в тюрьме не побывал. Чуть что — сразу в тюрьму. Надо не зевать. Тем более что мне уже семнадцать.
А тётя Паня! Надо же столь низко пасть! И всё из-за пьянства. И нежелания трудиться. А здоровая женщина. Только слабая от сдачи крови.
И я перевёл грустные размышления и разговор с Вовы на другую тему:
— Как Генка-то забурился? Тоже ничего не знаешь?
— Питерский ево искал. С ём он уехамши. Пацаны трёкали: зачалили Генка́. За карман. В малолетке чичас сидит.
— Сколько дали?
— Не зна… Где-то… Забыл, Гош. На драгасэнасти и отнеси домой. Тама заныкаешь и мне скажешь. Я и пришкандыляю за имя́. Кода жинитса буду.
— А если меня дома не будет? Восемнадцать стукнет, в армию собираюсь пойти служить. На заставу. Пограничником. А потом — на завод, наверно. Кировский. Слесарем. Если общежитие дадут. Я скоро, Вова, на третий разряд буду сдавать. На Смолино. В ремонтном заводе.
— Тебя ежли не будет, у Стаськи спрошу, ён драгасэнасти одаст…
— Ну уж нет, Вова. Я никого вмешивать в эту историю не хочу. Серёжки свои с кольцом закопаешь сам в нашей сарайке. Ключ где висит, я тебе покажу. Когда понадобится, придёшь и возьмёшь?
— Не спиздят в сарайке-то?
— Знать будем лишь ты и я. Понял? А домой я не хочу показываться — уже со всеми попрощался. Мать увидит — хипёж[480] устроит, расспрашивать начнёт досконально: что, зачем, почему?
И мне почему-то вспомнился эпизод из сказки Толстого «Буратино». С пятью сольдо.
— Ага, — согласился Вовка. — А мож пирога ишшо попросишь?
— Перестань, Вова. Что ты как маленький… Дворами обойдём, возле барака трамвайщиков, — там в заборе дыра есть: доска на одном гвозде висит. Лишь бы никто нам не встретился.
— Ага, — повторил Вовка и больше никаких вопросов не задавал.
Мы незаметно пробрались к нашей сарайке. Я показал Вовке, где висит проволочный крючок и как им отодвинуть дверную задвижку. Раскопал лаз, вырытый сбежавшим кроликом. Вовка положил в ямку свои сокровища. Затоптали схорон. И тем же путём вернулись в Вовкин двор.
Но Сапожков последовал за мной дальше. Ему, наверное, очень не хотелось расставаться со мной. Пока шагали до пивной, он продолжал рассказывать о себе.
— Знашь, Гоша, ежли б ты не подмог мне, под транвай кинулся бы.
— Да ты что, Вова, совсем обалдел?
— А чо иделать? Сыганка мене нагадала: шасте у менé только с той красависой будет. А без её — крестовый туз. Нету пути никуды.
— Ради бога не делай этого. Жизнь может по-разному повернуться. Главное — лечиться. Вылечишься — другая, лучшая жизнь начнётся. Только уезжать тебе отсюда необходимо. Туда, где тебя не знают. Сейчас медицина чудеса творит, от таких хворей избавляет, которые считались неизлечимыми.
— Хорошо ба, Гош. Да невезучий я. В тюрме сидел за это. Сколь-то, не знаю. Мамка справку притаранила,[481] тады отпустили. А так сколь-то лет дали.
— За что, Вова? Ты же муху не обидешь…
— Жрать охота. Кишка кишке протокол составляла. Похлял в эту… как её… рыгаловку.[482] Там, далёка, в городе. Где больши дома. Где вояки-багатеи хавают.[483] Забурился,[484] на хапок[485] нажрался. Меня фицыант выгонял, молотил.[486] А я рубал изо всех тарелок на столе. Не всё сметал. Не успел. Дак за пазуху жратву притырил. На опосля. Дяди-гади меня повязали. Я и не побёг. Меня бливать начало. Вояки как забазлали:[487]«В турму ево! Ён наши обеды смолотил![488]» Все таки толсты, брюхаты! Больши начальники, видать.
Повар, такой доходяга[489] с вусиками, прибежал. С куфни. Их умасливат: «Я вам ишшо приташшу». А один начальник грит: «Пушшай в турме посидит! Таких, грит, надобно расстреливать без суда, как на фронти». А повар, када за мной мусора[490] прибёгли с дурами,[491] ишшо бутенброт мене в карман засунул. А у меня в ём дырка. Дак ён в тую дырку провалился на пал, а я ево — цап! И в грабке держу. Дак мусора — в милодии[492] дажа не нашли. Я ево в аделении и схавал. Дак чуть копыта не отбросил — не дают мусора из ихней мусорской крушки попить. Во, жлобы![493] Воды имя жалка! Я упамши, дак один мусарюга кричит:[494]
— Пушшай подохнет… этта… как её… от заворота кишков. Штобы в ахвисэрски столовы не шастал боле.
— Били?
— Не… Отбучкали[495] малость. Кулаками. А мне по херу. Зато нахряпался от пуза. Никода так скусна не жрал. Сколь дней до тово не лопал. Выползу из-под кровати, стану — темно, будто ночь. Падаю на пал. Не знаю, сколь дён не жрал, — много. Еле до рыгаловки ахвисэрской дополз.
А во мне, в моей памяти, с фотографической точностью возникла, казалось, давно забытая сцена на базаре: задранная серая куртка на шелудивом теле с выпирающими рёбрами и бьющееся сердце, быстро-быстро, будто через мгновение выскочит, прорвёт грязную кожу и покатится под ноги беснующейся толпе… Это из сорок второго или сорок третьего вспомнилось. Надо же — столько лет, а озноб по спине пробежал.
Столько лет промчалось с сорок третьего, и вдруг промелькнула та базарная сцена, не забылась… Сейчас она увиделась мне ещё более зловещей и чёткой.
— Я знаю того повара из военторговской столовой на углу Кирова. Капустин его фамилия. Он меня с Генкой в сорок шестом накормил, когда я из дома ушёл. Добрый человек. Редко такого встретишь.
— Во-во. Мене Генка об ём трёкнул. Я и запомнил. Как вы побирались…
Слово «побирались» резануло мой слух, но я будто не заметил, не стал спорить.
— В турме тожа кормют ништяк.[496] Из люминевых чашак. Баланда скусная, из капусты. Каша. Хлеб дают. Пайку. Мене пондравилось. Тока чашка с дыркой, из её лилось прям на меня…
Последние Вовкины слова меня удивили. Точнее — поразили.
— А как тебе там жилось? Не обижали?
— Не! Блатные приставали. Штобы дал имя. На полшишки просили. А сами как влупят, дак до кишков достают. Больно! На четвирых костях стоять вилели. Поебут — пайку дадут. Целяком. По-щесному. Как обещали. Воры все щесныи.
Слушать Вовкину исповедь стало невыносимо.
— Сразу освободиться-то удалось? По медицинской справке? Или по суду?
— Сами мусора отпустили. Мамка к имя приехала и каку-та гумагу от дохтора притаранила. Што я, ну, как ево? Дибил. И миня выпустили. Баландой накормили. Пайку дали. В дурдом повезли. Тама обо всём спрашивали. Карандаш дали, гумагу, заставляли каку-та херню писать. А я им калабушки[497] нарисовал — в школе-та не учился, буквов не понимаю. Дак они, што я трёкал, написали и выпустили. Сказали, што сколь лет мне будет, к себе забирут. Личить будут. В дурдом нада бежать да тама местов нету — всё забито. Много нонче дураков расплодилось, до хера. Говорят — от водки.
— Где-же ты спишь? Ночуешь?
— В тёпло — в калидоре у своей фатеры. Колотун стал, в бане кемарю[498] на скамейках. На Краснармейской. Аль на котлах. Ташкент!
— Вова, а где фотка тёти Паши? — спохватился я.
— Вона она. В канави. Нихто её не сбондил. Я её за народну артиску продаю. Подешёвке.
Услышав последнее слово, я с присущим мне нетерпением намерился возразить Вовке с жаром, но вовремя одумался и выпалил то, что пришло в голову.
— Пока, Сапожков! Держись! Не давай себя обижать.
Я знал, уверен был, что произнёс пустую фразу, и никакой пользы она Вовке не принесёт и никак на его судьбу не повлияет. Положительно. Хотелось пусть словом помочь несчастному Вовке, подбодрить, обнадёжить, что в жизни его ждёт лучшее. Чтобы он не отчаялся окончательно и не совершил тот страшный шаг, о котором упомянул.
Надо не забыть в следующий отпуск подарить Вовке буханку хлеба. И изловчиться присовокупить хотя бы сто граммов подушечек с начинкой из повидла. Если не окажется денег, перехватить под честное слово у Вали Бубнова — с получки расквитаюсь. Хотя и не брал ни у кого никогда взаймы ни копейки — опасная штука. Зависимость.
И тут я обнаружил, что во внутреннем кармане куртки ещё кусок пирога. Чего же я его с собой волоку? В общаге меня ждёт ужин, Вову — едва ли.
Я развернулся на противоположном тротуаре, на улице Карла Маркса, чтобы окликнуть Вовку и отдать ему остатки маминого подарка. Но Сапожкова нигде не было видно. Неужто он успел шмыгнуть во двор дома номер тридцать? Там жил Толька Мироедов. С ним мне не хотелось встречаться. Противно! Мне противны лживые и злые люди. С ними стараюсь не иметь дел. А если лезут — дерусь.
…Ощущение собственного бессилия что-либо изменить к лучшему в дальнейшей жизни этого несчастного пацана опять защемило сердце.
Вовка долго не отпускал меня, словно рядом шагал.
Повернувшись, я напористо (по-осеннему быстро темнело) продолжил путь рысцой по улице Свободы в заводское общежитие. Не насвистывая никаких мелодий — на душе муторно. Такое ощущение, словно и я в чём-то очень провинился перед тем же Вовой.
P.S. О свадебных драгасэностях мне вдруг вспомнилось в октябре семьдесят седьмого года, когда я зашёл в свою сарайку, готовившись к вынужденному переезду из Челябинска в Свердловск. Промелькнули чередой в воображении детские и юношеские годы, лица знакомых и родных. И среди них — несчастный Вова Сапожков. Увиделись и свадебны драгасэности. Не надеясь на удачу, вернулся в сарай и принялся долбить заступом землю. Так, на всякий случай. Вроде бы на том участке, куда с Сапожковым зарыли дешёвую бижутерию — цыганское «золото». Меня больше интересовало, приходил ли сюда Володя и забрал ли своё «богачесво».
И вдруг — именно вдруг! — в куске мёрзлой земли показалось розовое стеколко. Уже осторожнее отколол близлежащие (чтобы не разбить, не испортить Вовкино «приданое») мёрзлые участочки, собрал кусочки грунта и унёс в комнату. Когда земля оттаяла, извлёк из неё медяшки и стекляшки. Неповреждённые! Промыл.
Кольцо покрылось тёмно-коричневой неровной патиной, а серёжки, сделанные из другого металла, не выглядели настолько тусклыми. На всех изделиях стояла проба «56» и какой-то прямоугольник с неразборчивыми буквами. Лишь гранёные розовые стекляшки радовали глаз. Ну цыгане! Мошенники! Ловко же они надули бедолагу Вовку.
Поскольку мои усилия отыскать след Вовки закончились неудачно, ни в каких доступных мне справочных он не значился, то я оказался хранителем «драгасэностей».
…Недавно, в две тысячи пятом году, они опять попались мне на глаза в одной из папок с документами. В ней же сохранился и черновик этого рассказа.
Ещё с год свадебны драгасэности мозолили мне глаза, лёжа на письменном столе в пластмассовой коробочке из-под мятных таблеток «Тик-так». Наконец, не выдержал этой пытки, вышел во двор, разгрёб кучу песка, опустил в ямку колечко и за ним обе серёжки и заровнял схорон.
1983, 1992–2009 годы
«Банкет»
Насвистывая мелодию из оперетты «Летучая мышь», я бодро шагал по правой стороне родной улицы, к Миассу, ведь не бывал на ней с Нового года, когда последний раз гостил у родителей. А сегодня суббота, двадцать пятое февраля. Весна. В напряжённой работе (готовились к посевной соседние колхозы и совхозы, загрузившие нас техникой, требовавшей ремонта) незаметно минуло почти два месяца. В праздник Советской армии я умышленно весь день провалялся на койке, перечитывая «Рождённые бурей» Николая Островского.
Истинная же причина не воспользоваться отпускной крылась в нежелании увидеться с отцом. Обычно он напивался («под закус», по его выражению) и откровенно хвастался, как «гонял войну», сидя в штабе писарем. По молодости лет вначале мне нравились его байки, но постепенно до меня дошло, насколько ловко пристроился, хотя под Сталинградом ему пришлось хлебнуть солдатского лиха, когда их части пришлось драпать из-под какой-то Прохоровки, — еле ноги унёс со всеми своими бумагами, к которым был приставлен. Ещё он поминал недобрым словом «катавасию», в которую попал под Курском. Остальные же военные годы он обрисовывал не без иронии в духе повествований «Бравого солдата Швейка», а «житуху» в Австрии представлял похожей на курорт.
Я фронтовую бойню представлял совсем иной, а захваченную фашистами нашу землю, обильно политую кровью советских солдат, — мостом из трупов и развороченной техники, по которой мы шли к рейхстагу. Об этом, накачавшись «водяры»[501] с пивом, иногда откровенничал солдат Иван Сапожков и те, кто вместе с ним шли по этому жуткому мосту. Их «мемуары» правдивее. А сколько их, упоминавшихся ими, послужили ступеньками тем, кто уцелел, прорвался, дошёл до цели! Так что у меня создалась в воображении совсем другая картина войны и добытой советским воинством Великой Битвы и Великой Победы. Хотя отец и являлся участником и очевидцем этого многолетнего кровавого чудовищного по своей жестокости и количеству жертв всеобщего кошмарного Бедствия.
…Сегодня, по прошествии двух дней, которые отпьянствовал уже без меня «старый солдат» Рязанов, я решил сбегать в Челябу, навестить маму и брата — соскучился. Можно было прийти позавчера поздно вечером, после первой смены, но, чтобы не создавать матери лишних хлопот, перенёс «визит» на два дня позже, и очень удачно: сегодня днём от Николая Дементьевича я получил подписанное и заверенное печатью удостоверение[502] о присвоении мне квалификационной комиссией головного предприятия (шефствовал над нашими мастерскими, которые мы называли заводом, Челябинский тракторный завод) слесаря четвёртого разряда. Документ я намеревался показать лишь маме, зная, как иронично отнесётся к нему отец. В лучшем случае промолчит, в худшем — снасмешничает. И хотя «старый солдат» — так отец себя любил называть в последние годы, как правило, в этот праздник и Восьмого мая, — по его же словам, набирался «зело борзо» и становился непривычно словоохотливым и хлебосольным, на сей раз я не почтил его своим присутствием в качестве восхищённого слушателя.
Вообще-то я стеснялся и опасался выглядеть в его глазах нахлебником или нуждающимся в материальной помощи родителей[503] и долго колебался, пойти домой или нет. Всё же решился. Хотя даже мысль об упрёке выглядела в моём воображении оскорбительно-обидной. Но я заставил себя пойти — долг сына.
А теперь позволю себе кое-что из области предположений.
Если б заупрямился и не заставил себя, жизнь моя в последующие годы была бы иной. Уверен. Но, как говорится, в жизни нет сослагательного наклонения. Или, как любила повторять мама, знал бы где упасть, соломки подстелил бы. Впрочем, крылатое выражение здесь менее подходит. У меня был шанс, и я его…
Мне не хотелось идти домой по нескольким соображениям. Об одном я уже упомянул. Другое: за несколько лет, признаться, мне довольно поднадоели не только байки отца о своих фронтовых делах, хотя я любил читать и слушать истории о прошедшей войне. А отец, подвыпив, повторял одно и то же: как «гонял фрицаков в задницу». Бахвалился.
В конце мая мне исполняется восемнадцать. В этот день я намеревался пойти в райвоенкомат и написать заявление о желании отслужить в армии положенный срок в пограничных войсках — детская мечта (Карацупа!).
И так, конечно, призвали бы. Но хотелось самому добровольно выполнить свой воинский долг. Вот о чём я думал тогда.
Жилось в отряде всем нам напряжённо. Денег едва хватало от аванса до получки, потому что, сказать правду, поручали нашему отряду очень грязную и самую малооплачиваемую работу. Получив разряд слесаря, я надеялся хоть немного подзаработать.
Свой паспорт я не сдал в отдел кадров, получив его по месту челябинской прописки. Поэтому ишачил, как все «крепостные» (как себя называли, кто в шутку, а кто и всерьёз, коммунары). За пределы завода, как положено, ходил по увольнительным и занимал законное койко-место в общаге по липовой справке. В общем, жил (на языке отрядников) на птичьих правах. Для них я оставался «не своим», нечужаком и неблизким по взглядам и образу жизни человеком, но упирался рогами (работал) без филонства,[504] и они меня, «домашняка», в общем-то терпели.
Местные работяги, с которыми мы имели деловые отношения (приёмка и сдача деталей машин и механизмов, совместная работа на некоторых участках), называли нас «колонистами», «детдомовцами» и даже «тюремщиками», из-за чего иногда возникали конфликты. Редко. В основном между молодыми, или, как говорили в посёлке, «мо́лодежью». Действительно, многие из нас прибыли на завод не только из детдомов, но и из ДВТК (детских воспитательно-трудовых колоний), кого-то привозили из отделов милиции, из каких-то «детских комнат». Кого-то доставляли по спецпостановлениям. Словом, разнообразная публика, не пионеротряд.
Порядок в общаге и на заводе мы поддерживаем сами. Не всем это нравится. Кто-то приживался в отряде, нахлебавшись в короткой, но бурной жизни по горло всяких бед, кто-то бесследно исчезал. Не выдерживали. Воровать-то легче, нежели трудиться изо дня в день. Да и работу многим на испытания давали — не пыль с пряников сдувать. Вот кое-кто и сбегал. И возвращался на круги своя. На кичу.[505] Их, «бегунов», прельщала другая, «вольная», жизнь. С приключениями. Безнадзорность: что хочу, то и ворочу. Безответственность.
У меня же постепенно сложились определённые планы на будущее: отслужив в армии, уезжаю в один из новостроящихся городов Сибири, поступаю на работу, на производство, где реально в короткий срок можно получить собственное жильё. Или хотя бы место в общаге — на первое время.
Одновременно со своей трудовой эпопеей заканчиваю ШРМ и поступаю в вуз на заочное отделение. Какой — ещё не выбрал. Вернее всего — в медицинский. Хотя в нём вроде бы отсутствует «заочка». Тогда — в университет, на факультет журналистики либо филологический. Наверное, пойду в журналистику, как напророчила мне тётя Даша Малкова ещё в сорок четвёртом или сорок пятом, когда его открыли. В Свердловске.
К этой профессии давно испытываю притяжение. Рассказывать людям о героических поступках советских тружеников, учёных, воинов, да мало ли у нас достойных дел, о которых необходимо не только писать статьи — поэмы сочинять! Строительство коммунизма — величайшее дело на земле! И мне предстоит внести в него и свой вклад. Пусть крохотный, но вклад. Мой. Личный.
Как здо́рово, что тётя Даша вычитала в заметке местной газеты «Челябинский рабочий» об образовании этого университета и посоветовала (не мне, а маме), чтобы я поступил именно в него.
Тогда мною обуревало стихоплётство, и я начал сочинять немыслимую поэму об единоборстве русского былинного богатыря Коловрата с кочевниками. Когда же мне в руки попала книжица стихов и поэм запрещённого русского поэта Сергея Есенина и я взахлёб прочел и неоднократно перечитал её, то, поражённый несказанной красотой и певучестью произведений гения, навсегда отказался заниматься рифмовкой строк, порвал свои творения, оставив несколько «Посланий М…». Не они были до́роги мне, а адресат. Поэтому и сохранил. Пока. Стихоплётство выпало в горький осадок, и я подумал, что лучше потратил бы «поэтическое» время на чтение интересных книг — больше пользы извлёк бы для своего образования.
Как-то так произошло, что нудную и мало чего мне дававшую учебу в школе заменило беспрестанное чтение, в основном исторической и художественной литературы. И сейчас, живя в отряде, бо́льшую часть свободного времени, как всегда, провожу за чтением книг. И каких! Почти сплошь — шедевры! Самая ценная — мой справочник поиска пути в жизни — «Как закалялась сталь» Николая Островского, в алой обложке с выпукло вытесненным на верхней крышке по диагонали штыком.
Пусть сейчас мало зарабатываю, но все деньги, крохи, остающиеся от необходимых расходов на существование, с удовольствием трачу на приобретение книг. И кое-что отдаю маме. Она отказывается всегда, но я настойчив.
Не знаю, есть ли большее удовольствие, чем чтение. Новые приобретения лежат в тумбочке. После прочтения отвожу книги домой. Всё-таки мой истинный дом на улице Свободы, а не здесь, в общаге с голыми стенами, железными «шконками» и замусоленными тумбочками.
…И вот я бодро шагаю по правой стороне Свободы от Карла Маркса к улице Труда и насвистываю себе. День хотя и не праздничный, но на душе легко, светло и спокойно.
Всё в моей жизни, будущей жизни, которая представляется до сих пор нескончаемо долгой, произошло бы совершенно иначе. Если б я пошёл по левой стороне улицы. Лучше, хуже ли, но не так. Это точно.
Я не верю ни в бога, ни в якобы предначертанную какими-то неземными силами судьбу. Всё зависит от целенаправленности и — немного — от случайности. Как поётся в одной понравившейся мне оперетте: «если повезёт чуть-чуть». А чтобы повезло, нужно трудиться, не жалея сил. Тут всё зависит от тебя, от твоих волевых и умственных способностей, устремлённости, положительных качеств характера, над созданием и совершенствованием которых обязан работать всю жизнь. И не верить ни в какие предрассудки, бабушкины сказки, приметы, предсказания и прочую чепуху. Ты есть результат твоего труда над собой. Хочешь стать культурным — следуй соответствующим правилам, грамотным — учись, образованным — расширяй умственный кругозор, специалистом — для этого существуют вузы, выбирай, какой тебе нравится… И вообще — всё впереди. Человек сам творит свою жизнь. Главное правило — не откладывай ничего на завтра. Завтра — это то, что будет уже без тебя. После тебя. Ты живёшь только сегодня. Сейчас. Поэтому успевай, не упускай! И цель жизни будет выполнена.
…Рассуждая так и чувствуя себя восторженно от быстрой и длительной ходьбы — завод находился близ озера Смолино, а это километров десять, а может быть и больше, пути, а я их отмахал почти полностью — приблизился к роковым воротам с табличкой на одном из столбов «№ 93». За этими воротами во дворе, в нескольких домах, жили знакомые ребята и две-три девчонки приблизительно моего возраста. Двор же с высоченными тополями в глубине его запомнился мне с сорок шестого года, когда поздно вечером, в мае, впервые забрёл в него с несколькими свободскими же пацанами — там громко звучала музыка! Это парень-электрик, работавший в трамвайном управлении на улице Труда, Витькин квартирант, соорудил проигрыватель. На нём прокручивались грампластинки с записями танцевальной музыки тридцатых годов: танго, фокстроты… Танцевать я не умел, но музыку с малолетства любил — наслаждался мелодиями. Поэтому и зашёл в незнакомый двор.
…Сумерки, густо-синее небо, белые платьица девчонок, весёлые лица моментально настроили меня на восторженный лад. Всё внутри меня возликовало.
— Потанцуем! — предложила мне какая-то незнакомая девушка, когда я оказался средь толпы молодёжи, — «концерт», вероятно, длился уже долго.
— Не умею, — стесняясь, признался я.
— Ничего. Я поведу, — сказала она и взяла меня за руки.
Близость девичьего тела опьянила меня, и я, наступая от неловкости на пальцы ног партнёрши, первый раз в жизни поддался очарованию этой близости, стал танцевать… Блаженное состояние охватило моё существо… Прекрасная музыка Иоганна Штрауса моментально зазвучала во мне, и в моём воображении ожили кадры и чудесный, волшебный голос певицы Милицы Корьюз из «трофейной» кинокартины «Большой вальс». В эту певицу, в которую я, ничуть не преувеличивая, малость влюбился, неоднократно пробираясь без билета на просмотр этого «трофейного» фильма в кинотеатре со странным названием «МЮД». Она пронзила, покорила, заполнила, очаровала меня своим неповторимой красоты чудесным голосм. Я тогда вновь почувствовал себя лёгким и счастливым… Потом зазвучали родной голос Клавдии Шульженко, романсы в исполнении Изабеллы Юрьевой… И я, уже не наступая ни на чьи ноги, танцевал и жаждал, чтобы это волшебство продлилось бесконечно долго в этих летних сладких сумерках.
…Сейчас же, подходя ко двору под моим судьбоносным[506] номером девяносто три, я вдруг разглядел лежавшие на обочине тротуара подтаявшие, грязноватые, немного приплюснутые и торчащие острыми пластинами осевшие сугробы — зима хоть и отступила, но ещё не сдалась. Ослепительное солнце проглядывало временами сквозь уже весенние тяжёлые тучи. А во мне звучала та давно здесь услышанная музыка, и захотелось петь.
Скоро, скоро опять всё вокруг зазеленеет и расцветёт, и снова тёплыми майскими поздними вечерами зазвучит душу бередящая музыка и, возможно, опять позовёт меня сюда, в этот обширный двор, под вековые тополя на фоне тёмно-синего неба. И ласковый юный голос, похожий на Милочкин, произнесёт:
— Потанцуем…
Мечты, мечты…
Я ещё не ведал, что самодельный электропроигрыватель давно украден парнем, с которым шапочно знаком и который через несколько секунд шагнёт мне навстречу и в ближайшем будущем принесёт много горя, что он уже совсем рядом, — секунда-другая, и произойдёт эта роковая встреча.
Во мне ещё звучали, не угасая, аккорды, как калитка, с ней я как раз поравнялся, неожиданно распахнулась, и навстречу мне шагнул Серёга Воложанин по кличке Рыжий, в тёмно-коричневом приталенном драповом пальто, каракулевой шапке и сияющих штиблетах, — экипировка блатаря.
Он преградил мне дорогу, шагнув на тротуар, и, выставив ногу впереди моей, дружелюбно произнёс:
— Привет, Рязан! Сколько лет, сколько зим…
Серёга всем своим веснушчатым и мокрогубым лицом излучал радушие, хотя мы были едва знакомы, да и компания, с которой он якшался, была другая, мне чуждая — из приблатнённых свободских пацанов. Единственное, что я помнил: несколько лет назад играли вместе в «конский хоккей» квартал на квартал. Мы тогда проиграли. Бывает. Игра есть игра. Но то, что я знал о Серёге, заставляло меня держаться от него подальше: во-первых, все утверждали, что он вор, во-вторых, по его вине погиб парень по кличке Моня, проигравший Серёге в «кованые»[507] карты какую-то небольшую сумму, но не смог её выплатить, за что и погиб, и, в-третьих, он, Рыжий, происходил из потомственной воровской семьи. Поэтому я всегда старался держаться от него подальше. И вот нежданная, случайная встреча.
Он улыбался, но жёлтые рысьи глаза его исторгали совсем иное — недоброе и настороженное. Или мне, может быть, побластилось? По старой недоброй памяти? Ведь о нём давно распространилась слава как о дерзком на руку пацане. Вдобавок — воре, уже отбывшем какой-то небольшой срок за мелкую кражу. Как выше сказано, по слухам, у него имелась своя компания, с ней никто из моих корешей не дружил или, общаясь, не «возжался».[508] Поэтому редкие встречи наши ограничивались: «Привет!» — «Привет от старых щиблет». Шутка о «старых щиблетах» — верх остроумия Серёги.
Я знал, что он обитает в этом дворе, и только. Никаких общих интересов у нас никогда не существовало.
В прошлые годы, признаться честно, я опасался этого парня, хотя он был всего на год старше меня, но зато обладал драчливым и даже жестоким характером. На его совести, как уже упомянуто выше, и это не было выдумкой — рассказывали свидетели трагического случая, — числилась гибель одного парня, детдомовца по кличке Моня. Он, бедолага, кажется, был сильно глуховат. Поэтому, беседуя, часто переспрашивал, не всё понимал. Этим мне и запомнился. Вероятно, поэтому часто поступал наивно — верил явному обману. На наивности его и поймал Серёга. По рассказам тех, кто присутствовал при роковой картёжной игре, он «просадил» Воложанину, такова подлинная фамилия его, в «буру»[509] крупную (по нашим меркам) сумму. Наступил срок расплаты, а у Мони — ни гроша. Серёга всё настойчивее требовал возврата карточного долга — святое дело. И вроде бы шутя пригрозил: иначе придётся Моне «встать на четыре кости» и «распечатать очко».[510] Этому позору Моня предпочёл иное. Он пообещал, что принесёт деньги и вручит их Рыжему на железнодорожном мосту. Серёга припёрся не один, со «свидетелями».
Они приближались к высоченному мосту, когда увидели на «горбу» его сидящего Моню. Он тоже засёк их, встал, закрыл ладонями глаза — и головой вниз. Под мостом в это время громыхал грузовой состав-товарняк.
Воложанин с кентами не пошёл обозревать «место происшествия». Серёга лишь выматерился и произнёс:
— Сучонок. Забздел очко подставить. Я огулял бы его — и квиты. И живи да радуйся.
Я понимал, что Моня загнал себя в безвыходное положение. И поплатился за свой азарт жизнью. Всё равно: жалко человека. По сути дела, ещё не начал жить полной жизнью, и такой ужасный конец. И нет его, словно и не было. Это в пятнадцать-то лет!
Но суть этого самоубийства, по слухам, сам я не был тому свидетелем: Серёга играл краплёной колодой. Получается, что он явился подлинной причиной трагедии, виновником гибели Мони.
Так это или нет — кто знает? Вроде бы правда. Но после произошедшего случая у меня навсегда отпала всякая охота брать в руки карты. Вот почему я сторонился Воложанина и относился к нему настороженно и недоверчиво. И ещё одно правило я вывел для себя из упомянутого прискорбного случая: никогда не играть в карты и во все другие азартные игры «под интерес».[511] Ни разу в жизни. Если находил деньги или чужие предметы, то либо не брал их, не прикасался к находке, либо пытался возвратить владельцу. Об одной такой забавной находке расскажу в следующем сборнике.[512] Если б я этому правилу не следовал, то однажды, не так давно, попал бы впросак, и, вероятно, крепко.
Опасаюсь, что некоторые читатели сочтут автора хвастуном. Но это правда. Как всё, что изложено в моих рассказах. Это тоже одно из правил, по которым я жил. И продолжаю жить.
За немногие годы, что удалось проработать в журналистике, ни на одну мою критическую публикацию не поступило ни одного достоверного опровержения.
И я этим горжусь. Про себя. Клеветнических заявлений и слухов было много, однако ничто не подтвердилось. Да и не могло быть опровергнуто, потому что всегда следовал лишь Правде. Но это другая тема, и мы к ней вернёмся позже.
В юности я любил всякие поговорки, забавные словечки меткие, потешные выражения — уличную феню (кроме матерных слов, то есть ненормативной лексики), но записывал всё, даже нелюбимый мат, язык, каким его слышал вокруг себя от всяких знакомых и незнакомых людей. И, услышав, не ленился заносить услышанное в карманную книжечку. Она и автоматическая ручка всегда находились при мне. То и другое во время моего ареста присвоил себе (и ещё кое-что) один из оперов.
Но вернёмся к воротам Свободы, девяности три, к тонкогубому улыбающемуся Серёге в тщательно, до сверкания, начищенных штиблетах: шик! форс! У воров — знак отличия.
Да, чуть не забыл: сноровка в чистке обуви у него совершенствовалась с детских лет. Целыми днями в тёплое время года он сидел с ящичком, набором щёток, «бархоток» и баночек разноцветного гуталина на углу Свободы и Карла Маркса возле бывшей, а позднее опять открывшейся пивной, о которой уже упоминал, рассказывая об Иване Сапожкове и его трагически непутёвой жизни. На этом углу Серёжка наскребал семье на жизнь (мать его нигде не работала, а старший брат, по слухам, безвылазно сидел в тюрьме неизвестно за что — Серёга никому ничего об этом не рассказывал). И об отце своём — тоже. В общем, обыкновенная свободская шпана.
Не раздумывая, на улыбчивое приглашение Серёги зайти в гости на «банкет», я ответил резким отказом. Однако это Рыжего не смутило.
— Да ты чево, Рязан, в натуре, как целка ломаешься. Сёдня у меня день рождения. Устроим пацанский «банкет». По стакану чая со сладиньким.
Такой нахрап несколько смутил меня, и пришлось как бы защищаться:
— Мне, Серёга, извини, некогда. С Нового года дома не был. Я пришёл повидаться с родителями со смолинского завода. А завтра вторая — моя — смена, — ответил я достаточно твёрдо, но спокойно, без спора — не хотелось наживать в Серёге врага. Тем более зная его вздорность и злобность.
— Обижаешь, начальник. Ишачить тебе завтра, а ты отказную сёдня даёшь, уважить не хотишь в прозьбе заканать на стакан чайку с сладиньким пошвыркать,[513] — нажимал Рыжий.
— Пойми, Серёга, меня мать с Нового года не видела, на праздник ждала — мать она мне всё-таки. А я по друзьям-товарищам буду шаландаться.[514] Да и не был я у тебя никогда. Ведь мы почти незнакомы, — отнекивался я. — С чего ради я к тебе заявлюсь?
— Ну, не знал я, што ты такой маменькин сынок, Рязан. Именины! У меня, Гоша! Уважь друга, не будь парчушкой.[515]
Друга? Раньше он меня никогда своим другом не признавал: Юрица, Алька (я изменил его кличку, чтобы не попасть в разряд антисемитов), назовём его Жмотом, Толька Мироед — вот его кореша́. И вдруг я ни с того ни с сего стал его «другом».
— Не могу, — держался я на своём. — В следующий раз.
Упорствовал я, смутно чувствуя, что в этом приглашении что-то не то. Да и домой захотелось быстрее попасть.
— Ты, Рязан, выпендриваешься, а люди ждут тебя.
— Кто меня может ждать?
— Кимка Зиновьев, к примеру. Кимка оченно обидится. Сколь вы с ним не видались?
— А что, Ким у тебя в гостях? — удивился я.
— И Витька Красюк. Тебя ждут… Канаем короче.
Ну, Витьке (по-уличному — Витальке) я не ахти как обрадовался, хотя знаком с ним много лет. Даже, помнится, однажды подрался во время игры в бабки — хлыздил он. Жадноватый парень. И очень заносчивый. Непонятно, почему он так возомнил о себе? Никакими талантами Виталька среди свободской пацанвы не выделялся, кроме, разве, задиристости и смазливой[516] физиономии. Хотя был младше на год-три многих из нас. Да и ростом не отличался — с меня.
Сейчас, думая о нём, у меня мелькнула догадка, что пыжится так, считая себя красавцем. Тогда я в мужской красоте не разбирался, слащавые изображения на почтовых открытках, равно как изуродованные старостью лица встречавшихся мне людей, вызывали неприятие. Так что Витька-Виталик казался мне обычным пацаном. Лишь внешность Ароши Фридмана удивила меня необычной привлекательностью, чисто внешней. Ароша — исключение из всех попавшихся на моём жизненном пути тогда. Витька же выглядел как все — не лучше и не хуже. Хотя и прилипла уличная кличка — Красюк.[517] Я его так никогда не называл. И никакой красоты в нём не видел. Но девчонок возле него крутилось много.
А с Кимкой мы ещё вместе в детский сад бегали. Да и после дружили — хорошие у нас сложились отношения. Но ни разу не видел этого безобидного и искреннего мальчугана рядом или вместе с Серёгой — очень разными они были. Если Серёга Воложанин вообще не переступал порог школы, вся его жизнь — улица, то Кимка не только успешно переходил из класса в класс, но и, как я, любил чтение. Помнится, и знакомство этих ребят ограничивалось, как и у меня, — приветствиями! Рыжий корешил с пацанами, которых все свободские подростки признавали шпаной. Кимка Зиновьев вообще слыл домоседом («домашняком») и не пользовался никаким «авторитетом» среди пацанвы. Как и я.
Может, Серёга взялся за ум и поступил на работу? Говаривали, что отец его занимался сапожным ремеслом. Похоже, и Рыжий у него кое-чему нахватался. На какие-то гро́ши прибарахлился же. Угощение гостям купил. И Кимка у него уже чаёвничает, наверное. Так я размышлял в предроковые минуты.
Моё молчание и нерешительность Серёга понял по-своему. Обняв меня за плечи, увлёк за собой, приговаривая:
— Кончай ломаться, как целка. Канаем на хату. Поштефкаем,[518] и к своим предкам побежишь… Седня субота, они вкалывают, а вечерком завалишься — самый рас.
…Если б тогда я мог предположить, на сколько лет совершенно иной жизни, вернее существования, уводят меня «дружеские объятия» Серёги, я, наверное, рванул бы от калитки с небывалой резвостью и скоростью, не оглядываясь, как от бешеной собаки со слюнявой пастью. Но тогда…
С неохотой, с внутренним напряжением, сопротивлением, огромным нежеланием, будто что-то и кто-то удерживало меня, я всё-таки переступил стёртый наполовину порог калитки и вопреки внутреннему неприятию сделал первый шаг на территорию двора. Ох, как много раз впоследствии я вспоминал этот шаг, в прямом смысле — роковой. Эти слова — не оправдание, а запоздалое раскаянье. Осознание произошедшего.
— Не бзди — быстро кончаем «банкет», — утешал меня Серёга, — и разбежимся.
Это «ненадолго» днём позже обернётся четырьмя с половиной годами каторги. По крайней мере, именно такими они мне запомнились на всю жизнь. Откровенно повторяю, если б я мог предположить, догадаться — рванул бы что есть силы вниз по улице, не оглядываясь. Но я не послушал себя, свою интуицию, самого безошибочного советчика и предсказателя: беда ждёт тебя! И поплатился за совершённое против собственной воли. Вернее, по безволию.
Меня тогда, двадцать пятого февраля, честно признаться, задело Серёгино замечание, что я «ломаюсь». Да и мысль мелькнула: чего дрейфить, если «на хате», как выразился Воложанин, ждёт меня мой старый дружище Кимка? Я не задал себе логически напрашивавшийся вопрос: от кого, откуда он узнал, что я возвращаюсь с работы? Как во сне перешагнул невидимую роковую черту, всего-то шаг с тротуара в Серёгин двор.
И до сих пор нет никакого оправдания этому единственному шагу, в нём, как в ящике Пандоры, заключались мои беды почти всей последующей жизни. Одним из «персонажей» этого ящика явился вечный вертухай,[519] который постоянно — и сейчас — стоит за моей спиной.
Я пересилил себя, хотя мне очень не хотелось, повторяю, идти к Воложанину, словно что-то необъяснимое удерживало, не пускало меня, подсказывало: не смей! беги отсюда! немедля!
Но я пошёл, бормоча:
— Ну, если ненадолго…
— Да ты чево заминжевал?[520] Я тебя чо, Гоша, на удавке тащу, ли чо ли? — как будто обиженно произнёс Серёга, остановившись у ворот. — Я приглашаю. Из уважения. Не хошь…
Это был верный «шахматный ход». Мат. Назад я уже не мог повернуть. И поэтому моментально появилась «спасительная мысль»: а что, собственно, в том дурного, если я соглашусь на приглашение?
— Не минжуюсь я, с чего ты взял? Тем более у тебя уже Кимка. А я с ним давно не видался…
Мы проследовали во внутреннюю часть двора, ещё по пояс заснеженного. Сугробы покрыты с южной стороны льдистой бахромой. Низ края протоптанной глубокой тропинки похрустывал под моими кирзовыми сапогами. Узкая, налево, дорожка вела через огородец к хатёнке, с крыши которой свисали сказочной красоты прозрачные, сверкающие в солнечных лучах сосульки разных размеров — в ней обитали Серёга с матерью. Рядом, справа, притулился дровяник. Весна в этом углу почти ещё не началась. В сравнении с улицей. Только разве хрустальные, без капели, сосульки, свисавшие с низкой крыши, — с утра по-зимнему морозило.
Глядя на всю эту красотищу, я никак не мог освободиться от мысли: почему что-то меня останавливает, словно кто-то невидимый пытается препятствовать, а я упрямо пробиваюсь вперёд? Сопротивляясь себе, я, не желая того, не слушая себя, покорно делал шаг за шагом, почти упираясь в спину Серёги, словно отталкиваясь от неё и притягиваясь одновременно.
Взошли на первую ступеньку поскобленного крылечка, и тут же вслед за моим поводырём я оказался в жарко натопленной комнатушке, большую часть правой стороны которой занимала показавшаяся мне огромной, до потолка, русская печь. Нас тут же встретил бурными восклицаниями Кимка, высокий, с пробивающимися тёмными усиками, вставший из-за небольшого стола с лавки и полезший обнимать меня. Успел я скользнуть взглядом по хмурому, с опущенным взглядом, лицу Витальки. Меня равнодушие его не удивило и не оскорбило — он, сколько помню, всегда был таким, особенно став юношей, — девчонки липли к нему: красивый! Но возомнил он о себе гораздо раньше, ещё мальчишкой. Считаю, непомерно лестное внимание к своей особе и погубили его несколько лет спустя. Об этом — не сейчас. Да и это всего лишь предположение.
Я поздоровался со всеми, и в первую очередь — с курносой плосколицей старухой, оказавшейся матерью Серёги. Витька-Виталька что-то буркнул в ответ, не подняв густых, тёмного цвета, ресниц, и я так и не увидел его синих, почему-то всегда мне напоминавших девичьи глаз. Зато Кимка суетился и засыпал меня вопросами.
Огляделся. Почти половину площади «хаты» занимала печь. Треть — уж точно. Сама хата походила на деревенскую избушку, которую мне удалось увидеть в книжке дореволюционного издания: по стенам — лавки, покрашенные тусклого цвета зелёной краской, стол, как бы продвинутый вглубь, находящийся довольно близко от жерла печи; справа от стола — кровать с множеством, пирамидой, подушек и подушечек. Вот и вся обстановка. Справа же, ближе к торцовой стене, небольшой уголок, задёрнутый пёстрой занавеской. Там, вероятно, хранится посуда. И прислонена в две ступеньки лестница (приступок), ведущая на верх печи, на лежанку.
Ни одного стула или табурета, только лавки по стенам с облупившейся и местами вздувшейся краской.
Судя по всему, семья Воложаниных жила бедно. Да и откуда взяться достатку, если отца нет и неизвестно, где он, жив ли, умер ли, или мается по тюрьмам, — о нём Рыжий никогда никому не заикался, а старший брат, с которым я не был знаком, по слухам, сидит в тюряге. Давно. Никто не знает, за что. Словом, пошёл по стопам отца. А куда устремился Серёга? Тогда я об этом даже не подумал. И вообще такой мысли не возникало.
На какие шиши существует семья Воложаниных, трудно угадать. Может быть, в деревне у них имеются родственники и они помогают им продуктами питания? Но я-то ничего об этом не знаю. Возможно, Серёга взялся за ум и принялся за работу. Ведь мать его нигде не трудится и никаких доходов не получает. Кто её должен кормить? Сын. А о деревенских родственниках — был такой слух. Но лишь слух.
Вероятно и то, что мать Серёги занимается шитьём. Подрабатывает. Слева, в дальнем углу, я сначала не заметил её, красовалась ножная швейная машина «Зингеръ», покрытая старой шалью.
Словом, некая необъяснимая, сильная тревога охватила меня, самого предмета опасности или следов его совершенно не наблюдалось и даже не угадывалось. Тем не менее так и подмывало исчезнуть из этой деревенской хатёнки, особенно когда в завязавшемся разговоре встретился взглядом с такими же рысьими жёлтыми глазами Серёгиной матери. В них светилось что-то хищное. Как и у сына её. Или мне всё это бластилось?[521]
Но путь к отступлению виделся мне напрочь перекрытым. Невозможным представлялось схватить в охапку свою одежду и выскочить на улицу и бежать, бежать домой, чтобы только пятки сверкали. И это была не боязнь — кого мне бояться? Предчувствие.
Подобные, почти панические, предчувствия возникали у меня и раньше, но не столь настойчиво и сильно… Когда Толька Мироедов, Витька Тля-Тля и пацан-дылда по кличке Голыш (может быть, потому что фамилия его была Голышев, но, вероятнее всего, из-за бедности получил прозвище — и летом и зимой ходил в рванье, полуголым) заманили меня, чтобы отлупить и отобрать кольчугу. Я чувствовал опасность, исходящую от них, хоть Толька и лебезил передо мной, улыбался во всю рожу. Мне удалось отбиться от них даже при таком неравенстве сил и даже когда в руках Тольки оказался дрын, который он ухватил за противоположный конец одной рукой и сопротивлялся ногами и свободной рукой.
Ярость овладела мной, тринадцатилетним (если не запамятовал год драки) мальчишкой, и я успевал отвечать на многие удары нападавших. Первым отступил бедолага Голыш — заплакал, вслед за ним отскочил и бросился наутёк к воротам Мироед — ему, кажется, не перепало совсем, потому что он норовил забежать сзади и ударить в спину. А вот Витька получил то, на что я был способен в ярости, — вся морда была в крови. Мне досталось синяков, ссадин и кровоподтеков больше всех, и я долго ходил «разукрашенным». Но дело не в этом. Почему мне удалось угадать задуманную ими расправу, ведь ни один из них о своём замысле не проговорился и виду не подал? Предчувствие. То же я испытал и сейчас, хотя подобного вроде бы не могло случиться. И пренебрёг. Не переборол себя.
Сев рядом с насупленным Виталькой, я не почувствовал себя спокойнее. Сколько знал его по нечастым встречам, всегда в нём проглядывало недовольство или агрессивность. По-уличному таких пацанов называли залупистыми. Ему и кличку-то на улице дали Витька Залупа,[522] кроме Красюка.
Никаких особых талантов за этим смазливым мальчишкой никто, кроме девчонок, не замечал. Зная это, он «выпендривался» открыто, напоказ. Однажды — а я всего-то мать Витальки видел два-три раза — мне запомнилась эта встреча тем, что она называла его самыми ласковыми и нежными словами, упрашивая пойти домой, а он ей, нахмурившись, отвечал довольно грубо. Видно было, что она в сыне души не чает, любит его до унижения. Впрочем, она этого, уверен, не осознавала. Трудилась на каком-то производстве простой рабочей. Странно, что об отце Витька тоже никогда не упоминал. Ни словом. Я думал, что он сражается на фронте, но вот минуло четыре года, а они так и продолжали жить вдвоём. Правда, с квартирантами. Чтобы не впасть в крайнюю невыносимую нужду. Впрочем, недавно Витька устроился на завод, вроде бы учеником электрика. От знакомых пацанов узнал, от самого буки[523] трудно было что-либо выведать — он в ответ лишь грубил. Поэтому и сейчас наша беседа прекратилась быстро. Я с ним вообще давно не дружил. Да и большинство ребят его не уважали за колкости, которые он отпускал и в мой адрес: достойным осмеяния ему казалось «дурацкое» моё пристрастие к книгам. С презрением и ехидной улыбкой он произносил: «Учёный!» А иногда и похабные слова. Он презрительно цедил их сквозь зубы в адрес тех, кто, по его понятиям, слшком много знает, да ничего не умеет!
В детстве, в голодные военные годы, я помогал ему (несмотря на то, что тогда он относился ко мне — и не только — снисходительно-презрительно), ловить зимой в огромном старинном саду певчих птиц: синиц, щеглов, жуланов, снегирей. По его просьбе. На продажу.
Певунов он продавал на птичьем рынке, прирабатывая на хлебушек. К пайке в триста граммов.
…Я бы не стал подробно рассказывать о Витальке и других, с кем свёл меня случай за столом в хатёнке Воложаниных, если б это, казалось, мало чем примечательное событие (якобы именины Серёги) не повлекло за собой череду непредсказуемых ударов судьбы, а по здравому размышлению — должно было со всеми нами случиться. Даже то, что казалось мне совершенно невероятным, диким, противоречащим здравому смыслу жизни — всё стало возможным. Оно, случившееся с нами, соответствовало правилам, устоям существования нашего почти коммунистического общества. Только мы ничего этого не знали, наивные, полуграмотные, имеющие мизерный практический опыт, совершенно беззащитные перед жестокостями жизни — той, другой, в бригадах рабов за «колючкой» — подростки, младшему из которых (Витьке-Витальке) исполнилось шестнадцать. Кимке — семнадцать, мне — без нескольких месяцев восемнадцать, и лишь Серёга родился в тысяча девятьсот тридцать первом году. Он, единственный из нас, перешагнул грань совершеннолетия и уже познал суровую действительность «другой» жизни, но опыт этот не пошёл ему впрок. Как подтвердило всё его дальнейшее существование (скончался от запоя в семьдесят шестом году), ничто не могло изменить его натуру в лучшую сторону, он ещё дважды побывал в заключении, принеся кому-то горе, — наследственность, полагаю.
…Однако вернёмся в хатёнку Воложаниных, на лавку, ведь на столе уже поёт чайник и по количеству персон расставлены разнокалиберные кружки и стаканы — сейчас начнётся «банкет». Это слово произнёс именинник. Но, воспользовавшись последней минутой до начала торжества, я ещё немного расскажу о Витальке. В один из дней мне надоели его озлобленность и высокомерие, как говорится, плешь переели, и я перестал с ним водиться, или «якшаться», то есть по-русски сказать — дружить. Произошло это несколько лет назад.
Возможно, такой скверный характер у пацана образовался, потому что мать очень любила своего Виталика. Души в нём, ещё повторюсь, не чаяла: он самый умный, самый красивый и вообще лучший из всех. Не имею оснований укорять тётю Валю — таким она видела сына и внушала это ему. Чтобы хоть как-то просуществовать, в своей двухкомнатной квартире на первом этаже (бывшей веранде) она устроила два жилища и одно сдавала одиноким нуждающимся. Хоть небольшое материальное, да подспорье семье.
За сына своего тётя Валя буквально дрожала: как бы чего с ним не случилось, будто всем своим материнским, бесконечно любящим существом предчувствовала неминуемо надвигающуюся страшную беду и бессилие, невозможность её предотвратить. А он, тот, кто готовил эту беду, был всегда рядом и наготове свершить своё дело. Но об этом — после, по порядку. Осознал это я много позже, когда одна катастрофа со всеми нами произошла, но ещё Витькина трагедия не свершилась. И я предупреждал всех друзей по несчастью начать новую, честную, жизнь после освобождения нашей компашки летом пятьдесят четвёртого. В открытую. И яростно опровергавшуюся Серёгой — он упрямо старался сколотить из нас преступную шайку — такая у него была цель.
Ну ладно, не будем забегать вперёд.
…Сидим на лавках, болтаем.
Кимка, всегда приветливый и простецкий в общении, готовый помочь любому словом и делом, подхватил инициативу разговора, и полилась непринуждённая беседа, потешные случаи вспомнились из далёкого прошлого, байки… Верно предсказал Серёга, «компашка» организовалась вполне совместимой — даже Виталька размягчился, кое-что о себе рассказал: интимное. Это откровение вызвало у Кимки большое любопытство — девственник.
…Уверен, за свои семнадцать Кимка никого не обидел и плохого слова не вымолвил — такой у него характер был сызмальства, так относился и относится к окружающим, сказывается воспитание родительское. Я знал лишь отца Кимки, мастера ЧТЗ, очень приветливого и доброжелательного человека, убеждённого коммуниста, испытавшего всякие партийные «чистки» и «вычистки». В последующие годы я упорно возвращался к вопросу: какую роль сыграл Кимка в нашей беде? Подозревал. Но напрасно. «Сдал» всех нас другой — вор-карманник и сексот по кличке Ходуля, который, догадываюсь, принял участие и в провокационном хищении ящика халвы из магазина — вместе с Серёгой. Да его и так, без меня, тюремные Шерлоки Холмсы высчитали. Куда он, прожжённый щипач, после этого разоблачения делся, не знаю. Возможно, задушили, а то и зарезали. А возможно, надрючил офицерские погоны и стал одним из «гадов». Впрочем, преступник навсегда остаётся преступником, что бы он на себя ни напялил, — лепёху, мундир ли, фрак ли нового русского. Однако ни по одному из приписывемых созданной милиционерами шайки «дел» он не проходил. Никем.
Если у Витальки не было отца, вернее, он был, даже проживал (свободские пацаны разузнали) где-то недалеко с другой семьёй, о которой никто ничего толком не мог сказать, то родитель Кимки слыл знаменитым человеком, ценным работником завода (его поэтому и на фронт не взяли), награждённым несколькими орденами! А в тылу ими не часто и не очень многих награждали — только за настоящие героические дела. За что именно, Кимка, несмотря на свою говорливость, держал язык за зубами. О работе и отце. А мы, пацанва, всё равно разнюхали: отец Кимки делал танки!
Кимкиного отца мы, хоть и соседи, видели очень редко. Он по несколько суток не выходил из цеха. Тогда такое поведение считалось обычным.
Последний раз я с ним встретился до наступления Нового года. Поздороваться лишь успел, да на ходу поговорить — переброситься парой фраз.
— Здравствуйте, золотая наша смена! — поприветствовал он меня и дружески потрепал по плечу. Поговорили очень коротко о моих планах на будущее. Я протараторил о заветном желании послужить в пограничных войсках. Он в этот момент словно отключился. Задумался о чём-то своём. И спешно продолжил свой путь. Что было заметно — отец Кимки за последнее время не то чтобы похудел — стал каким-то прозрачным. Высосала, видать, из него жизненные силы непосильная, на износ, работа — многолетняя, безостановочная, не знающая отдыха карусель.
На самом деле Кимка хлебал ту же безотцовщину, что и Виталька, и Серёга, и Вовка с братишкой Генкой, и Алька Каримов, которого по-настоящему звали Али, и Игорь Кульша (но у того хоть отчим был), и многие другие мои друзья и знакомые пацаны, жившие в округе. Отцы их или занимались каждый своим делом, или их совсем не было рядом: сидели в тюрьмах, погибли на фронтах войн, бросили, умчавшись искать своё личное, «воробьиное» счастье, расстреляны как «враги народа», или погибли в «исправительных» лагерях, или… В общем-то и я себя осознавал последние годы ненужным в семье. Вернее, нужным, но мешающим отцу жить так, как он того желает. И это сознание отринутости грызло меня, унижало. Но я терпел. Потому что у меня была мама. Которая меня, несмотря ни на что, любит и жалеет, заботясь. И сознание этого поддерживает меня. И не даёт впасть в безысходное уныние. И ещё — братишка. Славка. Родной, любимый человек. Нуждающийся в моей защите. И наставничестве.
Но едва ли не главным, кто радовал всё моё существование, была Мила. Как мне повезло в жизни, что она просто есть, существует, и я могу её видеть. Я это повторял про себя бесчисленное количество раз. Больше мне от неё ничего не надо. Ничегошеньки! Лишь иногда встретиться с ней на дорожке, ведущей к «парадному» крыльцу, взглянуть на её прекрасное лицо, и голосом, дрожащим от волнения, произнести два слова:
— Здравствуй, Мила!
Слишком часто упоминаю об этой удивительной девочке, но что с собой поделаешь! Она и сейчас, более полувека спустя, наполняет меня чистой радостью и навсегда запечатлённой лучезарностью. Дня не проходит, чтобы не вспомнил о ней, не увидел мысленно её немеркнущий образ. Выходит, я пронёс его через всю свою, не сказал бы лёгкую, жизнь. Читателю, вероятно, трудно поверить, но (и это правда!) я вижу Милу и в той, кого люблю сейчас.
…Я уверовал, что выдержал испытание: почти два года живу самостоятельно. Взрослый человек! Я никому не признавался, что жизненные планы уже продуманы и составлены на много лет вперёд. Они придают мне уверенности в себе, существующему сейчас, по сути, на птичьем положении. Временно, разумеется. Скоро всё должно измениться к лучшему. Как намечено. Независимость — великое дело. Стимул. Сейчас попьём чаю и бегу домой. Я свободный человек. Сам себе хозяин. И сам за себя отвечаю. За слова, поступки — за всё. Я сам создаю себя как самостоятельную личность. Как это здорово осознавать!
В беседе с Кимкой быстро время летит. Вот только часов наручных у меня нет. Не накопил деньжат. Мечтаю купить такие, как на картине Николая Ивановича, — со светящимся циферблатом.
Оглядеться не успел — Серёга в охапке тащит дощатый, снегом заляпанный большой ящик — и бух! на стол.
— Жрите, братва, от пуза! Сколь влезет! Сёдня праздник — гуляем по буфету!
И вынимает из раскуроченного ящика здоровенный кусище халвы.
И хотя до этого мы выпили одну, а вслед за ней и другую, трёхлитровые банки мутной бражки, которую нам услужливо разлила по стаканам и кружкам мать Серёги, приговаривая:
— За здоровье и долгие годы жизни сына уважьте! — до меня не сразу, но дошло-таки: откуда у Рыжего появился ящик восточного лакомства? Если он взялся за ум и поступил на производство, вряд ли на свои кровные купил нам это угощение. Следовательно, украл. И мы сейчас пожираем краденое!
Кимка весело вгрызался в кусок халвы, Виталька тоже рядом с собой положил ещё один. А Серёга ударами мясницкого ножа, с мокрой улыбкой на губах, откалывал новые, и крошки разлетались по полу. Так со своими продуктами не поступают. И ещё мне вспомнилось, что нас он назвал «братвой». А так друг к другу обращаются блатные.
Первым желанием было встать, схватить свою одежду и броситься к дверям, а дальше по хрустящим льдышкам, по снежному коридору — к калитке, на улицу и бегом по тротуару — домой! Ведь не кинется же это желтоглазое чудовище вслед за мной с месарем![524] Но я ни с места. Не позволяет осуществить здравое.
И вот они, эти рысьи глазищи, вглядываются в меня:
— Ты чево, Рязан, надулся, как мышь на крупу? — заметил мою неуверенность Серёга.
— Да нет, я ничего. Домой пора. Меня там ждут.
— Брось херню пороть. Завтра домой пошкандыляешь. А щас жри и пей. Тебе налить? Чекалдыкнешь стаканчик?
— Я уже и так надулся до предела, аж мутит.
— Мамка на табаке брагу настояла. Для крепости. Ежли слабак — лезь на лежанку. Тама очухаешься.
Перед глазами плыли какие-то красные круги. Но веселее мне не становилось.
— Чо, брезгуешь, халву не хаваешь?
Я взял кусок, откусил, стал жевать.
Кимка, святая простота, чуть не завизжал от восторга:
— Ну, Серёга, даёшь! Где это ты такой дифсит достал? До войны последний раз такой цимус[525] пробовал.
Серёга с достоинством, и даже важностью, ответил:
— Надо уметь козу еть, штобы не брыкалась.
А Кимка, опьянев, продолжает умиляться!
Нехотя потянулся за откромсанным ему разбойничьим ножом куском Виталька, будто недовольный чем-то. Мало, что ли, показалось? Режь ещё!
У меня опять мелькнула мысль:
— А в самом деле, где Серёга мог раздобыть такое обилие сладости? Может быть, выиграл в карты?
Мелькнула и как бы исчезла. И всё-таки… Опять тревожно стало: не в сомнительном ли деле участвую?
— Рубайте,[526] чево вы, как целки, ляжки зажали? — поднукнул Серёга. — Чай, на день рождения приканали! Гужуйтесь![527]
«Неприлично вообще-то подозревать: человек от души угощает, а я чего-то придумываю, выискиваю, подозреваю. Ведь и мать Серёги нас потчует. Она-то не станет гостей краденым пичкать!» — разуверил себя я.
— Ешьте, ребята, досыта ешьте. Вы хоро́ши наши суседи, дружки Серёжины, — подтвердила мои оправдательные предположения Воложанина.
Я взял ещё один ломоть халвы. Поблагодарил.
Вкусной оказалась свежая, мягкая халва с горячим чаем. Я ведь тоже не пробовал её с последнего довоенного года.
…Далее общая беседа оживилась. Даже Витька-Виталька молча, но явно с удовольствием уплетал лакомство, щепотками отправляя в рот рассыпанные по столу крошки. Подумалось опять: «Чего он такой надутый, почему ко всем недружелюбен?»
Я доконал свою порцию, шатаясь, сходил и помыл липкие пальцы под рукомойником, который оказался за занавеской в правом углу, у входа. Вернулся за стол.
Но мысль, назойливо кружившаяся в голове, не давала покоя: не «вертанул» ли ящик Серёга с проезжавшего по улице продуктового фургона — распространённая и старая забава свободских вороватых пацанов? После того как охранник застрелил «вертилу» Федю Грязина, жившего в комнате барака, поставленного во дворе номер двадцать восемь по нашей улице, я думал, что пацаны одумаются и перестанут охотиться и грабить повозки с хлебными ящиками, которые в очередях ждали старухи, голодные дети и женщины, — не тут-то было! Грабежи продолжались как ни в чём не бывало. Удивительно! Если халва того же происхождения… Тогда получается: я участвую в поедании краденого? И от этой догадки стало так погано на душе. И даже обречённо. Вот почему мне не хотелось идти сюда, вот что меня не пускало, удерживало!
Серёга тем временем распространялся о том, что нам надо крепче «корешить», чаще встречаться, бывать друг у друга и стать настоящими «друганами», надёжной «компашкой». Какой смысл он вкладывал в слово «надёжность», остался без объяснения. Лишь Кимка, изрядно захмелевший, по-своему, весело, расшифровал его:
— Один за всех, и все за одного!
Нутром почувствовал, что Серёга затеял с нами что-то неладное, и решил не влезать в предложенную и организуемую им «компашку». Представляю, во что она превратится, наша компания, если халва краденая. И чем подобное «дружбанство», как правило, заканчивается. Зачем мне всё это нужно? Зачем принял участие?
Постараюсь не наведываться домой к Воложаниным и не встречаться с Серёгой, а там и служба в армии на целые три года. Далее видно будет. Жизнь покажет. Может быть, Серёга и исчезнет с моего жизненного горизонта вообще. Навсегда.
— Што ты, Гоша, зажурился? — с неискренней улыбочкой спросил Серёга, как-то уж очень весело.
— Спасибо, Серёга. Маме твоей — тоже. За угощение. Мне пора домой, — с облегчением произнес я.
— За моё здоровье одну-то рюмку хряпнешь, а? — с укоризной спросил он и водрузил на стол заранее приготовленную литровую бутыль самогона. — Праздник, в рот меня теляпатя, а ты, как к жмурику на похороны, завалился, — уже со злостью заявил Серёга.
Мутная жидкость в посудине не оставляла никаких сомнений, что это за пойло. Я ещё в школьные годы, однажды попробовав спирта с тройным одеколоном, чуть не умер. От отравления. Врач заявила маме, что мною принята смертельная доза алкоголя, и она ничем помочь не может. Но мама беспрестанно накачивала меня, кажется, марганцовкой. И организм, вопреки всему, выдержал. Но из школы, где произошло то безобразие, меня, естественно, выгнали. И справедливо. Как и отвращение к алкоголю. Поэтому не любил спиртное — не шло оно в меня, исторгалось. Поэтому обратился ко всем веселящимся.
— Ребята, извините, не могу я водяру пить. Душа не принимает, — откровенно признался. — Сблюю.
— Ну, Гоша, ты сёдня всю дорогу, как целка, хуй в ляжки зажимаешь, — уже с явным раздражением произнёс Рыжий, и глаза его стали свирепыми, как у кота, напротив которого сидит его противник, готовый к нападению.
— Ладно! Раз такое дело. Требуете — могу не выдержать и сблевать, — вторично предупредил я, подняв вместе со всеми полный стакан. У Воложаниных и рюмок-то, вероятно, в обиходе не имелось. Глотали по-блатарски — разными посудинами, из чего придётся.
— Алкнули по первой — за дружбанство! — произнёс тост Серёга, показавшийся мне совершенно трезвым. То ли он наливал себе что-то другое вместо самогона, то ли был настолько крепким, что не пьянел.[528]
Я толкал в себя вызывавшую рвотные спазмы противную жидкость и думал: лишь бы не поперхнуться — всех испоганю. И огромным усилием воли заставил себя совершить почти невероятное: мелкими глотками опорожнил стакан.
— Ну вот, а базарил: не полезет! Это только у девки не полезет в первый раз, а хорошо нажмёшь — как по маслу проскочит. И запищать не успеет. А ты какой цимус засосал? Первач! На дрожжах! Первый сорт! Первачок!
Долго я не мог отдышаться. Кимка — тоже. Виталька быстрее всех нас осушил эмалированную щербатую кружку и сейчас насмешливо наблюдал, как нас корчит. Видать, тренированный — давно с Серёгой дружит. А у них бражка не переводится, можно предположить.
Закуской нам служила та же халва.
Первым разговорился — неожиданно — Витя. Он, оказывается, работал в трамвайно-троллейбусном управлении учеником электрика у своего квартиранта, парня постарше. Мужчин в таком возрасте, за двадцать, мы, пацаны, называли «молодяками».
Сейчас Виталька (это имя, уверен, и было его настоящим, а Витькой упрощённо называли улица, пацанва) травил байки из жизни, естественно, своего коллектива. В каждом его рассказе отчётливо звучали насмешки, уничижения других, издёвки и даже похабщина. Время от времени анекдоты его «украшались» матерками, чего я терпеть не мог: зачем поганят свой язык? И я понял: никаким другом он мне не будет. Как и Серёга. Разные мы слишком люди. И вообще, до меня дошло, что здорово прокололся, забурившись в эту «компашку». Как сюда попал бедолага Кимка, простая душа? А вот и он, лёгкий на помине, отец Кимкин, пожаловал к нам, вернее к Серёге, в гости. В телогрейке, вероятно с работы. Даже не переоделся. Значит, Кимка предупредил домашних, к кому он подался. Отец Кимки со всеми нами поздоровался. Его тут же мать Серёги принялась угощать, но он, что мне запомнилось, отказался от предложенного выпивона. А далее — всё, словно в тумане. Как я забрался на полати — не помню. В ушах лишь дребезжали без конца повторяемые слова гостя:
— Золотые вы наши кадры![529]
Тошнота подступала к горлу (какой гадостью напоила нас мамаша Серёги?), и я опасался самого страшного: вдруг меня вывернет наизнанку? Вот позор-то будет! С трудом мне всё-таки удалось подавить подступающую к горлу бражку с халвой, и я уснул.
Утром меня разбудила курносая Серёгина мамаша, её физиономия возникла из-под занавески.
— Вставай, Рязанов. Небось, на работу пора/?
Я не сразу сообразил, где нахожусь, резко поднялся и больно ударился головой о низкий потолок.
На предложение Серёгиной мамаши опохмелиться я лишь отрицательно и мучительно покачал головой.
Успев перешагнуть порожек калитки, успел сбежать с крыльца, как со мной произошло то, что сдерживал ещё с вечера, — выхлестало.
…Домой я устремился лишь с одной мыслью: отлежаться, чтобы прошло это отвратительное состояние. Меня беспрестанно терзало и осознание своего нелепого поступка — я совершил непростительный просчёт. Поддался уговорам Серёги. Ну зачем мне всё это нужно было? Безвольный глупец!
На ошибках следует учиться, извлекая из каждой пользу для себя. А ещё лучше анализировать просчёты других. Но уж коли сам сглупил, то повторения её, этой глупости, следует всячески избегать. И осознал — ни за что не подчиняться чужой воле. Жить своим умом, пусть даже маленьким, обыденным, мещанским — каким угодно, но своим.
«Необходимо тщательно разобраться в каждом, прежде чем назвать его другом. Вон на заводе сколько ребят со мной трудится, а много среди них настоящих друзей? Валя Бубнов, Коля Мыло — раз-два, и обчёлся. Человек проявляет себя не столько в словах, сколько в поступках. Вот истинная мера, — повторяясь, философствовал я. — Серёга мне не друг. Забудь! Вычеркни его из своей памяти. Навсегда. Но одно дело — раскаяться».
…Постепенно, как из тумана, стало проясняться вчерашнее.
«Странно, — подумал я, — что отец Кима в наши разговоры не вмешивался, а как молитву повторял: «Золотые вы наши кадры!»
А эти «золотые кадры» трескали халву из искорёженного ящика, лежащего на столе. Отец Кимки понял, конечно, всё.
— Знаете, ребята, — вдруг неожиданно для себя заплетающимся языком вымолвил я. — Едва ли нам придётся встретиться. В дальнейшем. И стать друзьями. Это большая ответственность. И есть веские причины.
— Почему? — воскликнул Кимка. — Гоша, ты мой друг!
— Хуйня — все ваши причины! Севодня сходка всех нас повязала, Рязан, — недобро зыркнув на меня, процедил Серёга. Его с восторгом поддержал Тимка и неопределённо промолчал Виталька.
— Ежли мы скорешились, — сказал Серёга, — заднева ходу нету. Чево ты бздишь, Рязан? Знаешь: уговор дороже денег. Или мамку боисся, што сику надерёт?
— Мать тут ни при чём. Я живу в коммуне с бывшими пацанами-колонистами. У меня на заводе есть кореша́. Я с ними кусок хлеба зарабатываю. Детдомовцы бывшие, — уже теряя связность мыслей, откровенничал я.
— Во, лады! Добрые хлопцы? — Наступал Серёга. — Из ИТК есть? Волоки их сюды. Я сам у «хозяина» срок отволок… — с достоинством признался Воложанин.
— Серёжа, мне через три месяца — в армию.
— Можно касануть.[530] На хрен собачий тебе сдалась эта армия? Лучче кажный день гулеванить марух шворить, чем с дударгой[531] бегать. А ежли в вертухаи запишут? Што люди[532] скажут?
— Как? Не понял, — окончательно опьянел я.
— Я сичас, братва, притырю, — сказал Серёга и почему-то сграбастал ящик с остатками халвы и, даже не шатаясь, вывалился из избёнки. Уже темнело. Но мне в небольшое оконце, возле которого сидел повторявший заклинания отец Кимки, видно было, как Серёга сбежал со ступенек крыльца и сунул ящик в сугроб, притоптав его снегом. Я почему-то никак не среагировал на этот поступок. Вернувшись, он пояснил:
— Штобы ни испортилася.
Эту сцену наблюдал, как я после догадался «кто-то ещё». Да и отец Кимки был убеждённым партийцем. Он вполне мог догадаться о происходящем. И догадался, наверняка.
Наша участь была определена хотя бы потому, что в каждом дворе обитала местная «тётя Таня». Или несколько. Это подозрительное действо Воложанина не ускользнуло от её (или их) бдительного взгляда. И потому, повторю, мы были обречены.
Все мы, исключая мать Серёги да папаши Зиновьева, изрядно набузгались.
Серёга произнёс:
— Ну, давайте, дружбаны, по последней на дорожку чекалдыкнем и разбежимся. А то чичас Валя за Витькой прибегит.
— Надоела она мне, — поморщившись, с пренебрежением произнёс Витька. — Во!
Виталька жил в соседнем двухэтажном, плотнонаселённом доме, окнами смотревшем на улицу (только не Витькиной квартиры), а два входа вели в него со двора. Один коридор — или веранда — нижнего этажа давным-давно переоборудовали в квартиру, длинную и узкую, опоясывавшую дворовую часть г-образной стороны дома. Тётя Валя не заставила себя ждать и вскоре, как я улёгся на полати, постучала в сенную дверь. Она выглядела немного испуганной. Ласково называя сына Виталиком и «радостью моею», она помогла ему одеться, но тот упирался, капризничал, хамил, словом — «выступал».
— Я тоже пойду, — вымолвил я заплетающимся языком.
— Такой бухой? Да ты, Рязан, на костылях[533] еле стоишь. Завалишься в канаву. А помацай[534] печку — какой Ташкент! — увещевал Серёга. — Утречком опохмелимся по капелюшке — и как новые ботинки на резиновом ходу…
Это Серёга так шутил. Вся свободская уличная пацанва горланила, пищала и сипела знаменитую частушку про ботинки на резиновом ходу и слова из неё употребляла, как поговорки. Похабщина — липкая, пристанет — не отдерёшь. Будет, как испорченная пластинка, долго крутиться в голове.
— Помацай, кака печка горяча. Сичас на лежанку забуримся с тобой. Утром — как зелёный огурец. Тебе чево дома-то в жопу нада? Один хипеш: где был, што делал, где кирнул?[535] Короче: кончай со своим домом пиздеть — вота твой дом.
— Из еды кое-что подкупить: хлеба, маргарина, если повезёт… — бормотал я.
И тут как раз отец Кимки закончил свою «молитву» о «золотых кадрах» и увёл его с собой. Вскоре прибежала тётя Валя, и ей удалось выманить хамившего ей сына из избушки Воложаниных — она умолила Витьку последовать за ней. Тётя Валя постоянно боготворила своего единственного сыночка-красавчика. Кто был его отцом, лишь одной ей было ведомо, где он находился, Витька никогда не заикался, у уличных же пацанов не было принято дознаваться о родителях, если пацаны сами не рассказывали о своих «предках».[536] Во время «визита» тёти Вали, хотя мне было очень муторно, я подумал: «Это она внушила сыну, что он самый красивый и умный, и поэтому Виталька с таким презрением относится к другим. И с ехидством».
Вдвоём мы устроились на тёплых полатях. Я сильно захмелел. Меня, когда я закрыл глаза, мотало и мутило. Кружение не сразу, но вроде замедлилось. А то всё казалось, что через голову переворачиваюсь. Странное ощущение. И постоянно подкатывал ком к горлу. Последними моими словами, обращёнными к Серёге, были:
— А куда мама твоя ляжет? Надо подвинуться теснее…
— Не бзди, Гоша. Она спит на кровати.
Успокоенный таким ответом, я всё равно ещё долго не мог уснуть. Уморился под утро. Сильный вкус махорки обжигал желудок. Наверное, её добавляли в зелье для крепости. Смышлёна голытьба на выдумки! Раскаялся, что пил эту мутную бурду, — не посмел отказаться. Да и возможно ли было такое? Уверен, никто меня «не понял» бы, не поддержал. Но зато, забегая вперёд, призна́юсь, что несколько лет не прикасался к спиртному, хотя были моменты, когда мог напиться, — отказывался. Помнил «банкет».
Всё — к Серёге больше ни единой ногой. Иначе он меня поработит. Втянет. Во что? Разумеется, в свою компанию. И придётся мне бегать от него, как зайцу.
Так я рассуждал, уже продвигаясь к нашему дому. Каким уютным и желанным виделся он мне мысленно в сравнении с деревенской избёнкой Воложаниных, в которой мне всё сейчас казалось чуждым. И сами её обитатели с хищными глазами лесных зверей.
Зайдя во двор, передумал передохнуть дома — лишь заскочу на минуту, положу на стол удостоверение, полученное вчера, пусть мама увидит, вернувшись вечером с работы. Хотя сегодня воскресенье, и, вернее всего, она дома. Как же я покажусь ей в таком похмельном виде? Но я постараюсь не задерживаться долго, скажу, что спешу, оказался в Челябе по случаю. Отдам удостоверение — только лишь. И на завод, в отряд. Надолго. Больше меня на аркане к Воложаниным не заманишь. Всё. Крест. На этом наша «дружба» закончилась.
Головная боль ослабела. Пройдёт! Но всё же — какая гадость!
О Миле старался не думать, может быть потому, что чувствовал себя отвратительно. И виноватым. И старался забыть вчерашний вечер: всё с ним связанное, что его касается, — забыть! Вспоминать даже противно. Хотя независимо от моих волевых усилий, в воображении как на экране кино, прокручивались обрывки «банкета», возникали рысьи глаза Серёги и его мамаши, — сумасшедшая пьянка (мне ещё ни разу не приходилось так «накачаться», разве что тогда, по глупости, в третьем классе) с нелепо сладким закусоном. Наверное, день-два эти кошмары будут меня преследовать, а потом работа и заботы вытеснят их. Про себя я осуждал своё безволие и глупость и, переступив-таки порог нашей калитки, пошукал ключ, оставляемый под половичком, лежащим на ступеньке.
Двери оказались незапертыми, и неудивительно — воскресенье, вся семья в полном сборе. Только я и предположить не мог, что вижу их всех вместе в последний раз в жизни.
Капкан
Нет, этого я ещё не осознавал. Не мог признать… Вычеркнул!
Всё происходило как всегда, казалось, по навсегда завёденному порядку: мама кипятила на кухне в тазу бельё и одновременно готовила воскресный обед, Слава выполянл уроки на завтра, отец находился на своём «служебном» месте…
Выслушав от мамы полученное количество упрёков, сказался больным — чувствовал себя и в самом деле скверно — и прилёг на свою койку. Объявлять себя хворым было весьма опасно — мама приняла бы решительные меры для моего выздоровления. Поэтому пришлось пояснить, что я просто устал и малось отдохну.
Лишь вечером, вздремнув, но всё ещё не поборов похмельного отравления, перед поздним обедом продемонстрировал удостоверение слесаря четвёртого разряда, на которое отец даже не взглянул, а мама задала несколько десятков вопросов. Отвечать на каждый приходилось, еле сдерживая раздражение, всё ещё сказывалось похмелье. Этого не могла не заметить мама, и пришлось признаться, что вчера мы «немного выпили» — «обмывали» удостоверение. Солгал.
Опять пришлось говорить неправду, от которой меня уже почти тошнило. «До каких пор?» — спрашивал себя. И почему лгу, словно какой-нибудь неразумный пацанишка? Стыдно перед теми, кого обманываю, и перед собой.
Вторично сославшись на недомогание (ох это пойло, настоянное на махорке!), лёг на кровать и закрыл глаза. На моём мысленном экране возникли эпизоды вчерашнего «банкета», отвратительного, которого лучше бы вообще не было. Но он был! И халва, которую я ел, хотя где-то в сознании всё чётче признавался: она не могла быть неукраденной. И так погано становилось от содеянного. Хоть вой!
Ко мне подошёл братишка и рассказал о своих успехах. Мало того, что он хорошо учился в школе, на городских соревнованиях ему присвоили третий разряд по греко-римской борьбе. Я увидел, насколько он повзрослел и окреп. В свои четырнадцать лет он выглядел намного мужественнее. Молодец! Не то что я… Безвольная мямля.
Утром, перед уходом на работу, меня разбудила мама и, тревожась, спросила, внимательно поглядев в глаза, не захворал ли? Не лучше ли пойти в поликлинику, к терапевту? Погода такая опасная — весна. Мне удалось убедить её, что со мной всё в порядке. В общем, здоров. И работоспособен.
К открытию книжного магазина на конечной трамвайной остановке ЧГРЭС я выкупил последний (первый) том «Жизни животных» и, немного повеселев, вернулся домой. Что-то мне подсказало пройти соседним двором — от догляда тёти Тани — перелезть через штакетник, открыть калитку и войти в свою квартиру, чтобы положить на место том. Но через стену Данилова либо её гости расслышали какие-то подозрительные звуки в комнате, в которой, по всем предположениям, никого не должно находиться: тётя Таня точно знала, в какое время, куда и зачем ушли соседи или кто когда появился. Либо может вернуться.
Когда я принялся запирать дверь, «гости» тёти Тани убедились, что в соседней квартире что-то происходит — в ней кто-то есть. Я успел лишь разогнуться, прикрыв ключ половиком, как в этот миг калитка от сильного рывка распахнулась, и в проёме её появились две высокие и весьма плотные мужские фигуры в штатской одежде. Один из них, похожий внешне на цыгана, быстро приблизился ко мне почти вплотную и немного хриплым голосом произнёс:
— Милиция!
И показал мне раскрытое, но зажатое толстыми пальцами какое-то удостоверение, с которого на меня глянула вроде бы фотография того же цыганистого верзилы.
Ещё при первой встрече, лишь обменявшись взглядами, я безошибочно угадал, что это милиционеры и пришли они за мной, чтобы выяснить, какой халвой вчера мы угощались у Серёги. Никаких сомнений у меня не осталось, что день рождения Рыжего, если это были именины, а не просто пьянка-буска,[537] подслащены краденой халвой. Странно, что первыми милиционеры пожаловали ко мне, а не к Воложаниным. Впрочем, мне так лишь показалось. Ещё одна группа в эти минуты могла «работать» у Воложаниных, третья — у Витьки. Но как они разнюхали обо мне, кто указал наш адрес?
— Оружие есть? — нахраписто спросил «цыган» и без лишних объяснений принялся сноровисто обыскивать, выворачивая мои карманы. Заставил распахнуть бушлат и общупал его и всего меня. Второй, такой же здоровяк, вероятно, подстраховывал напарника, находясь рядом. И, только взглянув на напарника, цыганистого милиционера (фамилию его я не успел прочесть, настолько быстро сыщик, щёлкнув крышками, спрятал его во внутренний карман «москвички», а второй мне вообще никакого документа не предъявил), я увидел тётю Таню — она с любопытством выглядывала из-за спин стражей порядка.
Меня удивила её сияющая безмерным счастьем, растянутая в блаженнейшей улыбке физиономия. Она торжествовала. Ни до ни после я ни разу не видел её такой ликующей.
Забегая на много лет вперёд (а соседство наше оказалось длинным), проговорюсь, что мне искренне жаль эту несчастную женщину, потерявшую сына Анатолия, так и не дождавшуюся сгинувшего в плавильне войны, в её страшном, адском пламени, будучи отправленным в числе первых на фронт, мужа Ивана, верность которому хранила и после окончания Великой Отечественной ещё долгие годы, «не сходясь» ни с кем, — надеялась (даже после гибели сына) на чудо — приход «с хронту» её любимого Вани.
Последний раз я встречался и беседовал с тётей Таней в семидесятых годах: она к этому моменту почти полностью ослепла — «выплакала глаза от горя», сожитель покинул её. И навещала несчастную сморщенную старушку лишь племянница Эдда Васильева. Слушать мне жалобы одинокой, беззащитной женщины, почти инвалида, было до слёз больно, а помочь ничем не мог — обзавёлся собственной семьей, вдобавок систематические преследования партийных людоедов постоянно держали меня «на мушке», и я вынужден был сбежать из Челябинска в Свердловск, где меня и тут не забыли чиновники из «передового отряда строителей счастливого общества на всём земном шаре», но это уже другой рассказ.
А сейчас давайте вернёмся в двадцать шестое февраля пятидесятого года, сенным ступенькам, ведущим в родной дом. Двое громил, обыскивающих меня к небывалой радости тёти Тани со сверкающими глазами: отомстила за стрелу, настигшую её во время подкапывания картофеля в грядке Дарьи Александровны Малковой. Повторюсь: такой ликующей за все почти сорок лет соседства я Татьяну Данилову не видел ни разу. Она выскочила из квартиры вслед за милиционерами, чтобы не пропустить самое интересное, — даже не замечала, что может простудиться, — в стареньком-то бязевом халатике — её самая заветная мечта наконец-то осуществилась! Да будь она совершенно обнажённой, уверен, на снегу стояла б — такое зрелище! Наслаждение!
— Фамилия, имя, отчество! — потребовал цыганистый.
Я ответил, хотя в руках сыщика уже оказалось моё свидетельство о присвоении мне разряда слесаря.
— Правильно! — подтвердила тётя Таня, не прекращая блаженно улыбаться. — Этто ён самый.
— Открывай квартиру. Будем производить обыск.
— По какому поводу? — заартачился я. — Не имеете права.
— Открывай, тебе говорят! По-хорошему.
— У меня нет ключа. Вы же меня обыскали.
«Не дай бог Данилова знает, где он лежит», — подумал я, — они в комнатах всё перероют — вот «подарочек» я маме преподнесу. За всё доброе.
Но, к счастью, ни тётя Таня, ни кто другой из посторонних не знали, куда мы прячем ключ от сенной двери.
— Где он? — настырничал цыганистый сыщик.
— У родителей. Я ведь не здесь живу — в общежитии. Заводском.
— Ён на заводе робит. Там жа и в обчежитии, видать, и прописан. Сюды редко приежжат. Завод-де-то далёко, на каком-то озере аль за озером.
Тётя Таня торопилась дорассказать обо мне всё, что ей было известно. Её словно лихорадило. Сейчас я догадался, почему цыганистый сыщик искал у меня оружие: несколько лет назад, играя в «войну», многие свободские пацаны понаделали «поджиги» и жахали из них, напихав в медные трубки серу, соскобленную со спичек, что пугало тётю Таню. И она кляла меня почём зря. Было такое «оружие» и у меня, было…
— Когда родители придут? — дожимал меня сыщик.
— Оне позжее возвернутся. Часов в восемь, аль в девять. У ево брат ишшо есть. Тот тожа запозна приходит: в сексии учицца. На борса.
Цыганистый взглянул на свои ручные часы.
— Ты считаешься задержанным. Пойдёшь с нами в седьмой районный отдел милиции. Бывал там или нет? Ну мы тебя доведём.
— Вы мне так и не сказали о поводе задержания.
— Ты подозреваешься в хищении. Там тебе всё разъяснят.
— Каком хищении? Чего? — настаивал я.
— Пошли! Там разберутся.
Второй милиционер зашёл сзади, цыганистый здоровяк вывалился из калитки, я последовал за ним.
А тётя Таня всё ещё горела радостным нетерпением разнюхать что-нибудь для сплетен, но милиционеры были лаконичны. Нет, не могла она простить мне ни подкопанной ею картошки с чужих грядок, ни стрелы, вонзившейся в её бедро, ни позора, которого тогда нахлебалась на домовом собрании. Теперь наступил сладостный миг отмщения. Теперь она чиста. А я опозорен.
Ещё раз убеждённо решил: то, что происходит со мной, наверняка связано с «банкетом». И мараковал: как мне вести себя там, куда меня ведут? Отрицать, что был вчера у Воложаниных? Ничего не знаю, никого не видел? Или честно признаться в «банкетном» веселии? А что я, собственно, такого противозаконного совершил? Ну съел кусок халвы на дне рождения знакомого. И всё. Откуда мне знать, что она краденая (хотя в этом сейчас я уже ничуть не сомневался). Очевидно, что попал в пакостную заварушку. Но если о халве расскажу, какие ещё могут быть ко мне вопросы? Я и в самом деле ничего не знаю о Серёгиных делах и происхождении халвы.
И я отважился рассказать правду. Если меня этой проклятой халвой прижмут.
Ну а тётя Таня здорово меня подловила. Эти двое громил сидели — выжидали у неё, пока я появлюсь. Даже это выведали. Почему-то Данилова не доложила милиционерам, что иногда возвращаюсь соседними дворами, перелезая через заборы или протискаваясь в их проломы. В этот раз кто мог знать о моём посещении дома? Только у Воложаниных я повторял, что направляюсь домой. Восвояси! Но как менты об этом узнали? Неудивительно, что сыщики оказались у тёти Тани. Всем давно известно, что к ней по вечерам регулярно наведывается наш участковый оперуполномоченный. Ясно, зачем. Ему она докладывала обо всём, о чём успела разнюхать или придумать о соседях. Ненапрасно мама предупреждала меня, чтобы с Даниловой ни о чём не откровенничал, — всё переврёт. Удивительно, как она умела искажать факты и сочинять небылицы или столь же фантастично пересказывать сплетню. Её и председателем домового комитета назначили, надо полагать, затем, чтобы следить за всеми нами и «докладывать куда следует».
Как она ликовала, когда, завернув ловко руки назад, меня обыскивал напарник цыганистого, а после и сам «цыган», пытаясь обнаружить огнестрельное оружие.
— Вы не имеете права, — прохрипел я.
— Мы на всё имеем право, — пробасил цыганистый, обшаривая карманы, и даже половой член пощупал.
Шагая за цыганистым, я мечтал лишь о том, чтобы нам навстречу не попалась Мила. Или не увидела всю эту позорную сцену из окна.
— Стой! — скомандовал старший (я почему-то решил, что он главный) и повернулся ко мне.
Я повиновался.
— Иди высрись и поссы. В отделе с тобой некогда будет валандаться, — приказал он.
— Чтобы не обоссался в камере, — ухмыльнувшись, добавил напарник. — А то ещё уделаешься…
Вот почему они остановили меня напротив сортира.
— Значит, долго будут держать, — подумал я, заходя в одну из двух кабин. — Предусмотрительные…
— Дверь не закрывай! — крикнул «старший», но я уже накинул крючок.
Почти в тот же миг сильный рывок широко распахнул дощатую дверь.
— Сказано тебе: не закрывайся! Садись, штоб нам видно было, чем ты занимашься. Римень выдерни совсем! Дай ево сюды!
«Олухи какие-то деревенские, — негодовал я про себя. — Обращаются, как со скотиной…»
— Снимай-снимай! Што ты, как невинная девица, — насмешничал напарник «старшо́го».
— Ну, чево ломасся? — угрожающе прикрикнул сам «старшой».
Меня удивило сходство хамского тона и самих выражений этих представителей закона и вчерашних Серёгиных уговоров.
— Отдайте! Мне его отец подарил, когда с фронта пришёл. Я и так никуда не убегу…
— Не разговаривать! Делай, што говорят, — рассвирепел «старшой». — Садись срать!
Я выпрыгнул из кабины, но меня сразу схватили за руки, и штаны, вернее суконные «трофейные» отцовские галифе, которые упали ниже колен. Должно быть, вся эта сцена возле сортира выглядела со стороны очень комично: двое здоровенных мужиков стиснули парня со спущенными галифе. Ох и хохотала, наверное, тётя Таня, уткнувшись в окно и наблюдая за нами.
— Отпустите! — орал я, дёргаясь в железных объятиях сыщиков.
— Садись! Мы скажем, когда тебе с толчка[538] встать, — уже не столь грозно приказал напарник цыганистого.
— Чего вы ко мне пристали? Что вам от меня нужно? — почти закричал я.
И в этот момент, именно в это мгновение, случилось самое постыдное событие в моей жизни. Чего пуще всего боялся: по тропинке шла Мила…
Я попытался запахнуться в чёрный фэзэушный бушлат. Хотя она не посмотрела в нашу сторону, глядя себе под ноги, но мне подумалось, уверен был, что она видит, может видеть меня боковым зрением. Провалиться бы в выгребную яму и утонуть в ней, умереть, исчезнуть, но только не предстать перед ней в подобном виде!
Словно молния пронзила меня от макушки до пяток. Наверное, я потерял бы сознание, если б не упёрся свободной рукой в стенку, падая в объятия моих «ангелов-хранителей». Со мной творилось что-то ранее не происходившее…
— Чиво с тобой? С похмелья, што ли, на ногах не держисся? — обратил внимание «старшой».
«Гады! Гады! Они издеваются надо мной!» — сверлила меня единственная мысль. Обида переполнила всё моё существо.
Броситься на этого чернявого изувера, пусть лучше пристрелят! Чем терпеть такое кощунство! Позор на всю жизнь! Как после этого жить? Людям в глаза смотреть? Но я осознал: и сдвинуться не смогу с места.
— Отдайте, пожалуйста, мой ремень! Без него галифе не держатся. Что ж вы меня перед всеми позорите?
Слёзы заполнили мои глаза. Голос срывался.
— Рассапливился! Бушлат расстигни и штаны хватай обоими руками. За ошкур. Понял?
Более изощрённого издевательства за всю мою жизнь я не испытывал никогда.
Подкатило к горлу. Этого лишь не хватало!
— Холодно ведь… — вымолвил я срывающимся дрожащим голосом. — Отдайте ремень! — отчаянно выкрикнул я.
— Не думай совершить побег! Я стреляю без промахов. Холодна? В отделе милиции тебя «согреем». У нас тама жарка, — насмешливо поддержал предполагаемого мною «старшого» напарник.
А цыганистый, туго свернув офицерский трофейный широкий ремень с двумя рядами «язычков» жёлтой меди и такого же металла бляхой с неизвестным мне гербом, любовно гладил его по толстой коже, оставлявшей когда-то синяки и вмятины на моём теле — оценки школьных «успехов» и прочего.
Ремень явно нравился милиционеру, вероятно, не попадались такие раньше.
А у меня слёзы стояли в глазах. Нет, не отцовский подарок жалел — оскорбления, насмешки, хулиганское обращение — вот что довело меня до такого состояния.
— Я никуда не убегу, — сглатывая слёзы, унижаясь, выпрашивал я свой ремень, подтянув галифе и поддерживая их одной рукой. — Не бойтесь.
— Не убежишь… Знаем мы вас. Не первый год ловим, — отрезал отмеченный мною как «старшой». — Нам бояться тебя нечево. Ты бойся нас.
— Шагай за ним, — кивнул он на напарника. — Я следом пойду. Предупреждаю, стреляю без промахов: десять из десяти — в «яблочко». Понял?
Пошли «гуськом». У ворот я обернулся.
— Ты — чево? — зло и настороженно спросил меня «старшой». — Учти: я не шутю. Побегишь — стреляю без предупреждения.
А я остановился, чтобы, может быть, в последний раз взглянуть на Голубую звезду. Её не было видно.
— Шагай, не останавливайса. И не оглядывайса.
Я всё же посмотрел на небо, туда, где обычно висела она над Милиной комнатой и кухонькой.
— Каво высматривашь? Шагай вперёд и направо, тебе говорят, — повторил цыганистый, не вынимая руки из правого кармана «москвички».
Небо серело облаками, грязноватыми и рваными. Да и рано ещё — день. Она появится без меня… Чуяло моё сердце: не отпустят меня из милиции подобру. Ни сегодня, ни завтра…
…Когда мы зашли в знакомое мне, но переделанное внутри седьмое отделение милиции, цыганистый верзила, диктуя в дежурной комнате напарнику перечень изъятых у меня вещей (записная книжка, автоматическая ручка, носовой платок, удостоверение, немного денег мелочью), засунул в верхний ящик своего (возможно, и другого сотрудника) стола мой поясной ремень и сказал напарнику (он, наверное, пограмотней был):
— Ево фиксировать не надо. И книжку. В ей блатные слова. Пригодятся.
Тот понимающе кивнул головой и подсунул мне листок с напутствием:
— Подпиши, што подтверждаишь.
— А почему вы мой ремень забираете? Как я без него буду обходиться? И записную книжку?
— Не положено. Понял? Или тебе на кулаках растолковать, непонятливому? — угрожающе спросил «старшой». И так свирепо взглянул на меня, что я начертал свою фамилию, слабак.
— Число, число проставь. И месиц. Как положено. Неграмотнай, што ли? А то мы тебя быстра научим…
Я трясущейся от нервного напряжения рукой коряво вывел: «27 февраля 1950 года».
Явился в комнату, вероятно по звонку, дежурный милиционер.
— В камеру ево, — распорядился «старшой».
Когда я выходил из «дежурки», то услышал за спиной голос «старшо́го» и загадочную фразу:
— Этот парень… Как ево? Ризанов? Готов. Сдаю иво лейтенанту. Пушшай разрабатывают.
У меня эти слова вызвали недоумение. К чему я готов? Что они собираются у меня «разрабатывать»… Что за «разработка»? Это напутствие явно ко мне относится.
Что они со мной намереваются делать? Смутная тревога овладела мною, но мне тут же удалось успокоить себя: я же невиновный, чего опасаться?
Насколько же я был наивен тогда!
1967–2007 Годы
«Не бей, сука, сапогой в морду!»[539]
— Следователя ещё нет, загони ево в бокс, камеры сё равно занятныя, — высказал своё соображение цыганистый сыщик, видя, как я уселся на скамье напротив дежурного, который рассматривал мой документ — удостоверение, выданное двадцать пятого февраля сего года. Но звучали его слова как приказ.
Значит, подумал я, мои предчувствия не обманули меня — сейчас начнётся бокс. Зачем? Я и так обо всём расскажу, если спросят о «банкете». А о нём не могут не поинтересоваться.
Галифе постоянно приходилось поддерживать то правой, то левой рукой, поэтому чувствовал себя униженным и растерянным. Как на речке, когда, подкравшись сзади, с тебя неожиданно сдёргивали трусы. Существовала такая у пацанов игра. Забава. Обычно я такого «оскорбления» шутнику не спускал, и начилась драка.
— Давай, — согласился дежурный, — ключи у Федюнина (если я правильно запомнил фамилию).
— Встать! Чево расселся, как дурак на имининах? — это уже обратился цыганистый сыщик. — Шагай вперёд, в калидор! — приказал мне он, повернувшись вправо и заорал: — Федюнин! Ключи от бокса.
— Ещё и ругается, — подумал я. Но милиция — не берег Миасса, пришлось смолчать.
У меня отлегло от сердца: бокс, вероятно, какое-то подсобное помещение — меня не хотят поместить в общую камеру, чтобы, догадался, не допустить общения с Серёгой, Витькой и Кимкой. Возможно, и мамашу Рыжего прихватили. А то и отца Кимки. Но название помещения — «бокс» — какое-то подозрительное. Несколько знакомых свободских пацанов когда-то рассказывали мне, что их «метелили»[540] в «мелодии»,[541] когда те попадали в седьмое отделение за различные проступки. Может, выдумывали, предположил я тогда, чтобы «сгоношить»[542] себе «авторитет».[543] А вдруг правду говорили. Алька Каримов даже утверждал, что ему, помнится, чуть ли не в боксе лёгкие отбили, после чего он долго кровью харкал. Но он не признался ни в чём, и его отпустили.
Знал я и другое: очень многие пацаны ненавидят милицию. И среди взрослых такие настроения не редки. А когда что-нибудь стрясётся, бегут сломя голову в неё жаловаться и разбираться, умоляют начальника Батуло защитить.
Вспомнил я этого начальника (или дежурного?) седьмого отделения, седого, усталого человека, который наставлял меня много лет тому назад, кажется в сорок третьем. Из-за драки с базарной торговкой-мошенницей. Нормальный мужик! Правда, суровый. Да это и понятно. Ведь милиционеры ловят всяких воров, бандитов и всех, кто нарушает советские законы. Нас защищают. Людей. Простых граждан.
Но почему меня сюда притащили? Да ещё так оскорбили. За что? Про себя-то я знал, что, наверное, ел краденую халву. Уверен. Подсупонил нам Серёга «удовольствие». Вот за что. Значит, и я виноват. Ведь как не хотел идти на этот «банкет»! Но всё-таки пошёл! И вот — результат. А может, меня сюда притащили совсем не за халву? Какая-нибудь ошибка. Тётя Таня могла наябедничать, что из поджига шмалял. Но ничего, Батуло разберётся, он человек справедливый. Хотя и милиционер. Если ещё начальником работает.
— Заходи! Быстрея! И не шуметь! Дежурнава не вызывать! Когда нада — сами вызовем. За нарушения — накажем. Отдохнёшь малость, — насмешливо распорядился мой конвоир. В интонации голоса его слышалась насмешка. Или издёвка.
Я шагнул за порог помещения, которое хозяева узилища называли боксом. Обитая железом, сплошным листом, дверь с грохотом и скрежетом затворилась за мной — это на замки и задвижки её запирал мой «ангел-хранитель», вспомнил я с горечью слова бабки Герасимихи. Удаляющиеся по коридору к выходу шаги подкованных сапог. Ти-ши-на! Огляделся в полутьме. Над дверью в углублении размером четверть на четверть, забранном мелкой решёткой, тускнела лампочка в двадцать пять свечей. Двери, стены и даже потолок обиты листовым железом, густо продырявленным чем-то вроде тонкого стального пробойника или гвоздя-стопятидесятки и спаяны между собой. В двери, на уровне глаз, воронкообразное углубление, защищённое поверх стекла с наружной стороны стеклом и завешенное металлическим «пятаком». При желании сотрудник мог отвести его в сторону и, убедившись в наличии стекла (чтобы глаз не выткнули пальцем), заглянуть в бокс, представлявший из себя ящик метра два в высоту, три шага в длину и ширину. Пол, я удивился, тоже закрыт металлическим листом, но гладким, даже отполированным сотнями, а может, тысячами подошв.
Сначала я не почувствовал холода, но через какое-то время, обследовав бокс и прислонившись спиной к стене, даже через бушлат ощутил лёгкое охлаждение меж лопаток. Чтобы не продрогнуть, принялся вышагивать по диагонали — четыре шага получалось, с поворотом.
Время тянулось невероятно медленно. Иногда из коридора доносились непонятные обрывки чьих-то разговоров. Может быть, с вахты, у входа. И снова ти-ши-на.
Терзала меня неизвестность. Долго мне ещё торчать в этой продырявленной «консервной банке»? Почему не вызывают на допрос? Что они от меня хотят?
Спросить — не у кого. В дверь не постучишь — всё равно что по тёрке кулаком колотить — до костей кожу и мышцы обдерёшь. Да и никто не услышит тебя. Кричать? Какая причина? Милиционер предупредил: «Когда понадобишься — вызовем». Попроситься в туалет? Ещё терпимо. Да тут пронеслась в воображении недавняя позорная сцена в нашем дворе. Надо же такому случиться, когда по тропинке шла именно ОНА! Это совпадение повергло меня в глубокое отчаянье.
…С малых лет я страдал, с трудом переносил нахождение в узком замкнутом пространстве. Сколько раз Герасимовна успокаивала из-за двери, когда меня надолго запирали в комнате. Как собачёнка выл без остановки. Наверное, в те времена со мной случались истерики. Сейчас — держись!
…Чтобы успокоиться, присел на корточки в угол. Оказывается, угловые стыки железных листов аккуратно заварены. Или сварены, не знаю, как точнее выразиться. Ни единой щёлочки. Порог обогнут металлом. Классная работа! Даже металлическая же воронка глазка в двери тоже мастерски припаяна к железному полотнищу, завёрнутому на торцы. Научиться бы так владеть газовым паяльником. Мечта! Работая на заводе, мне удавалось электросваркой восстанавливать стёртые детали машинных узлов. После токари доводили их до нужного калибра. Правда, получалась «наварка» у меня не всегда как надо — опыта не хватало.
…Однако проходил час за часом, томительно, а обо мне словно забыли. Я уже упомянул о нетерпении одиночества. А тут ещё, запертый в железную «гробницу», вовсе не находил места, еле сдерживая рвавшийся из груди вопль. Наконец, не вытерпел и крикнул в воронку глазка:
— Дежурный!
Никакого ответа. Повторил. Выждал — результат тот же.
Мозг лихорадочно сверлила одна мысль: для чего они меня здесь держат и как долго эта пытка будет продолжаться?
Мне казалось: минула уже уйма времени и наступила ночь. В барак я не вернулся. Фактически — прогул. О работе на заводе ничего милиционерам не расскажу. Лишь бы тётя Таня не насплетничала. Она, конечно, знает, что я работаю, но где конкретно, не ведает. А может быть, и разнюхала. У Славки. Или у мамы.
По моим предположениям, сыщики должны были вернуться к нам с обыском. Догадка моя, к сожалению, оправдалась.
Однажды тётя Таня остановила меня возле калитки, я не успел и за верёвочку дёрнуть, как она расспрашивать принялась нахально: чем я занимаюсь, «как жись», где работаю? Я не стал распространяться, кратко ответил: на ЧТЗ слесарем — и прошёл к своему тамбуру. Наши мастерские и в самом деле значились, наверное, сельским филиалом завода-гиганта, который помогал запчастями и другими материалами колхозам и совхозам. Это мы называли мастерские по ремонту сельхозтехники заводом. Для солидности.
А вот о «банкете» придётся следователям выложить всё, как было. С подробностями: как пили брагу и закусывали халвой. Хотя лучше было бы ментов вообще не посвящать в это дело. Но если начнут допрашивать — придётся. И я снова проигрывал в уме возможный допрос. В чём моя вина? Никто ведь во время пиршества и словом не обмолвился, откуда у Серёги появилась халва. На этом я и буду настаивать: не знал — и всё.
Конечно, нечестно с моей стороны скрывать от следователя (или, сколько их там будет) то, о чём я догадывался, смакуя восточную сладость. Но придётся, чтобы не запутать себя и других. Пусть сами ищут, откуда она у Серёги появилась. Меня угостили — это правда. А за остальное пусть отвечает Рыжий. Впутал нас в это поганое дело. Да и мы хороши.
Опять вспомнилось, как мне не хотелось на этот день рождения, названный Серёгой почему-то «банкетом», идти. Но не устоял, согласился. Смалодушничал. И вот влип в это бесчестье.
Чем дальше я рассуждал, меряя диагональ бокса туда-сюда, тем больше клял себя, что поддался уговорам. Ну зачем? Шёл домой, чтобы увидеться с мамой, братишкой, а забрёл к вору и ел краденое! Ведь не хотел, что-то неладное чувствовал, а всё-таки переступил порог калитки, пошёл, как телёнок на верёвочке, за Серёгой. Подумал бы: за кем идёшь? Кто тебя на верёвочке ведёт — ведь по его вине погиб человек, он Моню подтолкнул с перила железнодорожного моста под колеса товарняка… Не руками, разумеется, но… Никакого оправдания Серёге не может быть — повинен. И я поплёлся за убийцей.
И снова мелькнула спасительная мысль, что следователь разберётся и отпустит меня. Как тогда начальник отделения Батуло. А я больше никогда не буду допускать подобных глупостей. Никогда! Лишь бы не посадили в тюрьму. А вдруг меня задержали по другому поводу? Но подсознанием я понимал, что стараюсь обмануть себя. Ничего из этого не выйдет, подсказывал разум. Беда неотвратимо висит над моей глупой головой. И наказание — позорное, гнетущее, несмываемое. Навсегда.
За несколько часов пребывания в боксе я нашагал, наверное, ни один десяток километров, чтобы не продрогнуть и не заболеть. Чувствовалась изрядная усталость всего тела, особенно ног. Но я продолжал мерить диагональ квадрата пола.
В этой «тёрке»-коробке к тому же давила духота — клетушка никогда не проветривалась, и я дышал чьим-то пропущенным через чужие лёгкие — многократно! — воздухом. Вспомнились затяжные нырки на Миассе. Что за камера такая? Зачем её сделали? Стоило мне на минуту остановться, прислонившись спиной к «тёрке», и смежить веки, как на моём мысленном экране возникала мама, которой, наверное, тётя Таня взахлёб обрисовала арест сына. До чего отвратительна эта унизительная сцена возле общественной уборной! Как я посмею взглянуть в глаза Миле?!
Забегая вперёд, скажу: за все последующие годы моей жизни встречи этой не случилось.[544] И, может быть, к лучшему. Для меня. Только от одного воспоминания этого сортирного издевательского эпизода уши мои каждый раз раскалялись докрасна — я чувствовал, как они горят. Стыд неописуемый. Поэтому я избегал думать об этом несмываемом позорище. Сейчас же он мучил меня, и я не знал, куда деваться, поддавшись нахлынувшему беспредельному отчаянью. Однако удержал себя неимоверным усилием воли, чтобы не заорать, не завыть….
Оживали в памяти и многочасовые ожидания мамы в закрытой комнате, когда урёвывался до горячих слёз, струившихся по щекам и капавших с подбородка. Но мне удалось отогнать и эти нахлынувшие детские воспоминания, казалось уже давно забытые.
…Кого я жду? Сегодня же понедельник, двадцать седьмое февраля! Мама на работе. Ко мне никто не придёт! Наконец послышались приближающиеся твёрдые шаги, засветился и погас «волчок» — меня кто-то разглядывал из-за двери. Раздался скрежет железного засова, бряцанье ключей, и дверь распахнулась. Я стоял, прижавшись к противоположной от входа стене. Ждал.
— Фамилия? — сурово спросил милиционер.
Я назвался.
— Полностью! Фамилия, имя, отчество, число, месяц и год рождения. Где родился?
Выполнив приказание, получил ещё одно:
— На выход! Шевелись!
Ватными ногами я переступил порог камеры-«тёрки».
Слева (я не мог его видеть из камеры) стоял цыганистый сыщик. Наверное, «сдал» меня другому милиционеру — своё дело выполнил. Выходит, сутки их смена продолжается. Да, работёнка не из лёгких.
— Налево! Вперёд по коридору, — распорядился принявший меня сотрудник, такой же здоровяк (специально их, что ли, по росту и физическим данным подбирают?), как цыганистый. Оно и понятно: чтобы любого мог в бараний рог скрутить.
— Стоять! — услышал я голос «нового» милиционера. — Заходи!
Я зашёл в кабинет, на двери которого была прикреплена металлическая ромбовидная табличка с номером четыре. Снял шапку. Поздоровался. Но ответа не получил — молчание.
Передо мной напротив сидел, вероятно, невысокого роста средних лет человек с невыразительной внешностью. Мне он показался, увиделся каким-то серым.
— Задержанный Рязанов доставлен, — отрапортовал приведший в кабинет конвоир. Проходя по коридору, я заметил на стене застеклённую табличку с надписью «Следователь». Без фамилии.
Взглянув на меня, он как-то невнятно, скороговоркой назвал свою фамилию и звание, но я из-за сильного волнения тут же забыл их.
Хорошо освещённая комната с зашторенными окнами после бокса настроила меня на более оптимистический лад.
От следователя пахло «Тройным» одеколоном. Как от отца. Не то что от задержавших меня сыщиков, от них несло по́том — в бане, что ли, подолгу не мылись? И мой конвоир источал тоже едкий запах пота.
— Садитесь, — указал мне следователь направо, на стул, развёрнутый спиной к окну.
Внимательно и долго (изучающе) он вглядывался, изучал меня. После вынул из ящика стола бумаги, аккуратно положил их перед собой и задал мне те вопросы, которые, вероятно, следователи задают всем задержанным: фамилия, имя-отчество, год, месяц и день рождения, место проживания. А так же, где это событие произошло. Я спокойно ответил на все вопросы и уточнил:
— Какое событие Вы имеете в виду?
— Где Вы были позавчера и вчера утром перед задержанием сотрудниками милиции?
— У Воложаниных. А точнее — у Сергея Воложанина.
— Его адрес.
Я ответил.
— И чем вы у Воложанина занимались? Но об этом мы поговорим подробнее позже. А сейчас взгляните внимательно на эти вещи.
Он вынул из тумбочки стола то, что изъяли при обыске задержавшие меня милиционеры: носовой платок, солдатские матерчатые перчатки, несколько денежных купюр, рублей десять-двенадцать с мелочью, металлическую, с пружиной, полукилограммовую гантель — всё, кроме поясного кожаного ремня с бляхой, записной ручки и записной книжки.
— Ваши вещи? — осведомился следователь и поставил меня своим вопросом в тупик.
Я размышлял, упоминать ли об отсутствующих вещах, и склонился к тому, что нужно. И совершил непростительную ошибку, как показали последующие события. Но откуда мне было знать о коварстве следователя и вообще его замыслах?!
Пока я раздумывал, упомнить или нет об отсутствующем ремне, следователь успел задать очередной вопрос, даже два:
— Все предметы в наличии?
И, не дождавшись моего ответа, продолжил:
— С какой целью гантель носите с собой?
И он пристально уставился в мои глаза.
— Чтобы развивать мышцы кистей рук.
— Понятно. Так вы подтверждаете, что ваши все личные вещи, изъятые у вас при обыске, находятся в наличии?
— Нет, не подтверждаю. Кожаный поясной ремень отсутствует. А без него у меня галифе спадают. Приходится поддерживать руками. И записная книжка с автоматической ручкой.
— Сержант! — обратился он к моему конвоиру. — Что за ремень? Какая книжка?
— Согласно инструкции задержанному оставлять ремень нельзя. О книжке не знаю, — солгал сыщик.
— Пока будете обходиться без ремня, — это уже мне ответил следователь. — О книжке выясню. Вот здесь распишитесь за изъятые у Вас предметы, — как бы посоветовал следователь и подвинул поближе заполненный бланк об изъятии.
Взяв ручку, я повернулся на стуле — неудобно. Приподнялся и попытался подвинуть его — не тут то было. Дернул за ножку — ни с места.
Следователь не мог не видеть моих тщетных усилий развернуть стул и без признаков насмешки, молча наблюдал за моими действиями, я это уловил боковым зрением. Наконец разглядел: каждая ножка стула привинчена шурупами к металлическим уголкам!
Акт был составлен цыганистым сыщиком или его напарником, наверное, вчера. Под анкетой с моими данными и ответами на вопросы следователя стояла более ранняя дата. Боже мой, уже наступило двадцать седьмое февраля!
Подписав акт, я подумал: бог с ней, с книжечкой, и задал следователю совершенно глупый, как я понял поздее, вопрос.
— Всё? Мне можно идти? Только ремень пусть отдадут.
Я готов был сорваться с привинченного стула и бежать по ночным улицам на Свободу без передышки, чтобы успокоить маму, рассказать ей об ошибке милиционеров.
Мой вопрос вызвал у следователя недоуменно-весёлую улыбку.
— Вы вот что, Рязанов, лучше расскажите, как с подельниками похитили из магазина ящик халвы? Всё по порядку. Назовите их и всё, что знаете о них.
— Я не участвовал в похищении халвы. Меня на улице… Свободы встретил Сергей Воложанин и пригласил на его день рождения. Двадцать пятого февраля. Днём.
— Родился Сергей Воложанин первого мая тысяча девятьсот тридцать первого года. А пригласил Вас, по вашему утверждению, двадцать пятого февраля. Неувязка получается, Рязанов. Как вы это объясните?
— Мне неизвестно, когда он родился. Он сказал: двадцать пятого февраля. Я поверил.
Судя по вопросам, нас выстроили в очередь по возрасту.
— Вы сколько лет знакомы с Воложаниным?
— Я знаком со многими ребятами, с одними — больше, с другими — меньше, ведь мы живём на одной улице. С Воложаниным мы, можно сказать, почти совсем незнакомы.
— Если Вы, по вашему утверждению, были почти незнакомы с Сергеем Воложаниным и не участвовали в похищении ящика халвы из магазина номер семнадцать, то почему Воложанин пригласил Вас для поедания краденой халвы?
— Не только меня, товарищ следователь, а…
— Прошу обращаться ко мне «гражданин следователь». Продолжайте.
— Я не знал. Серёга, то есть Сергей Воложанин, пригласил на день рождения не только меня, а ещё и Кима Зиновьева, Витю, то есть Виталия, соседа, фамилию его я не знаю. Забыл. И мы все отмечали его день рождения. Потом за Кимом пришёл отец, а за Витькой — его мать, и они ушли. А я сильно захмелел и лёг спать на печь.
— Часто так напиваетесь? Сколько лет? Со скольки лет употребляете алкогольные напитки?
— Я вообще не употребляю алкоголь, поэтому так сильно опьянел. О халве. Первый раз увидел, когда Сергей принёс ящик с улицы.
— Я хочу знать правду, как халва оказалась у Воложаниных? Так что рассказывайте, как было дело, честно. Вы, Рязанов, разве не понимаете, что Ваш рассказ о случайной встрече с Воложаниным на улице — глупая выдумка. Вы шли по тротуару, и Вас вдруг останавливает мало знакомый Вам Сергей Воложанин и ни с того ни с сего приглашает на свой якобы день рождения. Вы же не ребёнок. Если он Вас пригласил, следовательно, Вы были до того хорошо знакомы между собой и он пригласил Вас разделить краденое. По ранней договоренности. Так было? Да?
— Нет. Эта встреча произошла случайно, когда я шёл домой. Даю честное слово, гражданин следователь.
И я подробно рассказал, как всё это произошло.
Наш диалог и моя исповедь происходили совершенно спокойно, хотя я, признаться, внутренне почему-то волновался. Предчувствие мне подсказывало что-то очень неприятное, ожидавшее меня вскоре.
— Вы утверждаете: встретились с перечисленными лицами случайно, но имеющиеся факты говорят об ином — ваша группа была устойчивой. И вы хорошо знали друг друга в течение многих лет. И могли совершать преступления и раньше.
— Да, мы знали друг друга много лет. Я с Кимом ещё с детсада, но это ни о чём не говорит и ничто не подтверждает. Я встретился с Воложаниным случайно.
— Случайностей не бывает, всё имеет свою причинность. Я правильно понял: Вы, Рязанов, не хотите говорить правду?
— Я, гражданин следователь, рассказал всё, как было.
Прочитал пару листов, написанных следователем. Всё вроде правильно. Расписался. Поставил дату.
— Можно идти?
— Куда идти? — со смешинкой в светлых глазах переспросил следователь.
— Домой, — не сомневаясь, ответил я.
— Вы, Рязанов, в самом деле такой наивный или шутите?
Меня этот вопрос застал врасплох, и я молчал, не сообразя, что ответить.
В этот момент в кабинет вошёл, по моему предположению, тот самый сержант, но не угадал.
— Уведите, — распорядился следователь.
— Вставай! — приказал другой милиционер, рядовой. — Выходи! Руки назад!
Я повиновался, в одной руке держа кожаную шапку, другой поддерживая галифе за ошкур. У дверей «тёрки» столбами, широко расставив крепкие ноги, молча стояли ещё два сотрудника. Я шагнул в открытый проём двери и получил сильный подзатыльник, но уберёгся от «поцелуя» со стеной — представляю, во что превратилась бы моя физиономия, не обопрись я плечом в «тёрку», да и на голову успел до того удара на ходу надеть шапку.
— За что? — вырвался у меня крик.
— Будешь говорить правду? — спросил один из сотрудников, зайдя в камеру. За вопросом последовали удары в живот. От боли я сполз по «тёрке» на пол.
Кто-то из них сказал:
— Ты нам горбатова к стенке не лепи![545] Банкет! Сичас устроим тибе банкет.
— Признавайся! Последний раз спрашиваю: будешь колоться?[546] Или мозги будешь нам ебать? — с угрозой в голосе произнёс кто-то из моих мучителей.
— Прикрой дверь! — приказал кому-то один из сотрудников. А у меня всё ещё оранжевые круги плавали перед глазами — здо́ровово милиционер саданул в солнечное сплетение. — Чичас тебе будет банкет!
Град ударов посыпался на меня беспрерывно, но мне удавалось удерживаться на коленях.
Я мягко ударялся спиной о «тёрку» противоположной и боковых стенок — передо мной виднелась, возникая и пропадая, почему-то качаясь, щель приоткрытой двери. И вдруг я услышал голос:
— Не хотишь правду рассказать? Заставим! Всё выложишь, как на блюдечке!
Я не смог ответить ни на побои, ни на угрозы — дыхание спёрло. Кто-то из милиционеров настолько сильно опять саданул мне в грудь, что ни вдохнуть, ни выдохнуть невозможно. Удары сыпались отовсюду: милиционеры расположились во всех четырёх углах и упражнялись на мне, как на футбольном мяче, — ногами.
Казалось, что меня пинают вечность, в самом же деле «обработка», наверное, длилась всего несколько минут.
— Да! — выдохнул наконец-то я.
— Кончай! — приказал кто-то, вероятно «дирижёр», может быть, тот сержант. Я не различал лиц сотрудников, избивавших меня. Вернее, они мне совершенно не запомнились, а в глазах моих по-прежнему плавали какие-то оранжевые круги.
Истязатели вывалились из «тёрки», и тут же последовало указание мне:
— На выход! Вставай! Быстрея!
Я вываливаюсь из бокса. Меня раскачивает. Задеваю плечом о стены.
— Налево! Вперёд! Прямо иди! Ни вихляй!
«Да что я нарочно, что ли!» — проносится у меня в голове, но молчу.
И вот я снова в кабинете следователя.
— Проходите, садитесь, — пригласил он меня казённым голосом.
Я чуть мимо стула не угодил. Раскоординация движений. «Здорово они меня оттасовали», — подумалось мне. — Вот почему от них так разит по́том. Очень потная работа.
— Будем говорить правду? — спокойно спросил меня следователь.
— Меня ваши сотрудники избили! — Еле сдерживая слёзы, заявил я ему. — Я хочу написать заявление. Это беззаконие!
Следователь некоторое время молчит, а после равнодушным голосом произносит:
— Не советую. Мне доложили, что ведёте Вы себя… нехорошо. Нарушаете режим. И вообще ваше упрямство бесполезно. Преступление, совершённое вами всеми, очевидно. Есть неопровержимые вещественные доказательства. И хищение халвы из продуктового магазина — не единственное престпуление, совершённое вашей группой.
— Лично я ни в чём не виноват.
Слова следователя потрясли меня:
— Невиноватые к нам не попадают.
— Как? — удивился я.
— Вот так, — спокойно разъяснил следователь. — Если попался, значит, что-то совершил противозаконное. И выкручиваться бессмысленно. Лучше для Вас признаться по-честному. Думаете, нам неизвестно, что Вы не живёте дома? Не работаете нигде. На какие средства существуете? Логичный ответ лишь один: на средства, добытые незаконным путем. Воровством. Грабежами.
— Я работаю. При обыске ваши сотрудники отобрали…
— Изъяли.
— Изъяли документ, удостоверяющий, что я слесарь третьего разряда..
— Следует ещё проверить, что это за документ, подлинный ли? Но даже, предположим, он подлинный, факт хищения ящика халвы из государственного магазина — это факт, неопровержимый.
— Я работаю честно. Зарабатываю себе на жизнь.
— Где ты работаешь? На ЧТЗ? Мы это проверим.
— Нет на ЧТЗ, там квалификационная комиссия разряд установила. Четвёртый разряд. Слесаря.
Незаметно следователь перешёл на «ты» — ну старый знакомый!
…Молчу, опустив глаза. Не могу же я рассказать о заводе, о нашей коммуне, осознавая, какие последствия для моих товарищей эта откровенность может вызвать. Для всех ребят, кто мне верил. Особенно для Коли Шило. Ведь за Генку его чуть не упекли в лагерь. Досиживать условный срок. Вернее, недосиженный срок, оставленный после досрочного освобождения.
— Напрашивается единственный вывод, — продолжает следователь, — Что ты нигде не трудишься и в школе не учишься. Зачем тебе понадобилась эта пыль в глаза? И из дома ушёл. Чтобы освободить себя от всевозможных обязанностей перед семьёй и государством и с такими дружками, как Воложанин, заняться воровством и грабежами. Так поступают асоциальные, преступные элементы, тунеядцы. И милиция борется с вами. Чтобы защитить общество от таких…
Я молчу. Не дай бог, чтобы милиционеры в коммуну заявились. Что обо мне подумают ребята? Николая Демьяновича подведу. И всех остальных. Что за то грозит Коле Шило? Моему поручителю.
Опять в кабинет кто-то вошёл. Вероятно, следователь нажимал на невидимую мною сигнальную кнопку.
— Встать! — скомандовал вошедший. Это был всё тот же сержант.
Я почувствовал, моё настроение резко упало и тягостное осознание неотвратимого, чего-то грядущего, очень неприятного пронизало меня.
С трудом поднялся со стула — недавние побои как бы стали проявляться в движениях — пока сидел, лишь тихо ныли места, подвергшиеся милицейской тусовке[547]», поднялся — сразу там и сям возникали боли. Особенно донимала левая ключица, что-то палачи с ней сделали. Повредили, что ли?
— Ну, чево шаперишься, как рязанская баба? — подтолкнул вошедший сотрудник меня к двери.
— Не переусердствуйте, — тихо подсказал следователь.
Выходит, моим избиением руководил этот чистюля-следователь? Ну и гад! Вот по чьей указке потеют эти битюги-опричники. Одна шайка-лейка! Им надо, чтобы я во что бы то ни стало признался в том, чего не совершал! Зачем? Чтобы выпендриться перед начальством? Или они искренне считают, что я совершил кражу халвы?
Сейчас он здорово разозлился. И говорил в общем-то правильно. Формально. Но ко мне сказанное им не имеет отношения. Или — не совсем имеет. Нельзя же меня истязать за то, о чём я лишь догадываюсь. Так можно весь Советский Союз через строй милицейских палачей прогнать и выпытать, кто кого в чём подозревает. И заставить подписать что угодно.
— Сержант! Отставить. Я ещё займусь с подозреваемым. Садитесь. Я Вам (он снова перешёл на вежливый тон) даю возможность подумать, как следует. Где вы встретились перед тем, как пойти грабить магазин? Когда это было? Кто был инициатором кражи? Сергей Воложанин? Он уже имеет судимость за хищение. Знаете об этом?
— Знаю. Слышал от ребят, что он оттянул срок вроде бы за кражу. И неособенно доверял ему как человеку. Но и ссориться с ним тоже не решался.
— Выходит, знали, что Воложанин — вор, и всё же согласились совершить с ним хищение госсобственности?
— Я с ним не воровал.
— Не желаете признаться? Даю Вам пять минут на то, чтобы вразумиться: бесполезно выкручиваться — нам известно всё. Это последний шанс помочь себе и облегчить наказание за совершённое.
Следователь принялся что-то сосредоточенно писать, а я лихорадочно размышлял, как выпутаться из этой ловушки?
Несомненно, узнанное им обо мне всё нашептала сыщикам тётя Таня. Возможно, и подписала донос. За всё мне отомстила. Она не только меня ненавидит, а всех, кто лучше неё живет, даже сестру Анну Степановну. Потому что у неё корова есть. Потому что сама с Толяном впроголодь живёт. Всю ненависть ко мне и нашей семье, накопившуюся за многие и многие годы, она выплеснула на мою голову. Вот и следователь за ней повторяет и грозит. Что делать? Нет ответа. И нет возможности защититься.
— Прочтите и подпишите протокол допроса, — неожиданно возвращает меня к действительности голос следователя.
Читаю сочинение его. Оказывается, я отказываюсь отвечать на заданные им вопросы «по существу».
— А что такое — «по существу»? — спрашиваю я следователя дрожащим голосом. Видимо, «тусовка» не прошла даром: чувствовал я себя как-то странно, словно меня раскачивало.
— Это значит, Вы опять отказываетесь говорить правду.
— Я Вам рассказал правду, — голос у меня срывается.
— Хватит эту песенку про белого бычка, — отнюдь не дружелюбно кончает наш диалог следователь, и дверь за моей спиной опять открывается. Кто-то входит.
— В бокс, — спокойно произносит следователь. Фамилию, имя и отчество его мне так и не удалось узнать — да я просто об этом и не спрашивал: в таком состоянии находился, будто это не действительность, а дурной сон, из вязких пут которого невозможно высвободиться, вырваться, очнуться.
— Встать! — угрожающе командует сержант.
Ноги затекли, и я с трудом поднимаюсь.
— Товарищ следователь, — совсем обалдев, произношу я, — разрешите попить.
— Вот сержант, к нему обращайтесь с просьбами подобного рода, — посоветовал следователь, не глядя на меня.
— Следуй за мной! — приказывает сержант.
Иду по диагонали комнаты и механически запоминаю: оказывается, справа и слева стоят два стола со стульями, тоже, наверное, привинченные к полу, а в углу, возле следовательского стола, — огромный двухэтажный сейф. В коридоре меня ожидают, наверное, те самые два трудяги-палача. Выражения их физиономий не сулят мне ничего хорошего.
Ведут в знакомую камеру. Возле неё останавливают.
Приказывают повернуться к стене. Руки назад.
Повторяю:
— Хочу пить. И в туалет.
— Щас тебе будет всё, — это голос сержанта. — И выпить, и закусить тебе будет. Халвы полон ящик: жри — не хочу.
В «тёрку», после того как сержант открыл дверь, заходят двое милиционеров, после приказ следует мне:
— Заходи.
Делать нечего — захожу, удерживаемый сзади за обе руки. Двое тех самых, уже знакомых мне милиционеров стоят в правом и левом углах камеры. Молчат. Я догадываюсь, что сейчас здесь будет происходить. Боязни нет. Сильнейшая усталость навалилась на меня — сию секунду упал бы на квадрат отполированного пола и заснул. Мгновенно!
Повернулся и прижался спиной к дырчатой стене между двумя крепышами. Машинально застегнул пуговицы на бушлате. Усталость такая, что почти ничего не соображаю, кроме одного: сейчас начнётся расправа. И в это мгновение на меня навалилась тоска, тяжелая, всеохватывающая и всепроникающая. Ещё одна мысль запульсировала в мозгу, вялая такая мысль: что делать, чтобы защититься? Уже громыхнул засов, и вот тут началось такое, от чего у меня при воспоминаниях мурашки по спине бегают… До сих пор.[548]
— Пойдёшь в сознанку или будешь нам мо́зги ебать, — зло задал (вторично!) вопрос один из четырёх «сокамерников».
Я, заикаясь, почему-то пролепетал:
— Я следователю рассказал всё, что знаю…
Не дослушав фразу, опять получил такой мощности удар в живот, что сполз на пол, цепляясь сукном бушлата за выпуклости проколов в стене. Всё повторяется, как в кошмарном сне. Машинально закрыв лицо кистями рук и зажмурив глаза, я ощущал сотрясающие всего меня удары сапожищами в плечи, руки, грудь, бёдра… Чей-то сапог угодил мне в голову, шапка отлетела куда-то в сторону, и сокрушительный удар разбил нос. Кровь хлынула из него. Когда я оказался на полу, скрючившись от боли, то пытался выкрикнуть что-то, вероятно, просил прекратить избиение, но очередные тумаки не давали мне вымолвить и слова. Перед глазами, словно дьявольское видение, двигались огромные носки сапог. Они сокрушали со всех сторон моё тело, и оно скользило по отполированному квадрату металла, разворачиваясь то в одну, то в другую сторону. Наконец чей-то сапог с размаху, мягко, почти безболезненно задел мою скулу, и разноцветные звёзды и белые искры заполнили мои глаза, а во рту стало со́лоно. Оказавшись лежащим на спине, я захлёбывался соплями и кровью и судорожно закашлялся.
Сквозь сопение и уханья «футболистов» до меня донёсся голос, кажется сержанта.
— Не бей, сука, сапогой в морду! Меси по почкам иво, по печенкам, штобы кровью ссал! Морду не трожь! По новой хошь разборку, как с тем щипачём?
Кровавая лужа, ставшая видимой «блюстителям закона», потому что я размазал её, развазюкал, вертясь под «пенальти» заплечных дел мастеров, прекратила их служебное занятие. Один из сотрудников схватил меня за воротник бушлата и рывком поднял и посадил на пол. Во силища! Воротник пережал горло, и я увидел, как из моего рта вздуваются и лопаются красные пузыри!
— Што с ним? — спросил сержант, а возможно и не он, — я не очень соображал в тот момент, а все палачи выглядели одинаково.
— А хрен его знаит! Пузури пускат. Восьмирит[549] наверняк, — ответил один их моих «опекунов» молодым голосом.
— Кончай придуриваться! Ты!
Это приказание мне.
Я опёрся ладонями об пол и увидел, хотя в боксе стоял сумрак, как струйкой, тонкой такой струйкой, струится на пол и на рукав бушлата тёмная кровь, и в тот же момент почувствовал острую боль в левом плече. Где ключица.
Я хотел сказать, что не придуриваюсь, но лишь простонал от боли и пробормотал что-то нечленораздельное.
— Поднимите иво, — приказал сержант.
Меня подхватило несколько цепких и крепких ручищ. Поставили на ноги.
— Рука… — пробормотал я.
— Тащити иво в сартир, пущай обмоетца. Так эта ты опять захерачил? — обратился он к одному из своих «коллег». Тот промолчал. — Могут не принять такова расписнова. Я тебя, блядину, предупреждал, ты што делашь? А ежли он дубаря даст?[550] Я тебя суду первого сдам, понял? У ево жа отец с матерью есть, они жа хай подымут. Я жа говарил: не бей, сука, в морду сапогой! А ты всё наравишь…
Кровь из носа продолжала сочиться и оставляла крупные капли на полу. Меня начало трясти. От холода, что ли. Но милиционеры, одетые в синие рубашки, никакой тряски не испытвали. Я же в бушлате…
Я почувствовал вдруг, что обмочился. Позор! Как малыш! Из яслей. Это случилось, вероятно, во время «тусовки».
В умывальнике мне пришлось правой рукой долго смывать кровь, которая не прекращала капать (но уже не с такой интенсивностью, как ранее) на бушлат и сапоги.
— Иди, скажи лейтенанту (они упорно не называли друг друга по фамилиям или именам): задержанный не могёт участвовать в допросе.
Мне думается, он дал указание тому коллеге, что расквасил мне нос. Пусть, дескать, сам за свою лихость отвечает.
Без разрешения я снял с себя сапоги, размотал мокрые портянки, освободился от галифе и даже трусов и промыл их под грязным, заплёванным и захарканным умывальником, превозмогая острую боль в плече.
— Мне нужен мой носовой платок, иначе я истеку кровью, — сказал я, стоя возле туалета, милиционеру, держащему ведро с половой тряпкой.
— И хуй с тобой! Одним вором будет меньши, — зло ответил он.
— Я не вор, — парировал я.
— Все вы в несознанку[551] идёте, пока вас ни проучишь…арировалате…етые в синие рубашки, никакой тряски не испытвали. и упражнялись на мне, как на футбольном мяче — ногами.
— Следователь требует подозреваемого к себе, — объявил вернувшийся из кабинета сержант. Это он объявил тому, кто стоял с ведром и тряпкой. — И принеси ему платок.
Я принялся сплёвывать солонь, сочившуюся в горло, когда голову откинешь назад.
— Канчай! Баню тут устроил! А за тобой сопли собирай. Морду утри, к следователю идёшь.
— Не я себя избил.
— Поговори ещё, мы тебе такую вторую серию «Багдадскава вора» покажем, всю жись кашлять будешь, пока на нарах не подохнешь.
Я замолчал. Платок мне возвратили, и я тут же зажал им ноздри.
Сержант вручил мне половую тряпку и приказал:
— С одежды всё харашо вытрать нада. Понял? Давый шуруй. И с сапогов.
Левой, болящей, рукой я зажал нос, а правой «вытрал» бушлат и сапоги. И подумал: «Судя по выговору и поведению, этот верзила, да и остальные, — деревенские мужики. Может быть, из Колупаевки хулиганы. Только в милицейской форме. Да и по фене со мной «ботают».[552] За такого же принимают».
Когда обтирал сапоги, из носа опять сквозь платок просочилась кровь. Пришлось закинуть голову назад и сглатывать со́лонь, и в таком положении, превозмогая боль во всём теле, проследовать по коридору и предстать пред ясные очи следователя.
— В сортире подскользнулся и нос разбил, — пояснил конвоир.
Я смолчал.
— Ну как, Рязанов, не мокро в штанах? — поинтересовался следователь, вероятно оповещённый о случившемся кем-то из подчинённых.
«Ещё и издевается, скотина. Всё знает», — подумал я.
За меня ответил конвоир:
— Да не. Дома поссал и похезал. Сыскник доложил. Мокрый от умывания. На себя налил воды — жарко.
— Вот что значит забота о человеке, — ухмыльнулся следователь. — Теперь всё призна́ешь?
И он положил передо мной исписанные листки и какие-то старые папки-скоросшиватели. Некоторые листи показались мне знакомыми, где-то я уже их видел…
— Тебе и не надо ничего читать. Расписывайся там, где стоит «птичка». Подпишешь и отдыхать пойдёшь. Спокойно.
Я почувствовал, что наступает утро. Шторы на окнах посветлели, и сквозь ткань вырисовывались решётки.
— Я не подпишу, — заупрямился я, хотя осознавал, что делать этого не следует, — мне же хуже будет. Ещё хуже, чем сейчас.
Следователь долго, оценивающе разглядывал меня. Соображал. После произнёс:
— Сержант. Уведите его. Он ничего не понял.
Меня взяли за предплечья двое милиционеров. Приподняли. Стало больно. Во всём теле. Не осталось места, которое не источало бы нестерпимую боль, пронзающую весь организм. Но больше всего донимала по-прежнему левая ключица. Что они с ней сделали?
Проведя сквозь дверной проём, сопровождающие (неумышленно) задели меня своими телами, и я ойкнул — потом кольнуло под левой ключицей. Тут же раздался голос сержанта:
— Чево охаешь, как ризанская баба?!
И следователю:
— Ён восьмирит, товарищ лейтенант. Хотит нас обхитрить.
— Шагай нормально, чево, как беременна корова, ноги переставляшь? — поднукнул меня один из сопровождавших.
Я и в самом деле еле передвигал ноги. От побоев, наверное.
Когда отворяли дверь в бокс, во мне всё сжалось, будто от резко обострившейся боли и … страха!
Меня пинком, как уличный тряпочный футбольный мяч, запнули в камеру. Я не удержался на ногах и упал на снова блестящий, протёртый, с розовым оттенком, пол и помимо своей воли прокричал (мне показалось, что я кричу):
— Не надо! Я всё подпишу!
— Чо ты нам мо́зги ебал всю ночь? Подпишу — не подпишу! Коль щас ни подпишешь, мы из тебя каклету сделам! Дошло? Больши нянькатся с тобой не будим!
— Подпишу, — повторил я, еле слыша свой голос.
— Чо ты тама пиздишь? — уточнил сержант.
— Подпишу, — опять повторил я, и тоже не очень громко — во рту пересохло, язык не ворочался.
— Щас доложу, — оповестил напарников сержант.
Он моментально вернулся, бегом наверное, смотался туда-сюда.
— Волокити ево, — распорядился сержант.
— Встать! — скомандовал милиционер с физиономией, которую я совершенно не запомнил, — белое пятно. И пнул меня в подошву обувки. Я ойкнул. На носке его сапога запеклись мои сопли и кровь. Ещё с прошлой «тусовки». Не успел отмыть.
— Чево ты орёшь, мрась воровская! Моя воля, я бы тебя своими руками задушил, гавна кусок!
Я стал ворочаться на полу, чтобы выбрать не столь болезненную позу и подняться. Но мне это не удавалось. А в ушах звучали его слова. Вот что для них представляет человек! Кусок этого самого. Надо немедленно подписывать, пока рёбра или что ещё не поломали. Или не убили совсем.
Вероятно, в те минуты я представлял жалкое зрелище. Сержант, наблюдавший за моими тщетными потугами, догадался, в каком состоянии я нахожусь.
— Короче! Бирите ево — и в кабинет. Хватит! Мы ево хорошо уделали. Всю жись будет помнить.[553]
И правда, всё, что сотворили со мной эти, не знаю, как их назвать, существа, что ли, в тюрьме (там я опять попал в руки палачей), помнил. В концлагере в первый год или больше я не мог трудиться на общих работах — медики признали меня годным лишь для «лёгкой» работы и определили в общагу — дневальным. Опытным, видать, палачам попался в лапы.
…И вот я опять в кабинете следователя.
Прошлый раз, когда меня подняли со стула, на дерматиновом его сидении коричневого цвета ясно отпечатались мокрые полукружия моих ягодиц. Сейчас оно было защищено газетой, свёрнутой пополам. Придерживаясь за спинку стула, я, сморщась (этого, наверное, не видел следователь) от боли, примостился на краешке его, чтобы уменьшить площадь соприкосновения с телом.
Стоять рядом со столом мне казалось легче, но, как распишешься в таком положении? Пришлось сесть.
— Всё осознал, Рязанов? — спросил меня следователь.
— Да, — сиплым голосом ответил я.
— Напрасно ты упрямился (опять разговор как между старыми знакомыми). Мы не таких, как ты, ухарей ломали.
— Я не ухарь. Я работяга. Слесарь. И ничего не крал. Никогда и ни у кого. Никогда, — просипел я.
— Подписывать будешь? — настороженно спросил «старый знакомый». Вероятно, он подумал, что я пытаюсь опять отказаться.
— Буду. Иначе вы угробите меня.
— Разве я лично хоть пальцем тронул Вас? — опять перешел он на «вы».
— Эту зверскую расправу они творят по Вашему приказанию. И когда я выйду на свободу, то обжалую действия Ваших подчиненных. И Ваши — тоже.
— А ты в ближайшие двадцать лет, или вообще никогда, не выйдешь на свободу. Поверь мне, я об этом лично позабочусь. Подписывай.
Я расписался там, где красовалась «птичка».
Следователь моментально выхватил лист из-под руки.
— Но я не поставил дату. Сегодня какое число?
— Дату мы поставим сами. Даты нигде не ставьте.
— Почему?
— Вопросы здесь задаю я. И только я.
Следователь подсунул мне раскрытую пыльную папку.
— А могу я прочесть, за что расписываюсь, что подтверждаю?
— Совсем не обязательно. За кражи, грабежи, которые ваша преступная группа совершила.
— А Вам не кажется, что на суде выяснится правда?
Допрашивающий словно безразлично промолчал — ни о чём разговор.
После подписи второго «дела» (я успел разобрать это слово на папке) следователь внимательно разглядывал что-то на выхваченном у меня листе и после сказал:
— Ты неграмотный, или нарочно? По документам у тебя неполные шесть классов средней школы. Что ж ты мне голову морочишь? Рисуешь какие-то загогулины, как курица лапой?
— Меня всего трясёт. Разве Вы этого не видите? Вот как я могу писать? Дайте лист бумаги.
Он вынул из ящика лист, и я сверху несколько раз повторил свой автограф.
Следователь долго сверял начертанное мною на верху листа и подпись на документе.
— Подписывайте, как можете. В случае чего графическая экспертиза подтвердит. Если откажетесь.
В это мгновение, когда я занёс ручку, чтобы «подтвердить» третье или четвёртое «уголовное дело», неожиданно на лист шлёпнулась крупная алая клякса. Я бросил ручку и зажал нос платком, который держал в левой руке, и откинул голову на спинку стула. Скосив глаза, мне стало видно, как следователь, выхватив из кармана брюк платок, осторожно промокал, прикладывал его к тому месту, где произошло это независящее от меня событие. Хозяин папки придвинул её ближе к краю, достал из того же кармана связку ключей и одним из них быстро открыл двухэтажный сейф, вынул из него графин с водой, что меня удивило, чистую тряпочку, полил её из графина, отжал и стал промокать злополучное пятно.
Все эти действия совершались молча.
— Уведите подозреваемого, — приказал следователь недовольным голосом. — И прекратите обработку.
— Встать! — послышался за спиной знакомый голос одного из милиционеров.
Покорячившись и оставив на чистенькой столешнице дактилоскопические кровавые отпечатки, с невероятным усилием принял вертикальное положение. И подумал: «Я предатель».
— На сегодня — всё. Зайди ко мне, сержант, — предупредил моего «ангела-хранителя» следователь. Когда я встал, газета, прилипшая к галифе, упала на пол при первом шаге. Это была «Правда».
Следователь неожиданно шустро выскочил из-за стола и схватил её, свернул и бросил в проволочную урну, стоявшую возле сейфа.
За окном ещё более посветлело. Меня, держащегося за спинку стула, вдруг так замутило, что я шмякнулся на то же самое сиденье.
Вероятно, мой вид (побледнел?) заставил следователя дать указание сержанту:
— Принеси ему понюхать. В дежурке, в шкафчике.
Держа мою голову за затылок — мне показалось, — в ту же секунду лапища сержанта сунула в нос (не под нос, а именно — в нос) клочок ваты, и я задохнулся острым запахом нашатырного спирта.
— Дыши глыбжи, — приказал он, когда я попытался отвернуть голову в сторону. — Сопляк! В омморок упал. Как дамочка херова.
— Сержант! — сердито одёрнул подчинённого следователь. — Не забывайтесь! Вы не в дежурке, а в кабинете следователя находитесь.
— Слушаюсь, товарищ лейтенант, — поспешил извиниться сержант.
— Штаны, — сказал я, нанюхавшись нашатыря.
— Чево? — уже не столь грозно спросил милиционер.
— Штаны упали… галифе, — повторил я, поддерживаемый цепкими ручищами сержанта за воротник бушлата.
— Надевай!
Я не сразу уцепился за ошкур и подтянул галифе до пояса.
— Очухался, — доложил сержант следователю.
— В бокс. Пусть отдыхает, — приказал следователь.
…Теперь до получения зековской униформы я был обречён правой рукой поддерживать папашин подарок, привезённый аж из Венгрии. Ему-то боевой трофей пришёлся впору, а мне, худырьбе…[554] Трагическое и комическое…
…Мы поплелись в «тёрку». Переставлял ноги, опираясь на облупленные, покрашенные зелёной, ядовитого оттенка, краской стены. К тому же тело моё беспрестанно содрогалось от холода — бельё-то я простирнул и отжамкал в туалете над омерзительно поганой раковиной и оно ещё не высохло на мне.
В боксе я повалился на пол. Кое-как закутавшись в бушлат, подтянув, превозмогая боль, колени к животу, продолжая трястись, как в лихорадке, я постепенно успокоился, даже чуть согрелся, мучительно поворачиваясь с боку на бок, временами впадал в дремоту. Не знаю, что это было, — может быть, и не дремота, а бред.
Я слышал: иногда к двери бокса подходил кто-то и спрашивал, не открывая дверей:
— Рязанов? Отвечай имя-отчество, место рождения, число месяц и год.
Я отвечал, как мог, как получалось. Проверявший удалялся, цокая подковами, наверное к заветному выходу, возле которого была оборудована будка не будка — с дверью. Засов, на который она закрывалась, отворял лишь сидевший в этой будке дежурный. И запирал — тоже он.
Меня периодически сотрясал мелкий озноб и держал тело в сильном напряжении. Иногда он прокатывался по мне волной. Подчас тело стягивало судорогой, и я растирал окаменевшие мускулы пальцами рук, которые по счастливой случайности не повредил о стенки камеры-«тёрки». Больше всего тревожили ушибленные места. Толстый, на ватной подкладке, суконный фэзэушный[555] бушлат спас меня не только от холода — во что моё тело превратили бы четыре изверга, мутузившие меня в боксе, выколачивая «чистосердечное» признание? Ведь неспроста один из них, когда меня после «обработки» доставляли в кабинет следователя, сказал (он шёл позади):
— Ишшо мо́зги будишь нам пудрить — кровью ссать будишь. А посадить тебя си равно посодют — у нас невиновных нету. Есть только деушки невиновные, пока у них на кунки волоса не выросли.[556]
…Наконец дверь открыли. Убедились, я ли есть я.
— Подымайся на отправку.
Это уже был другой милиционер и рядом с ним другая смена.
Как ни мучительно трудно было встать, я всё же преодолел своё сопротивление и разогнулся — распрямился, придерживаясь за «тёрку»-стенку.
За дверями ждал «почётный» эскорт из двух здоровяков. Меня повели в туалет.
Я оторвал от рубашки снизу полоску ткани и использовал этот клочок… После напился из-под крана над грязной до отвращения раковиной. Из ладони, предварительно помыв руки.
И — опять бокс.
Начал приходить в себя. Где Серёга, Кимка, Витька?
Неужели и их подвергли такой же зверской «обработке»? Что произошло дома? Маму наверняка не пустили в отделение.[557] Теперь, после того как я «сознался», сам не зная в чём, меня должны отправить в тюрьму. Вот во время суда я и расскажу, как из меня выбивали всю ту чушь, которую написал чистюля-следователь со своей шайкой хулиганов. А то и бандитов. В милицейской форме.
…Вот почему «гадов» и «мусоров» так ненавидит Серёга, понял я, когда мы, все четверо, встретились перед судом, и я рассказал им о том, как меня избивали в отделении милиции. Зубами скрипит Воложанин при одном упоминании «милодии». Не единожды побывал у них и на своей шкуре испытал, наверное, то, что пришлось перенести и мне в этот раз. Однако не слышал от него об «обработках». Стыдился, полагаю, признаться в тех унижениях, когда и из него выколачивали признания. Или нас не хотел пугать.
Ну ладно, он — вор. А нас-то зачем в эту грязь и кровь затащил? Разве не предполагал, что «заводит в блудную»! Разве он не знал, чему нас там подвергнут, каким испытаниям? «Благодаря» Серёге я принёс столько горя маме! Да и не особенно приятно Славке слышать, что брат его находится в тюряге. Позор! И всё из-за меня, моего легковерия. Ну заделал мне «козу» Серёга! Я тоже — хорош. А Витька, Кимка? Кимка вообще какой-то дёрганный. Больной. Что с ним будет, если нас милиции удастся всё-таки засадить в тюрьму? А я с Витькой? Ну он-то со своей злостью выживет! Да и с Серёгой у него давно отношения вась-вась.
Все мы попали в капкан. Удастся ли вырваться?
Находясь в боксе, еле сдерживался, чтобы не разрыдаться, не завыть, как воют голодные бездомные собаки зимой в мороз.
Усугубило моё состояние и то, что вспомнилась Милочка, уж теперь-то несомненно потерянная мною навсегда, эта прекрасная девочка, в платьице с белыми горошинами и с большой куклой в руках, — такой она мне увиделась. Как на групповой любительской фотографии, сделанной, помнится, в сорок пятом году её сродным братом.[558]
Странно, однако это воспоминание и обрадовало меня. Чем? Да тем же, что живёт в Челябинске на улице Свободы такая девочка, теперь уже девушка, студентка, будущий врач Людмила Малкова и она даёт мне силы выстоять в этой неравной борьбе со всеми трудностями, ожидающими меня впереди. Кто она для меня? Никто — и всё. Пока она живёт во мне, и я буду жить. Хотя, вполне вероятно, мы более уже никогда и не встретимся.
…Слёзы потекли из уголков глаз через разбитую переносицу по щеке на ухо шапки, а с него закапали на отполированный чьими-то сапогами — и мною немного тоже — пол.
Следующий (фактически уже начавшийся) день до самого позднего вечера, как я мог приблизительно определить, прошёл без всяких происшествий. Меня донимал лишь один вопрос: «Как долго они ещё будут терзать «задержанного Рязанова» в этом железном кубике?»
Есть мне совершенно не хотелось. Может быть, так подействовала следовательская и его помощников-палачей встряска? Впрочем, и раньше я мог подолгу оставаться без пищи и не испытывал чувства голода. Забегая вперёд, скажу, что эта особенность моего организма в будущем неоднократно выручала меня. И оберегала.
Поразмышляв, я пришёл к выводу: вполне возможно, что они упекут нас в тюрьму. Если такое случится, то придётся перенести, выдержать и это лихо. Напрячь все силы. Не сдаваться! Только не сдаваться, чтобы с тобой не делали, что хотят, не стать рабом. То, что произошло со мной в милиции и тюрьме (по указанию того же следователя-садиста), унизительно для мужчины, позорно. Хотя это уже давнишнее прошлое.
…А сейчас, двадцать седьмого февраля, я терпеливо ждал. И опять стал тешить себя мыслью, что всё «дело» может неожиданно повернуться в мою пользу, если удастся доказать лживость предъявленных обвинений. Ночью двадцать восьмого февраля дверь «тёрки» с бряцаньем отворили, и опять незнакомый мне милиционер назвал мою фамилию, а я по привычке продиктовал свои ФИО и всё остальное.
И вот я снова предстал пред «ласковые» очи лейтенанта. Того самого. Почти родного следователя.
Он выглядел спокойным и даже, мне показалось, благостным. И довольным.
Пригласил сесть на стул. Газету уже не подложил.
— Вот тебе бумага, и сам перепиши показания. Без отсебятины. Так, Рязанов, надо. Не перепутай: улица Карла Маркса, дом номер девятнадцать, подвальное помещение, продмагазин, двадцать второе февраля пятидесятого года. Днём. И остальное…
Я переписал и подписал.
— Почему ящик халвы не указал? Вот тут допиши.
— Теперь подпиши эти «дела».
Я и это приказание выполнил. Следователь продолжал пребывать в явно хорошем настроении и поэтому позволил себе удивить сопляка-подследственного своими уникальными способностями гадалки (или предсказателя чужих судеб): наша «преступная группа» получит сроки наказания «на полную катушку», а государство, общество избавятся от таких «вредных элементов, как Воложанин, Рязанов и иже с ними, мешающих народу строить коммунизм».
Он наслаждался тем, что добился своего: я собственноручно написал «признание» и поставил автограф на десяти папках с грифом «Дело». Он сбагрил то, что годами залежалось в двухэтажном сейфе и теперь сулило очередную звёздочку на новенькие, сверкающие серебром погоны, повышение по службе и разные блага в виде денежных вознаграждений и прочего. Обо всём этом я раньше знал, но с чужих слов и не вполне доверял подобным слухам. Сейчас — убедился.
И размышлял, не повредили ли мне палачи внутренние органы и кости (левая ключица постоянно и резко напоминала о себе). Ну синяки-то сойдут, кровоподтёки рассосутся… А вот с ключицей что-то «обработчики» сотворили неладное. Может, сильный ушиб? Или перелом?[559]
Об этом, оказывается, думал и чистюля-следователь.
— Должен тебя, Рязанов, предупредить, что, если во время приёмки в тюрьму, ты начнёшь плести о своих травмах, якобы полученных в отделе милиции от наших сотрудников, и тебя не примут, ты вернёшься к нам. Можешь догадаться, какой тебя приём здесь ждёт? О травмах, полученных тобой во время уличной драки, акт уже составлен. И подписан тобой же. Имей в виду. И учти: кто к нам попадает, дальше его путь может быть или тюрьма, или … Понял, да? На снисходительность народного суда тоже не следует надеяться. Они действуют по принципу: полезнее осудить невиновного, чем освободить из-под стражи вора или бандита. И верно рассуждают. По-государственному.
Это умозаключение следователя вызвало во мне протест, но я вовремя спохватился и не совершил ошибки — промолчал.
…Если б посторонний человек посмотрел на нас со стороны (например, если б следователь отодвинул штору с зарешёченного окна), то вполне мог бы принять нас за мирно беседующих знакомых о новом, просмотренном нами кинофильме или о прочитанной интересной книге.
«Неужели и судьи поверят всей этой абракадабре?» — думал я. — Ведь двадцать второго февраля, когда была совершена кража халвы, я весь день находился на работе. Это могут подтвердить многие ребята и документы… Но вспомнил, что коммунары, прошедшие советское судилище, отзывались о нём и заседателях всегда с неодобрением и назвыали их «кивалами».[560]
А следователь, похоже, берёт меня на пушку, что суд вынесет тот приговор, какой ему подскажет милиция. Разве так может быть? Суд совершенно не зависит ни от кого.
Когда довольный следователь все подписанные мною папки «дел» и переписанные «признания» уложил в сейф, то мне показалось, что он проявляет ко мне внимание и заботу. Он спросил, например, как я себя чувствую, не кровоточит ли нос?
Но я решил: он мой враг. И не пошёл на откровенность.
— Вот и отлично. Ещё отдохнешь, и вас отвезут на Сталина, семьдесят три.
— А что это? — спросил я.
— Тюрьма, — спокойно и даже равнодушно ответил ныне словоохотливый следователь. — А точнее — следственный изолятор.
«Неужели он искренне верит, что отправляет в тюрьму перевоспитывать преступника? — с большим недоверием подумал я. — Или его так намуштровали в учебном милицейском заведении? Что он, интересно, закончил? Какое-нибудь училище».
— Перед отправкой умоешься — я распорядился.
— А избивать меня больше не будут?
— Был бы ты сообразительней, никто к тебе не применил бы принуждение. И не искал бы ты пятый угол в боксе. Повторяю: запомни на всю жизнь — в милицию невиновные не попадают. Усвоил? Попал в милицию, — значит, виновен.
Мне хотелось спросить: «А где же те люди, совершившие преступления и за которых меня принудили признать их грабежи и кражи? И, возможно, ещё что-то». Но я уже настолько пришёл в себя, что знал приблизительно ответ следователя. И промолчал.
— Если приёмщики спросят, отвечай: «Нормально. Нос повредили ещё до задержания милицией. Дружки». Кирюхи — так вы друзей называете? При осмотре могут оказаться травмы. Скажешь, что дрался по пьянке. Хулиганил на улице. О возврате я тебя предупредил. Не забывай.
Я промолчал.
— Понял всё?
— Да, това… гражданин следователь.
— И скажи спасибо за то, что тебя ещё мягко обработали.
— Кому же я должен сказать спасибо за то, что меня искалечили? Ключица до сих пор покоя не даёт при малейшем движении руки? И что со мной стало, если б меня Ваши подчинённые-костоломы «обработали не мягко»?
— А они тебе об этом не говорили? — вопросом на вопрос ответил следователь, сразу как-то помрачневший.
Он, вероятно, нажал кнопку под столешницей, ибо сразу явился дежурный милиционер.
— Я предупредил тебя обо всём, Рязанов. Если ты умный человек, подумаешь и последуешь моему совету.
И вошедшему дежурному:
— В бокс его.
Я облегчённо вздохнул, подумав: «Больше с этими извергами мне уже встретиться не придётся».
С этими, действительно, более уже не встретился. Но как жестоко я ошибся! Ибо несть у нас извергам числа и по сей день. Особенно в милицейских мундирах.
1974–2010 годы
P.S. Только что посмотрел по центральному телевидению («НТВ») передачу о Викторе Абакумове и в который раз подивился своей наивности и почти детскому восприятию того, что со мной вершили палачи карательных органов, потому что мои убеждения (недавние) по российскому телевидению чётко огласил президент РФ Д. А. Медведев, назвав нашу государственную пенитенциарную систему репрессивной, а не воспитательной, — ведь это было известно всему миру, но только не рабам и жертвам так называемого социалистического строя, самого бесчеловечного и кровавого во все времена.
10 мая 2009 года