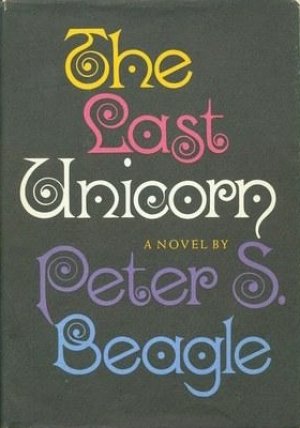
Peter S.Beagle
The Last Unicorn
© by Peter S.Beagle, 1968
© М.Немцов, перевод, 1989
Максим Немцов.
Последний единорог: несколько слов об этой книге
Питер Бигл, наверное, ничем не выделяется из всех тех людей, которых поклонники любят называть «создателями миров» — ну, вы наверняка знаете: «миры Азимова», «миры Балларда», «миры Силверберга»… Критики сравнивали Бигла с Льюисом Кэрроллом и Дж.Р.Р.Толкином. Но в этой книге читатель не найдет ни изощренного юмора первого, ни мистико–диалектического эпоса второго.
Пусть это не послужит ему разочарованием. «Последний Единорог» — книга полутонов. Здесь нет ни захватывающих приключений, ни потрясающей правды жизни. Зато в ней есть нечто если не большее, то весьма отличное по качеству. Фантазия.
Все тонкие и хрупкие постройки одноименного жанра, жанра «фэнтэзи», держатся, в сущности, на одном — на фантазии того человека, который их создает. Их, фактически, больше ничего не связывает с тем миром, в котором они рождаются: ни обязательства реализма, ни «социальный заказ», ни страх перед читателем или ужас перед критикой. Всё целиком зависит от доброй воли автора и от его желания и умения довести до конца предпринятый труд. Он — единственный хозяин той маленькой вселенной, которую создает на глазах у читателя, он — и ее верховный властитель, и ее абсолютное божество. Он в своей книге — сам Господь Бог, и принимать нам или не принимать создаваемые им законы существования персонажей и навязываемые им (и нам) правила игры, зависит только от нас самих. В конце концов, книжку можно захлопнуть и на середине.
Но случается, что какое–то странное доверие к автору останавливает и удерживает нас до самого конца. Доверие, основанное на непонятной робости перед ним, — такое безоглядное чувство от превосходства и обаяния его фантазии. «Ибо, — как писала Урсула Ле Гуин в эссе «Почему американцы боятся драконов?», — фантазия правдивы, разумеется. Она не отражает фактов, но она правдива. Дети это знают. Взрослые тоже это знают, и именно поэтому многие боятся фантазии. Они осознают, что ее истина бросает вызов, угрожает даже, всему фальшивому, липовому, необязательному и тривиальному в жизни, что заставило их самих поддаться и позволить ему существовать. Они боятся драконов, поскольку боятся свободы. …Поэтому я твердо верю, что мы должны доверяться нашим детям. Нормальные дети никогда не смешивают реальность с фантазией — по крайней мере, гораздо реже, чем мы, взрослые… Дети отлично знают, что единороги — не настоящие, но знают они и то, что книжки про единорогов — хорошие книжки, истинные книжки…»
После Толкина традиционная литературная сказка уже не могла оставаться прежней. Границы жанра неимоверно расширились, он начал вбирать в себя как черты «иной», «жизнеподобной» литературы, так и приметы современности, не ограничиваясь больше традиционными сюжетами и клише, пусть используемыми сколь угодно изобретательно. Так, в частности, появился самый распространенный гибрид литературной сказки и научной фантастики (что, собственно, в основном, и известно нашему читателю под названием «фэнтэзи»). Но ведь были еще и фэнтэзи–приключения (Роберт Силверберг), фэнтэзи–хроники (Фрэнк Герберт), фэнтэзи–исторические романы (Кэтрин Кристиан и Мэри Стюарт) — и даже фэнтэзи–реализм (Урсула Ле Гуин) — да и многое другое…
Никому из всех уважаемых авторов не удалось, правда, подняться до творческих высот Джона Роналда Руэла Толкина. Его тщательно разработанная модель развития языка и культуры, модель функционирования всего духовного универсума, воссозданная вдумчивым филологом и тонким стилистом, навсегда, видимо, останется единственным и непревзойденным литературным памятником подобного рода. Питер Бигл очевидно не преследовал выполнения такой задачи. Говоря сухо, в «Последнем Единороге» он попытался вплавить в литературную сказку черты психологического ромна «большой литературы». И читатели всего мира вот уже больше тридцати лет, видимо, считают эту попытку удачной…
Питер Сойер Бигл родился в 1939 году в Нью–Йорке, но большую часть жизни прожил в Северной Калифорнии, в Санта–Крузе. Окончив в 1959 году Университет Питтсбурга, Бигл уехал за границу и жил долгое время в Париже, путешествовал по Франции, Италии и Англии. Книги его, во многом недооцененные, изредка переиздаются до сих пор: «Прекрасное уединенное местечко» (1960) — история о человеке, вернувшемся с собственных похорон в мир живущих, которую он написал, когда ему не было еще и двадцати лет, пост–битническая автобиографическая эпопея «По одежке вижу я…» (1965), травелогия «Чувство Калифорнии» (1969), биография Иеронима Босха «Сад земных утех» (1982) или самая последняя — сборник рассказов «Гигантские кости» (1997). В самом начале творческой биографии критики называли его «подлинным нонконформистом, …который уже вооружен опытом, но еще достаточно храбр, чтобы пускаться туда, куда старшие боятся ступить». Его рассказы печатались в журналах (включая престижный The Atlantic Monthly), писал он также для кино и телевидения, участвовал в создании сценариев мультфильма Ральфа Бакши «Повелитель Колец» и диснеевской «Русалочки», а поклонникам «Звездного пути» известен как сценарист эпизода «Сарек». Даже существует кассета с его песнями, хотя найти ее будет, наверное, трудновато (там Бигл поет и «Песнь Трактирщика»). Однако, известность и любовь все же пришли к нему после публикации в 1968 году фантазии «Последний Единорог». За нею последовали другие сказки: страшные — «Лайла–Оборотень» и «Приди, Леди Смерть», забавные, вроде «Воздушного Народца» (одно Общество Творческого Анахронизма чего стоит) или сборника рассказов «Носорог, цитировавший Ницше», темные («Песнь Трактирщика») и светлые («Соната Единорога»)…
В 1981 году в США вышел мультфильм по роману Бигла, и решение продюсеров доверить сценарий самому автору и, более того, сохранить авторскую версию, было удачным и спасло фильм от забвения как еще одну голливудскую поделку. Кто–то мудро рассудил также, что истории поверят только тогда, когда персонажи заговорят так, чтобы их не забыли, и здесь создатели фильма тоже выбрали лучших из лучших: Миа Фарроу (Единорог и Леди Амальтея), Кристофер Ли (Король Хаггард), Джефф Бриджес (Принц Лир) среди прочих.
…То, что у Бигла получилось в этой книге, — стилистический коллаж в пастельных тонах, подернутый дымкой легкой авторской иронии, развернутая притча, где envoy — на каждой странице. Хотя сам Питер Бигл писал, что «Последний единорог» для него — «как некий персональный И–Цзин, не дающий мне ни советов, ни своевременных предупреждений, а лишь медленно рассказывающий мне о том, что я уже забыл или спрятал от самого себя», это отнюдь не справочник «Как вести себя в жизненных передрягах», нет — это книга чарующая и способная вызвать слезы умиления и — кто знает? — может быть, какое–то чувство сродни катарсису… Эдна Сент–Винсент Миллэй как–то сказала, что от чтения истинной поэзии голова слетает с плеч и уплывает далеко–далеко. Моя после этой книги до сих пор не вернулась…
Это книга о Великой Тайне Женщины. Это книга о Бессмертной Любви. О Добре. О Времени. О том, чего вообще нельзя коснуться пальцами или понюхать, что постоянно ускользает, даже если смотришь боковым мимолетным зрением. О том, как дьявольски трудно жить не в черном поле и не в белом поле, а в «бессчетных оттенках серого», как это хорошо понимал и мудрый профессор Толкин. О том. Как в нашем вечном странствии от зимы к весне в лето до самой поздней осени мы что–то неуклонно теряем — год за годом, шаг за шагом… Или же обретаем? — нет, не бессмертие, быть может, вообще не способное любить, но ту блаженную окончательность, которая сама по себе — вечный двигатель того малопонятного процесса, название которому — Жизнь и Фантазия.
Вечность в мимолетном, вселенная в песчинке…
Странное дело: пока я работал над этой книгой, под моими окнами, выходящими на пока еще тихую городскую улочку, что горбится по сопкам, неся на себе драконий гребень пятиэтажек из белого кирпича, каждое утро раздавался стук копыт. Я не раздвигал штор по утрам, чтобы восточное солнце не было в окна и не будило дремлющую пыль на книжных полках. Я их так и не раздвинул, не посмотрел на единорогов. В том, что у меня под окнами каждое утро пробегали осенние единороги, не было никаких сомнений — одного–двух видели даже в Лос–Анжелесе. Мне говорили, что это, наверное, цирковые лошади на прогулке или кооператоры из соседнего парка едут катать детишек в гавань… Но когда я, имеющий на эту книгу не больше прав, чем любой читатель (и уж, конечно, гораздо меньше прав, нежели сам автор, затеявший всю эту историю где–то посреди Америки), — когда я поставил последнюю точку в переводе и отодвинул кипу листов в сторону — с того самого утра я не слышу больше никаких копыт под своим окном…
1991–1998
Посвящается памяти д–ра Олферта Даппера,
который видел дикого единорога в лесах Мэна в 1637 году,
и Роберту Натану, видевшему одного–двух в Лос–Анжелесе
I
Единорог жила в сиреневых лесах, и жила она там совсем одна. Она была очень стара, хотя и не знала этого. Ее цвет уже не казался таким беззаботным, какой бывает морская пена, — теперь он, скорее, напоминал падающий снег в лунную ночь. Но взор ее был по–прежнему ясен и неустанен, и передвигалась она все так же — словно тень по волнам.
Она вовсе не походила на рогатую лошадь, какими часто рисуют единорогов, — нет, она была меньше, копыта ее были раздвоены, а сама она обладала той древней дикой грацией, какой у лошадей отродясь не было. Олени лишь робко и слабо подражали ей, а у коз эта грация проявлялась только в каких–то издевательских плясках. По сравнению с длинной и гибкой шеей ее голова казалась меньше, чем на самом деле, а грива, спадавшая почти до середины спины, была мягкой, как пух одуванчиков, и нежной, как усики бабочек. У нее были острые уши и тонкие ноги с белым оперением у лодыжек, а длинный рог над глазами сиял и переливался собственным жемчужным светом даже в самую темную полночь. Им единорог убивала драконов, им лечила одного знакомого короля, чья отравленная рана никак не затягивалась, и им же сшибала с веток спелые каштаны для медвежат.
Единороги бессмертны. Им свойственно жить в одиночестве в каком–нибудь одном месте: обычно это лес, где есть озеро, достаточно чистое, чтобы они могли видеть в нем себя. Единороги немножко тщеславны от сознания, что они — самые прекрасные существа в целом свете и к тому же — волшебные. Вступают в брак они очень редко, и нет леса более зачарованного, чем тот, где единорог рождается.
В последний раз она видела другого единорога очень давно, когда молодые девушки, до сих пор время от времени пускающиеся на ее поиски, звали ее на каком–то чужом языке. Но, если не считать этого воспоминания, она не имела представления ни о месяцах, ни о годах, ни о столетиях — она не ощущала даже смены времен года. В лесу единорога всегда была весна — потому что она жила там, бродила целыми днями среди огромных буковых деревьев, присматривая за зверьем, что обитало в земле и под кустами, в гнездах и норах, под корнями и в верхушках деревьев. Дети и родители, волки и кролики, они охотились, любили, рожали детей и умирали, а поскольку единороги ничего этого не делали, то она никогда не уставала за ними всеми наблюдать.
Однажды случилось так, что через ее лес ехали два человека с длинными луками — они охотились на оленя. Единорог следила за ними, передвигаясь так осторожно, что даже их лошади не чуяли, что она близко. Вид людей наполнял ее старой, медленной, странной смесью нежности и ужаса. Она никогда никому не позволяла себя увидеть — если это зависело от нее самой, конечно, — но ей нравилось смотреть, как люди едут мимо, и слышать, как они разговаривают.
— Не нравится мне этот лес, — ворчал старший из охотников. — Тот, кто живет в лесу единорога, со временем сам наполняется его волшебством и, как правило, обучается искусству исчезать. Не будет нам здесь охоты.
— Единорогов давно уж нет, — отвечал второй. — Если они вообще когда–либо были. А что? Лес как лес…
— Отчего тогда здесь листья не осыпаются? И снега не бывает? Говорят тебе, хоть один единорог в мире, да остался — и дай ему Бог счастья, старику одинокому. Но пока он живет вот в этом лесу, не будет охотника, который домой в сумке привез бы что–нибудь больше синицы. Вот дальше езжай — сам увидишь. Знаю я этих единорогов.
— По книгам, — подхватил второй. — Только по книгам, по сказкам, да по песням. Три короля правили — и даже шепотка не было, что единорога видели, ни здесь, ни в какой другой стране. Ты знаешь об единорогах не больше моего, ведь я читал те же самые книжки и слушал те же самые истории — и тоже ни одного пока не встретил.
Первый охотник на некоторое время умолк, а второй стал что–то уныло насвистывать. Затем первый произнес:
— Моя прабабка однажды видела единорога. Она мне об этом рассказывала, когда я был маленьким.
— Неужели? А она поймала его золотой уздечкой?
— Нет. У нее такой не было. Чтобы поймать единорога, золотая уздечка не нужна вовсе — это все сказки. Надо иметь только чистое сердце.
— Ага, — хмыкнул человек помоложе. — А она хоть покаталась на своем единороге–то? Без седла , под деревьями, как нимфа на самой заре рождения мира?
— Моя прабабка боялась больших животных, — ответил первый охотник. — Она на нем не каталась, а сидела тихо–тихо, и единорог положил голову ей на колени и уснул. И она не пошевельнулась, пока тот не проснулся.
— А как он выглядел? Плиний описывал единорога как очень свирепое животное, телом похожее на лошадь, головой — на оленя, ногами — на слона, а хвостом — на медведя. Он обычно рычит низким голосом, и его единственный черный рог — двух локтей в длину. А китайцы…
— Моя прабабка говорила только, что от единорога приятно пахло. Она никогда не выносила запаха зверья — никакого, даже кошачьего или коровьего, не говоря уже о диких запахах. Но запах единорога ей очень понравился. Она даже как–то заплакала, рассказывая мне об этом. Но она тогда, конечно, была уже очень старой и плакала обо всем, что напоминало ей молодость.
— Давай–ка повернем назад и поохотимся где–нибудь в другом месте, — промолвил вдруг второй охотник. Пока они разворачивали коней, единорог мягко отступила в чащу и вышла на их след, только когда они снова оказались далеко впереди. Люди ехали молча, пока не завиднелась опушка леса, и тогда второй охотник тихо спросил:
— Почему они ушли, как ты думаешь? Если они вообще когда–нибудь были…
— Кто знает? Времена меняются. Вот ты бы назвал этот век подходящим для единорогов?
— Нет, но разве хоть кто–нибудь из людей, что были до нас, когда–нибудь вообще считал свое время подходящим?.. И вот сейчас, пока мы тут ехали, мне показалось, что я когда–то слышал какие–то истории… Нет, мне тогда хотелось спать от выпитого, или же я просто думал о чем–то другом. Не имеет значения. Еще достаточно светло, и мы с тобой успеем поохотиться, если поспешим. Поехали!
Они вырвались из леса, пришпорили коней и галопом ускакали. Но прежде, чем скрыться из виду, первый охотник оглянулся и крикнул через плечо — так, словно бы он видел единорога, стоявшую в тени:
— Оставайся там, где ты есть, бедный зверь! Этот мир — не для тебя. Оставайся в своем лесу и храни зелень своих деревьев — и пускай твои друзья живут долго. Не обращай внимания на молоденьких девушек, ибо из них ничего путного, кроме глупых старух, никогда не получается. Удачи тебе!
Единорог замерла на краю леса и громко сказала:
— Я только один единорог здесь и есть. — Это были первые слова, которые она произнесла самой себе за последние сто лет или даже больше.
Но этого не может быть, сразу же подумала она. Она никогда не возражала, что она — одна–единственная, и не видит других единорогов, потому что знала: в мире есть и другие, похожие на нее, — а большего, чем это знание, единорогам для поддержания компании и не нужно.
— Но я бы знала, если бы других уже не было. Меня бы самой тогда не стало. С ними не может случиться ничего, чего не случилось бы со мной.
Собственный голос напугал ее, и ей захотелось броситься бежать. Она ринулась по темным тропам своего леса, быстрая и сияющая, проносясь мимо невыносимо сверкавших травой или мягко погруженных в тень внезапных полянок, ощущая вокруг себя всё — от травы, шуршавшей о ноги, до быстрых, как насекомые, серебристых и голубых трепетаний листочков на ветру.
— Ах, я никогда, никогда бы не смогла оставить все это, если бы даже на самом деле была единственным в мире единорогом. Я знаю, как мне жить здесь, я знаю здесь все запахи, все вкусы, всё. Чего мне искать в мире, если не того же самого?
Но стоило ей, наконец, остановиться и замереть, прислушиваясь к голосам белок и ссорам ворон над головой, как такая мысль пришла ей в голову: но, предположим, что они где–то скачут бок о бок — где–то очень далеко? И что, если они затаились и ждут меня?
И вот, начиная с этого первого мига сомненья, не было ей больше покоя. С той минуты, как она впервые представила, что покидает свой лес, ей не стоялось на одном месте и хотелось быть где–нибудь в другом. Она металась взад и вперед по берегу своего озера, беспокойная и несчастная. Единороги вообще существуют не для того, чтобы выбирать. Она говорила себе «нет», и «да», и снова «нет» день и ночь, и впервые в жизни почувствовала, как секунды ползут по спине, точно червяки.
— Я никуда не пойду. Если люди некоторое время не видели никаких единорогов, то это вовсе не означает, что все единороги пропали. Если даже это правда, я все равно никуда не пойду. Я живу тут.
Но как–то теплой ночью она проснулась и сказала:
— Да, и немедленно.
И поспешила через свой лес, стараясь ни на что не смотреть, ничего не нюхать и не чувствовать прикосновения своей земли к раздвоенным копытам. Звери, жившие в темноте: совы, лисы и олени — поднимали головы, когда она пробегала мимо, но она и на них не смотрела. Я должна бежать быстро, думала она, и вернуться как можно скорее. Может быть мне далеко идти вовсе и не придется. Но найду я других или нет — я все равно очень скоро вернусь, вернусь как можно скорее.
Дорога, убегая от лесной опушки, блестела под луной, словно вода, но когда единорог оторвалась от деревьев и ступила на эту дорогу, то почувствовала, какой жесткой и какой далекой та была. Тогда она почти совсем собралась повернуть назад, но вместо этого глубоко вдохнула лесной воздух, еще овевавший ее, и задержала этот вдох во рту, как цветочек, столько, сколько смогла.
Долгая дорога покуда не спешила и не кончалась. Дорога бежала через деревни и небольшие городки, через равнину и горы, сквозь каменистые пустоши и луга, раскинувшиеся между камней, но ни одному из этих мест не принадлежала и нигде не останавливалась передохнуть. Дорога торопила единорога вперед, трогая ее за ноги, словно прибой, сердясь, на нее, не давая остановиться и прислушаться к воздуху так, как она привыкла дома. Глаза единорога постоянно были полны пыли, а грива свалялась и потяжелела от грязи.
В лесу время всегда миновало ее, но теперь, в дороге, она проходила сквозь время. Цвета деревьев менялись, а зверье, пока она шла, отращивало свои тяжелые шубы и снова сбрасывало их. Облака ползли или спешили перед вечно менявшимися ветрами и становились розовыми или золотыми на солнце, или же лилово–серыми в бурю. Куда бы единорог ни заходила, везде искала она свой народ, но не находила ни следа и не слышала больше ни единого слова о них ни на одном языке из тех, на которых говорили вдоль дороги.
Однажды рано утром, собираясь свернуть с пути и поспать, она увидела человека, рыхлившего мотыгой землю в саду. Понимая, что нужно спрятаться, она, однако, остановилась и стала смотреть, как тот работает, — покуда человек не выпрямился и не посмотрел на нее. Человек был толст, его щеки тряслись при каждом движении.
— Ох! — произнес он. — Ох, какая же ты красивая.
Когда он стянул с себя ремень, сделал из него петлю и начал неуклюже придвигаться к ней, единорог была больше польщена, чем напугана. Человек явно знал, что такое единорог, как понимал, зачем существует он сам — окучивать репу и гоняться за тем, что сияет и может бегать быстрее него. Она увернулась от его первого броска так легко, словно ветерок, поднятый резким движением, вынес ее из–под руки человека.
— В свое время на меня охотились с колоколами и флагами, — сообщила она ему. — Люди знали, что охотиться на меня можно, только сделав саму погоню такой причудливой, чтобы я не удержалась и подошла посмотреть поближе. Но даже тогда меня никому не удавалось поймать.
— У меня, наверное, нога подвернулась, — сказал человек. — Постой, постой, милашка.
— Я никогда не понимала, — размышляла она, пока человек готовился к очередному броску, — что же вы мечтаете сделать со мною, когда поймаете.
Человек снова прыгнул, и она ускользнула от него, словно дождик.
— Мне кажется, вы не знаете самих себя, — сказала она.
— Ну, постой, погоди, полегче давай. — Лицо человека, мокрое от пота, теперь было исполосовано грязью, а сам он уже едва переводил дух.
— Милая, — хватал он ртом воздух. — Ух ты, милая маленькая кобылка.
— Кобылка?? — Единорог так пронзительно протрубила это слово, что человек бросил гоняться за ней и зажал уши руками. — Кобылка? — негодующе повторила она. — Я — лошадь? Так вот за кого ты меня принимаешь? Вот что ты видишь?
— Хорошая лошадка, — задыхался толстяк. Он уже опирался на свою ограду и вытирал лицо. — Почистить тебя, отмыть — и ты будешь самой красивой кобылой на свете. — Он снова потянулся к ней ременной петлей. — Возьму тебя на ярмарку, — сказал он. — Пойдем, лошадка.
— Лошадка, — произнесла она. — Так вот что ты пытался поймать. Белую кобылу с гривой, полной репьев. — Когда человек снова подобрался чуть ближе, она продела свой рог в петлю, выдернула ремень у него из рук и зашвырнула его в маргаритки, что росли на полянке через дорогу. — Лошадь, значит, да? — фыркнула она. — Как бы не так!
На какое–то мгновение человек оказался так близко к ней, что она заглянула своими огромными глазами в его глаза — маленькие, усталые и изумленные. Потом повернулась и понеслась прочь по дороге — да так быстро, что те, кто видел ее, восклицали:
— Вот это лошадь! Настоящая лошадь!
А один старик тихо сказал своей жене:
— Это арабский скакун. Я однажды плавал на судне, и там был один арабский скакун.
После этого случая она избегала городков — даже ночью, если только совсем уж не было окружного пути. Но все равно находились люди, бросавшиеся за ней в погоню, — правда, они всегда гонялись за бродячей белой кобылой и никогда не делали этого в той веселой и почтительной манере, какая подобает настоящей погоне за единорогом. Они носились с веревками, сетями, кусками сахара, они свистели и называли ее «Бесс» и «Нелли». Иногда она замедляла бег ровно настолько, чтобы их кони могли поймать ее запах, а потом наблюдала, как животные пятятся, разворачиваются и убегают прочь вместе со своими перепуганными седоками. Кони всегда ее признавали.
— Как это может быть? — размышляла она. — Наверное, я могла бы понять, если б люди просто забыли единорогов, или если б люди изменились настолько, что стали их всех ненавидеть и пытались бы их убивать при каждой встрече. Но не замечать единорогов вовсе, смотреть на них при встрече и видеть что–то совсем другое — каковы же они тогда друг для друга? Каковы для них деревья, дома, настоящие лошади или их собственные дети?
Иногда она думала: если люди больше не понимают того, на что смотрят, то где–нибудь в мире еще могут оставаться единороги, неведомые людям и довольные этим.
Но без всякой надежды и тщеславия она уже знала, что люди изменились, а с ними изменился и мир — потому что единорогов больше не было. И все же она бежала дальше до жесткой дороге, хотя с каждым днем немножечко сильнее жалела, что покинула свой лес.
А как–то днем из ветерка выпорхнул мотылек и опустился на самый кончик ее рога. Он был совершенно бархатным, темным и пыльным, с золотыми пятнышками на крылышках — тоненьким, будто лепесток цветка. Танцуя взад и вперед по рогу, он приветствовал ее завитками своих усиков:
— Я — бродячий игрок. Как поживаете?
Единорог рассмеялась впервые за все путешествие:
— Мотылек, что ты здесь делаешь в такой ветреный день? Ты простудишься и умрешь задолго до срока.
— Смерть отбирает то, что человек хранит, — ответил мотылек, — и оставляет то, что он теряет. Дуй, ветер, щеки раздувай. Я грею руки у очага жизни, и помощь мне идет с четырех сторон. — Он мерцал на роге осколком сумерек.
— А знаешь ли ты, что я такое, мотылек? — с надеждой спросила единорог, и тот ответил:
— Распрекрасно знаю, ты торгуешь рыбой. Ты — мое все на свете, ты — мое солнышко, ты стара, сера и полна сна, ты — моя шалунья, чахоточная Мэри Хуана. — Он сделал паузу, трепеща крылышками против ветра и весьма обыденным тоном добавил: — Имя твое — золотой колокольчик, что звенит в моем сердце. Я в куски разобьюсь, лишь однажды назвав твое имя.
— Назови же тогда мое имя! — взмолилась она. — Если ты его знаешь, скорее скажи мне его.
— Румпельштильцхен, — довольно ответил мотылек. — Получила? Нет у тебя никакой медали. — Он приплясывал и подмигивал на ее роге, распевая: — Пойдем же домой, Билл Бейли, пойдем же домой — он когда–то не мог вернуться в дом свой. Застегнись, Винсоки, и лови звезду. Только глина лежит, а кровь — она бродит, меня должны звать сорвиголовой в целом приходе. — Его глазки ало поблескивали в мерцании рога.
Единорог вздохнула и побрела дальше, удивленная и разочарованная одновременно.
— Так тебе и надо, — говорила она себе. — Нашла у кого спрашивать собственное имя — у мотылька. Они знают только песни да стихи, да только то, что где–нибудь услышат. Они зла не держат, но все у них получается как–то не так. Да и с чего бы ему быть так? Ведь они умирают так рано.
Мотылек между тем выделывался у нее перед глазами, горланя:
— Раз, два, три, о–лэйри! — и кружился, кружился, декламируя: — Нет, о нет — не гнилой комфорт, взгляни, как та дорога к одиночеству ведет. Что за проклятые мгновенья проводит он над тем, кто сомневается — и любит. Мирт, торопись и приведи с собою тьму гневных прихотей, которым я — командир, и которые поступят в распродажу лишь на три дня по летним сниженным ценам. Люблю, люблю тебя, о ужас, и прочь, ведьма, прочь — ты в самом деле неподходящее избрала место, чтоб захромать, о ива, ива, ива. — Его голосок звякал в голове единорога дождем серебряных монеток.
Мотылек путешествовал с нею весь остаток склонявшегося к закату дня, а когда солнце зашло и небо наполнилось розоватыми рыбками, он слетел с рога и затрепетал перед ней в воздухе:
— Я должен сесть в поезд «А», — вежливо вымолвил он. На фоне освещенных закатом облаков единорогу было видно, что его бархатные крылышки пронизаны сеточкой тонких черных жилок.
— Прощай, — сказала она. — Надеюсь, ты еще услышишь очень много песен. — Это был самый лучший способ попрощаться с мотыльком, который она могла придумать. Но вместо того, чтобы улететь, мотылек по–прежнему порхал у нее над головой. Вся его лихость вдруг куда–то пропала, и он, похоже, немножко нервничал в синем вечернем воздухе.
— Улетай, что же ты? — сказала единорог. — На улице становится слишком холодно для тебя. — Но мотылек медлил, бормоча что–то себе под нос.
— Они ездят на лошади, которую вы называете Македонай, — рассеянно произнес он нараспев. И потом — уже очень внятно: — Единорог. По–старофранцузски — «юникорн». По–латыни — «уникорнис». Буквальное значение — «однорогий»: «унус» — один, а «корну» — рог. Сказочное животное, напоминающее лошадь с одним рогом. О, я — и кок, и капитан, и смелый штурман «Нэнси». Кто–нибудь видел Келли? — Мотылек радостно прорулил по воздуху, и первые светлячки удивленно и с серьезным сомнением замигали вокруг.
Единорог была так поражена и так счастлива услышать, наконец, свое имя, что пропустила мимо ушей замечание про лошадь.
— О, да ты знаешь меня! — воскликнула она, и ее восторженным дыханием мотылька отнесло на двадцать футов. Когда он снова до нее добрался, она взмолилась: — Мотылек, если ты в самом деле знаешь, кто я, то скажи, не видел ли ты кого–нибудь похожего на меня, скажи. Куда мне идти, чтобы отыскать их. Куда они ушли?
— Мотылек–мотылек, где же мне спрятаться? — пропел тот в меркнувшем свете. — Милый и неизлечимый дурень сейчас появится. Боже, любимая — в моих объятьях, я же — в постели опять. — Он снова присел отдохнуть к ней на рог, и она почувствовала, как он дрожит.
— Пожалуйста, — попросила она. — Мне нужно узнать только одно — есть ли еще где–нибудь на свете другие единороги. Мотылек, скажи мне, что они еще есть, и я поверю тебе и пойду домой в свой лес. Меня там так долго не было, а я обещала вернуться очень быстро.
— За лунные горы, — начал мотылек, — в Долину Теней скачи, скачи смело. — Он внезапно остановился и произнес странным голосом: — Нет–нет, слушай, не слушай меня, слушай. Ты сможешь отыскать свой народ, если будешь храбра. Они прошли по всем дорогам очень давно, и за ними бежал Красный Бык и затаптывал их следы. Пусть ничто не смутит тебя, но не будь в безопасности лишь наполовину. — Крылышки его скользнули по коже единорога.
— Красный Бык? — переспросила она. — Что такое Красный Бык?
В ответ мотылек запел:
— Пойдем вниз со мной. Пойдем вниз со мной. Пойдем вниз со мной. — Но затем яростно потряс головой и продекламировал: — Его первенец–бычок обладает величием, а рога его — рога дикого быка. Ими толкать он будет все народы к краям земли. Слушай, слушай, слушай быстро.
— Да слушаю я! — вскричала единорог. — Где мой народ и что такое Красный Бык?
Но мотылек, смеясь, уже слетел к ее уху:
— Мне снятся кошмары, я ползаю по земле, — пропел он. — Песики Трэй, Бланш, Сью гавкают на меня, змейки шипят на меня, попрошайки идут в городок. А потом, наконец, приходят улитки.
Еще какое–то мгновение он танцевал в сумерках перед единорогом, а затем его унесло прочь, в фиолетовые придорожные тени, вместе с его победным кличем:
— Или ты, или я, моль! Рука об руку об руку об руку об руку…
Последним она успела разглядеть какое–то крохотное трепыхание среди деревьев, да и то, может быть, глаза обманули ее, поскольку ночь уже наполнялась хлопаньем крыльев.
По крайней мере, он меня узнал, печально подумала она. Это уже что–то значит. Но потом себе же и ответила: нет, ровным счетом ничего это не значит, кроме того, что когда–то кто–то сложил об единорогах песню или стихи. Но Красный Бык… Что он имел в виду? Еще какая–то песня, наверное…
Она медленно брела дальше, и ночь обволакивала ее. Небо свисало низко и было почти совершенно черным, если не считать одного начинавшего желтеть серебристого пятна там, где за толстыми тучами плыла луна. Единорог тихо напевала про себя песню, которую в ее лесу давным–давно пела одна молодая девушка:
Она не понимала слов, но песня заставила ее с тоской подумать о доме. Она, казалось, слышала, как осень начинает сотрясать буковые деревья, стоило ей ступить из леса на дорогу.
Наконец, она улеглась в холодную траву и уснула. Единороги — самые осторожные из всех диких зверей, но когда они спят, спят они крепко. И все равно, если бы она не грезила о доме, то ее, конечно же, разбудили бы приближавшиеся в ночи позвякивание и скрип колес. Разбудили бы, несмотря даже на то, что колеса были обмотаны тряпьем, а маленькие колокольчики — обернуты шерстью. Но она в это время была очень и очень далеко, дальше, чем разносился легкий перезвон колокольчиков, — вот она и не проснулась.
А на поляну тем временем уже выезжали девять фургонов: каждый был покрыт черным, каждый тащила за собой тощая черная кляча, а когда ветер продувал насквозь черные покровы, то под каждым проступала решетка, точно бока фургонов показывали ветру зубы. Передним фургоном управляла приземистая старуха. На его укрытых боках большими буквами значилось:
ПОЛНОЧНЫЙ КАРНАВАЛ
МАМАШИ ФОРТУНЫ.
И ниже, мельче:
Ночные существа
при свете естества.
Когда первый фургон поравнялся с тем местом, где спала единорог, старуха внезапно натянула поводья и остановила свою черную клячу. Остальные фургоны тоже замерли и терпеливо ожидали, пока старуха с безобразной грацией спрыгивала на землю. Подкравшись поближе к единорогу, она долго вглядывалась в светлое пятно, а потом пробормотала:
— Вот так. Вот так, благослови старую шелуху моего сердца. Ну, я, кажется, вижу тут самую последнюю. — Ее голос оставлял в воздухе привкус меда и пороха. — Если бы он знал, — продолжала она, обнажая в улыбке щербатые зубы. — Но не думаю, что я скажу ему об этом.
Она обернулась к черным фургонам и дважды щелкнула пальцами. Двое послушно слезли с козел и подошли к ней. Один был низкорослым, темным и каменным, как и она сама, второй — высоким и худым, и на всем его облике лежал отпечаток непоколебимого замешательства. На нем был старый черный плащ, а глаза его были зелеными.
— Что ты видишь? — спросила старуха у коротышки. — Рух, скажи мне, что вон там лежит?
— Дохлая лошадь, — ответил тот. — Нет, не дохлая. Отдай ее мантикору или дракону. — Он усмехнулся, будто спичкой чиркнул.
— Ты дурак, — сказала ему Мамаша Фортуна. Потом обратилась ко второму: — А ты что скажешь, волшебник, провидец, тавматург? Что ты там зришь своим колдовским взглядом?
И она, вместе с человеком по имени Рух, захохотала со взревываниями и всхрапываниями, но их смех замер воздухе, когда она заметила, что высокий человек все еще неотрывно смотрит на единорога.
— Отвечай мне, жонглер? — рявкнула она, но высокий человек даже не повернул головы. За него это сделала сама старуха, ухватив его своей клешней за подбородок. Тот опустил глаза перед ее желтым взором.
— Лошадь, — пробормотал он. — Белую кобылу.
Мамаша Фортуна бросила на него долгий взгляд.
— Ты тоже дурак, чародей, — наконец, процедила она. — Но дурак хуже Руха и гораздо опасней. Тот лжет только из жадности, а ты лжешь из страха. Или это, может быть, доброта?
Человек ничего не ответил, и Мамаша Фортуна засмеялась сама.
— Ну, ладно, — сказала она. — Это белая кобыла. Я хочу взять ее в Карнавал. Девятая клетка как раз свободна.
— Мне понадобится веревка, — произнес Рух. Он собирался уже отойти, но старуха остановила его:
— Единственная веревка, которая сможет ее удержать, — это тот шнур, которым старые боги связывали волка Фенриса. Тот, что был сплетен из дыхания рыб, слюны птиц, женской бороды, мяуканья кота, жил медведя и еще одной штуки. Я помню, из какой — из корней гор. Поскольку у нас нет ни одного из этих элементов, и гномов, которые сплели бы для нас такую веревку, тоже нет, то придется обойтись тем, что есть. Железными решетками. Я сейчас наведу на нее сон. — И руки Мамаши Фортуны принялись плести ночной воздух, пока горло ее ворчало какие–то неприятные слова. Когда старуха закончила свои заклинания, вокруг единорога витал запах молнии.
— Теперь в клетку ее, — сказала старуха двоим. — Она проспит до рассвета, как бы вы ни шумели, если только вы по своей привычной глупости не начнете тыкать в нее руками. Разберите девятую клетку и снова постройте ее вокруг нее, но берегитесь! Рука, которая хотя бы просто скользнет по ее гриве, тотчас же превратится в ослиное копыто, чем она, без сомнения, и заслуживает быть. — Старуха снова с издевкой взглянула на высокого человека. — Тебе будет еще труднее проделывать свои трюки, чем сейчас, колдун, — произнесла она, хрипло сопя. — За работу. Ночи уже совсем немного осталось.
Лишь только она отошла за пределы слышимости и снова скользнула в тень своего фургона, словно и выходила–то всего–навсего, чтобы отметить, который час, человек по имени Рух сплюнул и с любопытством произнес:
— Вот интересно, чего это старая каракатица забеспокоилась. Какая разница, если мы возьмем и дотронемся до зверя?
Голос волшебника был так тих, что его почти не было слышно:
— Прикосновение человеческой руки пробудит ее от глубочайшего сна, пусть его хоть сам дьявол нашлет. А Мамаша Фортуна — не дьявол.
— Она бы хотела, чтоб мы ее им и считали, — хмыкнул темный человек. — Ослиные копыта! Пф–ф? — Но сам на всякий случай засунул руки поглубже в карманы. — С чего это чарам разрушаться? Всего–то старая белая кобыла…
Но волшебник уже шагал к последнему черному фургону.
— Быстрей давай, — крикнул он через плечо. — Скоро день настанет.
Весь остаток ночи они разбирали девятую клетку — решетки, пол и потолок, а потом снова собирали ее вокруг спящей. Рух уже дергал дверцу, удостовериться, крепко ли та заперта, когда серые деревья на востоке вскипели, и единорог открыла глаза. Два человека торопливо ускользнули прочь, но высокий волшебник оглянулся как раз вовремя, чтобы заметить, как единорог поднялась на ноги и окинула взором железные решетки. Ее голова поникла, как у старой белой кобылы.
II
Девять черных фургонов Полночного Карнавала при свете дня казались меньше и вовсе не такими опасными, как ночью, а, наоборот — неуклюжими и хрупкими, будто мертвые листья. Покровы с них были сняты, и теперь их украшали поникшие черные флаги, вырезанные из одеял, и короткие черные ленты, вздрагивавшие на ветру. Фургоны были странно расставлены по поросшему кустарником полю: треугольник из клеток был окружен пятиугольником, а в центре громоздился фургон Мамаши Фортуны. Только на этой клетке оставалось черное покрывало, скрывавшее то, что находилось внутри. Самой Мамаши Фортуны нигде не было видно.
Человек по имени Рух медленно водил разномастную толпу деревенских жителей от одной клетки к другой, давая угрюмые пояснения к животным, сидевшим внутри:
— Вот это вот мантикор. Голова человека, туловище льва, хвост скорпиона. Пойман в полночь, питается оборотнями для услаждения дыхания. Ночные существа при свете естества. Вот дракон. Время от времени выдыхает огонь — особенно на тех, кто в него тычет пальцем, мальчик. Его внутренности — сущий ад, но кожа так холодна, что обжигает. Дракон говорит на семнадцати языках — но плохо, и подвержен приступам подагры. Сатир. Леди, подальше, пожалста. Настоящий безобразник. Пойман при любопытных обстоятельствах, раскрываемых только джентльменам после окончания показа за отдельную плату. Ночные существа…
Стоя во внутреннем треугольнике у клетки с единорогом, высокий волшебник наблюдал процессией, переходившей от клетки к клетке.
— Мне не следует здесь быть, — говорил он единорогу. — Старуха предупредила, чтобы я к тебе и не подходил. — Он добродушно усмехнулся: — Она смеется надо мной с того дня, как я к ней пришел, но все это время я заставляю ее нервничать.
Единорог едва ли слышала его. Она металась и кружилась в своей тюрьме, вздрагивая и сжимаясь от прикосновений железных решеток со всех сторон. Ни одно создание человеческой ночи не любит холодного железа, и, хотя единороги обычно могут вытерпеть его присутствие, убийственный запах его, казалось, измельчал ее кости в песок, а кровь превращал в дождевую воду. Прутья ее клетки, должно быть, несли на себе какие–то заклятия, ибо не переставали что–то злобно нашептывать друг другу когтистой скороговоркой. Тяжелый замок хихикал и повизгивал, будто обезумевшая мартышка.
— Расскажи мне, что ты видишь, — попросил волшебник, как и наказывала ему Мамаша Фортуна. — Посмотри на своих собратьев по легендам и расскажи, что ты видишь.
Бряканье железного голоса Руха доносилось до них сквозь угасавший день:
— Страж ворот в подземное царство. Три головы и непроницаемая шкура из гадюк, как видите. Последний раз его наблюдали на поверхности земли во времена Геракла, который вытащил его наверх, зажав под мышкой. Мы же выманили его на свет, пообещав лучшую жизнь. Цербер. Взгляните в эти три пары обманутых красных глаз. Когда–нибудь вы сможете посмотреть в них вновь. К Змею Мидгарда — сюда, пожалста. Сюда вот.
Сквозь решетки единорог пристально смотрела на животное в клетке и не могла поверить своим глазам:
— Это же всего лишь собака, — прошептала она. — Голодная, несчастная собака только с одной головой и без всяких гадюк, бедняга. Как они могут принимать ее за Цербера? Они что — все ослепли?
— Взгляни еще, сказал волшебник.
— А сатир, — продолжала между тем единорог, — сатир — это обезьяна, старая обезьяна с покалеченной ногой. Дракон — крокодил, от него скорее пахнет рыбой, чем огнем. А великий мантикор — это просто лев, очень хороший лев, но чудовище не больше, чем остальные. Я не понимаю…
— …Он держит в своих кольцах целый мир, — бубнил Рух. И снова волшебник сказал:
— Посмотри лучше.
И тогда, будто ее глаза начали привыкать к темноте, единорог стала различать в каждой клетке по еще одной фигуре. Эти фигуры громоздились над узниками Полночного Карнавала и все же были как–то едины с ними: бурные кошмары, вырвавшиеся из зернышка истины. Поэтому там был и мантикор — со взором, истерзанным голодом, со слюнявой пастью, ревущий, извивающийся, со смертоносным хвостом, загнутым так, что ядовитый шип, покачиваясь, свисал у самого уха, но там же был и лев, крохотный и нелепый по сравнению с чудищем. Они, тем не менее, оставались одним существом. Единорог в изумлении перебирала ногами.
То же самое было и в других клетках. Тень дракона раскрывала пасть, и безвредное пламя вырывалось оттуда, а зеваки ахали и шарахались прочь. Адский сторожевой пес со шкурой из змей выл тройные проклятья и сулил опустошенье предавшим его. А сатир хромал по клетке, скалясь через решетку, и призывал молоденьких девушек к невозможным утехам на виду у всей публики. Что же касается крокодила, обезьяны и грустного пса, то они таяли, неуклонно растворялись в этих великолепных фантомах прямо на глазах, пока не стали всего лишь тенями — даже на взгляд единорога, обмануть который было нельзя.
— Это странное колдовство, — тихо произнесла она. — В нем больше значения, чем в магии.
Волшебник рассмеялся от удовольствия и огромного облегчения:
— Хорошо сказано, очень хорошо. Я знал, что уж тебя–то старый ужас не ослепит своими грошовыми чарами. — Его голос стал жестким и таинственным: — Теперь она совершила свою третью ошибку, а это, по меньшей мере, на две больше, чем положено такой старой выдохшейся трюкачке, как она. Время подходит…
— Время подходит, — говорил толпе Рух, словно подслушав волшебника. — Рагнарок. В тот день, когда боги падут, Змей Мидгарда плюнет бурей яда в самого Тора, и тот закувыркается, как отравленная муха. Вот он ждет Судного Дня и видит сны о той роли, которую ему суждено сыграть. Может быть, так и будет на самом деле — я сказать не могу. Ночные существа при свете естества…
Клетку заполняла змея. У змеи не было головы и не было хвоста — ничего. Только волны тьмы перекатывались из одного угла в другой, не оставляя свободного пространства ни для чего, кроме ее собственного громоносного дыхания. Лишь единорогу был виден свернувшийся в уголке мрачный удав — возможно, тот действительно размышлял о своем собственном Страшном Суде над Полночным Карнавалом. Но удав был крошечным и тусклым, точно призрак червяка в тени Змея.
Какой–то любознательный остолоп высунул из толпы голову и стал приставать к Руху:
— Если эта большая змея действительно оборачивается вокруг света, как вы утверждаете, то как же вы держите ее кусок в своем вагончике? И если она может разнести на части море, только лишь потягиваясь, то почему она не может выползти отсюда, надев весь ваш балаган себе на шею вместо ожерелья?
Пронесся шепоток согласия, и некоторые из шептунов начали осторожно тесниться назад.
— Я рад, что вы меня спросили, приятель, — произнес Рух, метнув в того злобный взгляд. — Так получилось, что Змей Мидгарда существует в чем–то вроде другого пространства, которое отличается от нашего, — в другом измерении. Поэтому обычно он невидим, но стоит его притащить в наш мир — как его однажды подцепил Тор, — и он показывает себя ясно, словно молния, которая тоже посещает на откуда–то оттуда, где она, быть может, выглядит совсем иначе. Естественно, что у него может испортиться настроение, если он узнает, что кусочек его вялого брюха выставляется напоказ каждый день и по воскресеньям в Полночном Карнавале Мамаши Фортуны. Но он этого не знает. У него и так есть над чем подумать помимо того, что происходит с его пузом, а мы просто пользуемся удобным случаем так же, как и вы все, — в силу его продолжающегося спокойствия. — Рух ворочал и растягивал последние слова, как тесто, а его слушатели осторожно смеялись.
— Чары видимости, — сказала единорог. — Сама она не способна ничего сделать.
— Она их на самом деле не изменяет, — прибавил волшебник. — Ее убогое мастерство — в маскировке. Но даже такая сноровка была бы ей не под силу, если бы не желание этих зевак, этих простаков верить в то, во что верить легче. Она не может превратить сметану в масло, но может придать льву внешность мантикора для тех глаз, которые желают увидеть там мантикора, — для глаз, которые примут настоящего мантикора за льва, дракона — за ящерицу, а Мидгардского Змея — за землетрясение. И единорога — за белую кобылу.
Единорог замерла в своем медленном отчаянном кружении по клетке, впервые осознав, что волшебник понимает ее речь. Тот улыбнулся, и единорог увидела, что его лицо пугающе молодо для взрослого человека: его, проходя, не затронуло время, к нему не заглядывали ни горести, ни мудрость.
— Я знаю тебя, — сказал он.
Прутья клетки снова злобно зашептались между собой. Рух уже вел толпу ко внутренним фургонам. Единорог спросила высокого человека:
— Кто ты?
— Меня называют Шмендрик–Волшебник, — ответил тот. — Ты обо мне не слыхала.
Единорог чуть было не начала объяснять, что едва ли она могла слышать о том или ином колдуне вообще, но что–то печальное и мужественное в голосе волшебника удержало ее. Волшебник продолжал:
— Я развлекаю зрителей, которые собираются на представление. Магические миниатюры — просто фокусы: цветочки во флажочки, флажочки в рыбок и все это сопровождается убедительной болтовней и намеками, что я мог бы творить и более зловещие чудеса, если бы захотел. Работа неважная, но у меня были и похуже — а когда–нибудь будет и получше. Это еще не конец.
Но тут звук его голоса заставил единорога ощутить, что она поймана навеки, и она снова принялась мерять шагами клетку — движение удерживало сердце, готовое вырваться из груди от страха.
Рух уже стоял пред клеткой, в которой не было никого, кроме маленького коричневого паучка, плетущего скромную паутину между прутьев.
— Арахна Лидийская, — сообщил Рух толпе. — Совершенно определенно величайшая ткачиха в мире. Ее судьба — этому доказательство. Ей не повезло, и она победила богиню Афину в состязании по ткачеству. Афина проигрывать не любила, и теперь Арахна — паучиха и создает свои творения только для Полночного Карнавала Мамаши Фортуны по особой договоренности. Основа — из снега, а ткань — из огня, узор — без повторов, ткачиха — без сна. Арахна.
Растянутая на раме из железных прутьев, паутина была очень простой и почти бесцветной. Лишь изредка на ней дрожали радуги, когда паучиха суетливо пробегала, вдевая свою нить туда, куда надо. Но эта паутина притягивала взоры зрителей — и единорога тоже: туда–сюда, все глубже и глубже, пока, наконец, не начинало казаться, что они вглядываются в огромные расщелины мира, черные пропасти, что неумолимо расширяются и не разваливают мир на куски только потому, что его стягивает эта паутина Арахны. Единорог встряхнулась и со вздохом освободилась от наваждения: теперь перед нею снова была обычная паутина, очень простая и почти бесцветная.
— Это не похоже на остальное, — сказала она.
— Не похоже, — проворчал, соглашаясь, Шмендрик. — Но это заслуга не Мамаши Фортуны. Видишь ли, паучиха сама в это верит. Она сама видит эти кошачьи колыбельки и считает их собственной работой. В магии Мамаши Фортуны вся разница заключена в том, веришь ты или нет. Если бы только это полчище недоумков поумерило свою страсть к чудесам, от всего ее ведьмовского колдовства ничего бы не осталось, кроме паучьего всхлипывания. Да и того никто бы не услышал.
Единорогу не хотелось больше смотреть в паутину. Она взглянула в клетку, которая стояла ближе всех к ее собственной, и внезапно в груди у нее дыхание замерло холодным железом. На насесте из дуба там сидело создание с телом огромной бронзовой птицы и лицом старой ведьмы, стиснутым и смертоносным, как те когти, которыми она сжимала дерево. У нее были круглые лохматые медвежьи уши, но по чешуйчатым плечам ее, мешаясь с яркими лезвиями перьев, рассылались волосы лунного цвета, густые и молодые вокруг исполненного ненависти человечьего лица. От нее исходило мерцание, но при одном взгляде в ее сторону свет в небе гас. Увидев единорога, она испустила странный звук — что–то между шипом и хмыком.
Единорог спокойно произнесла:
— Она настоящая. Это гарпия Селаэно.
Лицо Шмендрика стало цвета овсянки:
— Старуха поймала ее случайно, — прошептал он. — Она спала — так же, как и ты. Но удачи старухе она не принесла, и обе это знают. Мастерства Мамаши Фортуны едва–едва хватает на то, чтобы удержать чудовище, а гарпия одним своим присутствием истончает все ее чары настолько, что очень скоро у старухи сил не хватит даже на то, чтобы поджарить яичницу. Ей не следовало этого делать — не нужно было связываться с настоящей гарпией, с настоящим единорогом. От истины ее магия всегда тает, но она никак не может удержаться, чтобы не попытаться подчинить истину себе. Однако на этот раз…
— Сестра радуги, хотите — верьте, хотите — нет… — Слышали они, как Рух разглагольствует перед пораженными зеваками. — Ее имя означает «Темная» — та, чьи крылья затмевают небо перед бурей. Она и две ее милые сестренки почти довели царя Финея до голодной смерти, выхватывая и оскверняя его пищу прежде, чем тот мог донести ее до рта. Но сыновья Северного Ветра заставили их бросить это занятие — не так ли, моя красотка? — Гарпия не издала ни звука, и Рух осклабился, точно сам был клеткой. — Она дралась свирепее, чем все остальные вместе взятые, — продолжал он. — Будто целую преисподнюю пытались связать одной волосинкой — но силы Мамаши Фортуны достаточно велики даже для такой трудной задачи. Полли хочет печенюшку?
Кое–кто в толпе хихикнул. Когти гарпии сжали насест так, что дерево застонало.
— Тебе нужно оказаться на свободе прежде, чем освободится она, — произнес волшебник. — Она не должна застать тебя в клетке.
— Я не осмеливаюсь дотронуться до железа, — ответила единорог. — Я бы открыла замок рогом, но не могу достать его. Я не смогу выйти. — Она дрожала от ужаса перед гарпией, но голос ее оставался довольно спокойным.
Шмендрик–Волшебник весь подобрался и вырос еще на несколько дюймов, чего она никак от него не ожидала.
— Не страшись ничего, — величественно произнес он. — Я напускаю на себя таинственность , а на самом деле у меня — чувствительное сердце… — Но тут его прервало приближение Руха и следовавшей за ним толпы, уже намного более спокойной, чем вначале, когда все они грязно потешались над мантикором. Волшебник удрал, успев лишь тихо бросить напоследок: — Не бойся, Шмендрик с тобой. Ничего не делай, пока я не дам тебе знать!..
Его голос достиг слуха единорога, такой слабый и одинокий, что она не была уверена, действительно ли что–то услышала или же лишь почувствовала, как эхо обмахнуло ее.
Темнело. Толпа стояла перед ее клеткой, всматриваясь внутрь со странной робостью. Рух сказал просто:
— Единорог. — И отошел в сторону.
Единорог слышала, как у них прыгали сердца, закипали слезы и внутри замирало дыхание, но никто не произносил ни слова. В их лицах была печаль, была утрата, была нежность, и она поняла, что ее узнали, и приняла их голод по чуду как дань себе. Она подумала о прабабке охотника и спросила себя: как это — «стареть» и как это — «плакать»?..
— Большинство представлений, — сказал Рух через некоторое время, — на этом бы и закончились, ибо что еще вам могли бы показать после настоящего единорога? Но в Полночном Карнавале Мамаши Фортуны есть еще одна тайна — Демон разрушительнее дракона, чудовищнее мантикора, отвратительнее гарпии, и, конечно же, — более всеобщий, нежели все единороги на свете.
Он взмахнул рукой по направлению к последнему фургону — и черные полотнища, медленно извиваясь, стали сползать с него, хотя за их концы никто не тянул.
— Смотрите же на нее! — вскричал Рух. — Узрите Последнее, узрите Самый Конец! Зрите Элли!
За решетками было темнее, чем вечер снаружи, и холод шевелился там, как что–то живое. В этом холоде что–то двигалось, и единорог увидела там Элли — старую, костлявую, оборванную женщину. Та съежилась в клетке, раскачиваясь из стороны в сторону и пытаясь согреться над огнем, которого там не было. Она выглядела такой хрупкой, что, казалось, тьма должна была раздавить ее своей тяжестью, такой беззащитной и одинокой, что зрители должны были бы в жалости поспешить к ней и освободить ее. Но те вместо этого начали тесниться в молчании назад, словно Элли, как призрак, преследовала их. Она же на них и не смотрела. Она сидела в темноте и поскрипывала себе под нос песенку: ее голос походил на скрежет пилы, вгрызавшейся в дерево, и, как это дерево, казалось, готов был упасть куда–то вниз.
— Не очень внушительна на вид, а? — спросил Рух. — Но ни один герой не выстоит перед ней, ни один бог ее не одолеет, никакие волшебства от нее не уберегут и ее не удержат, ибо она — не наш пленник. Даже пока мы ее здесь вам показываем, она бродит среди вас, касаясь вас и беря от вас. Ибо Элли — это сама Старость.
Холод из клетки дотянулся до единорогам и там, где он коснулся ее, она ощутила дрожь и слабость. Она чувствовала, как увядает, расслабляется, чувствовала, как красота покидает ее с каждым выдохом. Уродство цеплялось за гриву, пригибало вниз голову, дергало за хвост, иссушало кожу, вгрызалось в тело и впивалось в мысли воспоминаниями о том, какой она была когда–то. Где–то поблизости гарпия вскрикнула низко и нетерпеливо, но она с радостью бы свернулась в тени бронзовых крыльев — только бы спрятаться от этого последнего демона. Песня Элли зубьями пилы рассекала ей сердце:
Представление окончилось. Толпа украдкой расходилась, и никто не уходил поодиночке, все держались парами, кучками, незнакомые люди брали друг друга за руки, то и дело оглядываясь, не бредет ли вслед за ними Элли. Рух жалобно прокричал им вдогонку:
— Не желают ли джентльмены остаться и услышать рассказ про сатира? — И кисло при этом расхохотался, только ускорив их медленный уход. — Ночные существа при свете естества! — Они торопливо протискивались мимо клетки единорога в густевшем воздухе — и дальше, прочь, а хохот Руха подхлестывал их, подгонял домой, а Элли все пела и пела.
Все это — иллюзия, говорила себе единорог. Все это — обман. Ей чудом удалось поднять потяжелевшую от смерти голову и взглянуть в глубь темноты последней клетки — и увидела она вовсе никакую не Старость, а саму Мамашу Фортуну. Та потягивалась, посмеивалась и сползала на землю со своей прежней жутковатой грацией. И единорог поняла, что вовсе не стала смертной и безобразной, — но и прекрасной себя она тоже больше не ощущала. Может быть, это тоже иллюзия, устало подумала она.
— Мне понравилось, — сказала Мамаша Фортуна Руху. Мне всегда нравится. Я, наверное, в душе актриса.
— Ты лучше проверь эту чертову гарпию, — ответил Рух. — Я в этот раз просто чувствовал, как она высвобождается. Как будто веревка, что ее держит, — это я, и она меня развязывает. — Он поежился и понизил голос. — Избавься от нее, — хрипло вымолвил он, — прежде, чем она расшвыряет нас по небу, как кровавые облака. Она все время только об этом и думает. Я просто знаю, как она об этом думает.
— Тихо, дурень? — собственный голос ведьмы был яростен от страха. — Если она удерет, я могу превратить ее в ветер, или в снег, или в семь нот музыки. Но я предпочитаю сохранить ее. Ни у одной ведьмы на свете нет в плену настоящей гарпии, и ни у одной ее никогда не будет. Я буду ее держать, даже если для этого придется каждый день кормить ее куском твоей печенки.
— О, очень мило, — сказал Рух, подавшись от нее в сторону. — А что, если она захочет только твоей печенки? Что ты тогда сделаешь? — требовательно спросил он.
— Все равно отдам ей твою, — ответила Мамаша Фортуна. — Ей все равно. Гарпии не очень сообразительны.
Одна в лунном свете, старуха скользила от клетки к клетке, гремя замками и щупая свои чары, как хозяйка на рынке пробует на ощупь арбузы. Когда она подошла к клетке гарпии, чудовище издало звук, пронзительный, словно копье, и расправило крылья во всем их ужасающем великолепии. Единорогу на мгновение почудилось, что прутья клетки начали корчиться и стекать вниз струйками дождя, но Мамаша Фортуна щелкнула узловатыми пальцами, — и прутья вновь стали железом, а гарпия опять опустилась в ожидании на насест.
— Пока рано, — произнесла ведьма. — Пока рано.
Они глядели друг на друга одинаковыми глазами. Мамаша Фортуна сказала:
— Ты моя. Если ты убьешь меня, ты моя.
Гарпия не пошевельнулась, но луну скрыло облако.
— Еще рано, — повторила Мамаша Фортуна и отвернулась к клетке единорога. — Ну? — произнесла она своим сладким дымчатым голосом. — Я тебя попугала немножко, правда? — Она рассмеялась, как будто спешащие куда–то змеи поползли внезапно через скользкую грязь, и шагнула поближе: — Что бы там ни говорил твой друг волшебник, каким–то маленьким искусством я все же владею. Одурачить единорога так, чтобы та поверила, что она на самом деле стара и грязна — я бы сказала, что для этого нужно кое–какое умение. Это что — «грошовые чары» удерживают у нас нашу Темную Пленницу? Никого иного, пока я…
— Не хвастайся, старуха, — перебила ее единорог. — Твоя смерть сидит вон в той клетке и слышит тебя.
— Да, — спокойно ответила Мамаша Фортуна. — Но я, по крайней мере, знаю, где она сидит. Ты же за своей собственной смертью вышла охотиться на дорогу. — И она снова рассмеялась. — А я вот знаю, где и твоя смерть. Но я избавила тебя от этой находки, и ты должна мне за это спасибо сказать.
Забыв, где она находится, единорог кинулась на старуху — и наткнулась на решетку. Ей было больно, но она не отступала:
— Красный Бык, — вымолвила она. — Где мне найти Красного Быка?
Мамаша Фортуна шагнула к клетке еще ближе:
— Красный Бык Короля Хаггарда, — пробормотала она. — Значит, про Быка ты знаешь. — Она обнажила два оставшихся во рту зуба. — Что ж, он тебя не получит. Ты принадлежишь мне.
Единорог покачала головой.
— Ты же сама все знаешь, — нежно ответила она. — Освободи гарпию, пока еще есть время, и меня отпусти тоже. Оставь себе свои бедные тени, если хочешь, но выпусти нас.
Застоявшийся взгляд ведьмы вспыхнул с такой дикой яркостью, что обтрепанная компания лунных мотыльков, отправлявшаяся на ночную гулянку, впорхнула ей чуть ли не в самые глаза и зашипела, обращаясь в снежинки пепла.
— Да я скорее вообще брошу шоу–бизнес! — рявкнула она. — Тащиться сквозь вечность, влача на себе свои доморощенные кошмары, — ты думаешь, я об этом мечтала, когда была юной и полной зла? Ты думаешь, я избрала эту скудную магию, произрастающую из глупости, потому, что никогда не знала истинного ведовства? Я проделываю свои трюки с собаками и мартышками, потому что не могу коснуться травы — но я знаю разницу. А теперь ты просишь, чтобы я сама отказалась постоянно видеть тебя, отказалась от присутствия твоей силы. Я сказала Руху, что, если придется, скормила бы его печень гарпии — и скормлю. А чтобы удержать тебя, я бы взяла твоего друга Шмендрика и я бы… — В припадке ярости она довела себя до какой–то совершенной тарабарщины и, наконец, умолкла.
— Кстати о печени, — сказала единорог. — Настоящего волшебства никогда не добиться, если делать подношения из чужой печени. Надо вырвать свою и не рассчитывать потом получить ее обратно. Все настоящие колдуньи это знают.
Несколько песчинок прошуршало по щеке Мамаши Фортуны, пока она глядела на единорога. Все ведьмы так плачут. Она отвернулась и быстро заковыляла прочь, к своему фургону, но вдруг снова остановилась и, обернувшись, ухмынулась своим ледяным оскалом:
— Но я все равно дважды тебя перехитрила. Ты что, в самом деле решила, что эти болваны узнают тебя без моей помощи? Нет, мне пришлось придать тебе такую форму, которую они могли бы понять, дать тебе такой рог, который они могли бы увидеть. В наше время нужна дешевая карнавальная ведьма, чтобы народ признал настоящего единорога. Тебе гораздо полезнее остаться со мной и быть фальшивой, поскольку во всем этом мире только Красный Бык узнает тебя, когда увидит.
Она исчезла в своем фургоне, а гарпия заставила луну снова выйти из–за тучи.
III
Шмендрик вернулся незадолго до рассвета, проскользнув между клеток молчаливо, словно вода. Только гарпия проронила какой–то звук, пока он пробирался мимо.
— Я не мог удрать быстрее, — сказал он единорогу. — Она приказала Руху следить за мной, а он едва ли вообще когда–нибудь спит. Но я загадал ему загадку, а он всегда думает над ответом всю ночь напролет. В следующий раз я расскажу ему анекдот, ему будет чем заняться целую неделю.
Единорог стояла серо и недвижно.
— На мне какое–то заклятие, — произнесла она. — Почему ты мне не сказал?
— Я думал, ты знаешь, — бережно ответил волшебник. — В конце концов, неужели ты не задумывалась, как получилось, что они тебя узнали? — Он улыбнулся, и улыбка состарила его лицо. — Нет, конечно же. Ты бы никогда не стала над этим задумываться.
— На мне прежде никогда не было никаких чар, — сказала она. Долгая и глубокая дрожь пробежала по всему ее телу. — Никогда но существовало такого мира, в котором меня бы не знали.
— Я вижу, вижу, каково тебе! — с горячностью воскликнул Шмендрик. Она взглянула на него тёмными бесконечными глазами, и тот нервно улыбнулся и посмотрел на свои руки. — Редкого человека принимают за того, кто он есть на самом деле, — сказал он. — В мире полно неверных суждений. Вот я, к примеру, признал в тебе единорога как только увидел, и я знаю, что я — твой друг. Ты же принимаешь меня за шута, за болвана или за предателя. Таким я и должен быть, если ты меня таким видишь. Заклятие на тебе — это всего лишь колдовство. Оно исчезнет, как только ты выйдешь на свободу, но чары ошибки, которые ты сама напустила на меня, в твоих глазах будут лежать на мне вечно. Мы — не всегда те, кем кажемся, и едва ли когда–нибудь — те, кем мечтаем быть. И все же я читал или слышал в какой–то песне, что когда время было юным, единороги могли отличать одно от другого — ложное сияние от истинного, смех губ от горя сердца.
Его спокойный голос парил в воздухе, небо светлело, и на какой–то миг единорог перестала слышать, как ноют прутья клетки и шуршат с мягким перезвоном крылья гарпии.
— Я думаю, что ты — мой друг, — произнесла она. — Ты поможешь мне?
— Если я не помогу тебе, то не помогу никогда и никому, — ответил волшебник. — Ты — мой последний шанс.
Один за другим печальные звери Полночного Карнавала, хныкая, чихая и вздрагивая, просыпались. Одному снились скалы, жуки и нежные листики; другому — прыжки в высокой горячей траве; третьему — грязь и кровь. А одному снилась рука, чесавшая такое одинокое место за ухом. Одна лишь гарпия не спала и теперь, не мигая, глядела на солнце. Шмендрик сказал:
— Если она освободится раньше нас, мы пропали.
Поблизости они услышали голос Руха — тот голос всегда раздавался поблизости:
— Шмендрик! Эй, Шмендрик, я догадался! Это кофейник, верно?
Волшебник начал медленно отходить прочь:
— Сегодня вечером, — еле слышно пробормотал он единорогу. — Верь мне до зари. — И ушел через силу, трепеща полами плаща; и, как и прежде, единорогу показалось, что он оставил позади какую–то часть себя. Рух прискакал к клеткам минуту спустя, являя собой образец убийственной экономии времени. Где–то во внутренностях своего черного фургона Мамаша Фортуна ворчала себе под нос песенку Элли:
Вскорости начал лениво собираться новый улов зрителей. Рух зазывал их внутрь, то и дело крича «Ночные существа!», будто железный попугай, а Шмендрик стоял у кассы и показывал фокусы. Единорог наблюдала за ним со все большим интересом и возраставшим сомнением — сомнением не в сердце волшебника, а в его ремесле. Тот творил целую свинью из одного свиного уха; превращал проповедь в камни, стакан воды — в пригоршню воды, пятерку пик — в туза пик, а кролика — в золотую рыбку, которая потом все равно утонула. Каждый раз, когда ему удавалось повергнуть зрителей в замешательство, он бросал быстрый взгляд на единорога, словно хотел сказать: «Ох, ну ты же знаешь, что я сделал на самом деле». А один раз он превратил засохшую розу в семя. Единорогу это понравилось, даже несмотря на то, что оно оказалось семенем редиски.
Снова началось представление. Снова Рух вел толпу от одного несчастного мифа Мамаши Фортуны к другому. Дракон неистовствовал, Цербер выл, призывая Ад себе на помощь, сатир искушал женщин, пока те не начинали плакать. Зрители украдкой косили и тыкали пальцами в желтые бивни и разбухшее жало мантикора, замирали при мысли о Мидгардском Змее, поражались новой паутине Арахны, похожей на сеть рыбака, в которой запуталась мокрая луна. Каждый из них принимал паутину за настоящую, но лишь сама паучиха действительно верила, что в ней запуталась настоящая луна.
На этот раз Рух не стал рассказывать историю про Царя Финея и Аргонавтов. Он провел своих посетителей мимо клетки с гарпией настолько быстро, насколько мог, едва провякав ее имя и то, что оно значит. Гарпия улыбнулась. Никто ее улыбки не заметил, кроме единорога, да и та пожалела, что в ту минуту случайно не смотрела куда–нибудь в другую сторону.
Когда они все выстроились перед ее клеткой и в молчании уставились на нее, она горько подумала: их глаза так печальны. Насколько же печальнее они могли быть, если бы чары, что скрывают меня, рассеялись, и они остались бы смотреть на простую белую кобылу? Ведьма права. Никто не признал бы меня.
Но тихий голос, довольно похожий на голос Шмендрика–Волшебника, произнес где–то внутри: «Но ведь их глаза так печальны».
А когда Рух завопил: «Узрите Самый Конец!» — и черные покровы сползли, и появилась Элли, и забормотала в холоде и тьме, единорог ощутила тот же самый страх старости, что обращал в бегство толпу, хоть и знала, что в клетке сидит всего лишь Мамаша Фортуна. Единорог сказала себе: ведьма знает больше, чем думает, что она знает.
Ночь пришла быстро — может быть, потому, что ее торопила гарпия. Солнце утонуло в грязных тучах, словно камень в морских волнах — и примерно с такой же вероятностью своего нового восхода оттуда. Ни луны, ни звезд не было. Мамаша Фортуна, скользя, обошла дозором свои клетки. Гарпия не пошевелилась, даже когда старуха подошла совсем близко, и поэтому та долго стояла и смотрела на нее.
— Пока рано, — наконец, пробормотала ведьма, — пока рано.
Но голос ее был полон усталости и сомнения. Она коротко всмотрелась в единорога желтыми мазками глаз, живыми среди жирного тяжелого мрака.
— Ну, одним днем больше, — произнесла она с надтреснутым вздохом и вновь отвернулась.
Караван не издал ни звука после того, как она ушла. Все звери спали — кроме паучихи, которая ткала, и гарпии, которая выжидала. А ночь скрипела, натягиваясь все туже и туже, и единорог все ждала, что вот–вот она расколется, разойдется, разорвав шов в небесах, и оттуда проглянет… Снова решетка, думала она. Где же волшебник?
Наконец, тот прибежал, просверлив тишину, пританцовывая, как кот на морозе, спотыкаясь о тени. Приблизившись к клетке с единорогом, он отвесил ей радостный поклон и горделиво произнес:
— Шмендрик — с вами!
В ближайшей клетке единорог услышала зазубренную дрожь бронзы.
— Мне кажется, у нас мало времени, — сказала она. — Ты правда можешь освободить меня?
Высокий человек улыбнулся, и даже его бледные, торжественные пальцы весело забегали.
— Я же сказал тебе, что ведьма сделала три большие ошибки. Твое пленение было последней, взятие гарпии — второй, потому что вы обе реальны, и Мамаше Фортуне удается присвоить вас не больше, чем удлинить зиму хотя бы на один день. Но принять меня за такого же шарлатана, как и она сама, — это было ее первым фатальным безрассудством. Ибо я тоже реален. Я — Шмендрик–Волшебник, последний из раскаленных свами, и я — старше, чем выгляжу.
— Где другой человек? — спросила единорог.
Шмендрик уже закатывал рукава:
— О Рухе не беспокойся. Я загадал ему еще одну загадку — ту, на которую нет ответа. Он, может, даже никогда и не шевельнется снова.
Волшебник произнес три угловатых слова и щелкнул пальцами. Клетка исчезла. Единорог оказалась в роще — апельсиновые и лимонные деревья, груши и гранаты, миндаль и акации, — под ногами у нее была мягкая весенняя земля, а над ней росло небо. Сердце ее стало легким, как дым, пока она собирала силы для одного громадного прыжка в сладкую ночь. Но потом она позволила этому нетронутому прыжку тихо испариться, ибо поняла, что прутья решеток по–прежнему на месте, хоть она их и не видела. Она была слишком стара, чтобы не знать этого.
— Прости, — произнес Шмендрик где–то в темноте. — Мне захотелось, чтобы именно эти чары освободили тебя.
Теперь он спел что–то низкое и холодное — и странные деревья унесло прочь легким пухом одуванчиков.
— Это более верные чары, — сказал он. — Прутья теперь хрупки, как старый сыр, и я их разломаю в крошки и разбросаю, вот так…
Но он ахнул и отдернул руки. С каждого его длинного пальца капала кровь.
— Я, должно быть, взял не тот акцент, — хрипло вымолвил он. Спрятав руки под плащ, он попытался говорить беззаботно: — Иногда выходит, иногда нет.
На этот раз раздалось царапанье кремнистых фраз, и окровавленные руки Шмендрика замелькали по небу. Что–то серое и ухмыляющееся, что–то похожее на медведя, но больше, чем медведь, что–то мутно хмыкающее, хромая, вылезло откуда–то, готовое расколоть клетку, как орех, и выташить оттуда куски плоти единорога своими когтями. Шмендрик приказал ему убираться обратно, в ночь, но оно уходить не хотело.
Единорог забилась в угол и опустила голову. Но тут гарпия, позванивая, мягко зашевелилась в своей клетке, и серая безликая тварь повернула то, что должно было быть ее головой, и увидела гарпию. Тень твари издала приглушенное блеянье ужаса и исчезла.
Волшебник чертыхнулся и поежился:
— Я уже призывал его когда–то очень давно и в тот раз тоже не мог с ним справиться. Теперь мы обязаны нашими жизнями гарпии, а она еще может прийти за ними прежде, чем взойдет солнце.
Он молча замер, сплетая израненные пальцы и ожидая, что единорог ответит ему что–нибудь.
— Я попытаюсь еще раз, — наконец, произнес он. — Хорошо?
Единорогу показалось, что она еще видит, как вскипает ночь там, куда исчезла серая тень.
— Да, — ответила она.
Шмендрик глубоко вздохнул, три раза плюнул и произнес слова, звучавшие, словно колокольчики в толще морских вод. Над своими плевками он разбросал пригоршню порошка и торжествующе улыбнулся, когда порошок пыхнул единой зеленой тихой вспышкой. Когда пламя угасло, он сказал еще три слова. Они были похожи на звук, который могли бы издавать пчелы, если бы их улей стоял на Луне.
Клетка начала уменьшаться. Единорогу не было видно, как двигались прутья, но каждый раз, когда Шмендрик произносил: «О, нет!» — единорогу оставалось все меньше и меньше места. Повернуться она бы уже не смогла. Решетки втягивались внутрь, будто безжалостный прибой или рассвет. Они бы наверняка рассекли ее тело и окружили бы собой ее сердце, которое уже готовы были сделать своим пленником навсегда. В тот раз, когда тварь, вызванная Шмендриком, скалясь, шла к ней, единорог не проронила ни звука, но сейчас она вскрикнула. Крик ее был крохотным и отчаянным — но она не сдавалась.
Шмендрик остановил решетки, хотя единорог не знала, как именно. Если тот и произносил какие–то магические слова, то она их не слышала. Клетка прекратила ссыхаться, когда от прутьев до ее кожи оставалось лишь одно дыхание. Единорог все равно их ощущала — каждый из них был маленьким холодным ветерком, мяукающим от голода. Но дотянуться до нее они не могли.
Руки волшебника упали вниз.
— Я больше не осмеливаюсь, — тяжко вымолвил он. — В следующий раз у меня может не получиться… — Его голос жалобно затих, а в глазах было такое же поражение, как и в руках. — Ведьма во мне не ошиблась, — сказал он.
— Попытайся еще, — сказала единорог. — Ты мой друг. Попытайся еще раз.
Но Шмендрик, горько улыбаясь, уже шарил по карманам в поисках чего–то, что бренчало и звякало.
— Я знал, что до этого дойдет, — бормотал он. — Мне снилось по–другому, но я знал. — Он извлек кольцо, на котором болталось несколько ржавых ключей. — Ты достойна службы великого колдуна, — сказал он единорогу, — но, боюсь, тебе придется довольствоваться услугами второсортного карманника. Единороги не знают ничего ни о нужде, ни о стыде, ни о сомнении, ни о долгах, но, как ты, быть может, уже заметила, смертные берут все, что могут взять. А Рух умеет сосредотачиваться только на чем–то одном зараз.
Единорог вдруг поняла, что ни одно животное Полночного Карнавала не спит — всё было тихо, но все наблюдали за ней. В соседней клетке гарпия начала медленно переминаться с ноги на ногу.
— Торопись, — сказала единорог. — Торопись.
Шмендрик уже вставлял ключ в презрительно хихикавший замок. При первой попытке, которая не удалась, тот молчал, но стоило Шмендрику подобрать второй ключ, как замок громко завопил:
— Хо–хо, вот так волшебник! Вот так волшебник! — У него был голос Мамаши Фортуны.
— Ах, заткнись и посиней, — в сердцах пробурчал Шмендрик, но единорог почувствовала, как тот покраснел. Ключ повернулся, замок щелкнул и разомкнулся, по–прежнему презрительно хрюкая. Шмендрик широко распахнул дверцу клетки и тихо сказал:
— Выходите, леди. Вы свободны.
Единорог легко ступила на землю, и Шмендрик–Волшебник отпрянул во внезапном изумлении:
— О, — прошептал он. — Когда между нами была решетка, ты была другой. Ты была меньше и не такой… ах… О, Боже…
Единорог снова стояла в своем лесу, черном, мокром и разоренном, потому что ее там так долго не было. Кто–то издалека звал ее, но она уже была дома — согревала деревья и пробуждала траву ото сна.
Потом она услыхала голос Руха — будто лодка скребла днищем по гальке:
— Ладно, Шмендрик, я сдаюсь. Так почему ворон похож на письменный стол?
Единорог перешла в глубочайшую тень, и Рух увидел только волшебника и пустую ссохшуюся клетку. Его рука метнулась к карману, потом отскочила снова.
— Ах ты вредный воришка! — оскалился железом он. — Она нанижет тебя на колючую проволоку и сделает бусы для гарпии. — Он развернулся и двинулся прямиком к фургону Мамаши Фортуны.
— Беги, — сказал волшебник. Одним отчаянным, глупым, летящим прыжком он оказался на спине Руха, наглухо и наслепо обхватив его длинными руками. Они повалились наземь вместе, но Шмендрик выкарабкался быстрее и коленями прижал плечи Руха к земле.
— Колючая проволока, — хватал он ртом воздух, — ах ты куча камней, ах ты мусор, ах ты мерзость запустения, да я набью тебя напастями, пока они у тебя из глаз не полезут. Я превращу твое сердце в зеленую травку, а всё, что ты любишь, — в баранов. Я превращу тебя в писаку–поэта с его мечтаньями. Я заставлю твои ногти расти внутрь — только попробуй связаться со мной.
Рух потряс головой и сел, отшвырнув Шмендрика футов на десять.
— Что ты мелешь? — хмыкнул он. — Ты даже сметану в масло превратить не можешь.
Волшебник уже поднялся было на ноги, но Рух толкнул его обратно и уселся на него сверху.
— Ты никогда мне не нравился, — приятно сообщил он. — Ты любишь важничать и не очень силен. — Тяжелые, будто сама ночь, его ручищи сомкнулись на горле волшебника.
Единорог всего этого не видела. Она стояла у самой дальней клетки, где рычал, повизгивал и пластался по полу мантикор. Единорог коснулась замка кончиком рога и перешла к клетке с драконом, даже не оглянувшись. Одного за другим выпустила она всех — сатира, Цербера, Мидгардского Змея. Заклятия пропадали, как только они оказывались на свободе, снова чувствуя себя львом, обезьяной, змеей, крокодилом, радостной собакой. Все они прыгали, ковыляли или соскальзывали в ночь, и никто не сказал единорогу спасибо, да та и не смотрела, как они уходили.
Лишь паучиха не обратила никакого внимания, когда единорог позвала ее в открытую дверь. Арахна ткала паутину, которая ей самой казалась Млечным Путем, начинавшим опадать, как снег. Единорог прошептала:
— Ткачиха, свобода — лучше, свобода — лучше. — Но паучиха, не слыша, перебегала вверх и вниз по своему железному станку. Она не остановилась, даже когда единорог воскликнула: — Она на самом деле очень симпатичная, Арахна, но это ведь не искусство. — Новая паутина опадала по прутьям клетки, словно снег.
Потом поднялся ветер. Паутину сдуло единорогу прямо в глаза, и она исчезла. Гарпия начала бить крыльями, призывая всю свою силу, будто подкравшаяся волна с ревом тащила за собой на берег воду и песок. Налитая кровью луна вырвалась из облаков, и единорог увидела гарпию — набухшее золото, ее развевавшиеся волосы разгорались, а холодные, медленные крылья раскачивали клетку. Гарпия смеялась.
В тени клетки единорога на коленях стояли Рух и Шмендрик. Волшебник сжимал тяжелую связку ключей, а Рух тер руками голову и моргал. Их лица, обращенные к восстававшей гарпии, были слепы от ужаса, и оба они гнулись по ветру. Ветер сталкивал их вместе, и их кости звенели.
Единорог зашагала к клетке гарпии. Шмендрик–Волшебник, крошечный и бледный, все открывал и закрывал рот, обернув лицо навстречу единорогу, и та знала, что он кричал ей изо всех сил, хотя ничего не могла услышать:
— Она убьет тебя, она убьет тебя! Убегай, глупая, пока она еще в плену! Она убьет тебя, если ты ее освободишь! — Но единорог шла дальше, следуя свету своего рога, пока не остановилась перед Селаэно — Темной Гарпией.
На мгновение ледяные крылья молча зависли в воздухе, словно облака, и старые желтые глаза впились в сердце единорога и притянули его ближе.
«Я убью тебя, если ты меня освободишь, — говорил этот взгляд. — Освободи меня.»
Единорог опустила голову, и рог ее коснулся замка на двери клетки. Дверь не распахнулась, и железные решетки не растаяли в свете звезд: гарпия расправила крылья, и четыре стены ее тюрьмы медленно раскрылись и опали, словно лепестки какого–то огромного цветка, пробудившегося в ночи. А сама гарпия расцвела во всем этом разорении, ужасная и свободная, крича кошмарным криком, с развевающимися волосами, подобными мечу. Луна съежилась и трусливо бежала.
Единорог слышала собственный голос — она кричала не в ужасе, но в изумлении:
— О, ты — как я! — Она радостно встала на дыбы, чтобы встретить стремительное падение гарпии, и ее рог взметнулся ввысь, навстречу злобному ветру. Гарпия нанесла один удар, промахнулась и развернулась прочь. Ее крылья бряцали, дыхание извергало жар и вонь. Она пылала над головой единорога, и та видела свое отражение в бронзовой груди гарпии и чувствовала, как от тела чудовища исходит сияние. Так они кружили друг напротив друга, будто двойная звезда, и под ссохшимся небом не было ничего реальнее их. Гарпия смеялась от восторга, и ее глаза стали медового цвета. Единорог знала, что она готовится к новому удару.
Вот она сложила крылья и звездой пала вниз — но не на единорога, а куда–то за нее, так близко, что какое–то перышко до крови оцарапало ей плечо: яркие когти гарпии тянулись к сердцу Мамаши Фортуны, которая распростерла острые руки, точно призывая гарпию домой.
— Не сами! — победно выла ведьма им обеим. — Вы никогда не смогли бы освободиться сами! Вас держала я! Я! — Гарпия, наконец, дотянулась до нее — и она сломалась, как мертвая палка, и упала на землю. Гарпия, сгорбившись, накрыла ее тело собой, и ее бронзовые крылья стали красными.
Единорог отвернулась. Где–то поблизости она слышала детский голосок, твердивший, что она должна бежать, она должна бежать. Это был волшебник. Его глаза были огромны и пусты, а лицо, и так всегда слишком молодое, проваливалось куда–то в детство, пока единорог смотрела на него.
— Нет, — ответила она. — Пойдем со мной.
Гарпия издала густой счастливый звук, от которого колени волшебника вновь растаяли. Но единорог повторила:
— Пойдем со мной. — Они вместе вышли из Полночного Карнавала. Луны не было, но в глазах волшебника луной сияла единорог — холодной, белой и очень старой луной, освещавшей ему путь к спасению — или к безумию. Он шел за единорогом, ни разу не оглянувшись назад, когда услышал отчаянный сбивчивый топот тяжелых ног, гром бронзовых крыльев и прерванный на полузвуке вопль Руха.
— Он бежал, — сказала единорог. — Никогда нельзя бегать ни от чего бессмертного. Это привлекает их внимание. — Ее голос был нежен и безжалостен. — Никогда не беги, — говорила она. — Иди медленно и притворяйся, что думаешь о чем–то другом. Пой песню, читай стихи, показывай свои фокусы, но иди медленно, и она, может быть, не станет тебя догонять. Иди очень медленно, волшебник.
Так они уходили вместе сквозь ночь, шаг за шагом — высокий человек в черном и рогатый белый зверь. Волшебник, насколько осмеливался, теснее прижимался к свету единорога, ибо за кругом этого света крались голодные тени, тени тех звуков, что доносились оттуда, где гарпия крушила то немногое, что еще оставалось от Полночного Карнавала. Но еще долго после того, как эти звуки замерли, за ними, навстречу утренней заре на чужой и странной дороге, следовал другой звук — крохотный, сухой плач паучихи.
IV
Волшебник, как новорожденное дитя, долго плакал, прежде, чем смог, наконец, прошептать:
— Бедная старуха…
Единорог ничего на это не сказала. Шмендрик поднял голову и странно посмотрел на нее. Начинался серый утренний дождик, и единорог сияла в нем, словно дельфин.
— Нет, — произнесла она в ответ на взгляд человека. — Я никогда не смогу об этом пожалеть.
Волшебник молчал, скорчившись под дождем у дороги и кутаясь в свой насквозь промокший плащ, пока сам не стал напоминать сломанный черный зонтик. Единорог ждала, чувствуя, как дни ее жизни вместе с дождем опадают вокруг.
— Я умею печалиться, — как утешение предложила она, — но это не одно и то же.
Когда Шмендрик вновь поднял глаза, ему удалось придать лицу подобающее выражение, но оно все равно никак ему не давалось и постоянно куда–то ускользало.
— Куда ты теперь пойдешь? — спросил он. — Куда ты шла, когда она тебя поймала?
— Я искала свой народ, — ответила единорог. — Ты их не видел, волшебник? Они дики и белы, как море, — как и я.
Шмендрик сурово покачал головой:
— Я никогда в жизни не видел никого, похожего на тебя, — когда бодрствовал, по крайней мере. Давно, когда я еще был мальчишкой, считалось, что несколько единорогов по–прежнему живы, но я знал только одного человека, который единорога действительно видел. Они все ушли, и в этом нет сомнения, леди, — все, кроме тебя. Когда ты проходишь, эхо твоих шагов разносится там, где раньше были они все.
— Нет, — ответила единорог, — это не так, ибо их видели другие. — Ее обрадовало, что единороги существовали еще относительно недавно — когда волшебник был ребенком. — Мотылек рассказывал мне про Красного Быка, а ведьма говорила о Короле Хаггарде. Поэтому я иду туда, где они есть, где бы они ни были, чтобы узнать все, что знают они. Ты можешь сказать мне, где правит Хаггард?
Выражение лица почти совсем оставило волшебника, но он ухитрился поймать его за кончик и начал очень медленно улыбаться, точно его рот стал железным. Через некоторое время он окончательно согнул его в должную форму, но это была все–таки железная улыбка.
— Я могу прочесть тебе стихи, — произнес он. —
— Значит, я пойму, когда доберусь туда, — сказала единорог, думая, что он смеется над нею. — А ты знаешь какие–нибудь стихи про Красного Быка?
— Таких не существует, — ответил Шмендрик. Он поднялся на ноги, бледный и улыбающийся. — О Короле Хаггарде я знаю только то, что слышал. Он — старый человек, скаредный, как конец ноября. Он правит бесплодной страной у моря. Некоторые говорят, что когда–то та земля была зеленой и мягкой, но пришел Хаггард, коснулся ее, и она увяла. У крестьян есть даже такая поговорка про поле, погибшее от пожара, саранчи или суховея: «загублено, как сердце Хаггарда». Еще люди говорят, что в его замке нет ни света, ни огней, что он посылает своих слуг красть цыплят, простыни и пироги с подоконников. Рассказывают, что смеялся Король Хаггард в последний раз, когда…
Единорог топнула ногой. Шмендрик сказал:
— Что же до Красного Быка, то я знаю меньше, чем слышал, ибо я слышал огромное множество историй, и все они противоречат одна другой. Бык реален. Бык — призрак. Бык — это сам Хаггард, когда заходит солнце. Бык жил в той земле еще до прихода Хаггарда, или пришел вместе с ним, или пришел к нему. Он защищает его от набегов и революций, он сберегает Хаггарду деньги на вооружение армии. Он держит Короля пленником в его же собственном замке. Он дьявол, которому Хаггард продал душу. Чтобы владеть им, Хаггард продал душу. Бык принадлежит Хаггарду. Хаггард принадлежит Быку.
Единорог ощутила дрожь уверенности, пробежавшую сквозь все ее тело, расширяясь волнами дальше и дальше от сердца, как круги по воде. У нее в голове снова зудел мотылек: «Они прошли по всем дорогам очень давно, и вслед за ними бежал Красный Бык и затаптывал их следы». Она видела, как ревущим ветром уносит прочь белые тени, как сотрясаются желтые рога.
— Я пойду туда, — сказала она. — Волшебник, я должна сделать для тебя какое–нибудь благое дело, ибо ты выпустил меня на свободу. Что ты потребуешь от меня прежде, чем я тебя покину?
Продолговатые глаза Шмендрика поблескивали, словно листва на солнышке:
— Возьми меня с собой.
Единорог, холодно пританцовывая, отодвинулась чуть дальше и ничего не ответила. Волшебник сказал:
— Я могу принести пользу. Я знаю дорогу в страну Хаггарда, я знаю языки тех земель, что лежат между этими местами и теми. — Единорог, казалось, уже готова была вовсе раствориться в липком тумане, и Шмендрик поспешил продолжить: — Кроме того, ни одному скитальцу никогда не бывало хуже от компании колдуна — и даже единорогам. Вспомни историю о великом колдуне Никосе. Однажды в лесах он узрел единорога, который спал, положив голову на колени хихикавшей девице, а в это время к нему подбирались трое охотников с натянутыми луками, чтобы убить его и добыть рог. У Никоса был всего лишь какой–то миг на раздумье. Словом и взмахом он обратил единорога в красивого молодого человека, который проснулся и, завидев лучников, раскрывших в изумлении рты, бросился на них и всех убил. Его меч был витым и заострялся к концу, а когда охотники были мертвы, молодой человек растоптал их тела.
— А девушка? — спросила единорог. — Девушку он тоже убил?
— Нет, он на ней женился. Он говорил, что она — всего лишь дитя, не ведающее цели, сердитое на свою семью, и все, что нужен ей был на самом деле всего лишь хороший муж. Он им и стал — с того раза и навсегда, ибо даже Никос не смог вернуть ему первоначальное обличье. Он умер старым и уважаемым — объевшись фиалок, как говорили некоторые: он никогда не мог наесться фиалок. Детей у них не было.
История замерла где–то в дыхании единорога.
— Колдун не оказал ему никакой услуги, он нанес ему большой вред, — тихо сказала она. — Как ужасно было бы, если бы весь мой народ колдуны–доброжелатели превратили в людей — в изгнанников в ловушках горящих домов. Уж лучше бы, если б их всех убил Красный Бык.
— Там, куда ты сейчас идешь, — ответил Шмендрик, — лишь немногие будут желать тебе чего–то кроме зла, и сердце друга может оказаться желанным, как глоток воды. Возьми меня с собой — на смех, на удачу, на неизведанное. Возьми меня с собой.
Пока он говорил это, дождик растаял, небо начало очищаться, а мокрая трава засияла, как морская раковина изнутри. Единорог отвела взгляд, ища в тумане королей одного короля, а в снежном блеске замков и дворцов — тот, что выстроен на плечах быка.
— Никто никогда не путешествовал со мной, — сказала она, — но ведь никто никогда и не сажал меня в клетку, не принимал за белую кобылу, не скрывал меня мной же. Кажется, многому предопределено случиться со мной впервые, и твоя компания, конечно же, не самая странная вещь из них всех — и не последняя. Поэтому, если желаешь, ты можешь пойти со мной — правда, я бы хотела, чтобы ты попросил о каком–нибудь ином вознаграждении.
Шмендрик грустно улыбнулся:
— Я уже думал об этом. — Он взглянул на свои пальцы, и единорог увидела на них полумесяцы следов от укусов решеток. — Но ты никогда не смогла бы выполнить мое истинное желание.
Ну вот, подумала единорог, ощутив внутренней стороной кожи первое паучье касание грусти. Вот что значит путешествовать со смертными. И так — все время.
— Нет, — ответила она, — я не могу превратить тебя ни во что иное, чем ты не являешься. Я здесь не сильнее ведьмы. Я не могу сделать из тебя настоящего волшебника.
— Я так и думал, — вздохнул Шмендрик. — Все в порядке. Не беспокойся об этом.
— Я не беспокоюсь, — ответила единорог.
В этот — самый первый — день их путешествия над головами у них кружила голубая сойка. Вдруг она произнесла:
— Ну, будь я птенцом под стеклом… — И захлопала крыльями прямиком к дому, чтобы рассказать жене (ибо это был папа–сойка) об увиденном. Его жена сидела в гнезде, уныло и монотонно напевая детям:
— Видел сегодня единорога, — доложил папа–сойка, приземлившись.
— Я замечаю, что ужина ты сегодня не видел, — холодно ответила жена. — Ненавижу мужчину, который болтает с пустым ртом.
— Крошка, так единорога же! — Папа–сойка оставил свой обыденный тон и запрыгал вверх и вниз по ветке. — Я не видел ни одного со времени…
— Ты никогда ни одного не видел, — перебила жена. — Перед тобой — я, ты еще помнишь? Я знаю, что ты видел в своей жизни, а чего не видел.
Папа–сойка не обратил на ее слова никакого внимания.
— С нею был какой–то странный попутчик в черном, — трещал он. — Они переходили через Кошачью Гору. Интересно, не в страну ли Хаггарда они шли? — Он склонил голову на бок под тем артистическим углом, который в самом начале покорил его жену. — Что за диво на завтрак старому Хаггарду, — восхищался он. — Единорог смело наносит визит: тук–тук–тук в его зловещие двери, вот вам, пожалуйста… Я бы все отдал, чтобы только увидеть…
— Я полагаю, вы оба не весь день напролет смотрели на единорогов? — прервала его жена, щелкнув клювом. — По меньшей мере, ее, насколько я понимаю, раньше считали достаточно изобретательной в том, что касается свободного времени. — Она наступала на мужа, распушив перышки на шее.
— Милая, да я ее даже не видел… — начал было папа–сойка, и его жена поняла, что он действительно ни с кем не встречался, просто не осмелился бы. Но все равно отдубасила его — она была из тех женщин, которые знают, как читать легкую нотацию.
Единорог и волшебник шагали по весне, через мягкую Кошачью Гору и вниз, в фиолетовую долину, где росли яблони. За долиной тянулись низкие холмы, толстые и покорные, словно овцы, — они опускали головы, удивленно принюхиваясь к единорогу, шедшей между ними. Потом пришел черед медленных летних вершин и испеченных равнин, где воздух висел, сияя, как печенье. Вместе со Шмендриком они переходили вброд реки, карабкались и скатывались по прибрежным утесам и обрывам, покрытым колючками, брели по лесам, которые напоминали единорогу о доме, — хотя, на самом деле, они не могли ей ни о чем напоминать, ибо познали время. А теперь и мой лес тоже его познал, думала единорог, но продолжала успокаивать себя тем, что это не имеет значения, что все будет как прежде, лишь стоит ей вернуться.
По ночам, когда Шмендрик спал сном голодного волшебника с натруженными ногами, единорог горбилась без сна, ожидая, когда с луны вниз бросится огромная тень Красного Быка. Временами она совершенно отчетливо улавливала то, что казалось его запахом, — темную коварную вонь, сочившуюся сквозь ночь, пытаясь дотянуться до нее. Она вскакивала тогда на ноги с холодным криком готовности и обнаруживала лишь двух–трех оленей, глазевших на нее с почтительного расстояния. Олени любят единорогов и завидуют им. Однажды олень–второгодок, подталкиваемый своими смешливыми приятелями, подошел к ней довольно близко и, боясь поднять глаза, невнятно пробормотал:
— Ты очень красивая. Ты так прекрасна, как нам рассказывали мамы.
Единорог молча взглянула на него, зная, что он не ждет никакого ответа. Остальные олени фыркали и шепотом подсказывали:
— Давай дальше, дальше!
Тогда первый олень поднял голову и выкрикнут проворно и радостно:
— Но я знаю того, кто еще прекраснее тебя! — Он повернулся и рванулся прочь в лунном свете, а приятели последовали за ним. Единорог снова улеглась.
Время от времени в своем странствии они подходили к деревням, и там Шмендрик представлялся бродячим магом, предлагая, по его же собственным словам, которые он кричал на деревенских улицах, «спеть и заработать себе на ужин, лишь чуть–чуть потревожить вас, слегка нарушить ваш сон и пойти дальше». Только в редких городках его не приглашали поставить прекрасную белую лошадь в стойло и переночевать. Обычно же, пока дети не уйдут спать, он устраивал представления на рыночных площадях при свете ламп. Он, конечно, никогда и не пытался там творить ничего чудеснее говорящих кукол или конфет из мыла, но иногда и эти пустяки выпадали у него из рук. Детям он все равно нравился, а их родители были добры в том, что касалось ужина — и летние вечера проходили гибко и мягко. Столетия спустя единорог все еще помнила странный шоколадный запах конюшен и тень Шмендрика, танцующую на стенах, дверях и печных трубах в прыгающем свете.
Утром они уходили своим путем: карманы Шмендрика были полны хлеба, сыра и апельсинов, а единорог шагала рядом, белая, словно море в солнечном свете, зеленая, словно море в тени деревьев. Трюки бродячего мага забывались, не успевал он скрыться из виду, но его белая лошадь тревожила по ночам многих селян; были и такие женщины, которые, плача, просыпались среди ночи, увидев ее во сне.
Однажды вечером они остановились в пухлом уютном городке, где даже у нищих были двойные подбородки, а мыши ходили вразвалочку. Шмендрика немедленно пригласили отобедать с Мэром и несколькими Муниципальными Советниками из числа более округлых; а единорога, как всегда неузнанную, отпустили попастись на травке, сладкой, как молоко. Обед подавался на открытом воздухе — стол стоял на городской площади, ибо ночь была теплой, а Мэру хотелось похвастаться своим гостем. Это был отличный обед.
За едой Шмендрик рассказывал истории из собственной жизни — жизни свободного чародея, по отказа заполненной королями, драконами и благородными дамами. Он не лгал — он просто организовывал события несколько более разумно, чем на самом деле, и поэтому в его историях был привкус правдоподобия даже для разборчивых и осмотрительных Советников. И не только они, но и все горожане, гулявшие в то время по улицам, наклонялись поближе, чтобы понять, например, природу заклинания, способного открывать все замки, если его применять надлежащим образом. И далеко не у одного перехватывало дыхание при виде следов на пальцах волшебника.
— Сувенир на память о моей встрече с гарпией, — спокойно объяснял Шмендрик. — Они кусаются.
— И вы никогда не боялись? — тихо спросила одна молоденькая девушка. Мэр шикнул на нее, но Шмендрик зажег сигару и сквозь дым улыбнулся девушке.
— Страх и голод хранили меня молодым, — ответил он и, окинув взором круг начинавших клевать носами и тихо рокотавших Советников, откровенно ей подмигнул.
Мэра это нисколько не обидело.
— Это так, — вздохнул он, поглаживая сплетенными пальцами свой обед. — Мы действительно ведем здесь хорошую жизнь, а если она где–то и не хороша, то мне о такой ничего не известно. Я иногда думаю, что немножко страха, чуточку голода было бы для нас даже полезно — это бы, так сказать, заострило наши души. Вот почему мы всегда рады чужакам, которым есть что рассказать и есть что спеть. Они расширяют наш кругозор… заставляют нас вглядеться вглубь… — Он зевнул и потянулся с легким рыком.
Один из Советников внезапно заметил:
— Ну и ну, взгляните–ка на пастбище! — Тяжелые головы повернулись на клонившихся книзу шеях, и все увидели коров, овец и лошадей со всего городка, сгрудившихся на дальнем конце поля и глазевших на белую лошадь волшебника, которая безмятежно щипала прохладную травку. Животные не издавали ни звука. Даже поросята и гусыни молчали, как привидения. Лишь ворона единожды каркнула где–то вдали, и этот крик пролетел сквозь летний закат одиноким угольком.
— Замечательно, — промычал Мэр. — Просто замечательно.
— Она действительно замечательна, не правда ли? — одобрительно переспросил волшебник. — Если бы вы знали, что мне предлагали за эту лошадь…
— Самое интересное, — промолвил Советник, заговоривший первым, — они, кажется, совсем ее не боятся. Они, кажется, преисполнены почтительности, словно поклоняются ей.
— Они видят то, что вы забыли, как видеть. — Шмендрик уже выпил свою долю красного вина, а молоденькая девушка смотрела на него взглядом и более сладким, и более мелким, чем взгляд единорога. Волшебник грохнул своим стаканом о стол и сказал улыбающемуся Мэру:
— Это существо еще более редкое, чем вы можете себе представить. Это миф, воспоминание, блуждающий огонек. Заблудившийся дымок. Если помнил, если голодал…
Его голос потерялся в дробном громе копыт и внезапных криках детей. Дюжина всадников, одетых в осеннее тряпье, галопом влетела на площадь, завывая и хохоча, расшвыривая население городка, как мраморные шарики. Они выстроились в линию и стали с лязгом прочесывать площадь, переворачивая и сбивая наземь все, что попадалось на пути, выкрикивая невнятную похвальбу и угрозы, никому в частности, впрочем, не адресованные. Один из всадников приподнялся в седле, натянул лук и сбил флюгер с церковного шпиля. Другой сдернул с головы Шмендрика шляпу, нацепил ее на себя и, ревя, умчался прочь. Некоторые перекидывали через седла вопивших детей, некоторые довольствовались бутербродами и мехами с вином. На их заросших рожах безумно сверкали глаза, а смех был как барабаны.
Кругленький Мэр вскочил на ноги и теперь стоял, вглядываясь в происходящее. Встретившись взглядом с главарем налетчиков, он вскинул одну бровь. Тот щелкнул пальцами, и кони немедленно замерли, а оборванцы затихли, совсем как городская живность перед единорогом. Все бережно опустили детей на землю и вернули большую часть винных мехов.
— Джек Дзингли, если позволите, — спокойно сказал Мэр.
Главарь всадников спешился и медленно подошел к столу, за которым обедали советники и их гость. Это был огромный человек, почти семи футов росту; при каждом шаге он дребезжал и позвякивал множеством колец, колокольчиков и браслетов, пришитых к залатанной кожаной куртке.
— Вечер, Вашчесть, — произнес он с хриплым смешком.
— Давай покончим с этим делом, — сказал ему Мэр. — Я не понимаю, почему вы не можете въехать сюда тихо и спокойно, как цивилизованные люди.
— Ну, парни же не хотят ничего дурного, Вашчесть, — добродушно проворчал гигант. — Они мариновались весь день в лесах, и им нужно немножко расслабиться, — ну, что–то типа маленького катарсиса. Ладно, за дело, что ли? — Со вздохом он снял с пояса сморщенный мешочек с монетами и поместил его в раскрытую ладонь Мэра. — Вот вам, Вашчесть, — произнес он. — Здесь не так уж много, но больше мы никак не можем уделить.
Мэр выцедил монеты на ладонь и, похрюкивая, пересчитал их, тыкая жирным пальцем.
— Действительно, не густо, — сварливо вымолвил он. — Добыча даже меньше, чем в прошлом месяце — да и та была жиденькой. Ах вы, жалкая шайка флибустьеров…
— Трудные времена настали, — угрюмо отозвался Джек Дзингли. — Что мы, виноваты, если у путешественников сейчас не больше золота, чем у нас самих? Сами знаете, из репы крови не выжмешь…
— Я выжму, — сказал Мэр. Он зверски осклабился и потряс кулаком перед лицом гиганта–разбойника. — А если ты что–то от меня утаиваешь, — прокричал он, — если ты за мой счет выстилаешь перышками собственные карманы, я буду жать тебя, друг мой, я буду выжимать из тебя все, пока ты не станешь фаршем и шелухой, которую развеет ветер. Изыди и передай это своему оборванцу–капитану. Прочь, негодяи!
Пока Джек Дзингли отворачивался, бормоча что–то себе под нос, Шмендрик неуверенно прочистил горло и произнес:
— Я бы забрал свою шляпу, если вы не возражаете.
Гигант вылупился на него своими буйволиными глазками, начинавшими наливаться кровью, и ничего не ответил.
— Мою шляпу, — уже тверже попросил Шмендрик. — Один из ваших людей взял мою шляпу, и с его стороны было бы мудро вернуть ее.
— Мудро, а? — наконец хрюкнул Джек Дзингли. — А кто же ты такой, если знаешь, что такое мудрость?
Вино все еще плескалось в глазах Шмендрика.
— Я — Шмендрик–Волшебник, и меня плохо иметь своим врагом, — объявил он. — Я — старше, чем выгляжу, и менее дружелюбен внутри, чем снаружи. Мою шляпу.
Джек Дзингли рассматривал его еще несколько мгновений, а потом отступил к своему коню и уселся в седло. Он подъехал к ожидавшему Шмендрику и остановился от него на расстоянии, едва ли превышавшем толщину бороды.
— Н–ну, — прогремел он, — если ты волшебник, то сделай что–нибудь хитрое. Покрась мне нос зеленым, набей мне седельные сумки снегом, исчезни мне бороду. Покажи какое–нибудь волшебство — или же собственные пятки. — Он вытащил из–за пояса заржавленный кинжал и, злобно присвистывая, показал его волшебнику, придерживая пальцами за острие.
— Волшебник — мой гость, — предупредил Мэр, но Шмендрик торжественно произнес:
— Очень хорошо. Пусть же она тогда будет на твоей голове.
Удостоверившись краем глаза, что молоденькая девушка наблюдает за ним, он указал пальцем на команду огородных пугал, что скалилась за спиной своего главаря, и произнес что–то в рифму. В то же мгновение его черная шляпа вырвалась из рук человека, державшего ее, и медленно поплыла по темневшему воздуху, молчаливая, словно сова. Двум женщинам стало дурно, а Мэр сел на свое место. Разбойники кричали детскими голосами.
Вдоль всей городской площади проплыла шляпа волшебника — до самой канавы, из которой пили лошади, а там нырнула и зачерпнула воды. Потом, почти невидимая в сгущавшихся тенях, она поплыла обратно, совершенно очевидно нацеливаясь прямиком на немытую голову Джека Дзингли. Тот закрылся руками, бормоча:
— Н–не, не, у–убери ее… — И даже его собственные люди захихикали в предвкушении. Шмендрик торжествующе улыбнулся и щелкнул пальцами, чтобы ускорить продвижение шляпы.
Но шляпа, приблизившись в своем полете к главарю разбойников, начала вдруг изгибаться по какой–то непонятной траектории — сначала постепенно, потом все более резко забирая в сторону стола, за которым сидели Советники. Мэру хватило времени только на то, чтобы вскочить на ноги прежде, чем шляпа удобно уселась ему на голову. Шмендрик вовремя пригнулся, но парочку близсидевших Советников все–таки слегка обрызгало.
В том реве смеха, который поднялся в своем добровольном разнообразии, Джек Дзингли нагнулся в седле и подхватил Шмендрика–Волшебника, который тем временем пытался скатертью насухо вытереть пускавшего пузыри Мэра.
— Я подозреваю, что тебя вызовут на бис, — проревел гигант волшебнику в самое ухо. — Тебе лучше всего поехать с нами.
Он швырнул Шмендрика лицом вниз поперек седельной луки и галопом поскакал прочь, сопровождаемый своей потрепанной когортой. Их фырканье, хрюканье и рыгание еще долго висели над площадью после того, как звуки копыт затихли вдали.
К Мэру уже бежали люди, спрашивая его, надо ли бросаться в погоню, чтобы спасти волшебника, но тот покачал мокрой головой и ответил:
— Я думаю, едва ли это необходимо. Если наш гость — тот, за кого себя выдает, то он должен достаточно хорошо уметь заботиться о себе. Ну, а если нет — что ж, самозванец, злоупотребивший нашим гостеприимством, не может требовать от нас помощи. Нет–нет, не беспокойтесь о нем.
По его челюстям стекали ручейки, сливаясь на шее в речку, а на животе — в целый поток, но он обратил свой кроткий взор в сторону пастбища, где во тьме светилась белая лошадь волшебника. Та бродила взад и вперед вдоль изгороди, не издавая ни звука. Мэр тихо произнес:
— Думаю, будет только прилично, если мы хорошенько позаботимся о скакуне нашего отбывшего друга, поскольку тот, очевидно, ценил его очень высоко.
Он направил на пастбище двух человек с инструкциями связать лошадь и поместить ее в самое прочное стойло его собственной конюшни.
Но не успели люди дойти до ворот пастбища, как белая лошадь прыгнула через изгородь и исчезла в ночи, будто упавшая звезда. Двое некоторое время стояли там, где остановились, не внимая приказам Мэра вернуться; и ни один из них так никогда и не признался (даже своему товарищу), почему смотрел вслед кобыле волшебника так долго. Но после этого происшествия время от времени они оба вдруг начинали смеяться от удивления посреди самых серьезных мероприятий; и поэтому их стали считать людьми несколько фривольного склада.
V
Все, что Шмендрик мог потом вспомнить об этой дикой скачке с разбойниками — ветер, острый край седла и смех позвякивавшего гиганта. Он был слишком занят раздумьями о финале своего трюка со шляпой, чтобы замечать что–либо еще. Слишком много языка, предполагал он. Перекомпенсация. Но, подумав так, сразу же затряс головой, что в его положении сделать было довольно затруднительно. Магия знает, что хочет сделать, думал он, сотрясаясь, поскольку лошадь бросилась вброд через ручей. Это я никогда не знаю, что именно она знает. А если и знаю, то не тогда, когда нужно. Я бы написал ей письмо, если б знал, где она живет.
Кусты и ветки деревьев, как грабли, скребли его по лицу, а совы ухали прямо в уши. Кони перешли на медленную рысь, потом пошли спокойно. Высокий дрожащий голос выкрикнул:
— Стой и скажи пароль!
— Ну вот, приехали, — пробормотал Джек Дзингли. — Ч–черт…
Он сначала почесал голову — его пальцы издали звук пилы, вгрызавшейся в дерево, а потом повысил голос и ответил:
— Жизнь так коротка и так весела в милом нашем лесу; мы друг другу завещаны и с победой повенчаны…
— Со свободой, — поправил его тонкой голос. — Со свободой обвенчаны. Ты что, не чувствуешь разницы в звуках?
— Благодарю. Со свободой обвенчаны. Мы друг другу… нет–нет, это я уже говорил. Жизнь так коротка и так… друг другу за… — нет, не так. — Джек Дзингли снова почесал голову и застонал: — Со свободой обвенчаны… Ну помоги же мне, а?
— Коль один — так за всех, за него все пойдем, — любезно подсказал голос. — Сам дальше сможешь вспомнить?
— Коль один — так за всех, за него все пойдем — сейчас, погоди! — проорал гигант. — Только вместе сильны мы, а порознь — падем. — Он пришпорил коня и двинулся вперед.
Из темноты впереди провизжала стрела, вырвала клинышек его уха, царапнула лошадь человека, ехавшего следом, и упорхнула прочь, точно летучая мышь. Разбойники рассеялись по кустам от греха подальше, а Джек Дзингли завопил от ярости:
— Ты что, ослеп, будь ты проклят?! Я уже десять раз тебе пароль сказал! Ну, я сейчас доберусь до тебя…
— Мы сменили пароль, пока тебя не было, Джек, — донесся голос часового. — Этот было слишком тяжело запоминать.
— Ах вот как, пароль сменили? — Джек Дзингли промакнул раненое ухо краешком плаща Шмендрика. — А как бы я об этом узнал, ты, безмозглый отпрыск с требухой вместо печенки?!
— Не злись, Джек, — примирительно отозвался часовой. — Видишь ли, на самом деле даже неважно, знаешь ты новый пароль или нет, — настолько он прост. Нужно просто кричать, как жираф. Капитан сам его придумал.
— Кричать, как жираф?.. — Гигант так продолжительно и так грязно выругался, что даже лошади засуетились от смущения. — Ты, сопляк, жираф вообще никаких звуков не издает. Капитан с таким же успехом мог бы заставить нас кричать, как рыбы или как бабочки.
— Я знаю. Зато так никто не забудет пароль — и даже ты. Правда, Джек, наш Капитан умный?
— Нет пределов способностям этого человека, — с восхищением вымолвил Джек Дзингли. — Но послушай, что удержит лесного объездчика или кого–нибудь еще из людей короля от того, чтобы крикнуть, как жираф, когда ты его остановишь?
— Ага, — хмыкнул часовой. — Вот здесь–то и есть самая умность. Кричать–то надо три раза: два длинных крика и один короткий.
Джек Дзингли лишь молча сидел в седле, потирая ухо.
— Два длинных и один короткий, — наконец, вздохнул он. — Ладно, это не глупее, чем когда у нас вовсе не было пароля, и мы стреляли в любого, кто отвечал на наш оклик. Два длинных и один короткий, хорошо. — Он двинулся сквозь заросли, и его люди выстроились за ним цепочкой.
Где–то впереди что–то бормотали какие–то голоса, угрюмые, как ограбленные пчелы. Когда процессия подтянулась поближе, Шмендрику показалось, что среди голосов он различает один женский. Затем он щекой ощутил тепло огня и поднял взгляд. Они остановились на небольшой полянке, где вокруг костра, переругиваясь и ворча, сидело человек десять–двенадцать. Пахло подгоревшими бобами.
Веснушчатый рыжеволосый человек, одетый в несколько более роскошные лохмотья, чем остальные, вышел вперед поприветствовать их.
— Ну, Джек! — крикнул он. — Кого это ты привез нам — товарища или пленника? — Через плечо он окликнул кого–то сзади: — Добавь побольше воды в суп, любимая, — к нам тут приехали.
— Я и сам не знаю, чего это такое, — громыхнул Джек Дзингли. Он начал было рассказывать историю про Мэра и шляпу, но едва дошел до их ревущего нисхождения на город, как был прерван какой–то худосочной колючкой в виде женщины, которая, протолкавшись сквозь кольцо мужчин, проверещала:
— Я не потерплю этого, Шалли! Суп и так не гуще пота! — Ее лицо было бледным и костистым, глаза — рыжими, а волосы — цвета мертвой травы.
— А это что еще за долговязая деревенщина? — спросила она, изучая Шмендрика, точно тот налип на ее подошвы, а она только что это обнаружила. — Он не из города. Он мне не нравится. Переотрежь ему колготку.
Она имела в виду то ли «отруби ему голову», то ли «перережь ему глотку», но произнесла все сразу, и ее слова проволоклись влажными водорослями по позвоночнику волшебника. Шмендрик соскользнул с коня Джека Дзингли и встал перед капитаном разбойников.
— Я — Шмендрик–Волшебник, — провозгласил он, обеими руками колыхая свой плащ, пока тот, слабо трепыхаясь, не стал внушительно вздыматься. — А ты — действительно знаменитый Капитан Шалли из зеленого леса, смелейший из смелых и свободнейший из свободных?
Несколько разбойников фыркнули, а женщина застонала:
— Я так и знала, — объявила она. — Шалли, распотроши его от жабр до желудка, а не то он достанет тебя так же, как тот, что был в последний раз.
Но Капитан гордо поклонился, показав водоворотик начинавшейся на макушке лысины, и ответил:
— Да, это я. Те, кто охотятся за мной, найдут меня врагом опасным, а кто пришел ко мне как друг — тем другом буду я прекрасным. Как вы оказались здесь, сэр?
— На собственном брюхе, — ответил Шмендрик, — и не по собственной воле, но, однако, вполне мирно. Хотя твоя возлюбленная и сомневается в этом, — прибавил он, кивая в сторону тощей женщины. Та сплюнула в ответ.
Капитан Шалли ухмыльнулся и осторожно обнял женщину за острые плечи.
— А–а, это Молли Грю всегда так, — объяснил он. — Она бережет меня лучше, чем я сам это делаю. Я щедр и легок — до расточительности, быть может. Открытая рука для всех беглецов от тирании — вот мой девиз. Совершенно естественно, что Молли стала подозрительной, угрюмой, даже чуть–чуть деспотичной, начала мучиться, состарилась прежде времени. Яркому шарику на другом конце веревочки нужен узелок — а, Молли? Но у нее доброе сердце, доброе сердце… — Женщина сбросила его руку с плеч и отошла, но Капитан и головой не повел. — Добро пожаловать сюда, сэр колдун, — сказал он Шмендрику. — Присаживайтесь к огню и расскажите нам свою историю. Как говорят обо мне в вашей стране? Что слышали вы об удалом Капитане Шалли и его ватаге свободных людей? Отведайте тако.
Шмендрик принял предложенное место у огня, изящно отклонил остывший кусок и ответил:
— Слышал я, что ты — друг беззащитных и враг могущественных, что ты со своими добрыми приятелями ведешь веселую жизнь в лесу, грабя богатых и отдавая все бедным. Знаю я и про то, как вы с Джеком Дзингли проломили дубинами друг другу макушки и через это стали кровными братьями; и как ты спас свою Молли Грю от женитьбы на богатом старике, которого для нее выбрал ее отец… — На самом же деле, Шмендрик, конечно, никогда и ничего не слыхал о Капитане Шалли до этого самого вечера, но обладал хорошей подготовкой в области англосаксонского фольклора и знал такой тип людей. — И, разумеется, — ляпнул он наугад, — был еще некий злой король…
— Хаггард, будь он гнил и проклят! — вскричал Шалли. — Увы, здесь нет ни одного, кому бы старый Король Хаггард не причинил зла: не согнал бы с земли, принадлежавшей по праву, не лишил бы чинов и ренты, не отобрал бы наследства. Они живут только ради мести — заметь это, колдун, — и настанет день, когда Хаггард заплатит по такому счету…
Два десятка оборванных теней прошипели что–то в знак согласия, но хохот Молли Грю градом обрушился на них, грохоча и язвя.
— Может статься, он и заплатит, — издевалась она, — да только уж не таким трусам и болтунам. С каждым днем его замок гниет и шатается все сильнее, а его слуги слишком одряхлели, чтобы носить броню, но он будет править вечно, что бы там Капитан Шалли не осмелился сделать.
Шмендрик вскинул бровь, а лицо Шалли стало цвета спелой редиски.
— Вы должны понимать, — невнятно промычал он, — у Короля Хаггарда есть его Бык…
— Ах, Красный Бык, Красный Бык! — насмешливо закричала Молли. — Вот что я тебе скажу, Шалли: за все эти годы, проведенные с тобой в лесу, я начала думать, что Бык — это всего лишь домашняя кличка, которую ты дал собственной трусости. Если я еще раз услышу эту басню, я пойду и прикончу Хаггарда сама, и буду считать тебя за…
— Довольно! — взревел Шалли. — Не перед посторонними! — Он схватился за меч, а Молли раскрыла ему объятия, все так же хохоча. Вокруг костра грязные ручищи покручивали рукоятки кинжалов, а луки, казалось, уже начали натягиваться сами собой, но тут заговорил Шмендрик, стараясь спасти шедшее ко дну тщеславие Шалли. Он терпеть не мог семейных сцен.
— В моей стране о тебе поют балладу, — начал он. — Вот только я забыл слова.
Капитан Шалли стремительно развернулся к нему, точно кот, атакующий собственный хвост.
— Которую? — потребовал он.
— Я не знаю, — опешил Шмендрик. — А их что — больше, чем одна?
— О да, да! — вскричал Шалли, сияя и вырастая на глазах, как будто был беременей своей гордостью. — Вилли Джентль! Вилли Джентль!.. Да где его носит?
Юноша с прямыми волосами, лютней и прыщами неуклюже поднялся от костра.
— Спой джентльмену про один из моих подвигов, — приказал ему Капитан Шалли. — Спой про то, как ты присоединился к моей ватаге. Я не слыхал эту балладу с прошлого вторника.
Менестрель вздохнул, взял аккорд и запел шатким фальцетом:
— Вот начинается самая лучшая часть, — прошептал Шалли на ухо Шмендрику. Он нетерпеливо подпрыгивал на цыпочках, обхватив при этом себя руками.
— Как баранов… — выдохнул Шалли. Он раскачивался, мычал и правой рукой парировал удары трех мечей на протяжении оставшихся семнадцати куплетов, в восторге не замечая ни насмешек Молли, ни возраставшего беспокойства своих людей. Наконец, баллада закончилась, и Шмендрик громко и честно зааплодировал, хваля Вилли Джентля за технику игры правой рукой.
— Я называю ее «щипком Аллана Э–Дейла», — ответил менестрель. Он бы продолжил свои объяснения и дальше, но его прервал Шалли:
— Хорошо, Вилли, ты хороший мальчик, теперь сыграй остальные. — И он широко улыбнулся тому выражению на лице Шмендрика, которое тот хотел бы считать приятным изумлением. — Я сказал, что обо мне есть несколько песен. Если быть точным, то тридцать одна, хотя в настоящее время ни одной из них нет в коллекции собирателя Чайльда… — Его глаза внезапно расширились, и он схватил волшебника за плечо. — А вы сами случайно не мистером Чайльдом будете? Он часто ходит собирать баллады, переодевшись простолюдином, так я слышал…
Шмендрик покачал головой:
— Нет. Мне очень жаль, но нет.
Капитан вздохнул и отпустил его плечо.
— Не имеет значения, — пробормотал он. — Всегда надеешься, конечно, и даже теперь — чтобы тебя коллекционировали, удостоверяли, аннотировали, имели твои различные версии и варианты, даже чтобы ставили под сомнение твою подлинность… Ну ладно, ничего. Пой остальные песни, Вилли, друг мой. Когда–нибудь это тебе пригодится — при записи в полевых условиях…
Разбойники заворчали и зашаркали ногами, отшвыривал камешки. Хриплый голос рявкнул из дальних безопасных теней:
— Не–а, Вилли, спой нам настоящую песню. Спой про Робин Гуда.
— Кто это сказал? — Меч Шалли, свободно болтавшийся в ножнах, клацнул от резкого разворота. Лицо Капитана внезапно показалось бледным и усталым, как облизанное лимонное драже.
— Я, — ответила Молли Грю, хотя это было неправдой. — Людям наскучили баллады о твоей храбрости, милый Капитан. Даже несмотря на то, что ты сочинил их сам.
Шалли сморщился и украдкой бросил взгляд на Шмендрика.
— Но они ведь все равно могут считаться народными песнями, а, мистер Чайльд? — тихо и встревоженно спросил он. — В конце концов…
— Я не мистер Чайльд, — сказал Шмендрик. — Я действительно не мистер Чайльд.
— Я имею в виду, что нельзя оставлять эпических событий на произвол народу. Народ все перепутает.
Пожилой бандит в изодранном наряде из бархата пробрался вперед:
— Капитан, если у нас должны быть народные песни — а я полагаю, что они должны у нас быть, — то мы считаем, что они должны быть правдивыми песнями о настоящих разбойниках, а не об этой лживой жизни, что мы тут ведем. Не обижайтесь, Капитан, но мы действительно не очень веселы, тогда как везде говорится…
— Я весел двадцать четыре часа в сутки, Дик Бредни, — холодно отчеканил Шалли. — И это — факт.
— А кроме этого мы вовсе не грабим богатых и не отдаем все бедным, — поспешил дальше Дик Бредни. — Мы грабим бедных, потому что они не могут дать нам сдачи — ну, большинство не может, — а богатые сами берут у нас, потому что могут изничтожить нас всех за день. Мы же не грабим жирного жадного Мэра на открытой дороге — зато мы платит ему каждый месяц дань, чтобы он оставил нас в покое. Мы никогда не увозим гордых епископов и не держим их пленниками в лесах, не кормим их там и не развлекаем, потому что у Молли нет приличных тарелок, а кроме этого мы — не очень вдохновляющая компания для епископа. Когда же мы переодеваемся и едем на ярмарку, то никогда не побеждаем там ни в стрельбе из лука, ни в фехтовании. Скажут от силы пару комплиментов по поводу наших костюмов — и все.
— Я как–то раз послала на состязание коврик с вышивкой, — вспомнила Молли. — Он оказался четвертым. Нет, пятым. Рыцарь в дозоре — в том году все вышивали дозоры. — Она вдруг начала тереть глаза ороговевшими костяшками пальцев. — Будь ты проклят, Шалли.
— Что–что? — вскричал тот, теряя терпение. — Это я, что ли, виноват, что ты бросила вышивать? Как только ты заполучила себе мужчину, ты забыла все свои былые достоинства: ты больше не шьешь, не поешь, сколько лет ты уже не раскрашиваешь рукописей… А что стало с той виолой–да–гамбой, которую я тебе достал? — Он обернулся к Шмендрику. — Она вся ушла в ботву, а ведь мы с таким же успехом могли с ней пожениться. — Волшебник как–то отвлеченно кивнул и отвернулся.
— Что же касается исправления зла, борьбы за гражданские свободы и прочего, — сказал Дик Бредни, — то это было бы не так уж плохо — в том смысле, что я сам далеко не крестоносец, не тот тип просто, некоторые — таковы, а некоторые — нет, — но нам же приходится петь песни про то, что мы одеты в ярко–зеленое и помогаем угнетенным. А мы же этого не делаем, Шалли, — мы сдаем их за вознаграждение, и такие песни петь нам просто неловко — вот и все, и в этом вся правда.
Капитан Шалли скрестил на груди руки, не обращая внимания на рык одобрения из толпы разбойников:
— Пой песни, Вилли.
— Не буду. — Менестрель не поднял бы и пальца, чтобы коснуться лютни. — К тому же, вы никогда не сражались ни с какими моими братьями ни за какой камень, Шалли. Вы написали им письмо, которое к тому же еще и не подписали…
Шалли отвел назад руки, и среди людей замигали лезвия, точно кто–то дунул на кучку угольев. В этот момент Шмендрик снова шагнул вперед, настойчиво улыбаясь:
— Если мне будет позволено предложить альтернативу, — промолвил он, — то почему бы вам не дать своему гостю заработать себе на ночлег, немного поразвлекав вас? Я не умею ни петь, ни играть, но у меня тоже есть свои достоинства, подобных коим вам, быть может, видеть никогда не доводилось.
Джек Дзингли немедленно закивал головой:
— Да, Шалли, он ведь волшебник! Редкое развлечение для парней.
Молли Грю проворчала какое–то свирепое обобщение по поводу всех бродячих колдунов как класса, но мужчины тотчас завопили от восторга, подбрасывая друг друга в воздух. Единственное недовольство было выказано самим Капитаном Шалли, который печально запротестовал:
— Да, но песни… Мистер Чайльд должен послушать песни.
— Я и послушаю, — уверил его Шмендрик. — Попозже.
В ответ на это лицо Шалли прояснилось, и он начал кричать на своих людей, чтобы те давали дорогу и уступали места. Те укладывались и рассаживались на корточках в тени уже с улыбками наготове, смотря во все глаза на то, как Шмендрик пускается во всякий вздор, которым потешал деревенских жителей в Полночном Карнавале. Это была жалкая магия, но он считал ее достаточно развлекательной для такой компании, как ватага Шалли.
Однако, крест на них он поставил слишком быстро. Они аплодировали его кольцам и шарфам, его ушам, полным золотых рыбок и карточных тузов, — с должной вежливостью, но безо всякого ощущения чуда. Не предлагая им никакого подлинного волшебства, он никакого волшебства и не получал взамен. И даже когда чары подводили его — например, когда он, пообещав выбить из грязи князя — чтоб они могли его ограбить, — извлек на свет пригоршню княженики, — даже тогда ему хлопали так же щедро и беспристрастно, как если бы фокус удался. Они были идеальной аудиторией.
Шалли нетерпеливо улыбался, а Джек Дзингли дремал, но больше всего волшебника поразило разочарование в беспокойных глазах Молли Грю. Собственный внезапный гнев развеселил его. Он уронил семь вращавшихся шаров, которые разгорались все ярче и ярче, чем дольше он ими жонглировал (в хорошие вечера он мог заставить их вспыхнуть), выпустил все свое ненавистное умение и закрыл глаза.
— Делай, как пожелаешь, — прошептал он магии. — Делай, как пожелаешь.
Она вздохнула в нем, начинаясь в каком–то тайном месте — возможно, в лопатке или в самой сердцевине его лодыжки. Сердце его наполнилось и затрепетало, словно парус, и что–то сдвинулось в его теле более основательно, чем он знал прежде. Она заговорила его голосом, что–то приказывая. Ослабев от ее власти, он опустился на колени и стал ждать, чтобы оказаться Шмендриком снова.
Интересно, что я сделал. Я ведь сделал что–то.
Он открыл глаза. Многие разбойники усмехались и крутили пальцами у висков, обрадованные возможностью поиздеваться над ним. Капитан Шалли поднялся на ноги, спеша объявить, что развлекательная часть окончена. Но Молли Грю тихо вскрикнула дрожащим голосом, и все обернулись посмотреть, что же она там увидела.
На поляну вышел человек.
Он был одет во все зеленое, если не считать коричневой куртки и косой коричневой шапочки с павлиньим пером. Он был очень высокого роста — слишком высокого для живого человека: огромный лук, болтавшийся у него на плече, размером был с Джека Дзингли, а его стрелы могли бы служить копьями или посохами для Капитана Шалли. Совершенно не замечая неподвижные лохматые фигуры у костра, он прошагал сквозь ночь и исчез, не проронив ни слова, — и ни дыхания, ни шагов.
За ним пришли остальные, поодиночке или парами, некоторые переговаривались между собой, многие смеялись, но на поляне при этом царила полная тишина. Все несли с собой луки и были одеты в зеленое, кроме одного — одетого в багрец по самых пят, и другого — облаченного в коричневую монашескую рясу, обутого в сандалии, с громадным животом, который поддерживался веревочным поясом. Один, проходя мимо, играл на лютне и молча пел.
— Аллан Э–Дейл! — Это был чувствительный вскрик Вилли Джентля. — Только посмотрите на эти чудеса. — Его голос был наг, как голос новорожденной птицы.
Изящно гордые, грациозные, как жирафы (даже самый высокий из них всех — Бландербер с добрыми глазами), лучники шли через поляну. Последними рука об руку вышли мужчина и женщина. Их лица были так прекрасны, как будто они никогда не знали страха. Тяжелые волосы женщины сияли тайной — словно облако, таившее луну.
— Ох, — выдохнула Молли Грю. — Мариан…
— Робин Гуд — миф, — нервно заговорил Капитан Шалли. — Классический пример героических фигур фольклора, синтезированный из потребности народа. Другой пример — Джон Генри. Людям необходимо иметь героев, но ни один человек не способен полностью соответствовать потребности, и вот так легенда разрастается вокруг зернышка истины, будто жемчужина. Нет, это, конечно, замечательный трюк, я ничего не говорю…
Первым с места рванулся потрепанный щеголь Дик Бредни. Все фигуры, кроме последней пары, уже скрылись в темноте, когда он бросился за ними, хрипло выкрикивая:
— Робин, Робин, мистер Гуд, сэр, подождите меня! — Ни мужчина, ни женщина не обернулись, но вся шайка Шалли — кроме Джека Дзингли и самого Капитана — ринулась к краю леса, спотыкаясь и толкая друг друга, затаптывая костер, так что вся полянка вскипела тенями.
— Робин! — кричали они. — Мариан, Скарлет, Малютка Джон! Вернитесь! Вернитесь! — Шмендрик начал смеяться, нежно и беспомощно.
Перекрывал их голоса, Капитан Шалли завопил:
— Дураки! Дураки и малые дети! Это все обман, как и всякое волшебство вообще! Такого человека, как Робин Гуд, не существует! — Но разбойники, обезумев от утраты, ломились в лес вслед за сияющими лучниками, переваливаясь через поваленные стволы и коряги, продираясь сквозь цепкие колючки и голодно воя на бегу.
Только Молли Грю остановилась и оглянулась. Ее лицо горело белым светом.
— Нет, Шалли, все наоборот! — крикнула она ему. — Не существует таких людей, как ты, как я, как любой из нас. Робин и Мариан — настоящие, это мы — легенда! — И она побежала дальше, крича: — Подождите, подождите! — как и все остальные, оставив Капитана Шалли и Джека Дзингли стоять в свете затоптанного костра и слушать смех волшебника.
Шмендрик едва обратил на них внимание, когда они подскочили к нему и схватили его за руки. Он не отпрянул, даже когга Шалли кончиком кинжала ткнул его под ребра и прошипел:
— Это было опасное развлечение, мистер Чайльд, и к тому же — очень невежливое. Могли бы просто сказать, что не хотите слушать песен. — Кинжал вонзился чуть глубже.
Где–то вдалеке Шмендрик услышал рык Джека Дзингли:
— Никакой он не Чайльд, Шалли, и никакой не бродячий колдун. Теперь я его узнал. Это сын Хаггарда, Принц Лир, такой же гадкий, как и папаша, и, вне всякого сомнения, хорошо знакомый с черными искусствами. Придержи руку, Капитан, — мертвым он нам не нужен.
Голос Шалли сник:
— Ты уверен, Джек? Он казался таким приятным стариканом.
— В смысле — приятным дуралеем. Да, это похоже на Лира, как я слышал. Он прикидывается невинным и бестолковым, но в искусстве обмана он — сам дьявол. Как он притворился этим малым, этим Чайльдом, а? Все ради того, чтобы застать нас врасплох…
— Меня он врасплох не застал, Джек, — запротестовал Шалли. — Ни на миг. Просто могло показаться, что я — в расплохе, но я и сам — большой мастер по части обмана.
— А то, как он вызвал этого Робин Гуда — чтобы парни помчались за ним и выступили против тебя? Да, сэр, — но он себя на этот раз выдал, и теперь останется с нами, хотя его отец уже послал Красного Быка, чтоб освободить его.
У Шалли в этом месте перехватило дыхание, но гигант, особо не церемонясь, как он не церемонился со Шмендриком всю эту долгую ночь, подхватил волшебника и поволок к огромному дереву, где привязал его лицом к стволу. Шмендрик мягко хихикал на протяжении всей операции, а кое–какие действия разбойнику даже облегчил, обняв дерево ласково, будто новообретенную невесту.
— Вот, — наконец произнес Джек Дзингли. — Не посторожишь ли ты его, Шалли, пока я посплю, а уж утром я отправлюсь к старому Хаггарду посмотреть, насколько его мальчик ему дорог. Может статься, через месяц мы все станем праздными джентльменами.
— А как насчет моих людей? — встревоженно спросил Шалли. — Они вернутся, как ты думаешь?
Гигант зевнул и отвернулся:
— Они будут здесь к утру — печальные и с насморком, и некоторое время тебе придется быть с ними помягче. Вернутся, потому что они не из тех, кто хоть что–то меняет на ничто, — они ничем не лучше меня самого. Если б мы были такими, то Робин Гуд, возможно, остался бы с нами. Спокойной ночи, Капитан.
Когда он ушел, на полянке стало совсем тихо, если не считать сверчания сверчков и тихого хмыканья Шмендрика в кору дерева. Костер погас, а Шалли ходил вокруг него кругами, вздыхая всякий раз, когда гас очередной уголек. В конце концов он уселся на пенек и обратился к пленному волшебнику:
— Может быть, ты и сын Хаггарда, — раздумчиво сказал он, — а вовсе никакой не собиратель фольклора Чайльд, за которого себя выдаешь. Но как бы там ни было, ты все равно очень хорошо знаешь, что Робин Гуд — это басни, а я — реальность. Никакие баллады не станут собираться вокруг моего имени, если я сам их не напишу; никакие дети не станут читать о моих приключениях в своих школьных книжках и играть в меня после уроков. Когда профессора роются в старых сказках, а ученые просеивают старые песни, чтобы понять, жил ли Робин Гуд на самом деле, они никогда, никогда не отыщут там моего имени, даже если расколют весь мир, как орех, чтобы достать ядрышко его сердца. Но ты это и так знаешь, и поэтому я сейчас спою тебе песни о Капитане Шалли. Он был добрым, веселым негодяем, который грабил богатых и все отдавал бедным. В знак своей благодарности люди сложили о нем эти безыскусные стихи.
С такими словами он запел, и пел их все, включая даже ту, что для Шмендрика уже спел Вилли Джентль. Он часто останавливался, чтобы прокомментировать различные изменения ритмического рисунка, ассонансные рифмы и модальные мелодии.
VI
Капитан Шалли уснул на тринадцатом куплете девятнадцатой песни, и Шмендрик, который прекратил смеяться несколько ранее, немедленно приступил к попыткам освобождения. Он изо всех своих сил пытался разорвать узы, но те держали крепко. Джек Дзингли завернул его в такое количество веревки, что им можно было бы оснастить небольшую шхуну, а все узлы, которые он завязал, размерами были с черепа.
— Мягче, мягче, — советовал себе Шмендрик. — Ни один человек, обладающий властью вызывать Робин Гуда (а на самом деле — создавать его), не может оставаться связанным долго. Одно слово, одно желанье — и это дерево снова обязано стать желудем на ветке, а веревка — снова зеленеть в болоте.
Но он знал, еще не успев позвать то, что на мгновение посетило его: оно ушло опять, оставив только боль там, где побывало. Он чувствовал себя брошенным, забытым коконом.
— Делай, как пожелаешь, — тихо сказал он. При звуке его голоса Капитан Шалли проснулся и спел четырнадцатый куплет:
— Я очень надеюсь, что тебя прирежут, — сказал ему волшебник, но тот уже снова спал. Шмендрик попробовал несколько простых заклинаний против уз, но руками при этом он пользоваться не мог, а на другие трюки больше не хватало духу. Вместо освобождения произошло вот что: в него влюбилось дерево, которое начало нежно мурлыкать о счастье вечных объятий красного дуба:
— Навсегда, навечно, — вздыхало оно. — Верность превыше всего — всего, что человек может заслужить. Я сохраню цвет твоих глаз, даже когда никто в целом мире не вспомнит больше твоего имени. Нет иного бессмертия, кроме любви дерева.
— Я уже помолвлен, — оправдывался Шмендрик. — С лиственницей западной. С самого детства. Брак по контракту — никакой выбор не был возможен. Безнадежно. Нам не суждено быть вместе.
Порыв ярости сотряс дерево, словно на него обрушилась буря.
— Пал и вырубку на нее! — злобно прошептало оно. — Чертова древесина, проклятое хвойное, вероломное вечнозеленое, она тебя никогда не получит! Мы сгнием здесь вместе, и все деревья сохранят в памяти нашу трагедию!
Всем своим телом Шмендрик ощутил, как дерево вздымается, будто переполненная чувствами грудь, и испугался, что оно на самом деле треснет посередине от гнева. Веревки стягивались вокруг него все туже и туже, и ночь уже начинала краснеть и желтеть в его глазах. Он попытался объяснить дереву, что любовь щедра именно потому, что не может быть бессмертной, а потом пытался докричаться до Капитана Шалли — но смог испустить лишь тихий древесный треск.
Оно не желает мне зла, наконец подумал он и сдался на милость любви.
Потом веревки вдруг ослабли, он рванулся и упал на спину, пытаясь выпутаться. Над ним стояла единорог, темная, как кровь, когда темнеет в глазах. Единорог коснулась его своим рогом.
Когда он смог подняться, единорог повернулась и пошла прочь, и волшебник потрусил за ней, все еще побаиваясь дуба, хотя тот снова был неподвижен, как и любое другое дерево, никогда не знавшее любви. Небо оставалось по–прежнему черным, но эта тьма потихоньку становилась водянистой, и Шмендрик уже различат, как в ней плывет фиолетовая заря. Небо теплело, и в нем начинали таять твердые серебряные облака. Тени тускнели, звуки теряли форму, а формы пока не решили, чем они сегодня будут. Даже ветерок еще не был уверен в самом себе.
— Ты меня видела? — спросил он единорога. — Ты смотрела, ты видела, что я сделал?
— Да, — ответила та. — Это было настоящее чудо.
К Шмендрику вернулось ощущение утраты, холодное и горькое, как лезвие меча.
— Оно закончилось, — вымолвил он. — Я им владел — оно владело мной — но сейчас ушло. Я не мог его удержать. — Единорог перед ним парила тихим перышком.
Где–то совсем рядом раздался знакомый голос:
— Покидаешь нас так рано, колдун? Жалко будет, если люди с тобой не попрощаются.
Шмендрик обернулся и увидел прислонившуюся к дереву Молли Грю. Ее платье и грязные волосы были одинаково изодраны, босые ноги — до крови исцарапаны и покрыты какой–то лесной слизью. Она улыбнулась ему, точно летучая мышь:
— Сюрприз… Это Дева Мариан.
А потом она увидела единорога. Она не шевельнулась, не проронила ни звука, но ее рыжие глаза вдруг расширились от слез. Какой–то долгий миг она стояла неподвижно, затем зажала края подола в кулаки и искривила колени, полуприсев и дрожа от этого усилия. Ее лодыжки были скрещены, а глаза опущены книзу, но, несмотря на все это, Шмендрику понадобилось еще какое–то мгновение, чтобы понять, что Молли Грю делает реверанс.
Он расхохотался, а Молли подскочила, покраснев от корней волос до выреза платья.
— Где же ты была?! — вскрикнула она. — Черт побери, где же ты была? — Она шагнула навстречу Шмендрику, но глаза ее смотрели дальше, за него, на единорога.
Когда она попыталась пройти, волшебник преградил ей дорогу.
— Так не разговаривают, — сказал он, все еще не убедившись наверняка, признала ли Молли единорога. — Разве ты не знаешь, как себя вести, женщина? Реверансов тоже но делают.
Но Молли оттолкнула его и подошла к единорогу, браня ее, как будто та была простой заблудившейся коровой:
— Ну, где же тебя носило?
Перед этой белизной и сиянием рога женщина съежилась до зудения жучка, но на этот раз единорог опустила свои старые темные глаза к земле.
— Я здесь сейчас, — наконец, вымолвила она.
Молли засмеялась, но губы ее были недвижны:
— А что мне с того, что ты сейчас здесь? Где ты была двадцать лет назад, десять лет назад? Как ты смеешь, как ты смеешь приходить ко мне сейчас, когда я стала вот этим? — Взмахом руки она подвела себе итог: безжизненное лицо, опустошенные глаза, вопящее сердце. — Уж лучше б ты никогда не приходила, зачем ты пришла сейчас? — Слезы покатились вдоль ее носа.
Единорог ничего не ответила, а Шмендрик сказал:
— Она — последняя. Это последний единорог на свете.
— Конечно, — фыркнула Молли Грю. — Так и должно быть — последний единорог на свете приходит к Молли Грю. — Она протянула руку и положила ее единорогу на щеку, но обе они вздрогнули от соприкосновения, и рука соскользнула и замерла в каком–то быстром дрожащем местечке у горла. Молли вымолвила:
— Ладно. Я прощаю тебя.
— Единорогов не прощают. — У волшебника от ревности закружилась голова — и не сколько от этого прикосновения, сколько от того, что он почувствовал нечто вроде общего секрета, который зашевелился между Молли и единорогом. — Единороги — для начинаний, для невинности и чистоты, для новизны. Единороги — для молодых девушек.
Молли гладила горло единорога так нежно, словно была слепа. Она осушила свои чумазые слезы о ее белую гриву:
— Немного же ты знаешь о единорогах, — произнесла она.
Небо теперь стало нефритово–серым, а деревья, которые какое–то мгновение назад были просто нарисованы на темноте, стали настоящими и шипели в рассветном ветерке. Глядя на единорога, Шмендрик холодно вымолвил:
— Нам надо идти.
Молли быстро согласилась:
— Да, пойдем — прежде, чем люди наткнутся на нас и перережут тебе глотку за то, что ты их, бедных парней, так жестоко надул. — Она бросила взгляд через плечо. — У меня там были вещи, которые я хотела взять, но это уже не имеет значения. Я готова.
Шмендрик, шагнув вперед, снова загородил ей путь:
— Ты не можешь пойти о нами. Мы — в странствии. — Его голос и глаза были жесткими, как он того и хотел, но нос, чувствовал он, пребывал в изумлении. Нос ему никогда не удавалось дисциплинировать.
Лицо Молли, будто замок в осаде, ощетинилось против него, выкатив пушки, катапульты и котлы кипящего свинца:
— А кто ты такой, чтобы говорить «мы»?
— Я ее проводник, — важно ответил волшебник. Единорог издала мягкий вопрошающий звук, словно кошка созывала своих котят. Молли засмеялась вслух и отозвалась таким же звуком.
— Немного же ты знаешь о единорогах, — повторила она. — Она позволяет тебе идти с собой — хоть я и не могу понять, зачем, — но в тебе ей нет нужды. Я ей тоже не нужна на самом деле, но и меня она возьмет с собой. Спроси ее.
Единорог снова издала этот тихий звук, и замок лица Молли опустил подъемный мост и широко распахнул даже самые глубокие свои арсеналы.
— Спроси ее.
Шмендрик почувствовал, что именно ответит ему единорог уже по тому, как опустилось его сердце. Он хотел быть мудрым, но ему стало больно от зависти и пустоты, и он услышал свой собственный печальный крик:
— Никогда! Я запрещаю — я, Шмендрик–Волшебник! — Его голос потемнел, и даже нос стал каким–то угрожающим. — Поберегись побуждения гнева колдуна… То есть пробуждения. Если я предпочту превратить тебя в лягушку…
— Я усмеюсь до смерти, — сказала Молли Грю с приятностью в голосе. — У тебя хорошо получаются детские сказки, но сметану в масло ты превратить не сможешь. — Ее глаза сверкнули внезапным гадким пониманием. — Опомнись, человече. Что ты собираешься делать с самым последним единорогом на свете — держать ее в клетке?
Волшебник отвернулся, чтобы Молли не увидела его лица. Прямо на единорога он тоже не смотрел, но украдкой бросал на нее короткие взгляды, как будто крал их и боялся, что его вот–вот заставят положить их на место. Белая и таинственная, утреннерогая, единорог глядела на него с пронзительной нежностью, но Шмендрик не мог коснуться ее. Он только сказал этой худой женщине:
— Ты ведь даже не знаешь, куда мы держим путь.
— А ты думаешь, это имеет для меня какое–то значение? — спросила она и снова издала тот же кошачий звук. Шмендрик сказал:
— Наше странствие ведет нас в страну Короля Хаггарда. Мы хотим отыскать Красного Быка.
На мгновение кожа Молли испугалась, во что бы там ни верили ее кости или чего бы ни знало ее сердце. Но единорог тихо дохнула ей в ладонь, и Молли улыбнулась, сжав пальцами это тепло:
— Что ж… Значит, вы пошли не той дорогой.
Солнце поднималось, пока она вела их обратно по тому пути, которым они пришли, мимо Шалли, по–прежнему спавшего, сгорбившись на своем пеньке, через поляну и дальше. Люди уже возвращались назад: поблизости трещали сухие ветки и с плеском ломались кусты. Один раз им даже пришлось присесть в каких–то колючих зарослях, пока двое усталых бандитов Шалли хромали мимо, задавая себе лишь один горький вопрос: реальным было их видение Робин Гуда или нет?
— Я их чуял носом, — говорил один, — Глаза легко обмануть, слух обманчив по самой своей природе, но уж запаха–то у теней никогда не бывает.
— Глаза — точно лжесвидетели, — согласно хрюкнул второй, одетый, казалось, в само болото. — Но подлинно ли ты веришь показаниям своих ушей, носа, корня языка? Не–ет, вот меня–то как раз не проведешь, друг мой. Вселенная лжет нашим ощущениям, а они лгут нам — и кем мы сами можем быть, как не лжецами? Что касается меня, то я не верю ни посланию, ни посланцу — ни тому, что мне говорят, ни тому, что я вижу. Истина, может, где–то и есть, но на меня она уж точно никогда не нисходит.
— Ах, — вымолвил первый, черно усмехаясь, — это все так, но ведь ты сам бегал вместе со всеми нами по лесам, охотясь всю ночь за Робин Гудом, кричал и звал его, как и все остальные. Чего ж ты не поберегся, если и так все знал?
— Н–ну, точно никогда нельзя сказать, — ответил второй, густо отплевываясь тиной. — Я мог и ошибиться.
В лесистой долине у ручья сидели принц и принцесса. Семеро их слуг разбили под деревом багряный шатер, и молодая королевская пара завтракала по–походному из коробки под звуки лютней и теорб. Они едва ли перекинулись друг с другом парой слов, пока не завершили трапезу, а затем принцесса вздохнула и произнесла:
— Ну, лучше, кажется, покончить с этим глупым делом.
Принц раскрыл журнал.
— Ты бы мог, по крайней мере… — вымолвила принцесса, но тот уже погрузился в чтение. Принцесса сделала знак двоим слугам, и те заиграли на своих лютнях старинную музыку. Она прошлась немного по траве, а потом подняла вверх яркую, как сливочное масло, уздечку и закричала:
— Эй, единорог, сюда! Сюда, милый мой, иди ко мне! Цы–ып–цыпцыпцыпцып!..
Принц фыркнул.
— Ты ведь не цыплят своих зовешь, знаешь ли, — заметил он, не отрываясь от чтения. — Чем так квохтать, лучше бы что–нибудь спела.
— Ну, я и так делаю все, что могу! — воскликнула принцесса. — Я никогда их раньше не звала — ни единого. — Но, помолчав немного, она все–таки запела:
Так она все пела и пела, а потом опять немножко звала:
— Хороший единорожек, милый, милый, милый! — А потом сердито сказала: — Ну все, хватит. Я еду домой.
Принц зевнул и закрыл журнал.
— Ты достаточно хорошо соблюла обычай, — сказал он ей, — и большего от тебя никто не требовал. Это всего лишь формальность. Теперь мы можем пожениться.
— Да, — ответила принцесса, — теперь мы можем пожениться.
Слуги начали упаковывать все обратно, пока двое с лютнями наигрывали веселую свадебную музыку. Голос принцессы был немного печален, и в нем звучал легкий вызов:
— Если бы эти самые единороги действительно существовали, то один бы уж точно ко мне пришел. Я так мило звала его — как и всякая принцесса, — и уздечка золотая у меня тоже была. И я, конечно же, чиста и непорочна…
— Что касается меня, то да, — безразлично ответил принц. — Как я уже сказал, ты все сделала по обычаю. Отца моего, правда, этим не удовлетворишь, но и я тоже ничего не могу тут поделать. Чтобы он был доволен, понадобится единорог. — Принц был высок ростом, а лицо его было мягким и приятным, словно зефир.
Когда они со своей свитой, наконец, уехали, из лесов в сопровождении Молли и волшебника вышла единорог. Они продолжали свое странствие. Много времени спустя, проходя через совсем другую страну, где уже не было ни ручьев, ни чего–либо зеленого вообще, Молли спросила единорога, почему та не вышла на песню принцессы. Шмендрик придвинулся ближе, чтобы лучше расслышать ответ: он по–прежнему держался своего бока единорога и никогда не переходил на ту сторону, по которую шла Молли.
Единорог ответила:
— Эта королевская дочка никогда не убежала бы подальше, чтобы только увидеть, как промелькнет мой отблеск. Если бы я показала себя, и она меня признала, то испугалась бы больше, чем если б увидела живого дракона, потому что драконам обещаний никто не дает. Помню, когда–то для меня не имело значения, действительно ли принцессы имеют в виду то, что поют. Я выходила ко всем без разбору, клала им голову на колени, и некоторые катались у меня на спине, хотя чаше всего они боялись. Теперь же у меня на них просто нет времени — ни на принцесс, ни на кухарок. Просто нет времени.
И тут Молли сказала нечто странное для женщины, которая не провела ни одной ночи, чтобы множество раз не проснуться и не посмотреть, здесь ли еще единорог, — для женщины, чьи сны были полны золотых уздечек и нежных молодых воров.
— Это у принцесс нет времени, — сказала она. — Небо вертится и утаскивает с собою все — и принцесс, и волшебников, и бедного Шалли, и всех — но ты… Ты остаешься. Ты никогда ничего не видишь только один раз. Хотела бы я, чтобы ты хоть немного побыла принцессой — или цветком, или уткой. Чем–то, что не может ждать.
Она спела куплет печальной прихрамывающей песенки, останавливаясь после каждой строки, будто пытаясь припомнить следующую:
Шмендрик вгляделся в территорию Молли поверх спины единорога.
— Где ты услышала эту песню? — потребовал он. Он заговорил с нею впервые с того самого утра, когда она пристала к их компании. Молли покачала головой:
— Не помню. Я знаю ее уже очень давно.
С каждым днем их путешествия земля становилась все скуднее, а лица людей, которых они встречали, — все горше от коричневой травы. Однако единорогу виделось, что сама Молли Грю становится целым миром — страной все более мягкой, полной водоемов и пещер, и в этой земле то тут, то там вспыхивают старые цветы. Под коркой грязи и безразличия Молли, казалось, было лет тридцать семь или тридцать восемь — определенно, она была не старше Шмендрика, несмотря на то, что его лицо не знало дней рождения. Ее огрубевшие волосы распушились, кожа ожила, а когда она заговаривала с другими, голос ее был так же нежен, как и с единорогом. Глаза ее, конечно, никогда больше не радовались бы — как не могли бы стать голубыми или зелеными, — но и они пробудились в этом мире. Молли жадно шагала в королевство Хаггарда босыми, сбитыми ногами и часто пела.
А вдалеке, по другую сторону единорога, в молчании брел Шмендрик–Волшебник. В его черном плаще множились дыры, плащ разваливался, как и сам его хозяин. Дождь, каждый раз обновлявший Молли, никогда не попадал на него, и он казался все более опустошенным и покоробленным — как и та земля, по которой ступал.. Единорог не умела исцелить его. Касанием рога она могла бы поднять его из мертвых, но ни над отчаяньем у нее не было власти, ни над чудом, которое пришло и ушло.
Так они и шли все вместе, вослед убегавшей тьме и навстречу ветру, пахнувшему гвоздями. Корка земли потрескалась, а ее плоть шелушилась канавами и оврагами или съеживалась холмами, покрытыми струпьями. Небо становилось таким высоким и бледным, что днем исчезало совершенно, и единорог иногда думала, что их троица должна выглядеть такой же слепой и беззащитной, какими бывают личинки под солнцем, если их бревно или влажный мшистый камень сдвинуть с места. Но она по–прежнему оставалась единорогом и по обычаю всех единорогов становилась еще прекраснее в злых местах и в злые времена. Даже у жаб, ворчавших в придорожных канавах и мертвых деревьях, когда они проходили мимо, спирало дыхание, стоило им ее увидеть.
Будь жабы на месте того хмурого народа, который населял страну Хаггарда, они были бы гостеприимнее. Деревни, лысые, как кости, лежали меж холмов, похожих на лезвия ножей, на которых ничего не могло вырасти, а сами люди, без сомнения, обладали душами кислыми, словно прокипяченное вино. Странников, входивших в город, их дети приветствовали камнями, а при выходе из города за ними гнались собаки. Некоторые из псов так и не возвращались обратно, ибо Шмендрик набил руку и развил в себе вкус к охоте на дворняг. Это бесило горожан больше, чем какая–нибудь обычная кража. Они никогда ничего просто так не отдавали и знали, что тот, кто так поступает, — их враг.
Единорога утомили человеческие существа. Наблюдая за своими компаньонами, пока те спали, видя, как суетливо семенят по их лицам тени снов, она чувствовала, как клонится ниже и ниже под тяжестью знания их имен. Тогда она убегала до самого утра — чтобы облегчить себе эту боль, быстрее дождя, быстро, как утрата, мчалась, стараясь догнать то время, когда ей не было ведомо ничего, кроме сладости собственного бытия. И часто между рывком одного дыхания и стремлением к следующему ей начинало мерещиться, что и Шмендрик, и Молли уже давно мертвы — как и Король Хаггард, — и что она встретила Красного Быка, и тот взял верх — настолько давно, что внуки тех звезд, которые видели, как все это было, уже увядали, обращаясь в угли, — и что она сама все так же оставалась самым последним единорогом на целом свете.
А однажды, в осенних сумерках без сов, перевалив через хребет, они увидели замок. Замок взбирался в небеса по дальнему склону длинной и глубокой долины — тонкий и весь перекрученный, щетинясь колючими башенками, черный и щербатый, как оскал какого–то великана. Молли сразу расхохоталась, но единорог затрепетала: ей показалось, что зубчатые башни вытягиваются навстречу, пытаясь в сумерках нащупать ее. За замком железом поблескивало море.
— Крепость Хаггарда, — пробормотал Шмендрик, изумленно покачивая головой. — Суровая сердцевина его владений. Говорят, ему все это построила ведьма, но он не захотел платить ей за работу, и та наложила на замок заклятье. Она поклялась, что однажды он утонет вместе с этим замком, когда море от его алчности выйдет из берегов. После этого она издала жуткий вопль, как обычно делают все ведьмы, и испарилась в облаке серы. Хаггард же вселится в замок незамедлительно. Он говорил, что ни у одного тирана замок не совершенен, если на нем нет проклятья.
— Я не виню его за то, что он ей не заплатил, — с презрением сказала Молли Грю. — Я могла бы прыгнуть на этот замок сама и расшвырять его, как кучку сухих листьев. Но все равно я надеюсь, что ведьма нашла бы себе какое–нибудь занятие поинтереснее, чем ждать, пока ее заклятие исполнится. Море — больше чьей бы то ни было жадности.
Сквозь небо, визжа, прорвались костлявые птички:
— Помогииите, помогииите, помогииите! — И маленькие черные тени запрыгали в бессветных окнах замка Короля Хаггарда. Влажный медленный запах достиг единорога.
— Где Бык? — спросила она. — Где Хаггард держит Быка?
— Красного Быка никто не держит, — спокойно ответил волшебник. — Я слышал, он бродит ночами, а днем лежит в огромной пещере под замком. Мы узнаем об этом довольно скоро, но пока это нас не касается. Опасность пока гораздо ближе — вон там. — И он показал вниз, в долину, где начали мерцать несколько огоньков. — Это Хагсгейт, Кошмарные Ворота…
Молли ничего не ответила, но коснулась единорога рукой, холодной, как облако. Она часто возлагала руки на единорога, когда печалилась, уставала или боялась.
— Город Короля Хаггарда, — продолжал между тем Шмендрик. — Он захватил его первым, когда пришел к морю — Хагсгейт был под его рукой дольше всего. У него — злое имя, хотя никто из встреченных мною но мог сказать, почему именно. Никто не заходит в Хагсгейт, и ничего оттуда не выходит, кроме страшных сказок, которые рассказывают на ночь взрослые, чтобы дети слушались — чудовища, оборотни, шабаши, демоны среди бела дня и им подобные. Но я все–таки думаю, что в Хагсгейте и впрямь нечисто. Мамаша Фортуна никогда не хотела туда заходить, а однажды сказала, что даже сам Хаггард не чувствует себя в безопасности, пока стоит Хагсгейт. Там что–то есть.
Говоря это, он пристально смотрел на Молли, ибо одним из его горьких развлечений в те дни было видеть ее испуг, несмотря на белое присутствие единорога. Однако, Молли, уперев руки в бока, ответила ему спокойно:
— Я слышала, что Хагсгейт называют «городом, которого не знает ни один мужчина». Может, его тайна ждала, чтобы ее раскрыла женщина — женщина и единорог? Но что тогда делать с тобой?
Тогда Шмендрик улыбнулся:
— Я не мужчина. Я волшебник без волшебства, а это значит, что я — совсем никто.
Мигавшие гнилушками огоньки Хагсгейта разгорались ярче и ярче, пока единорог смотрела на них, но ни искры не вспыхнуло в замке Хаггарда. Было слишком темно, чтобы разглядеть людей, передвигавшихся на стенах, но на той стороне долины она ясно различала мягкое громыханье брони и звяканье копий о камень: часовые встречались и вновь расходились. Запах Красного Быка обволакивал единорога, когда она начала спускаться по тонкой, заросшей колючками тропинке, уводившей в Хатсгейт.
VII
Город Хагсгейт имел форму отпечатка ступни: длинные пальцы расходились от широкой лапы и оканчивались темными когтями землекопа. И в самом деле: там, где остальные города королевства Хаггарда, казалось, царапали скудную землю, как ласточки, Хагсгейт был надежно и глубоко врыт в нее. Его улицы были гладко вымощены, его сады процветали, а гордые дома, казалось, росли из земли, будто деревья. Огни сияли в каждом окне, и трое путешественников отчетливо слышали, как лают собаки, разговаривают люди и трут тарелки, пока те не запищат. Троица остановилась в недоумении у высокого забора.
— Может, мы где–нибудь не туда свернули, и это — вовсе не Хагсгейт? — прошептала Молли, глупо и суетливо оправляя свои безнадежные лохмотья. — Я ведь знала, что нужно захватить приличное платье. — Она вздохнула.
Шмендрик устало потер затылок:
— Это Хагсгейт, — ответил он. — Это просто должен быть Хагсгейт, но здесь все–таки не пахнет колдовством, здесь нет духа черной магии. Но почему тогда легенды, почему все эти басни и сказки? Очень непонятно, особенно если на обед у тебя была половинка репы.
Единорог ничего не сказала. Там вдалеке, за городом, темнее тьмы, замок Короля Хаггарда покачивался, словно лунатик на ходулях, а еще дальше, за замком, плавно скользило море. Запах Красного Быка шевелился в ночи, обдавая холодом среди городских запахов стряпни и жилья. Шмендрик произнес:
— Все добрые люди, должно быть, — дома, благодарят свою судьбу. Пойду и поприветствую их.
Он шагнул вперед и откинул полы плаща, но не успел и рта раскрыть, как жесткий голос откуда–то произнес:
— Побереги дыхание, незнакомец, пока оно из тебя совсем не вышло.
Из–за ограды выскочили четверо. Двое приставили мечи к горлу Шмендрика, а третий направил пару пистолетов на Молли. Четвертый шагнул к единорогу с намерением ухватить ее за гриву, но та, яростно сверкая, встала на дыбы, и человек отскочил.
— Имя! — Потребовал у Шмендрика человек средних лет или чуть постарше, заговоривший первым. Одет он был хорошо, но скучно — как и все остальные.
— Гик, — только и смог вымолвитъ волшебник из–за мечей, приставленных к горлу.
— Гик, — задумчиво произнес человек с пистолетами. — Чужое имя.
— Естественно, — отозвался первый. — Все имена в Хатсгейте — чужие. Ну, мистер Гик, — продолжал он, чуть опустив острие меча по того места, где сходились шмендриковы ключицы, — не будете ли вы с миссис Гик любезны сообщить нам, что привело вас сюда, вот так, украдкой…
Тут к Шмендрику снова вернулся голос.
— Да я едва знаком с этой женщиной! — проревел он. — Мое имя Шмендрик, Шмендрик–Волшебник, я голоден, устал и раздражен. Уберите эти ваши штуки, иначе у каждого из вас в руках окажется по скорпиону не тем концом.
Четверо переглянулись.
— Волшебник, — сказал первый. — То, что надо.
Двое других кивнули, но тот, который пытался поймать единорога, проворчал:
— В наше время любой может сказать, что он волшебник. Старых норм больше нет, старые ценности забыты. А кроме этого, у всех настоящих волшебников есть борода.
— Ну, а если он — не волшебник, — с легкостью сказал первый, — то он об этом пожалеет — и очень скоро. — Он вложил меч в ножны и поклонился Шмендрику и Молли. — Меня зовут Дринн, — сказал он. — И мне, возможно, приятно пригласить вас в Хагсгейт. Я полагаю, что вы, по вашему же утверждению, голодны. Это легко поправить — и тогда, быть может, вы окажете нам ответную услугу в своем профессиональном качестве. Пойдемте со мной.
Внезапно став любезным и предупредительным, он повел их к ярко освещенному трактиру, а трое остальных последовали за ними. Пока они шли, из домов выбегали горожане и с готовностью присоединялись к ним, оставляя на столах недоеденные ужины и дымящийся чай. Поэтому, когда Шмендрик и Молли, наконец, уселись за стол, на длинных скамьях трактира впритирку друг к другу сидело уже около сотни человек, а еще больше набивалось в двери и протискивалось в окна. Единорог незамеченной медленно брела позади толпы — просто какая–то белая лошадь со странными глазами.
Человек по имени Дринн сидел за одним столом со Шмендриком и Молли, развлекая их болтовней, пока те ели, и подливая им в стаканы пушистого черного вина. Молли Грю пила очень немного. Она тихо сидела, разглядывая лица вокруг и подмечая, что никто здесь не казался моложе Дринна, хотя были люди и намного старше его. Все хагсгейтские лица были чем–то похожи одно на другое — вот только она никак не могла найти, чем именно.
— А теперь, — сказал Дринн, когда трапеза была окончена, — вы должны позволить мне объяснить, почему мы приветствовали вас столь неподобающе.
— Фи, в этом нет нужды, — фыркнул Шмендрик. Вино подействовало на него: он стал легок и смешлив, а его зеленые глаза подернулись золотом. — Я только хочу знать причину слухов, наполняющих Хагсгейт привидениями и оборотнями. Абсурднее этого я ничего не слыхал.
Дринн улыбнулся. Он был узловатым человеком с жесткими, пустыми черепашьими челюстями.
— Это одно и то же, — сказал он. — Слушайте. Город Хагсгейт заклят.
В комнате вдруг стало очень тихо, и в пивном свете лица горожан натянулись и побледнели, словно сыр. Шмендрик снова рассмеялся:
— Вы имеете в виду — благословлен? В этом костлявом королевстве старого Хаггарда вы — будто совсем иная страна, вы как оазис, как весна. Я согласен с вами: здесь есть какие–то чары, но я пью за них.
Дринн остановит его, пока он поднимая стакан:
— Только не такой тост, друг мой. Ты хочешь выпить за горе, которому уже пятьдесят лет? Именно столько времени прошло с тех пор, как на нас опустилась эта печаль — когда Король Хаггард выстроил свой замок у моря.
— Когда его выстроила ведьма, мне кажется. — Шмендрик погрозил ему пальцем. — В конце концов, отдавай должное, кому следует.
— Ах, так ты знаешь эту историю, — промолвил Дринн. — Тогда ты должен знать и то, что Хаггард отказался заплатить ведьме, когда ее работа была завершена.
Волшебник кивнул:
— Да, и закляла она его за жадность — вернее, не его, а замок. Но что здесь общего с Хагсгейтом? Город не сделал ведьме ничего дурного.
— Не сделал, — согласился Дринн. — Но и хорошего тоже ничего не вышло. Она не могла снова разрушить замок — или не хотела, поскольку воображала себя сродни художникам и хвастала, что ее работа намного опережает свое время. Как бы там ни было, но она пришла к старейшинам Хагсгейта и потребовала, чтобы те заставили Хаггарда заплатить ей то, что причитается. «Посмотрите на меня — и увидите себя, — проскрежетала она. — Вот подлинное испытание городу — или его королю. Господин, который обманывает старую уродливую ведьму, скоро начнет обманывать и свой собственный народ. Остановите его, пока вы в силах это сделать — прежде, чем вы к нему привыкнете.» — Дринн отхлебнул из стакана и предусмотрительно наполнил еще раз стакан Шмендрика. — Хаггард не заплатил ей никаких денег, — продолжал он, — а Хагсгейт — увы! — не обратил на нее никакого внимания. С ней обошлись вежливо и отослали к соответствующим властям, а она впала в ярость и завопила, что в нашем стремлении совсем не заводить себе врагов мы обзавелись сразу двумя. — Он замолчал, прикрыв глаза. Веки его были настолько тонки, что Молли была уверена: он, как птица, мог сквозь них видеть. Не открывая глаз, он произнес: — И вот, когда она закляла замок Хаггарда, она закляла и наш город. Так его жадность навлекла беду на всех нас.
Во вздохнувшей тишине голос Молли Грю опустился, как молот на подкову, — как будто она снова бранила Капитана Шалли:
— Вина Хаггарда — на самом деле меньше вашей, — насмехалась она над хагсгейтским населением, — ибо он — всего лишь один вор, а вас — много. Хлопоты вы себе заработали собственной алчностью, а не жадностью своего короля.
Дринн открыл глаза и рассерженно посмотрел на нее.
— Мы себе ничего не зарабатывали, — отрезал он. — Это наших дедов и отцов ведьма просила о помощи, и я готов признать, что они по–своему так же виновны, как и Хаггард. Мы бы к этому отнеслись совсем иначе. — И все пожилые люди в комнате сердито посмотрели на тех, кто был еще старше.
Один из стариков заговорил, хрипя и мяукая:
— Вы бы поступили точно так же. Надо было собирать урожаи и ухаживать за скотом — и теперь надо. Надо было жить в мире с Хаггардом — и теперь надо. Мы прекрасно знаем, как бы вы себя повели. Вы — наши дети.
Дринн свирепо глянул на него, и тот сел на место, а остальные стали злобно орать друг на друга, пока волшебник не утихомирил их вопросом:
— А что это было за заклятье? Имело оно какое–то отношение к Красному Быку?
Это имя холодом зазвенело даже в этой яркой комнате, и Молли внезапно почувствовала, насколько она одинока. В каком–то странном порыве она задала свой вопрос, хотя он никак не относился к разговору:
— А кто–нибудь из вас когда–нибудь видел единорога?
Вот тут она и поняла две вещи: разницу между тишиной и полной тишиной и то, что она очень правильно задала свой вопрос. Хагсгейтские лица изо всех сил старались сохранить неподвижность. Но не могли. Дринн осторожно вымолвил:
— Мы никогда не видим Быка и никогда не говорим о нем. Ничто, касающееся его, нас не касается. Что же до единорогов, то их нет. И никогда не было. — Он еще подлил черного вина. — Я скажу вам слова заклятья.
Он скрестил на груди руки и заговорил нараспев:
Еще несколько человек подхватило слова, когда он читал старое проклятье. Их голоса были печальны и далеки, словно и не в комнате вовсе они звучали, а болтались по ветру где–то высоко над трактирной трубой беспомощными мертвыми листьями.
Что же такого в их лицах? — спрашивала себя Молли. — Я уже почти знаю.
Волшебник молча сидел рядом, вертя длинными руками винный стакан.
— Когда эти слова были впервые произнесены, — продолжал Дринн, — Хаггард в стране был еще совсем недолго, и вся она цвела и добрела. Вся, кроме города Хагсгейта. Хагсгейт был тогда тем, чей стала вся страна сейчас — исцарапанным и голым, и люди в нем поднимали огромные камни на крыши своих хижин, чтобы те не унесло ветром. — Он горько ухмыльнулся старикам. — Собирать урожаи, ухаживать за скотом! У вас росли капуста, брюква да несколько бледных картошек, а во всем городе было не больше одной изможденной коровенки. Путники думали, что город проклят, что он оскорбил какую–то мстительную ведьму.
Молли почувствовала, как по улице прошла единорог — потом вернулась, беспокойная, словно факела на стенах, которые беспрестанно кланялись и корчились. Ей хотелось выбежать к единорогу, но вместо этого она лишь спросила:
— А потом — когда, заклятие осуществилось?
— С того мига мы не знали ничего, кроме изобилия. Наша суровая земля стала такой щедрой, что сады и огороды теперь вырастают сами — нам не нужно ни сажать, ни полоть. Наши стада множатся. Наши ремесленники умнеют во сне. Воздух, которым мы дышим, и вода, которую мы пьем, уберегают нас, и мы не знаем, что такое болезнь. Все печали обходят нас стороной — и все это происходит, пока остальное королевство, когда–то такое зеленое, ссыхается и чернеет, как угольки, под рукой Хаггарда. Пятьдесят лет процветали лишь он да мы. Будто бы прокляли всех остальных.
— «С ним взлететь вам, с ним вам пасть», — пробормотал Шмендрик. — Понимаю, понимаю. — Он залпом осушил еще один стакан черного вина и рассмеялся. — Но старый Король Хаггард по–прежнему правит и будет править, покуда море не переполнится. Вы не знаете, что такое настоящее заклятье. Позвольте мне рассказать вам о моих горестях… — Быстрые слезы внезапно блеснули в его глазах. — Начну с того, что моя мать никогда меня не любила. Она делала вид, но я–то знал наверняка…
Дринн прервал его, и тут Молли поняла, что странного было во всех жителях Хагсгейта. Все они были хорошо и тепло одеты, но их лица, затерянные среди этих богатых одеяний, были лицами бедняков, холодных, как призраки, и слишком голодных, чтобы когда–нибудь наесться досыта. Дринн тем временем говорил:
— «Но лишь кто–то из Хагсгейта замок этот ниспровергнет». Как можем мы наслаждаться своим счастьем и богатством, когда знаем, что этому должен прийти конец, и что конец этому положит один из нас? С каждым днем мы все больше и больше богатеем, и с каждым днем все ближе и ближе подходит исполнение проклятья. Волшебник, пятьдесят лет мы живем скудно, мы избегаем привязанностей, развязываемся со всеми привычками и готовим себя ко встрече с морем. Мы ни на миг не воспользовались ни радостями своего богатства, ни какими бы то ни было радостями вообще, ибо радость — это просто еще одно, что нам предстоит потерять. Жалейте Хагсгейт, странники, ибо на всем этом проклятом свете не может быть города более несчастного.
— Потеряны, потеряны, — захныкали вокруг горожане. — Жаль, жаль нас.
Молли Грю, ни слова не говоря, смотрела на них, но Шмендрик с уважением произнес:
— Вот это действительно хорошее проклятье, это профессиональная работа. Я всегда говорю: что бы вы ни делали, обращайтесь к знатоку. В конечном счете, это всегда окупается.
Дринн нахмурился, а Молли толкнула Шмендрика в бок. Тот моргнул:
— Ой… Ну, так чего же вы от меня хотите? Должен предупредить вас, что я не очень искусный колдун, но буду рад снять с вас это заклятие, если смогу.
— Я от тебя многого и не ожидал, — ответил Дринн. — Но и такой, как есть, ты сгодишься не хуже других. Думаю, мы оставим заклятье в покое. Если его снять, то снова бедными мы, может быть и не станем, но уж точно не будем больше богатеть, а это так же худо. Нет, наша истинная цель — хранить башню Хаггарда от ниспровержения, а поскольку герой, которому суждено уничтожить ее, может быть только из Хагсгейта, то сохранить башню не так уж невозможно. С одной стороны, мы не позволяем чужакам здесь селиться. Мы держим их на расстоянии — если надо, то силой, но чаще коварством. Те темные сказки о Хагсгейте, о которых ты говорил, — мы придумали их сами и разнесли по всему свету так широко, насколько смогли, чтобы обеспечить себе как можно меньше гостей, и притом с гарантией. — И он гордо улыбнулся своими полыми челюстями.
Шмендрик оперся подбородком на костяшки сцепленных пальцев и одарил Дринна вялой улыбкой:
— А как насчет ваших собственных детей? — спросил он. — Как вы можете удержать кого–нибудь из них от того, что он когда–нибудь вырастет и исполнит проклятье? — Он обвел сонным взглядом трактир, изучая каждое морщинистое лицо, глядевшее в ответ на него. — Вы только подумайте, — медленно проговорил он. — В этом городе что — нет молодых людей? Насколько же рано вы укладываете детей спать в вашем Хагсгейте?
Никто ему не ответил. Молли слышала, как у них в ушах и глазах поскрипывала кровь, и как их кожа подергивалась, будто ветерок гнал по воде рябь. Потом Дринн вымолвил:
— У нас нет детей. Не было ни одного с того самого дня, как было наложено заклятье. — Он кашлянул в кулак и прибавил: — Это нам казалось самым очевидным способом обвести ведьму вокруг пальца.
Шмендрик откинул назад голову и захохотал — беззвучно, так, что факела затанцевали на стенах. Молли поняла, что волшебник уже изрядно пьян. Рот Дринна исчез, а глаза стали жесткими, как треснувший фарфор:
— Я не вижу ничего смешного в нашей беде, — тихо промолвил он. — Совсем ничего.
— Ничего, — всхлипнул Шмендрик, склонившись над столом и опрокинув стакан. — Ничего, простите меня, конечно, ничего, совсем ничего. — Под рассерженным взглядом двух сотен глаз ему удалось прийти в себя, и он уже серьезно ответил Дринну: — Тогда, мне кажется, вам не о чем беспокоиться. То есть, все это вас не должно беспокоить. — Маленькая струйка смеха брызнула из его губ, будто пар из носика чайника.
— Да, так и впрямь может показаться. — Дринн наклонился вперед и коснулся запястья Шмендрика двумя пальцами. — Но я еще не рассказал тебе всей правды. Двадцать один год назад в Хагсгейте все–таки родился один ребенок. Мы так никогда и не узнали, чей он. Я нашел его сам, когда однажды зимней ночью проходил по рыночной площади. Он лежал на колоде мясника и не плакал, хотя шел снег. Вокруг него собрались бродячие коты, ему было тепло и весело. Они мурлыкали все вместе, и эти звуки были тяжелы от переполнявшего их знания. Я долго стоял у той странной колыбели и раздумывал, а снег все падал, и коты все мурлыкали свои пророчества.
Он умолк, и Молли Грю нетерпеливо сказала:
— И вы, конечно, взяли ребенка к себе домой и вырастили как своего собственного…
Но Дринн положил руки на стол ладонями вверх.
— Я прогнал котов, — сказал он, — и пошел домой один. — Лицо Молли покрылось бледным туманом. Дринн слегка пожал плечами: — Я могу отличить рождение героя от всего остального. Предвестия и предзнаменования, змейки в колыбельке. Если бы не коты, я бы, пожалуй, рискнул, но с ними все это было так очевидно, так мифологично. Что мне было делать — сознательно готовить падение Хагсгейта? — Его губы дернулись, точно в них вонзился крючок. — Так вышло, что я ошибся — но от нежности. Когда я вернулся на рассвете, ребенок исчез. — Шмендрик пальцем рисовал в винной лужице на столе и, возможно, вообще ничего не слышал. Дринн продолжал: — Естественно, никто не признался, что бросил ребенка на рыночной площади, и, хотя мы обшарили каждый дом от подвалов до голубиных гнезд под крышами, мы его так больше и не нашли. Я бы мог успокоиться на том, что малыша утащили волки, или что все это мне просто приснилось — и эта встреча, и коты — если бы на следующий день в город не въехал герольд Короля Хаггарда и не приказал нам всем радоваться: после тридцати лет ожидания у нашего Короля наконец появился сын. — Он отвел взгляд от выражения на лице Молли. — Наш же младенец, по случайности, тоже был мальчиком.
Шмендрик лизнул кончик пальца и поднял глаза.
— Лир… — задумчиво сказал он. — Принц Лир. А разве другой истории его появления на свет не существует?
— Не похоже, чтоб она была, — фыркнул Дринн. — Если бы даже какая–нибудь женщина пожелала выйти замуж за Хаггарда, то он бы сам ей отказал. Он пустил везде слухи, что мальчик — это племянник, которого он любезно усыновил после смерти родителей. Но у Хаггарда нет ни родственников, ни семьи. Есть такие, которые утверждают, что он родился из непогоды — как Венера, родившаяся из пены морской. Никто бы не отдал Королю Хаггарду ребенка на воспитание.
Волшебник спокойно протянул стакан, а когда Дринн покачал головой, сам наполнил его.
— Ну что ж, где–то он свое заполучил — и молодец. Почему ты думаешь, что Лир — это именно твой кошачий ребенок?
— Хаггард ночами бродит по Хагсгейту — не часто, но бывает. Многие из нас видели его — высокий Король, серый, как дерево, много лет пролежавшее в воде, в одиночестве рыщет под железной луной, подбирая оброненные монеты, разбитые тарелки, ложки, камешки, носовые платки, кольца, раздавленные яблоки — все, что угодно, без всякой причины. Это Хаггард взял ребенка — я уверен в этом так же, как в том, что Принц Лир — именно тот, кто опрокинет башню и утопит и Хаггарда, и Хагсгейт.
— Я на это надеюсь, — вмешалась Молли. — Я надеюсь, что Принц Лир — именно тот ребенок, которого ты бросил умирать, и я надеюсь, что он утопит ваш городишко, и я надеюсь, что рыбы обглодают вас дочиста, как кукурузные початки…
Шмендрик изо всех сил пнул ее под столом, поскольку слушатели уже начинали шипеть, точно раскаленные угли, а некоторые даже стали подниматься на ноги. Он снова спросил:
— Так чего же вы от меня хотите?
— Вы идете в замок Хаггарда, я полагаю?
Шмендрик кивнул.
— Ага, — продолжал Дринн. — Так вот, умный волшебник сможет очень просто подружиться с Принцем Лиром, репутация которого как любознательного и пылкого молодого человека всем хорошо известна. Умный волшебник, к тому же, может быть знаком со всевозможными странными снадобьями и снотворными, порошками и притираньями, травами, отравами и зельями с мазями. Умный волшебник — учти, я сказал «умный», не больше — умный волшебник может при соответствующих обстоятельствах… — Конец его фразы повис в воздухе непроизнесенным, но к сказанному Дринн больше ничего не прибавил.
— За ужин?! — Шмендрик встал, опрокинув стул, и оперся руками о столешницу, тяжело дыша. — Значит, таковы сегодня расценки? Ужин и болтовня — цена отравленному принцу? Ты этим не отделаешься, друг Дринн. За такой гонорар я даже трубу тебе чистить не стану.
Молли Грю стиснула ему руку, крича:
— Что ты говоришь?!
Волшебник стряхнул ее с себя, но в тот же самый миг медленно подмигнул ей, полуприкрыв одно веко. Дринн с улыбкой откинулся на спинку стула.
— Я никогда не торгуюсь с профессионалом, — сказал он. — Двадцать пять золотых.
Они торговались полчаса: Шмендрик требовал сотню золотых, а Дринн отказывался платить больше сорока. Наконец уговорились на семидесяти, причем половина выплачивалась сразу, а половина — после успешного возвращения Шмендрика. Дринн на месте отсчитал деньги из своего кожаного кошелька, висевшего на поясе.
— Вы проведете ночь в Хагсгейте, конечно, — сказал он. — Мне будет приятно самому принять вас.
Но волшебник покачал головой:
— Думаю, что нет. Мы пойдем к замку, коль скоро мы уже так близко от него. Раньше туда — раньше оттуда, а? — И он искусно и заговорщицки ухмыльнулся.
— Замок Хаггарда всегда опасен, — предупредил Дринн. — Но он никогда так не опасен, как по ночам.
— Про Хагсгейт тоже так говорили, — ответил Шмендрик. — Не стоит верить всему, что слышишь, Дринн.
Он направился к дверям трактира, и Молли пошла следом. У выхода он обернулся и улыбнулся всем горожанам Хагсгейта, горбившимся в своих нарядах.
— Напоследок я бы хотел, чтоб вы подумали над одной вещью, — сказал он им. — Даже самое профессиональное проклятие, которое когда–либо прорычали, прокаркали или прогрохотали, не действует на чистое сердце. Спокойной ночи.
Снаружи ночь, усыпанная чешуей звезд, лежала холодной коброй, свернувшись кольцами по улице. Луны не было. Шмендрик бодро вышел за ворота, хмыкая себе под нос и позвякивая своими золотыми монетами. Не глядя на Молли, он произнес:
— Сволочи. Так легко допустить, что все волшебники вмешиваются в смерть… Вот если б они захотели, чтобы я снял заклятье — что ж, я, может, сделал бы это за один лишь ужин. Да я бы сделал это за один стакан вина!..
— Я рада, что ты этого не сделал, — яростно произнесла Молли. — Они заслуживают своей судьбы — они заслуживают худшего. Бросить ребенка в снегу…
— Ну, если б они его не бросили, он не вырос бы и не стал бы принцем. Разве ты никогда раньше не была в волшебной сказке? — Голос волшебника был добр и пьян, а глаза сверкали совсем как его новые деньги. — Герою нужно исполнить пророчество, а негодяй — как раз тот, кто должен его остановить. Хотя в других видах историй чаще все как раз наоборот. А у героя должны быть неприятности с самого рождения — иначе он не настоящий герой. Я почувствовал огромное облегчение, когда узнал про Принца Лира. Я ждал, что в этой сказке появится ведущий персонаж.
Единорог возникла неожиданно — как звезда, парусом во тьме скользя немного впереди. Молли спросила:
— Если герой — Лир, то кто тогда она?
— С нею все по–другому. И Хаггард, и Лир, и Дринн, и ты, и я — все мы в сказке, и должны идти туда, куда она нас ведет. А единорог — настоящая. Она настоящая. — Шмендрик зевнул, икнул и вздрогнул одновременно. — Нам лучше поспешить. Может, и следовало остаться на ночь, да старый Дринн меня нервирует. Я, конечно, уверен, что мне удалось его полностью облапошить, но все равно…
То и дело засыпая и просыпаясь на ходу, Молли думала, что Хагсгейт, наверное, растягивается огромной лапой, чтобы удержать их троих в себе, загибаясь вокруг них и мягко пошлепывая их туда и сюда, чтобы они снова и снова шли по своим прежним следам. Сто лет прошло, прежде чем они оставили позади последний дом на окраине, еще пятьдесят они спотыкались по мокрым полям, виноградникам и присевшим садам. Молли снилось, что с верхушек деревьев на них скалятся овцы, холодные коровы наступают им на ноги и сталкивают с петляющей тропинки. Но свет единорога плыл впереди, и Молли шла за ним и во сне, и наяву.
Замок Короля Хаггарда высился в небе слепой черной птицей, что по ночам охотится в долине внизу. Молли даже слышала, как дышат ее крылья. Потом в волосах у нее шевельнулся вздох единорога, и где–то совсем рядом Шмендрик спросил:
— Сколько человек?
— Трое, — ответила единорог. — Они шли за нами от самого Хагсгейта, но теперь быстро догоняют. Слушай.
Шаги — слишком легкие, потому что быстры; голоса слишком приглушены, чтобы речь шла о чем–то хорошем. Волшебник протер глаза.
— Возможно, Дринна замучила совесть, что недоплатил своему наемному отравителю, — пробормотал он. — Возможно, совесть не дает ему уснуть. Все возможно. Может быть, у меня растут перья. — Он взял Молли за руки и стащил ее с дороги в жесткую канаву. Единорог легла невдалеке тихим лунным светом.
Кинжалы блеснули следами рыб на глади темного моря. Голос — неожиданно громкий и злой:
— Говорю тебе, мы их потеряли. Мы прошли мимо них еще милю назад — там, где я слышал этот шорох. Будь я проклят, если двинусь дальше.
— Тихо ты! — злобно прошептал второй голос. — Ты хочешь, чтоб они сбежали и предали нас? Ты боишься волшебника — но лучше б уж ты боялся Красного Быка. Если Хаггард узнает о нашей половине проклятья, он пошлет Быка — и тот растопчет нас всех в крошки.
Первый ответил уже мягче:
— Не этого я боюсь. Волшебник без бороды — это не волшебник вовсе. Но мы зря тратим время. Они сошли с дороги и пошли напрямик, как только поняли, что мы за ними идем. Мы можем гоняться здесь за ними хоть всю ночь — и никого не найти.
Другой голос — более усталый, чем два первых:
— Мы и так гоняемся за ними всю ночь. Вон, посмотри. Уже утро скоро.
Молли вдруг поняла, что успела наполовину заползти под плащ Шмендрика и уткнуться лицом в пучок колючей мертвой травы. Она не осмеливалась поднять голову, но открыла глаза и увидела, что воздух стал до странности легким. Второй человек сказал:
— Ты дурак. До утра еще добрых два часа, а кроме этого, мы идем на запад.
— В таком случае, — откликнулся третий голос, — я иду домой.
Шаги заспешили прочь по дороге. Первый окликнул:
— Подожди,не уходи! Погоди, я иду с тобой! — Второму он поспешно пробурчал: — Я не домой, я просто хочу вернуться по нашему следу немного назад. Мне все–таки кажется, что я их слышал, кроме этого, я потерял где–то коробку с трутом… — Молли слышала, как он пятился прочь, пока все это объяснял.
— Проклятые трусы! — выругался второй. — Погодите тогда оба, я попробую сделать то, что мне наказал Дринн. — Удалявшиеся шаги засомневались, а он громко и нараспев стал читать: — «Жарче, чем лето, вкуснее еды, женщины слаще, сильнее воды…»
— Давай быстрее, — произнес третий голос. — Скорей же. Ты на небо посмотри. Что это еще за ерунда?
Даже у второго человека голос стал нервным:
— Это не ерунда. Дринн относится к своим деньгам так хорошо, что они терпеть не могут с ним расставаться. У них самые трогательные отношения, которых я вообще видел. А вот так он их к себе призывает. — И он продолжал с легкой дрожью в голосе: — «Мягче, чем овцы, дороже, чем кровь — скажи мне, к кому ты питаешь любовь?»
— Дринн, — прозвенели золотые в кошельке Шмендрика. — Дринндринндринндринн…
Вот тут–то все и началось.
Оборванный черный плащ хлестнул Молли по лицу, когда Шмендрик перекатился на колени, отчаянно пытаясь зажать кошелек обеими руками, но тот зудел, как гремучая змея. Тогда он зашвырнул его подальше в кусты, но три человека уже бежали на них, и кинжалы их краснели, словно удары уже нанесли. Из–за замка Короля Хаггарда поднималась пылающая яркость и вламывалась в ночь, будто огромное плечо. Волшебник распрямился, грозя нападавшим демонами, метаморфозами, параличом и тайными приемами дзюдо. Молли подобрала камень.
С древним, радостным и ужасающим криком разгрома и поражения из своего укромного места поднялась единорог. Ее копыта со свистом рассекали воздух ливнем бритв, грива яростно трепетала, а на лбу блистал убор из перьев молний. Трое убийц выронили кинжалы и закрылись руками, и даже Молли Грю и Шмендрик попятились перед нею. Но единорог не видела никого из них. Обезумевшая, танцующая, белая словно море, она снова протрубила свой вызов.
И та яркость, что поднималась над замком, ответила ей ревом, подобным реву взламываемого весной льда. Люди Дринна бежали, вопя и спотыкаясь.
Дико раскачиваясь на внезапном холодном ветру, замок Хаггарда был объят пламенем. Молли произнесла вслух:
— Но это должно быть морем. Это ведь море…
Ей показалось, что она различает в стене замка окно — где–то вдали, где оно и должно было быть — и в нем серое лицо. Но пришел Красный Бык.
VIII
Он был цвета крови — не прыгучей крови сердца, а, скорее, той, что шевелится в старой ране, которая до конца так и не смогла зарасти. Ужасающий свет потом сочился из него, а от его рева обвалы в горах текли и впадали один в другой. Его рога были бледны, как шрамы.
На какой–то миг единорог замерла перед ним, как застывает волна, готовая разбиться о берег. Потом свет ее рога потух, она повернулась и бросилась бежать. Красный Бык снова взревел и прыгнул за нею следом.
Единорог никогда ничего не боялась. Она была бессмертна — и все–таки ее можно было убить. Это могли сделать гарпия, дракон или химера — или же стрела, которую выпустили в белку, но промахнулись. Но драконы могли просто убить ее. Они никогда не могли заставить ее забыть, кто она — или же заставить самих себя забыть о том, что даже после смерти она останется прекраснее них. Красный Бык ее не знал, но единорог чувствовала, что он искал именно ее, а не белую лошадь. Ее сияние погасил порыв страха, и она бежала, и гневное невежество Быка ревело, заполняя собой небеса и проваливаясь в долину.
Деревья бросались на единорога, и она отчаянно уворачивалась и петляла между ними — она, которая так мягко скользила сквозь вечность, никогда ни с чем не сталкиваясь. За ее спиной они ломались под напором Красного Быка, как стекло. Бык взревел еще раз, и огромная ветвь, обрушившись сверху, ударила единорога в плечо так, что она покачнулась и упала. Правда, сразу же вновь вскочила на ноги, но теперь у нее под копытами горбились одни корни и деловито, как кроты, перекапывали тропинки у нее на пути. Лозы, словно заблудившиеся змеи, хлестали ее, лианы плели паутины меж стволов, а вокруг, не переставая, обрушивался вниз град сухих сучьев. Она упала снова. Гул копыт Быка гудел в ее костях, и она закричала.
Должно быть, ей удалось как–то вырваться из деревьев, потому что она вдруг поняла, что несется по твердой лысой равнине, которая простиралась за плодородными пастбищами Хагсгейта. Теперь ей было где разогнаться, а единороги обычно скачут во всю прыть, только когда оставляют позади охотника, пинающего свою запаленную упавшую лошадь. Она мчалась со скоростью жизни, словно во мгновение ока перетекая из одного тела в другое или сбегая вниз по лезвию меча, — быстрее, чем что бы то ни было, обремененное ногами или крыльями. Но даже не оглядываясь назад, она знала, что Красный Бык настигает ее, надвигаясь, как луна, как угрюмая, разбухшая охотничья луна. Она уже ощущала толчок серо–лиловых рогов — как будто Бык уже ударил ее в бок.
Зрелые острые стебли кукурузы смыкались, вставая забором у нее перед грудью, но она втаптывала их в землю. Поля пшеницы становились холодными и липкими, стоило лишь Быку дохнуть на них: они снегом клеились к ногам. Но она бежала и бежала, разгромленная, блея и слыша ледяное позвякиванье мотылька: «Они прошли по всем дорогам очень давно, и вслед за ними бежал Красный Бык». Он убил их всех.
Внезапно Красный Бык оказался впереди, будто его подняли, как шахматную фигуру, взмахнули им по воздуху и снова опустили, чтобы он загородил единорогу путь. Бык не бросился на нее сразу, а она сразу не побежала. Бык был громаден и в первый раз — когда погоня только началась, — но теперь он стал таким неохватным, что единорог не могла представить его целиком. Он, казалось, горбился налитым кровью небосводом — с ногами, как огромные смерчи, и головой, как северное сияние. Его ноздри морщились и рокотали, пока он искал единорога — и та поняла, что Красный Бык слеп.
Если бы он бросился на нее сразу, то она встретила бы его — крохотная и отчаявшаяся, с потемневшим рогом, и Бык, конечно, растоптал бы ее. Он все равно был быстрее: лучше встретить его лицом к лицу сейчас, чем быть застигнутой на бегу. Но Бык надвигался медленно, с какой–то зловещей изысканностью, словно старался не спугнуть ее, и она снова сломалась перед ним. С низким, печальным плачем она вихрем развернулась и рванулась туда, откуда они бежали — назад, через лохмотья полей и по равнине, к замку Короля Хаггарда, темному и сгорбленному как обычно. А Красный Бык бежал сзади, следом за ее страхом.
Шмендрика и Молли расшвыряло в стороны, как щепки, когда Красный Бык пронесся мимо: из Молли выбило о землю и дух, и сметку, а волшебника, раскрутив, закинуло в путаницу колючек, что стоило ему половины плаща и осьмушки собственной кожи. Оба поднялись на ноги, как только смогли, и заковыляли в погоню, поддерживая друг друга. Никто не произнес ни слова.
Пробраться сквозь чащобу им было легче, чем единорогу, поскольку там уже прошел Красный Бык. Молли и волшебник переваливались через гигантские стволы поваленных деревьев — не просто сбитых на землю, но наполовину втоптанных в нее — и опускались на четвереньки, чтобы обползти выбоины, глубины которых в темноте они измерить не могли. Ни одним копытам не под силу сделать этого, в растерянности думала Молли. Сама земля рвала себя, чтобы только избавиться от бремени Быка. Молли думала об единороге, и сердце ее бледнело.
Когда они выбрались на равнину, то увидели ее — далекую и слабую, клочок белой воды на ветру, почти невидимый в яростном сиянии Красного Быка. Молли Грю, почти обезумевшая от усталости и страха, видела, как они движутся подобно звездам и камням в пространстве — вечно падая, вечно вслед друг за другом, вечно одни. Красный Бык никогда не настигнет единорога — не раньше, чем Прошлое догонит Пришлое… Молли ясно улыбнулась.
Но сверкающая тень громоздилась сверху на единорога, пока Бык, казалось, не окружил ее со всех сторон. Единорог поднялась на дыбы, метнулась в сторону, отпрыгнула в другую, только чтобы встретиться с Быком снова — с его грозно опущенной головой и громом, стекающим с челюстей. Вновь она развернулась — назад и боком, пятясь и искусно лавируя туда и сюда; но каждый раз Красный Бык заставлял ее отступать, стоя совершенно недвижно. Он не бросался в атаку, но и не оставлял единорогу никакого пути — кроме одного.
— Он ее загоняет, — спокойно сказал Шмендрик. — Если бы он хотел ее убить, то уже бы это сделал. Он гонит ее так же, как гнал всех остальных — в замок, к Хаггарду. Интересно, зачем?
— Сделай что–нибудь, — откликнулась Молли. Ее голос звучал странно спокойно и обыденно, и волшебник ответил ей точно так же:
— Сделать я ничего не смогу.
Единорог попыталась бежать еще раз, жалко неутомимая, и Красный Бык оставил ей пространства ровно столько, чтобы бежать, но не чтобы свернуть. Когда единорог встретилась с ним в третий раз, Молли уже смогла различить, что ее задние ноги дрожат, как у испуганной собачонки. Теперь единорог предпочла оставаться на месте; прижав свои маленькие тонкие уши, она хитро пробовала ногой землю. Но она не могла издать ни звука, и ее рог больше но сверкал. Она вздрогнула, когда рев Красного Быка заставил небо колыхаться и трескаться, но назад не отступила.
— Пожалуйста, — произнесла Молли Грю. — Пожалуйста, сделай же что–нибудь.
Шмендрик развернулся к ней, и его лицо стало диким от беспомощности:
— Что я могу? Что я могу сделать своей магией? Фокусы со шляпой, трюк с мелочью или тот, где я взбалтываю камешки, чтобы приготовить из них омлет? Ты думаешь, это сможет развлечь Красного Быка? А может, мне проделать эту штуку с поющими апельсинами? Я попробую все, что бы ты мне ни предложила, поскольку, конечно же, буду счастлив принести хоть какую–нибудь практическую пользу.
Молли ничего ему не ответила. Бык наступал, и единорог все съеживалась и съеживалась и уже, казалось, была готова разорваться надвое. Шмендрик промолвил:
— Я знаю, что нужно сделать. Если б я мог, я бы превратил ее в какое–нибудь другое существо, в какого–нибудь зверя, слишком незначительного для Быка. Но лишь великий волшебник — такой колдун, как Никос, который был моим учителем, — обладал бы такой силой. Превратить единорога… Да любой, кто смог бы это сделать, мог бы тогда жонглировать временами года и перетасовывать сами года, как колоду карт. А у меня не больше силы, чем у тебя, — и даже меньше, ведь ты можешь к ней прикасаться, а я нет. — Вдруг он остановился. — Смотри. Все кончено.
Единорог стояла перед Красным Быком очень тихо, опустив голову и тускнея прямо на глазах: ее белизна увядала до мыльной серости. Она выглядела маленькой и изможденной. И даже Молли, так любившая ее, уже не могла не признать, какое нелепое животное — единорог, когда все сияние из нее уходит. Хвост — как у льва, оленьи ноги с козлиными голенями, грива — холодная и тонкая, как пена в моей руке, обугленный рог, глаза… Ох, какие глаза! Молли схватила Шмендрика за локоть и изо всех сил впилась в него ногтями.
— У тебя есть магия, — сказала она. Она слышала собственный голос — глубокий и чистый, словно голос сивиллы. — Может быть, ты не в силах ее отыскать, но она есть. Ты вызвал Робин Гуда — а ведь его не существует, но он пришел, и он был настоящим. А это и есть магия. У тебя есть вся мощь, которая тебе нужна, если ты осмелишься призвать ее.
В наступившем молчании Шмендрик рассматривал ее — так твердо и пристально, будто его зелёные глаза уже начинали искать эту магию в глазах Молли Грю. Бык легко переступил ногами навстречу единорогу, уже не преследуя ее, а просто всей тяжестью своего присутствия отдавая ей команду, и она двинулась впереди — смиренная, послушная. Бык шел следом, как овчарка, направляя ее к морю и к зазубренной башне Короля Хаггарда.
— О, пожалуйста! — голос Молли уже крошился. — Ну, пожалуйста же, это нечестно, этого не может быть. Он пригонит ее к Хаггарду, и больше ее никто никогда не увидит, никто. Пожалуйста, ты же волшебник, ты же не позволишь ему. — Ее пальцы еще глубже впились в руку Шмендрика. — Сделай же что–нибудь! — Она уже плакала. — Не позволяй ему, сделай что–нибудь!
Шмендрик тщетно пытался отцепить ее пальцы от своей руки.
— Я не собираюсь ни черта делать, — прошипел он сквозь стиснутые зубы, — пока ты не отпустишь мою руку.
— Ох, — произнесла Молли. — Прости.
— Знаешь ли, так можно вообще кровообращение прервать, — сурово сказал волшебник. Он растер руку и сделал несколько шагов вперед, словно намеревался преградить Красному Быку путь. Там он остановился, скрестив руки и высоко держа голову, хотя она то и дело клонилась вниз, потому что волшебник очень устал.
— Может быть, на этот раз, — слышала Молли его бормотание, — может быть, на этот раз… Никос сказал… что же сказал Никос? Не помню. Это было так давно. — В его голосе была странная старая печаль, которой Молли раньше не слышала. Но потом вдруг пламенем вспыхнула веселость: — Но кто знает, кто знает? Если время еще не пришло, то я просто могу заставить его прийти. Утешаться можно только этим, друг Шмендрик. В кои–то веки я уж точно не вижу, как можно сделать все еще хуже, чем оно уже есть. — И он тихо засмеялся.
Красный Бык, поскольку был слеп, не обращал внимания на какого–то худого человека у себя на пути, пока едва не раздавил его. Тогда он остановился, принюхиваясь к воздуху: буря ворочапась у него в горле, но в яростных движениях огромной головы была заметна определенная неуверенность. Единорог остановилась, когда остановился Бык, и дыхание Шмендрика оборвалось при виде такой покорности.
— Беги! — крикнул он. — Беги же! — Но единорог не взглячула ни на него, ни на Быка — никуда, только на землю.
При звуке шмендрикова голоса громыханье Быка усилилось и стало более угрожающим. Казалось, он сам хотел побыстрее выбраться из долины вместе с единорогом, и волшебник подумал, что знает, почему именно. За высившейся яркостью Красного Быка он уже различал две–три бледных звезды и осторожный намек на какой–то теплый свет. Близилась заря.
— Ему наплевать на дневной свет, — сказал Шмендрик самому себе. — Это стоит запомнить.
Он еще раз крикнул единорогу, чтобы та улетала, но ответом ему был только рев, подобный дроби барабанов. Единорог рванулась вперед, и Шмендрику пришлось отскочить с дороги, чтобы не быть сбитым с ног вторично. Сразу следом за ней двигался Бык, подгоняя ее все быстрее, точно ветер поторапливал истончившийся и изорванный туман. Мощь его хода приподняла Шмендрика и шлепнула о землю где–то в другом месте, несколько раз перевернув и стукнув обо что–то, но его не затоптали, хотя глаза ему опалило дослепа, а в голове забушевал пожар. Ему показалось, что он услышал, как закричала Молли Грю.
С трудом приподнявшись на одно колено, он увидел, что Красный Бык прижал единорога почти что уже к самым деревьям. Если б единорог попыталась хотя бы еще разок бежать… Но она уже принадлежала Быку, а не самой себе. Волшебник лишь мельком увидел ее — бледную и потерявшуюся меж бледных бычьих рогов — и дикие красные плечи, рванувшись, заслонили ее окончательно. Тогда, больной и разбитый, он, покачиваясь, закрыл глаза и позволил своей безнадежности промаршировать сквозь всего себя, пока что–то, уже пробуждавшееся прежде, не проснулось где–то внутри снова. Он громко закричал от радости и страха.
Какие именно слова произносила магия в этот, второй, раз, он никогда точно не узнал. Они покидали его, словно орлы, и он отпускал их; и когда вылетело последнее слово, внутрь с громом ринулась пустота, швырнувшая его оземь лицом вниз. Все произошло именно вот так быстро. На сей раз, прежде, чем собраться с силами и подняться на ноги, он уже знал, что сила была в нем — была и ушла.
Впереди недвижно застыл Красный Бык, принюхиваясь к чему–то на земле. Единорога Шмендрику видно не было. Волшебник быстро, как только мог, зашагал вперед, но Молли его опередила. Увидев, что именно обнюхивает Бык, она поднесла пальцы ко рту, как это делают дети.
У ног Красного Быка лежала молодая девушка, брошенная, точно очень маленький холмик света и тени. Она была совершенно нагой, и цвет ее кожи был цветом снега в лунном луче. Тонкие спутанные волосы, белые, как водопад, струились у нее по спине, опускаясь ниже талии. Ее лицо было спрятано под руками.
— Ох, — произнесла Молли. — Что же ты наделал? — И, забыв об опасности, она подбежала к девушке и опустилась рядом с нею на колени. Красный Бык поднял свою огромную слепую голову и медленно повел ею в сторону Шмендрика. Казалось, он убывал и угасал прямо на глазах, а серое небо становилось все ярче, хотя Бык по–прежнему тлел жестокой яркостью ползущей лавы. Волшебнику стало интересно, каковы его истинные размеры, когда он остается один.
Бык еще раз обнюхал неподвижную фигуру, колыхнув ее своим замораживающим дыханием, а потом без единого звука прыгнул в заросли и исчез из виду тремя гигантскими скачками. Последнее, что заметил Шмендрик, когда тот взбирался на обод долины, — там просто вихрилась тьма, красная тьма, которую видишь, когда закрываешь от боли глаза. Рога Быка обратились двумя самыми острыми башнями безумного замка старого Короля Хаггарда.
Молли Грю положила голову белой девушки себе на колени, снова и снова шепча:
— Что ты наделал? Что ты наделал?
Лицо девушки, во сне спокойное и почти улыбавшееся, было самым прекрасным лицом из всех, когда–либо виденных Шмендриком. От этого лица ему было и больно, и тепло. Молли поправила странные волосы, и Шмендрик заметил у девушки на лбу меж закрытых глаз небольшую отметинку — бугорок чуть темнее, чем кожа вокруг. Это не было похоже ни на шрам, ни на ушиб. Это было похоже на цветок.
— В каком смысле — что я наделал? — переспросил он Молли, не прекращавшую тихо стонать. — Всего–навсего спас ее от Быка посредством магии — вот что я наделал. Магией, женщина, моей собственной настоящей магией! — Теперь он был беспомощен от восторга, ибо хотел и танцевать, и пребывать в полной неподвижности, его сотрясали кличи и речи, но ему нечего было сказать. Все завершилось для него дурацким смехом. Он обхватил себя руками так крепко, что сам не ожидал, ахнул и растянулся перед Молли, потому что ноги его уже не держали.
— Дай мне свой плащ, — сказала Молли. Волшебник лишь моргал, глупо сияя ей в ответ. Она протянула руку и, не церемонясь, стянула изодранный плащ с его плеч. Затем она обернула им спавшую девушку так, чтобы не разбудить ее. Девушка сверкала сквозь него, как солнце сквозь листву.
— Без сомнения, тебя сейчас интересует, как я собираюсь вернуть ей подобающий облик, — предположил Шмендрик. — Не задавайся этим вопросом. Сила вернется ко мне, когда мне будет нужно — я уже знаю это. Однажды она придет — когда я призову ее, но это время пока не настало. — В порыве он прижал к себе Молли Грю, обхватив ее голову своими длинными руками. — Но ты была права! — вскричал он. — Ты была права! Она — здесь, и она — моя!
Молли высвободилась из его объятий — одна щека у нее покраснела, а уши запылали. Девушка у нее на коленях вздохнула, перестала улыбаться и отвернулась от восходившего солнечного света. Молли сказала:
— Шмендрик, бедный ты человек, ты, волшебник, неужели ты не видишь…
— Что — не видишь? Здесь нечего видеть. — Но его голос вдруг стал жестким и осторожным, а в зеленых глазах заскользил страх. — Красный Бык искал единорога, поэтому единорогу надо было стать кем–то другим. Ты же сама умоляла меня превратить ее — чем же ты теперь недовольна?
Молли покачала головой, и голова ее при этом мелко тряслась, как у старухи:
— Я не знала, что ты собираешься превращать ее в девушку — в человека. Лучше б ты сделал… — Она не закончила фразу и отвернулась от него, одной рукой продолжая поглаживать девушку по волосам.
— Это магия выбирала форму, а не я, — ответил Шмендрик. — Только шарлатан может выбирать тот или иной трюк для обмана, а волшебник — лишь носильщик, лишь осел, везущий своего хозяина куда надо. Волшебник призывает, а магия выбирает. Если она превращает единорога в человеческое существо, значит, это — единственное, что можно было сделать. — Его лихорадило в злом полубреду, отчего лицо его казалось еще моложе. — Я носитель, — пел он. — Я — обиталище. Я — посланец…
— Ты — идиот, — яростно произнесла Молли Грю. — Ты слышишь меня? Да, ты волшебник, но ты глупый волшебник.
А девушка тем временем уже пыталась проснуться: ее пальцы сжимались и разжимались, а веки трепетали, как грудка у птички. Пока Молли и Шмендрик смотрели на нее, она что–то тихо произнесла и открыла глаза.
Они были расставлены шире, чем у обычных людей, и как–то глубоко посажены; и они темнели, словно глубокое море, и светились изнутри, как море, — они освещались странными мерцавшими существами, которые никогда не поднимаются к поверхности. Единорога можно было превратить в ящерицу, подумала Молли, или в акулу, в слизня, в гусыню — и ее глаза все равно бы выдали превращение. Мне, по крайней мере. Я бы узнала.
Девушка лежала без движения, а ее глаза искали себя во взгляде Молли и Шмендрика. Потом одним–единственным движением она оказалась на ногах, а черный плащ опал на колени Молли. Какие–то мгновения она кружилась вокруг себя, глядя на свои руки и держа их высоко и бесполезно близко к груди. Ее движения были неровными и суетливыми — как у обезьянки, пытавшейся проделать какой–то трюк, а лицо становилось глупым, изумленным лицом жертвы жестокого шутника. И, несмотря на это, ни одно ее движение не было безобразным. Ее загнанный в ловушку ужас был милее любой радости, которой Молли когда–либо была свидетелем — и это было самым ужасным.
— Осел, — сказала Молли. — Посланец.
— Я могу превратить ее обратно, — хрипло ответил волшебник. — Не беспокойся об этом. Я могу превратить ее обратно.
Сияя на солнце, белая девушка металась взад и вперед на своих сильных молодых ногах. Вдруг она споткнулась и упала — и упала очень плохо, поскольку не знала, как ловить себя при помощи рук. Молли подлетела к ней, но девушка съежилась на земле, встретив ее взглядом, и очень тихим голосом произнесла:
— Что вы сделали со мною?
Молли Грю заплакала.
Шмендрик вышел вперед. Его лило было холодно и влажно, голос ровен:
— Я превратил тебя в человеческое существо, чтобы спасти от Красного Быка. Больше я ничего сделать не мог. Я превращу тебя в тебя снова, как только смогу.
— Красный Бык, — прошептала девушка. — Ах! — Ее била свирепая дрожь, словно что–то тряслось и колотилось в ней изнутри. — Он был слишком силен. Слишком силен. Его силе не было конца и не было начала. Он старше меня.
Ее глаза широко раскрылись, и Молли показалось, что в них шевелится Бык, преодолевая морские глубины пылающей рыбой и исчезая в них. Девушка стала робко трогать свое лицо, вздрагивая и отвергая собственные черты. Согнутыми пальцами она провела по отметке на лбу, закрыла глаза и выпустила тонкий, пронзительный вой утраты, усталости и крайнего отчаянья.
— Что вы сделали со мной? — вскричала она. — Я умру здесь!
Руками она вцепилась в свое тело так, что вслед раздиравшим кожу пальцам потекла кровь.
— Я умру здесь! Я умру! — Но все же в ее лице не было страха, хотя страх неистовствовал в голосе, в руках и ногах, в белых волосах, ниспадавших по всему ее новому телу. Только лицо оставалось спокойным и безмятежным.
Молли хлопотала над ней, насколько осмеливалась приблизиться, умоляя не вредить себе. Шмендрик же произнес:
— Замри. — И два этих слога треснули осенними ветками. — Магия знала, что делала. Замри и слушай.
— Почему ты не позволил Быку убить меня? — стонала белая девушка. — Почему ты не оставил меня гарпии? Это было бы добрее, чем запирать меня в эту клетку.
Волшебник отпрянул, вспомнив издевательское обвинение Молли Грю, но когда он заговорил снова, в его голосе звучало спокойствие отчаянья:
— Во–первых, это довольно привлекательная форма. Если бы даже всю свою жизнь ты была человеком, то лучше бы вряд ли получилось.
Она скинула себя взглядом: вбок, по плечам и вдоль рук, потом вниз по исцарапанному и исполосованному телу. Она встала на одну ногу, чтобы обследовать пятку второй; закатила глаза наверх, чтоб увидеть серебряные брови, скосила вниз, на щеки, поймала молнию своего носа; и даже вгляделась в вены цвета морской волны, которые бились внутри ее запястий, таких же веселых, как молодые выдры. Наконец, обернула лицо к волшебнику, и у того снова перехватило дыхание. Я сделал чудо, подумал он, но печаль остро подмигивала у него в горле, словно там все глубже укреплялся рыболовный крючок.
— Ладно, — сказал он. — Тебе бы, конечно, не было никакой разницы, если б я превратил тебя даже в носорога — в то, с чего и начался, собственно, весь этот глупый миф. Но вот в этом облике у тебя есть хоть какой–то шанс достичь Короля Хаггарда и разузнать, что стало с твоим народом. Оставаясь единорогом, ты бы просто разделила их муки и участь — если, конечно, ты не считаешь, что сумела бы победить Быка, если бы встретилась с ним еще раз.
Белая девушка лишь покачала головой:
— Нет, — ответила она. — Никогда. В другой раз я бы столько не выстояла. — Ее голос был так мягок и тих, словно все кости в теле были переломаны. Она продолжала: — Мой народ ушел, и я вскоре пойду за ними, в какое бы обличье ты меня ни поймал. Но сама я избрала бы своей тюрьмой любую форму, только не эту. Носорог так же уродлив, как и человеческое существо и тоже рано или поздно умрет — но, по крайней мере, он никогда не считает себя прекрасным.
— Да, он никогда об этом не думает, — согласился волшебник. — Именно поэтому он продолжает оставаться носорогом, и его никогда не пригласят ко двору даже такого короля, как Хаггард. Молодая же девушка — девушка, для которой то, что она не носорог, никогда не будет ничего значить, — пока Король со своим сыном тщатся разгадать ее, такая девушка сможет разворачивать свою собственную загадку, пока не обнаружит ее ядрышко. Носороги — не те звери, что пускаются в странствия; в странствия пускаются только молодые девушки.
Небо было жарким и сворачивалось, как молоко; солнце уже растаяло и стало лужицей львиного цвета; а на равнине Хагсгейта не шевелилось ничего, кроме застоявшегося тяжелого ветра. Обнаженная девушка с цветком на лбу молча смотрела на зеленоглазого человека, а женщина наблюдала за ними обоими. В это желто–рыжее утро замок Короля Хаггарда не выглядел ни темным, ни проклятым — просто закопченным, запущенным и плохо спроектированным. Его костлявые шпили походили вовсе не на бычьи рога, а, скорее, на рожки шутовского колпака. Или на рога дилеммы, подумал Шмендрик. Только двух рогов у дилемм никогда не бывает.
Белая девушка сказала:
— Я — по–прежнему я. Это тело умирает. Я чувствую, как оно гниет вокруг меня. Как может быть настоящим то, что собирается умереть? Как оно может быть истинно прекрасным?
Молли Грю снова обернула ей плечи плащом волшебника — не и скромности или пристойности, а от странной жалости, словно стараясь не дать ей увидеть себя.
— Я рассказу тебе одну историю, — сказал Шмендрик. — Ребенком я поступил в обучение к могущественнейшему волшебнику из всех, к великому Никосу, о котором уже упоминал прежде. Но даже Никос, который мог обращать котов в скотов, снежинки — в подснежники, а единорогов — в людей, не мог превратить меня ни во что, кроме карнавального шулера. После многих попыток он, наконец, сказал мне: «Сын мой, твоя бездарность настолько безгранична, твое незнание настолько бездонно, что я уверен — тебя населяет большая сила, чем я когда–либо знал. К несчастью, в настоящее время она, кажется, работает в обратном направлении, и даже мне не удается найти способа, которым можно исправить ее. Должно быть, тебе предназначено найти свой собственный путь, на котором ты со временем достигнешь своей силы. Но, честно говоря, для этого тебе надо будет жить настолько долго, что тебе это надоест. Поэтому я дарую тебе вот что: с этого дня и впредь ты не будешь стариться, но будешь странствовать по свету взад и вперед, вечно неумелый, пока, наконец, не придешь к себе настоящему и не познаешь, что ты есть. Не благодари меня: я содрогаюсь при мысли о твоем роке.»
Белая девушка посмотрела на него своими ясными амарантовыми глазами единорога — нежными и пугающими на бесполезном лице, — но не произнесла ничего. Заговорила Молли Грю:
— А если тебе удастся найти свою магию — что тогда?
— Тогда чары разрушатся, и я начну умирать — как и начинал при рождении. Даже величайшие колдуны стареют, как обычные люди, и умирают. — Он покачнулся и клюнул носом, но вздрогнул и снова проснулся — длинный, тощий и потрепанный человек, пахший пылью и питьем. — Я же сказал тебе, что я старше, чем выгляжу. Я рожден смертным и был бессмертным долгое и глупое время, а однажды стану смертным снова. Поэтому я знаю кое–что, чего не могут знать единороги. Все, что может умереть, — прекрасно, прекраснее единорога, которая живет вечно и которая — самое прекрасное существо на свете. Ты понимаешь меня?
— Нет, — ответила она.
Волшебник устало улыбнулся:
— Поймешь. Ты сейчас — внутри истории вместе со всеми нами, и ты должна идти вместе с этой историей, желаешь ты этого или нет. Если ты хочешь снова обрести свой народ, если хочешь снова стать единорогом, то должна следовать за волшебной сказкой в замок Короля Хаггарда и туда, куда она предпочтет вести тебя. Сказка не может заканчиваться без принцессы.
Белая девушка сказала:
— Я не пойду. — Она отступила прочь, тело ее насторожилось, а холодные волосы опали вниз. — Я никакая не принцесса, никакая не смертная, и я никуда не пойду. С тех самых пор, как я покинула свой лес, со мной не случалось ничего, кроме зла, и ничего, кроме зла, быть может, не произошло в этой земле со всеми единорогами. Отдай мне мой настоящий облик, и я вернусь к моим деревьям, к озеру, к моему собственному обиталищу. Твоя сказка не имеет власти надо мной. Я единорог. Я — последний единорог.
Произносила ли она те же самые слова прежде, в сине–зеленом молчании деревьев? Шмендрик продолжал улыбаться, но Молли Грю сказала:
— Преврати ее обратно. Ты сказал, что можешь превратить ее. Пусть идет домой.
— Я не могу, — отозвался волшебник. — Я же сказал тебе, что магия — еще пока не моя, чтобы я мог ею командовать. Вот почему я тоже должен продолжать наш путь к замку и к той судьбе или той удаче, что ждет нас там. Если бы я попытался перепревратить ее сейчас, то она могла бы действительно стать носорогом. И это оказалось бы самым лучшим, что случилось бы. Что же касается худшего… — Он содрогнулся и умолк.
Девушка отвернулась от них и посмотрела вдаль, на замок, ссутулившийся над долиной. Она не различала ни шевеления — ни в окнах, ни среди шатких зубцов башен. Никакого признака Красного Быка. И все же она знала, что он — там, ворочается в корнях замка, пока ночь не упадет на землю снова, сильный выше самой силы, неуязвимый, как сама ночь. Она еще раз коснулась того места на лбу, где раньше был рог.
Когда она повернулась к ним опять, они уже спали там, где сидели, — мужчина и женщина. Их головы опирались о воздух, открытые рты отвисали. Она стояла подле них, одной рукой придерживая у горла черный плащ, глядя, как они дышат. Слабо, очень слабо, в первый раз, ее ноздрей достиг запах моря.
IX
Часовые заметили, как они подходят, незадолго до заката, когда море лежало плоско и слепило глаза. Стражники меряли шагами вторую по высоте башню из всего множества кривых шпилей, ростки которых выпустил замок, напоминавший поэтому одно из тех странных деревьев, корни которых висят в воздухе. Оттуда, где стояли эти двое, просматривалась вся долина Хагсгейта до самого городка, да еще впридачу острые холмы и дорога, сбегавшая с обода долины к огромным, хоть и просевшим, передним воротам замка Короля Хаггарда.
— Мужчина и две женщины, — сказал первый стражник. Он поспешил к дальнему концу площадки. Это перемещение могло бы вывернуть желудок наизнанку, поскольку башня накренилась так, что половиной неба для часового стало море. Замок стоял на краю утеса, который кинжальным лезвием спускался к полоске желтого берега, тоненько рассыпанной по зеленым и черным валунам. Мягкие мешковатые птицы раскорячились на камнях, пофыркивая:
— Что вам говорили, что вам говорили!
Второй стражник последовал за своим товарищем с более умеренной прытью:
— Мужчина и женщина. А третья, в плаще — насчет нее я не уверен.
Оба человека были одеты в самодельные кольчуги: кольца, бутылочные пробки и звенья цепей были нашиты на половины из грубой ткани. Лица их скрывались под ржавыми забралами, но все же голос и походка второго часового выдавали в нем старшего.
— Та, что в черном плаще, — повторил он. — Не спеши с выводами насчет нее.
Но первый стражник уже перегнулся в оранжевое сияние опрокинутого моря, оставив несколько деталей своей худой брони на зазубренном парапете.
— Это женщина, — объявил он. — Перед нею я скорее свой собственный пол отличить не смогу.
— Охотно верю, — ехидно отозвался второй, — поскольку ты не делаешь ничего, что подобает делать мужчине, если не считать езды верхом. Еще раз предупреждаю: не торопись называть третью мужчиной или женщиной. Погоди немного и увидишь то, что увидишь.
Первый стражник, не оборачиваясь, ответил:
— Даже если бы я вырос, никогда и во сне не видя, что у мира есть два раздельных секрета, даже если бы я принимал каждую женщину, которую встречаю, за точную копию самого себя, — даже тогда я бы знал, что это существо отличается от всего, что я видел прежде. Мне всегда было жаль, что я никак не могу тебе угодить; но сейчас, когда я гляжу на нее, мне жаль, что я никогда не мог угодить себе. Ох, как же мне жаль…
Он перегнулся за парапет еще сильнее, напрягая глаза и пытаясь лучше рассмотреть три медленные фигурки на дороге. Усмешка звякнула под его забралом:
— Другая женщина, похоже, натрудила ноги и в дурном настроении, — доложил он. — Мужчина, кажется, — приятный тип, хотя явно ведет бродячую жизнь. Наверное, кто–то вроде менестреля или игрока. — Он надолго замолк, наблюдая за тем, как троица подходит ближе.
— А третья? — наконец спросил старший стражник. — Эта твоя закатная красотка с интересными волосами? Она уже истощила твое терпение за последние четверть часа? Ты уже увидел ее ближе, чем осмеливается любовь? — Его голос шуршал в забрале маленькой когтистой лапой.
— Мне кажется, я никогда не смогу по–настоящему увидеть ее вблизи, — ответил молодой стражник, — как бы близко она ни подошла. — Сам он говорил приглушенно и с сожалением, эхом отзывавшимся на то, чему уже не суждено сбыться. — В ней есть новизна: вс — впервые. Посмотри, как она движется, как она идет, как поворачивает голову — вс в первый раз, как будто никто до этого ничего подобного не делал. Смотри, как она вдыхает воздух и снова выпускает его — как будто никто в целом мире никогда не знал, как хорош бывает воздух. Все это — для нее. Если бы я узнал, что она родилась вот этим самым утром, я удивился бы только тому, насколько она стара.
Второй странник долго смотрел со своей башни на трех скитальцев. Первым его заметил высокий человек, а за ним — мрачная женщина. В их глазах не отразилось ничего, кроме его доспехов, суровых, изъязвленных и пустых. Но потом голову подняла девушка в безнадежно драном черном плаще, и он отступил от парапета, закрывшись от ее взгляда рукой в жестяной перчатке. Через минуту она уже скрылась в тени замка вместе со своими спутниками, и он опустил руку.
— Может быть, она безумна, — спокойно произнес он. — Никакая взрослая девушка не смотрит так, если она не безумна. Это было бы досадно, но уж гораздо предпочтительнее остающейся возможности.
— Какой же? — не вытерпел молодой человек в наступившем молчании.
— Той, что она в самом деле родилась сегодня утром. По мне так уж лучше бы она была безумной. Давай спускаться вниз.
Когда мужчина и обе женщины подошли вплотную к замку, двое часовых стояли по обе стороны ворот, скрестив свои тупые погнутые алебарды и выставив вперед короткие изогнутые сабли. Солнце закатилось, и их нелепые доспехи становились все более угрожающими по мере того, как море тоже гасло. Путешественники мялись, переглядываясь друг с другом. У них за спинами не было темного замка, и глаза их не были спрятаны за железом.
— Сообщите свои имена, — произнес запекшийся голос второго стражника.
Высокий мужчина сделал шаг вперед:
— Я — Шмендрик–Волшебник. Это — Молли Грю, моя помощница… А это — Леди Амальтея. — Он запнулся на имени белой девушки, словно прежде никогда не произносил его. — Мы ищем аудиенции у Короля Хаггарда, — продолжал он. — Мы пришли издалека, чтобы увидеть его.
Второй часовой подождал, не заговорит ли первый, но тот смотрел только на Леди Амальтею, поэтому старший нетерпеливо сказал:
— Доложите свое дело к Королю Хаггарду.
— Я так и сделаю, — ответил волшебник, — но только самому Хаггарду. Что же это за королевское дело, если его можно доверять швейцарам и привратникам? Ведите нас к Королю.
— Какие такие королевские дела могут быть у бродячего колдуна с дурацким помелом вместо языка — чтобы их можно было обсуждать с Королем Хаггардом? — мрачно спросил второй стражник, но, тем не менее, развернулся и зашагал в ворота замка, и королевские посетители потянулись за ним. Последним плелся молодой часовой, причем шаг его становился так же нежен, как шаг Леди Амальтеи, каждому движению которой он начинал неосознанно подражать. Она на миг приостановилась перед воротами, чтобы взглянуть на море, и часовой проделал то же самое.
Его бывший товарищ сердито окликнул его, но молодой стражник уже был на ином посту, где за нарушение воинского долга приходилось отвечать иному капитану. Он вошел в ворота только после того, как туда решила войти Леди Амальтея. Он последовал за нею, мечтательно и монотонно мурлыча себе под нос:
Они пересекли вымощенный булыжником двор, где их лица ощупало развешанное холодное белье, и сквозь крохотную дверку вошли в зал, настолько огромный, что ни стен, ни потолка во тьме видно не было. Пока они пробирались по этому залу, перед ними взмывали высоченные каменные столбы — а потом внезапно отстранялись, даже не давая себя как следует рассмотреть. Дыхание эхом проносилось по всему гигантскому помещению, а шажки каких–то иных, меньших существ звучали так же ясно, как их собственные. Молли Грю довольно тесно прижималась к Шмендрику.
Миновав огромный зал, они вошли в другую дверь и начали подниматься по тонкой лестнице. Там было очень мало окон и никакого освещения. Лестница свивалась кольцами все туже и туже, пока, наконец, им не стало казаться, что каждая ступенька поворачивается сама над собой, и что вся башня смыкается вокруг них всех огромным потным кулаком. Тьма глядела на них и касалась их. Она пахла дождем и псами.
Что–то заворочалось где–то глубоко и близко. Башня вздрогнула, словно корабль, вынесенный на мель, и ответила низким каменным воем. Трое путешественников вскрикнули, хватаясь за стены, чтобы удержаться на содрогавшихся ступенях, но их провожатый шел дальше, не осталавливаясь и ни слова не говоря.
Молодой человек с готовностью прошептал Леди Амальтее:
— Все в порядке, не бойтесь. Это всего лишь Бык.
Звук этот больше не повторялся.
Второй стражник резко остановился, из какого–то потайного места извлек ключ и всунул его по–видимому прямо в сплошную стену. Часть стены качнулась внутрь, и маленькая процессия просочилась в низкое, узкое помещение с одним окном и стулом у дальней стены. В комнате больше ничего не было: ни другой мебели, ни ковра, ни занавесей, ни гобеленов. В комнате находились лишь пять человек, стул с высокой спинкой и мучнистый свет восходившей новой луны.
— Это тронный зал Короля Хаггарда, — произнес стражник.
Волшебник схватил его за окованный локоть и развернул лицом к себе:
— Это же камера. Гробница. Ни один живой король не станет здесь сидеть. Отведите нас к Хаггарду, если он жив.
— Ты сам для себя должен решить, жив ли он, — ответил торопливый голос стражника. Он расстегнул пряжки шлема и снял его с серой головы. — Я — Король Хаггард, — произнес он.
Его глаза были того же цвета, что и рога Красного Быка.
Он превосходит Шмендрика ростом, и хотя его лицо было горько очерчено, в нем не оказалось ничего глупого или даже простоватого. Оно было щучьим: продолговатые и холодные челюсти, жесткие щеки, тощая, живая от собственной мощи шея. Ему могло быть и семьдесят лет, и восемьдесят, и больше.
Первый стражник теперь тоже выступил вперед, держа свой шлем под мышкой. Молли Грю ахнула, увидев его лицо, поскольку он оказался тем самым дружелюбным встрепанным молодым принцем, который читал журнал, пока его принцесса пыталась докричаться до единорога. Король Хаггард сказал:
— Это Лир.
— Привет, — произнес Принц Лир. — Рад с вами познакомиться. — Его улыбка виляла хвостиком у их ног как на что–то надеявшийся щенок, но глаза — глубокие, тенистые, синие за щетинками ресниц — тихо покоились на взоре Леди Амальтеи. Та бросила на него ответный взгляд, молчаливый, словно драгоценность, видя его в свете не более истинном, чем тот, в котором люди рассматривают единорогов. Но Принц ощущал странную, счастливую уверенность, что она увидела его насквозь и со всех сторон, и вгляделась в пещеры, о существовании которых там, внизу, он даже не подозревал, и в них взгляд ее пел и отдавался эхом. Чудеса начинали пробуждаться где–то к юго–западу от его двенадцатого ребра, и сам он — все еще отражая собою, словно зеркалом, Леди Амальтею — засиял.
— Что вам нужно от меня?
Лир видел, что темная комната темнее от этого не стала. Прохладная ясность Леди Амальтеи разгоралась медленнее, чем ветер Мабрука, по Принц отлично понимал, что она была гораздо опаснее. При этом свете ему хотелось писать стихи — а прежде ему писать стихов никогда не хотелось.
— Ты можешь приходить и уходить, как тебе вздумается, — сказал Король Хаггард Леди Амальтее. — Может быть, и глупо с моей стороны было допускать тебя, но я далеко не так глуп, чтобы запрещать тебе ходить туда или сюда. Мои секреты сами себя охраняют — а твои? Куда ты опять смотришь?
— Я смотрю на море, — снова ответила Леди Амальтея.
— Да, море всегда хорошо, — сказал Король. — Когда–нибудь мы будем смотреть на него вместе. — Он медленно направился к двери. — Будет любопытно, — промолвил он, — иметь в замке существо, чье присутствие заставляет Лира называть меня «отцом» впервые с того времени, когда ему было пять лет.
— Шесть, — сказал Принц Лир. — Мне было шесть лет.
— Пять или шесть, — поправился Король. — Мне все это перестало приносить счастье задолго до того — не приносит его и посейчас. Только из–за того, что она здесь, ничего еще не изменилось. — И он ушел почти так же тихо, как Мабрук, и лишь его жестяные сапоги протикали по лестнице.
Молли Грю мягко подошла к Леди Амальтее и остановилась у окна рядом с ней.
— Что это? — спросила она.
— Что ты там видишь? — Шмендрик оперся о трон, рассматривая Принца Лира своими продолговатыми зелеными глазами. Далеко в долине Хагсгейта снова раздался холодный рев.
— Я найду вам покои, — сказал Принц Лир. — Вы проголодались? Я найду вам что–нибудь поесть. Я знаю, где лежит ткань, прекрасный тонкий атлас. Вы могли бы сшить из него себе платья.
Никто не ответил ему. Тяжелая ночь поглотила его слова, и ему показалось, что Леди Амальтея не видела и не слышала его. Она не пошевельнулась, но он был уверен, что, стоя неподвижно, словно луна, она уходила от него все дальше и дальше.
— Разрешите мне помочь вам, — сказал Принц Лир. — Что я могу для вас сделать? Дайте мне помочь вам.
Х
— Что я могу сделать для вас? — спросил Принц Лир.
— Пока ничего особенного, — ответила Молли Грю. — Мне была нужна только вода. Конечно, если ты не хочешь почистить картошку, — я бы от этого не отказалась.
— Нет, не в этом смысле. То есть, да, я почищу, если вы хотите, но я говорил с ней. В смысле, когда я с ней говорю, это то, что я все время спрашиваю.
— Сядь и начисть мне картошки, — сказала Молли. — Будет чем занять руки, по крайней мере.
Они сидели в каморке за кухней — в гнилой комнатке, где сильно воняло протухшей репой и забродившей свеклой. В одном углу была стопкой составлена дюжина глиняных блюд, а под треножником дрожал очень маленький костерок, пытаясь вскипятить собою целый чан серой воды. Молли сидела за грубо сколоченным столом, заваленным картошкой, луком зеленым и репчатым, перцем, морковкой и другими овощами, по большей части уже вялыми и покрывшимися пятнами. Принц Лир стоял перед нею, медленно переваливаясь с пяток на носки и то и дело сплетая и расплетая свои большие мягкие пальцы.
— Сегодня утром я убил еще одного дракона, — наконец, выговорил он.
— Очень мило, — ответила Молли. — Просто прекрасно. Сколько их всего уже набралось?
— Пять. Этот был меньше остальных, но натерпелся же я с ним… Пешком я к нему подобраться не мог, поэтому пришлось ехать верхом и с копьем, и лошадь довольно сильно обожглась. Смешная штука с этой лошадью…
Молли перебила его:
— Садись, Ваше Высочество, и перестань мелькать. У меня от одного взгляда на тебя все чешется.
Принц Лир уселся напротив. Из–за пояса он вытащил кинжал и начал уныло чистить картошку. Молли наблюдала за ним с медленной легкой улыбкой.
— Я принес ей голову, — сказал Принц. — Она сидела в своих покоях — она всегда там сидит. Я протащил эту голову по всей лестнице, чтобы положить к ее ногам. — Он вздохнул и полоснул кинжалом по пальцу. — Проклятье… ой, я не хотел… Пока я поднимался, это была голова дракона — понимаете, дракона! — самый гордый подарок, который кто–нибудь когда–нибудь кому–нибудь мог подарить… Но стоило ей на нее взглянуть, как эта голова вдруг стала жалкой и отвратительной мешаниной из чешуи и рогов с хрящеватым языком и кровавыми глазами. Я почувствовал себя каким–то деревенским мясником, который в знак своей любви принес девушке шмат свежего мяса. А потом она посмотрела на меня, и я трижды пожалел, что сделал это. Понимаете, пожалел, что убил дракона! — Он полоснул по резиновой картофелине и опять поранился.
— Режь от себя, а не к себе, — посоветовала ему Молли. — Знаешь ли, я на самом деле думаю, что тебе пора перестать убивать драконов для Леди Амальтеи. Если ее не тронули пять, то вряд ли ее тронет еще один. Попробуй что–нибудь другое.
— Но что на земле осталось, чего бы я еще не попробовал сделать? — вскричал Принц Лир. — Я переплыл четыре реки, каждую — в полном разливе и не менее мили в ширину. Я вскарабкался на семь вершин, куда до меня никто не взбирался, три ночи спал в Болоте Повешенных и живым вышел из того леса, где цветы выжигают глаза, а пение соловьев источает яд. Я расторг помолвку с той принцессой, на которой уже согласился жениться — и если вы не считаете это за подвиг, то просто не знаете ее матери. Я победил ровным счетом пятнадцать черных рыцарей, которые ожидали у пятнадцати бродов в своих черных беседках, вызывая на бой каждого, кто осмелится перейти реку. И я уже давно потерял счет ведьмам в колючих лесах, великанам, демонам в дамском обличье; стеклянным горам, смертельным загадкам и ужасным заданиям; волшебным яблокам, кольцам, лампам, зельям, мечам, плащам, сапогам, шейным платкам и ночным колпакам. Не говоря уже о крылатых конях, василисках, морских змеях и прочем поголовье живности. — Он поднял голову, и его темно–синие глаза выдали смятение и печаль. — И все это ради чего? — вопросил он. — Я не могу коснуться ее, что бы я ни совершил. Ради нее я стал героем — я, сонный Лир, баловень и позор своего отца, но с таким же успехом я мог бы остаться тем дурнем, каким и был. Мои великие подвиги ничего для нее не значат.
Молли взяла нож и принялась резать перец:
— Значит, видимо, Леди Амальтею нельзя покорить великими подвигами.
Принц смотрел на нее, озадаченно нахмурившись:
— А что — есть другой способ покорить деву? — нетерпеливо спросил он. — Молли, вы знаете другой способ? Вы мне скажете его? — Он перегнулся через весь стол и схватил ее за руку. — Нет, мне, конечно, и так нравится быть храбрым, но я опять стану ленивым трусом, если вы думаете, что так будет лучше. При виде нее мне хочется вызвать на битву все зло и уродство, но мне точно так же хочется просто сесть и быть несчастным. Что мне делать, Молли?
— Я не знаю, — ответила та, отчего–то вдруг смутившись. — Доброта, любезность, хорошая работа — вот что помогает. Хорошее чувство юмора. — Маленький кот с вывернутым ухом запрыгнул к ней на колени, гулко мурлыкая и потираясь об ее руку. Он был цвета меди и пепла. Надеясь сменить тему разговора, она спросила: — Так что там насчет твоей лошади? Что там было смешного?
Но Принц Лир, не отрываясь, смотрел на маленького кота с вывернутым ухом.
— Откуда он взялся? Он ваш?
— Нет, — ответила Молли. — Я его просто кормлю и иногда держу его на руках. — Она погладила кота по тощему горлу, и тот закрыл глаза. — Я думала, он здесь живет.
Принц покачал головой:
— Мой отец ненавидит котов. Он говорит, что такой вещи, как кот, не существует, что это просто обличье, которое любят принимать всякие бесы, домовые и прочая нечисть, чтобы легче было пробираться в дома людей. Он бы сразу убил его, если б узнал, что он у вас тут живет.
— Так что там с твоей лошадью? — спросила Молли.
Принц Лир снова посуровел:
— Это было странно. Когда она не обрадовалась самому подарку, я подумал, что, может быть, ей будет интересно услышать, как я выиграл этот бой. Поэтому я описал ей общий вид сражения и рассказал про саму атаку — ну, сами знаете — про шипенье и голые крылья, про то, как драконы обычно смердят, и особенно — дождливым утром, и про то, как прыгала черная кровь на острие моего копья. Но она ничего этого не слышала — ни слова, пока я не рассказал о всполохе огня, который чуть было не выжег из–под моей лошади ноги. И вот тогда — тогда она вернулась оттуда, куда уходит всякий раз, стоит мне заговорить с ней, и сказала, что должна спуститься и посмотреть, что с моей лошадью. И вот я привел ее в конюшню, где моя бедная скотинка стояла и плакала от боли, и она возложила свою руку на нее, на ее ноги. И лошадь перестала стонать. Они так ужасно плачут, когда им по–настоящему больно. А когда перестают — это как песня.
Кинжал Принца поблескивал на столе среди картошки. Снаружи, окружая замок, рычали порывы дождя, снова и снова бросаясь на стены, но сидевшие в каморке за кухней могли только слышать их — ни одного окна в холодной комнате не было. Света там тоже не было, если не считать скупого свечения в кухонном очаге. При этом свете кот, задремавший на коленях у Молли, выглядел кучкой осенних листьев.
— А что было потом? — спросила она. — Когда Леди Амальтея коснулась твоей лошади?
— Ничего не произошло. Ничего — и все. — Казалось, Принц Лир внезапно разозлился. Он с треском опустил ладонь на стол, и лук с чечевицей брызнули во все стороны. — А вы что — думали что–то произойдет? Это она так думала. Вы думали, раны животного мгновенно затянутся? Потрескавшаяся кожа снова станет целой, а почерневшая плоть — здоровой? Это она так думала — я клянусь всеми своими надеждами на нее! И когда ноги лошади не исцелились от ее касания, она убежала прочь. Я не знаю, где она сейчас.
Пока он говорил, голос его смягчился, а рука на столе печально сжалась. Он поднялся и подошел к котлу над огнем.
— Кипит, — сообщил он. — Вы же хотите овощи внутрь бросить, да? Она плакала, когда ноги моей лошади не зажили, — я сам слышал, но в ее глазах не было слез, когда она убегала. В них было все что угодно, но слез не было.
Молли осторожно опустила кота на пол и начала собирать почтенные овощи в котел. Принц Лир наблюдал за ней, пока она ходила взад и вперед вокруг стола по полу, покрытому испариной. Она пела:
Принц спросил:
— Кто она, Молли? Что это за женщина, которая верит — нет, которая знает, ибо я видел ее лицо, — что может исцелять раны касанием руки, и которая плачет без слез?
Молли продолжала хлопотать, мыча про себя все тот же несложный мотив.
— Без слез может плакать любая женщина, — ответила она через плечо, — и большинство женщин может исцелять руками. Все зависит от раны. Она — женщина, Ваше Высочество, и в этом уже хватает загадки.
Но Принц встал и преградил ей путь, и она тоже остановилась — с фартуком, полным зелени, и упавшими на глаза волосами. Лицо Принца Лира приблизилось к ее лицу. Оно хотя и постарело на пять драконов, но оставалось таким же приятным и глупым. Он сказал:
— Вы поете. Мой отец заставляет вас делать самую утомительную работу, которая здесь есть, но вы все равно поете. В этом замке никогда не было слышно песен, никогда не было ни котов, ни запахов хорошей стряпни. Это все появилось из–за Леди Амальтеи. И ведь из–за нее теперь я выезжаю по утрам на поиски опасности.
— Я всегда была хорошей поварихой, — мягко произнесла Молли. — Семнадцать лет прожить в лесах с Шалли и его людьми…
Принц Лир продолжал говорить, словно она не произносила ни слова:
— Я хочу служить ей так же, как и вы, хочу помочь ей обрести то, в поисках чего она пришла сюда, — чем бы оно ни оказалось. Я хочу быть тем, в чем она больше всего нуждается. Скажите ей об этом. Вы ей скажете?
Не успел он договорить, как в его глазах раздался беззвучный шаг, а лицо обеспокоил вздох атласной мантии. В дверях стояла Леди Амальтея.
Время, которое она провела в зябком царстве Хаггарда, не пригасило и не затемнило ее. Зима скорее обострила ее красоту так, что она вонзалась в любого, кто ее созерцал, зазубренной стрелой, которую уже нельзя было извлечь. Ее белые волосы перехватывала голубая лента, а ее платье было сиреневым. Оно сидело на ней не очень хорошо: Молли Грю была безразличной портнихой, к тому же атлас заставлял ее нервничать. Но Леди Амальтея казалась еще милее, несмотря на неаккуратную работу, холодные камни и запах репы. В ее волосах поблескивал дождь.
Принц Лир поклонился ей — быстрый, кривой поклон, как будто кто–то ударил его в живот.
— Моя Леди, — пробормотал он. — Вам следует покрывать чем–нибудь голову, когда выходите в такую погоду…
Леди Амальтея села за стол, и маленький кот осеннего цвета немедленно вспрыгнул перед ней, мурлыкая быстро и очень мягко. Она протянула к нему руку, но тот ускользнул прочь, все так же урча. Он не казался испуганным, но и коснуться своей ржавой шерстки ей не позволил. Леди Амальтея поманила его, но кот, извиваясь всем телом, точно собака, все равно не хотел подходить.
Принц Лир хрипло вымолвил:
— Я должен идти. В двух днях пути отсюда есть деревушка, где что–то вроде великана–людоеда пожирает дев. Говорят, его может убить только тот, кто владеет Великим Топором Герцога Альбана. Сам Герцог Альбан, к несчастью, был пожран им одним из первых — он как раз переоделся деревенской девой, дабы обмануть это чудовище. Поэтому сейчас все немного сомневаются относительно того, кому на самом деле принадлежит этот Великий Топор. Если я не вернусь, думайте обо мне. Прощайте.
— Прощай, Ваше Высочество, — сказала Молли. Принц поклонился еще раз и вышел из каморки за кухней совершать свое благородное деяние. Оглянулся он всего один раз.
— Ты жестока к нему, — сказала Молли. Леди Амальтея не подняла на нее взгляда. Она по–прежнему предлагала свою раскрытую ладонь коту с вывернутым ухом, но тот оставался там, где и был. Он только вздрагивал от желания подойти к ней.
— Жестока? — переспросила она. — Как я могу быть жестокой? Это для смертных. — Однако, она подняла глаза, и они были огромны от печали и от чего–то еще, очень близкого к издевке. — Так же, как и доброта, — добавила она.
Молли Грю была занята котлом, помешивая и пробуя суп, но это все были какие–то оцепенелые хлопоты. Очень тихо она заметила:
— Ты, по крайней мере, могла бы одарить его нежным словом. Ради тебя он прошел суровые испытания.
— Но какое слово я ему скажу? — спросила Леди Амальтея. — Я ему не говорила ничего, но он все равно каждый день приходит ко мне и приносит все больше и больше голов и рогов, шкур и хвостов, все больше заколдованных драгоценностей и завороженного оружия. Что же он будет делать, если я скажу ему хоть что–нибудь?
— Он желает, чтобы ты думала о нем. Рыцари и принцы знают только один путь к тому, чтоб о них помнили. Он не виноват. Думаю, то, что он делает, он делает хорошо.
Леди Амальтея снова перевела взгляд на кота. Ее длинные пальцы теребили шов атласной мантии.
— Нет, моих мыслей он не хочет, — тихо сказала она. — Он хочет меня — точно так же, как Красный Бык. И точно так же меня понимает. Но он пугает меня сильнее, чем Красный Бык, потому что у него — доброе сердце. Нет, я никогда не скажу ему ни слова обещанья.
Бледное место на ее челе было невидимым в кухонном сумраке. Она дотронулась до него и быстро отдернула руку, точно оно причинило ей боль.
— Лошадь умерла, — сказала она маленькому коту. — Я ничего не могла сделать.
Молли быстро обернулась и положила руки на плечи Леди Амальтеи. Под лоском ткани тело было холодным и твердым, как камни замка Короля Хаггарда.
— О, моя Леди, — прошептала она, — все это потому, что ты не в своем истинном облике. Когда ты обретешь себя, все возвратится — вся твоя сила, вся твоя власть, вся твоя уверенность. Все вернется к тебе. — Если бы она осмелилась, она взяла бы эту белую девушку на руки и убаюкала ее, как ребенка. Прежде она никогда о таком не мечтала.
Но Леди Амальтея ответила:
— Волшебник придал мне только подобие человеческого существа — только наружность, но не дух. Если бы я тогда умерла, я бы все равно оставалась единорогом. Старик знал — этот колдун, что был здесь прежде. Он не сказал ничего, чтобы досадить Хаггарду, но он знал.
Сами по себе ее волосы вдруг выскользнули из–под голубой ленты и заспешили вниз по шее и плечам. Кот был уже почти побежден таким порывом: он поднял было лапку, чтобы поиграть ими, но снова отпрянул и уселся, свернув хвост перед собой и склонив набок странную голову. Его крапленые золотом глаза были зелеными.
— Но это было давно, — сказала девушка. — Теперь меня две: я сама и это другое, что вы все называете «моя Леди». Ибо это другое сейчас и здесь столь же истинно, как и я сама, хотя когда–то оно было всего лишь вуалью надо мной. Эта Леди ходит по замку, спит, одевается, принимает пищу и думает о своем. Если у нее нет силы исцелять или успокаивать, то у нее по–прежнему осталась иная магия. Мужчины заговаривают с ней, называя ее «Леди Амальтея», и она отвечает им — или же не отвечает. Король постоянно следит за ней своими бледными глазами, задаваясь вопросом, что она такое, а королевский сын ранит себя тем, что влюблен в нее, и задается вопросом, кто она такая. И каждый день она ищет в море и в небесах, в замке и во дворе, в хозяйстве и в лице Короля то, что никак не может вспомнить. Что это, чего она так ищет в этом странном месте? Мгновение назад она знала это, но сейчас забыла.
Она обратила свое лицо к Молли Грю, и глаза ее не были глазами единорога. Они по–прежнему были милы, но у этой красоты теперь было имя — именно так бывает прекрасна человеческая женщина. Их глубину можно было измерить и постичь, а густоту их тьмы вполне можно было описать. Молли видела в них страх, утрату и ошеломление — и саму себя. И больше ничего.
— Единороги, — сказала она. — Красный Бык угнал их всех — кроме тебя. Ты — последний единорог. Ты пришла сюда, чтобы найти остальных и освободить их. Это ты и сделаешь.
Глубокое, потаенное море медленно вернулось в глаза Леди Амальтеи, наполняя их, пока они вновь не стали такими же старыми, темными, непознаваемыми и неописуемыми, как и оно само. Молли видела, как это происходило, и боялась, но сжимала склоненные плечи еще крепче, словно ее руки могли притягивать отчаянье, как громоотвод. В этот миг по кухонному полу прошла дрожь звука, который ей приходилось слышать и раньше: будто громадные — коренные — зубы трутся друг о друга. Это во сне ворочался Красный Бык. Снятся ли ему сны? — подумала Молли.
Леди Амальтея сказала:
— Я должна пойти к нему. Другого пути нет — и времени тоже нет. Либо в этом облике, либо в моем собственном, но я снова должна встретиться с ним лицом к лицу — даже если весь мой народ погиб, и спасать больше некого. Я должна пойти к нему прежде, чем забуду себя навсегда, но я не знаю пути, и я одинока.
Маленький кот взмахнул хвостом и издал странный звук, который не был ни мяуканьем и ни мурлыканьем.
— Я пойду с тобой, — сказала Молли. — Я тоже не знаю дороги вниз, к Быку, но она должна где–то быть. И Шмендрик пойдет. Он проложит нам путь, если мы не сможем отыскать его сами.
— Я не надеясь ни на какую помощь от волшебника, — презрительно ответила Леди Амальтея. — Я каждый день вижу, как он валяет дурака перед Королем Хаггардом, развлекая того своими промахами и неудачами даже в самых пустяковых трюках. Он говорит, что больше он ничего не может сделать, пока сила вновь не заговорит в нем. Но она никогда в нем не заговорит. Он теперь не волшебник, а шут Короля.
У Молли вдруг заболело лицо, и она отвернулась, чтобы еще раз проверить, что там с супом. Преодолевая остроту в горле, она ответила:
— Он это делает ради тебя. Пока ты раздумываешь, хандришь и становишься кем–то другим, он кривляется и паясничает перед Хаггардом, отвлекая его, чтобы у тебя было время найти свой народ, если их еще можно найти. Но это не может тянуться долго, и Королю он скоро надоест, как и все остальное, и он заточит его в свое подземелье или в какое–нибудь место помрачнее. Ты неверно поступаешь, когда смеешься над ним. — Ее голос был по–детски тонок, печален и невнятен. — Но с тобою этого никогда не произойдет. Тебя все любят.
У них был миг, чтобы взглянуть друг на друга: две женщины, одна — прекрасная и чужеземная в холодной и низкой каморке, другая — в такой обстановке, как дома, рассерженный маленький жук со своей особой кухонной красотой. Затем они услышали царапанье сапог, позвякивание амуниции и порывистые голоса стариков. Войско Короля Хаггарда в составе четырех тяжеловооруженных всадников ввалилось в каморку за кухней.
Всем им было, по меньшей мере, лет по семьдесят, они были худы и хрупки, как снежный наст и к тому же хромали, но все были облачены в хаггардову жалкую броню с головы до пят и в руках держали его кривое оружие. Они вошли, бодро приветствуя Молли Грю — и спрашивая, что она приготовила им на ужин, но, завидев Леди Амальтею, все четверо вдруг стали очень тихи и склонились перед нею в глубоких поклонах, заставивших их закряхтеть.
— Моя Леди, — сказал самый старый из них всех, — распоряжайся своими слугами. Мы — использованные люди, траченые люди, но если ты пожелаешь увидеть чудеса, то тебе надо будет лишь потребовать от нас невозможного. Мы снова станем молодыми, стоит тебе только этого пожелать. — Три его сотоварища что–то промычали в знак согласия.
Но Леди Амальтея в ответ лишь прошептала:
— Нет–нет, вы никогда больше не будете молоды. — И бежала от них, и ее дикие, ослепительные волосы скрывали ее лицо, а атласная мантия свистела за нею вслед.
— Как она мудра! — провозгласил старейший всадник. — Она понимает, что даже ее красота не может тягаться со временем. Это редкая, печальная мудрость для девы столь юной. Суп пахнет восхитительно, Молли.
— Он пахнет даже чересчур вкусно для этого места, — проворчал второй солдат, пока они усаживались за стол. — Хаггард ненавидит хорошую еду. Он говорит, что ни одна еда не бывает хороша настолько, чтобы оправдать те деньги и усилия, которые были потрачены на то, чтобы ее приготовить. «Вс — иллюзия, — говорит он, — и пустая растрата. Живите, как я, необманутыми.» Бр–р–р–р–а–ххх!.. — Он содрогнулся и скорчил гримасу. Остальные засмеялись.
— Жить, как Хаггард, — произнес еще один всадник, когда Молли наливала суп в его тарелку. — Такова будет моя участь в следующем мире, если я не буду хорошо себя вести в этом.
— Почему же вы тогда остаетесь у него на службе? — решительно спросила у них Молли. Она тоже села к столу и оперлась подбородном о сложенные руки. — Жалованья он вам не платит, а кормит настолько скудно, насколько смеет. В самую дурную погоду он посылает вас красть для него в Хагсгейте, ибо никогда не тратит ни гроша из своего богатства, что у него заперто в крепкой комнате. Он запрещает вс — от людей до лютней, от шарманок до ярмарок, от костров до постов, от пенья до прегрешенья; от пива, от книг и от болтовни до игр, до шнурков и до первой весны. Почему не бросить его? Что в целом мире удерживает вас здесь?
Четверо стариков нервно переглянулись, вздыхая и покашливая. Первый вымолвил:
— Все дело в наших годах. Куда еще мы можем пойти? Мы слишком стары, чтобы бродить по дорогая в поисках работы и пристанища.
— Все дело в нашем возрасте, — сказал второй всадник. — Когда ты стар, все, что тебя не беспокоит, — уже удобство. Холод, тьма и скука давным–давно утратили для нас свои острые края, но тепло, пение, весна — нет, все они по–прежнему будут причинять беспокойство. Есть худшие вещи, нежели жизнь с Хаггардом.
Третий человек сказал:
— Хаггард старше нас. Со временем Принц Лир станет в этой стране королем, и я не покину этого мира, пока не увижу тот день. Мальчик мне всегда нравился — с тех самых пор, как он был маленьким.
Молли поняла, что не хочет есть. Она оглядывала лица стариков и слушала, как швами своих губ и усохшими глотками они хлебают ее суп, — и вдруг обрадовалась, что Король Хаггард всегда ест в одиночестве. Молли непременно начинала заботиться обо всех, кого кормила.
Осторожно она спросила у них:
— А вы когда–нибудь слышали сказку про то, что Принц Лир — вовсе никакой не племянник Короля Хаггарда, взятый им на воспитание?
Всадники не выказали удивления:
— Да, — ответил самый старый. — Мы знаем эту историю. Очень может быть, что это правда, поскольку Принц, конечно, не обладает никаким фамильным сходством с Королем. Ну и что с того? Лучше, если землями будет править украденный чужак, чем настоящий сын Короля Хаггарда.
— Но если Принца выкрали из Хагсгейта, — воскликнула Молли, — то он — как раз тот человек, который исполнит проклятие, наложенное на этот замок! — И она повторила стих, который услышала от Дринна в хагсгейтском трактире:
Но старики лишь покачали головами, обнажая в улыбках зубы, такие же ржавые, как их шлемы и нагрудники.
— Только не Принц Лир, — произнес третий. — Принц может убить хоть тысячу драконов, но ни один замок с землей он ровнять не станет, королей скидывать — тоже. Не в его это натуре. Он — послушный сын, который стремится — увы! — всего лишь быть достойным того человека, которого называет своим отцом. Только не Принц Лир. В стишке, должно быть, говорится о ком–то другом.
— А даже если бы Принц Лир и был этим человеком, — прибавил второй, — и даже если бы проклятье избрало его своим посланником, у него все равно бы ничего не получилось. Ибо между Королем Хаггардом и всеми Судными Днями на свете стоит Красный Бык.
В комнату вломилось молчание и осталось в ней, накрыв все лица своей яростной тенью и остудив своим дыханием хороший горячий суп. Маленький осенний кот прекратил мурлыкать на коленях у Молли, а тощий кухонный огонь пригнулся в своем очаге. Холодные стены каморки, казалось, сошлись еще теснее.
Четвертый всадник, молчавший до сих пор, обратился к Молли Грю через разделившую их тьму:
— Есть настоящая причина, по которой мы остаемся в услужении у Хаггарда. Он не желает, чтобы мы уходили, а то, чего Король Хаггард желает или чего не желает, — единственная забота Красного Быка. Мы — любимцы Хаггарда, но пленники Быка.
Рука Молли, гладившая кота, не дрогнула, но голос был стеснен и сух, когда она спросила:
— А кто Красный Бык Королю Хаггарду?
Ответил самый старый всадник:
— Мы этого не знаем. Бык всегда был здесь. Он служит Хаггарду и армией, и оплотом. Он — и его сила, и источник этой силы. И он, должно быть, — единственный его соратник, ибо Король временами спускается в его логово по какой–то потайной лестнице. Но повинуется он Хаггарду по своему собственному выбору или же из симпатии, и кто из них настоящий хозяин — Король или Бык, — этого мы никогда не знали.
Четвертый человек, самый молодой из них всех, склонился к Молли Грю, и его розовые влажные глаза вдруг стали настойчивыми. Он сказал:
— Красный Бык — это демон, и за все его услужение Хаггард однажды заплатит собой.
Кто–то перебил его, настаивая, что есть ясные свидетельства тому, что Бык — это заколдованный слуга Хаггарда, что он так и останется Быком, пока не уничтожат и его прежнего повелителя, и то колдовство, которое все это скрепляет. Всадники начали кричать и разливать суп.
Но тут Молли задала еще один вопрос — не громко, но так, что все они замолчали:
— Вы знаете, что такое единорог? Вы его когда–нибудь видели?
Из всего живого, что находилось в маленькой каморке, только кот и тишина взглянули на нее в ответ с каким–то пониманием.
Четыре человека моргали, рыгали и терли глаза. Глубокий, беспокойно спавший Бык вновь заворочался.
Покончив с едой, королевские всадники отсалютовали Молли и вышли из каморки: двое отправились прямиком в свои постели, двое — нести ночной дозор под дождем. Самый старый подождал, пока уйдут остальные, и тихо сказал Молли:
— Берегись Леди Амальтеи. Когда она в самом начале пришла сюда, ее красота была столь велика, что даже этот проклятый замок стал прекрасным — словно луна, которая сама по себе — блестящий камень и больше ничего. Но она здесь уже слишком долго. Теперь она так же прекрасна, как и всегда, но залы и крыши, что удерживают ее здесь, от ее присутствия стали как–то гаже. — Он протяжно вздохнул, и вздох его окончился обтрепанным хныканьем. — Я знаком с таким видом красоты, — продолжал он, — но никогда не видел такого сорта. Будь с нею поосторожнее. Ей следует отсюда уйти.
Оставшись одна, Молли спрятала лицо в спутанную шерстку маленького кота. Огонь в очаге трепетал низко, но она не вставала, чтобы подкормить его. Маленькие быстрые существа суматошно пробегали по каморке, издавая звуки, похожие на голос Короля Хаггарда, а дождь, как Красный Бык, рокотал, ударяясь о стены замка. Будто в ответ своим мыслям, она вдруг услышала Быка. Его рев расколол камни у нее под ногами, и она в отчаяньи схватилась за стол, чтобы удержать себя и кота и не броситься немедленно вниз, к Быку. Из ее груди вырвался вскрик.
Кот произнес:
— Он выходит. Он выходит каждый вечер на закате, чтобы охотиться на странного белого зверя, который смог от него спастись. Ты сама прекрасно это знаешь. Не будь глупой.
Изголодавшийся рев донесся снова, но уже издалека. Молли перевела дух и уставилась на маленького кота. Ее это поразило не так, как могло бы поразить кого–нибудь другого: в эти дни удивить ее было труднее, чем большинство женщин.
— И ты всегда умел разговаривать? — спросила она кота. — Или дар речи пришел к тебе при виде Леди Амальтеи?
Кот задумчиво лизал переднюю лапку.
— Мне захотелось поговорить при виде нее, да–а, — наконец, вымолвил он. — И давай на этом закончим. Значит, это и есть единорог. Она очень красива.
— Откуда ты знаешь, что она — единорог? — спросила Молли. — И почему ты боялся, что она тебя коснется? Я видела: ты ее боялся.
— Сомневаюсь, что мне захочется разговаривать очень долго, — беззлобно ответил кот. — На твоем месте я бы не тратил времени на глупости. Что же касается твоего первого вопроса, то ни один кот, только–только сбросивший свою первую шерстку, никогда не будет обманут внешней видимостью. Чего не скажешь о человеческих существах, которые получают от видимостей удовольствие. Что же касается твоего второго вопроса… — Тут он запнулся и внезапно весьма заинтересованно погрузился в умывание. И ничего не говорил до тех пор, пока не вылизал себя до полной пушистости, а потом — до полной гладкости. Но даже после этого он избегал смотреть на Молли, а предпочел исследовать собственные коготки. — Если бы она коснулась меня, — очень тихо произнес он, — то я бы стал принадлежать ей, а не самому себе. И никогда больше себе бы уже не принадлежал. Я хотел, чтобы она до меня дотронулась, но не мог позволить ей этого. Ни один кот этого не допустит. Мы позволяем людям ласкать нас, потому что это достаточно приятно и успокаивает их — но только не ее. Здесь цена больше, чем кот может заплатить.
Молли снова взяла его на руки, и он мурлыкал ей в шею так долго, что она уже начала бояться — вдруг мгновение его речи миновало. Но он, наконец, произнес:
— У тебя очень мало времени. Скоро она больше не сможет вспомнить, кто она такая и зачем пришла в это место, а Красный Бык больше не будет реветь по ней в ночи. Может статься, она выйдет замуж за хорошего принца, который любит ее. — Кот жестко ткнулся головой во внезапно остановившуюся руку Молли. — Сделай это, — приказал он. — Принц очень храбр, раз любит единорога. Коты могут по достоинству оценить доблестную нелепость.
— Нет, — ответила Молли Грю. — Нет, этого не может быть. Она — последняя.
— Ну что ж, тогда она должна сделать то, зачем пришла. Она должна спуститься к Быку путем Короля.
Молли причала его к себе так сильно, что он испустил мышиный писк протеста.
— Ты знаешь этот путь? — спросила она с такой же горячностью, с какой ей задавал свои вопросы Принц Лир. — Скажи мне, скажи, куда мы должны идти. — Она опустила кота на стол и убрала от него руки.
Тот долго ничего не отвечал, но его глаза, разгорались все ярче и ярче: золотое мерцание спускалось на них и затягивало собою зелень. Подергивалось только его вывернутое ухо, да черный кончик хвоста — и больше ничего.
— Когда вино пьет само себя, — произнес он, — когда начинает говорить череп, когда часы бьют верное время — только тогда ты найдешь ход, что ведет в логово Красного Быка. — Он засунул передние лапки себе под грудку и добавил: — Во всем этом есть одна ловушка, конечно.
— Готова спорить, — угрюмо согласилась с ним Молли. — Высоко на столбе в большом зале висит ужасный, крошащийся от старости череп, но какое–то время ему уже совершенно нечего сказать. Часы, что стоят неподалеку, давно обезумели и бьют, когда им заблагорассудится: полночь у них каждый час, семнадцать часов — в четыре, а может и вообще не быть ни звука целую неделю. А вино… О, котик, не проще ли просто показать мне этот ход? Ты же знаешь, где он, правда?
— Конечно, знаю, — ответил кот, блестнув зевком и свернув его в колечко. — Конечно, было бы проще просто показать тебе этот ход. Это сбережет много времени и хлопот…
Его голос превратился в сонное ворчание, и Молли поняла, что, как и сам Король Хаггард, кот начинает утрачивать интерес к происходящему. Поэтому она очень быстро спросила его:
— Тогда скажи мне одну вещь. Что стало с единорогами? Где они?
Кто снова зевнул.
— Близко и далеко, далеко и близко, — промурлыкал он. — Они в пределах видимости твоей Леди, но почти за пределами досягаемости ее памяти. Они подходят ближе — и они уходят прочь. — Он закрыл глаза.
Дыханье Молли стало внезапной веревкой, натиравшей пересохшее горло.
— Да будь ты проклят, почему же ты не хочешь мне помочь? — воскликнула она. — Почему ты всегда обязательно говоришь загадками?
Один глаз медленно открылся — зеленый и золотой, словно свет солнца в лесу:
— Я есть то, что я есть, — услышала Молли. — Я бы сказал тебе то, что ты хочешь знать, если бы смог, ибо ты была ко мне добра. Но я — кот, а ни один кот нигде и никогда не давал никому прямого ответа.
Его последние слова утонули в глубоком упорядоченном мурлыканье, и он так и уснул с приоткрытым глазом. Молли положила его к себе на колени, поглаживала его — и он мурлыкал во сне, но больше уже не разговаривал.
XI
Принц Лир вернулся домой через три дня после того, как отправился убивать великана, так любившего поедать девиц. Великий Топор Герцога Альбана висел у него за спиной, а у луки седла болталась голова людоеда. Ни один из этих призов он не предложил Леди Амальтее — он даже не бросился искать ее, не смыв с рук коричневой крови чудовища. Он окончательно решил (как он объяснил в тот вечер Молли Грю в каморке за кухней) больше никогда не беспокоить Леди Амальтею знаками своего внимания, но спокойно жить с мыслью о ней, прилежно служить ей до его собственной одинокой смерти, не требуя ни ее общества, ни ее восхищения, ни ее любви.
— Я буду безымянен, как воздух, которым она дышит, — говорил он, — невидим, как сила, что удерживает ее на поверхности земли. — Подумав немного, он добавил: — Может быть, время от времени я только буду писать ей стихотворение и подсовывать под дверь или же просто оставлять его где–нибудь, чтобы она его случайно нашла. Но я даже не стану его подписывать.
— Это очень благородно, — сказала Молли. Она почувствовала облегчение от того, что Принц решил оставить свои ухаживания. Помимо всего прочего, это ее развлекало и как–то печалило одновременно. — Девушкам стихи нравятся больше мертвых драконов и волшебных мечей, — высказала она предположение. — Мне, во всяком случае, всегда больше нравились, когда я была молода. Почему я сбежала с Шалли — так это как раз…
Принц Лир перебил ее, твердо заявив:
— Нет, не давайте мне надежды. Я должен научиться жить без надежды, как живет мой отец, и тогда, возможно, мы, наконец, поймем друг друга. — Он зарылся руками в карманы, и Молли услышала хруст бумаги. — Я, на самом деле, уже написал несколько стихов об этом — о надежде и о ней, и так далее. Если вы пожелаете, то можете взглянуть на них.
— Мне было бы очень приятно, — ответила Молли. — А ты, значит, никогда больше не будешь ездить сражаться с черными рыцарями и скакать сквозь кольца огня? — Она намеревалась слегка помучить его, но, не успев закрыть рта, поняла, что ей было бы немного жаль, если бы так и вышло в действительности, поскольку приключения сделали его намного привлекательней. Он значительно сбросил вес, а помимо этого вокруг него теперь витал какой–то мускусный аромат смерти, обычно сопровождающий всех героев.
Принц в ответ лишь покачал головой — он был почти смущен:
— О нет, наверное, я не оставлю этого занятия, — пробормотал он. — Но все это будет уже не напоказ, не для нее. Это сначала все было именно так, но затем спасение людей, разрушение чар, вызовы коварных герцогов на честный бой входят в привычку — трудно перестать быть героем, когда к этому привыкнешь. Вам нравится первое стихотворение?
— В нем, конечно, много чувства, — ответила Молли. — А разве можно рифмовать «цветущих» и «погибших»?
— Да, здесь нужно немного пригладить, — согласился Принц Лир. — Но меня больше всего беспокоит слово «парадокс».
— Да я и сама но знаю, стоит ли его рифмовать с «передовой»…
— Нет–нет, я о правописании. Там два «р» и «о» во втором случае или наоборот?
— Мне кажется, что в любом случае — одно «р», — сказала Молли. — Шмендрик, — обратилась она к волшебнику, который как раз сгибался, чтобы протиснуться в дверной проем, — сколько «р» в «парадоксе»?
— Два, — устало ответил тот. — Они однокоренные с «порядком». — Молли черпаком налила ему в миску супа, и он уселся за стол. Его глаза были жесткими и туманными, как нефрит. Одно веко подергивалось. — Я не смогу заниматься этим долго, — медленно вымолвил он. — Дело не в этом ужасном месте и не в том, что приходится все время его слушать — в этом я уже преуспел, — а в том балаганном вздоре, который он часами заставляет меня для него исполнять, а в прошлый раз — и всю ночь напролет. Я был бы не против, если б он требовал настоящего волшебства или хотя бы простых колдовских фокусов, но ему постоянно нужны только кольца и золотые рыбки, карты, шарфики и шнурки — то же самое, что было в Полночном Карнавале. Я так не могу. Больше не могу.
— Но это как раз то, ради чего он тебя взял, — запротестовала Молли Грю. — Если бы он хотел настоящей магии, он бы оставил себе старого колдуна, этого Мабрука. — Шмендрик поднял голову и наградил ее взглядом, в котором почти сквозило веселье. — Я не это имела в виду, — поспешила оправдаться она. — А к тому же, до того, как мы найдем ту дорогу к Красному Быку, о которой говорил кот, осталось уже недолго.
На последних словах она понизила голос до шепота, и они оба метнули быстрые взгляды в сторону Принца Лира. Но тот скорчился на табуретке в углу, где, очевидно, писал новое стихотворение.
— Газель, — бормотал он, постукивая карандашом по губам. — Мадмуазель, цитадель, асфодель, филомель, параллель…
Он выбрал «карусель» и лихорадочно зачиркал карандашом.
— Мы никогда не найдем этого пути, — спокойно сказал Шмендрик. — Даже если кот сказал тебе правду — в чем я сомневаюсь, — Хаггард позаботится о том, чтобы у нас никогда не было времени на изучение черепа и часов. Как ты думаешь, почему он каждый день нагружает тебя все большим и большим количеством работы, как не для того, чтобы не давать тебе рыскать и вынюхивать в большом зале? Как ты думаешь, почему он, не переставая, заставляет веселить себя карнавальными трюками? И почему он в самом начале взял меня на место колдуна? Молли, он знает — я в этом уверен! Он знает, что она такое, хотя пока не совсем в это верит. Но стоит ему в это поверить — будь спокойна, он поймет, что нужно делать. Он знает. Иногда я вижу это у него на лице.
— Подъем стремленья и упад утраты, — сказал Принц Лир. — И горечь тамти–памти–паты. Стаккаты, купаты, зарплаты. Ч–черт.
Шмендрик перегнулся через стол:
— Мы не можем оставаться здесь и ждать, пока он нанесет первый удар. Единственная наша надежда — это бежать, бежать ночью, возможно, морем, если мне удастся раздобыть где–нибудь лодку. Королевские всадники будут смотреть в другую сторону, а ворота…
— Но остальные! — тихо вскрикнула Молли. — Как мы можем уйти, когда она пришла в такую даль, чтобы найти остальных единорогов, и мы знаем, что они здесь? — И все же одна крохотная, нежная, предательская ее часть внезапно преисполнилась желанием убедиться в том, что их поход не удался. Она знала это и рассердилась на Шмендрика. — Ну, а как насчет твоей магии? — спросила она. — Как насчет твоего собственного маленького странствия? Ты и от него хочешь отказаться? И она так и умрет в человеческом обличье, а ты так и будешь жить вечно? С таким же успехом ты мог в тот раз отдать ее Быку.
Волшебник осел на место, и лицо его стало таким же белым и смятым, как пальцы прачки.
— На самом деле, это не имеет значения — будет оно так или иначе, — произнес он почти про себя. — Она теперь не единорог, а смертная женщина, о которой вон тот олух может вздыхать и сочинять стихи. Может быть, Хаггард ее в конце концов и разоблачит. Она станет его дочерью, и он никогда ничего не узнает.. Это смешно. — Он отодвинул нетронутый суп и уронил голову на руки. — Я не смог бы снова превратить ее в единорога, если бы даже и в самом деле нашли остальных. Во мне нет магии.
— Шмендрик… — начала она, но в этот миг волшебник вскочил на ноги и рванулся прочь из каморки, хотя она не слышала, как Король позвал его. Принц Лир даже не поднял головы — он продолжал отстукивать метры и отбирать рифмы. Молли повесила над очагом чайник, чтобы вскипятить чай для часовых.
— У меня уже все готово, кроме последнего куплета, — наконец сказал Лир. — Вы хотите послушать прямо сейчас или лучше подождете?
— Как тебе больше нравится, — ответила она, и тот прочитал ей вс сразу, но она не слышала из этого ни слова. К счастью, королевские всадники вошли прежде, чем он добрался до конца, а он слишком робел, чтобы спрашивать ее мнение в их присутствии. К тому времени, как они снова ушли, он уже работал над чем–то новым, и было очень поздно, когда он пожелал ей спокойной ночи и откланялся. Молли осталась сидеть за столом, держа на руках своего разноцветного кота.
Новое стихотворение должно было стать секстиной, и голова Принца Лира счастливо позвякивала, пока он жонглировал окончаниями строк по пути наверх, в свои покои. Я оставлю первое у нее под дверью, думал он, а остальные приберегу на завтра. Он как раз ставил под сомнение свое первоначальное решение не подписывать собственных работ и играл такими литературными псевдонимами, как «Рыцарь Теней» и «Le Chevalier Mal–Aime»,когда свернул за угол и встретил Леди Амальтею. Та быстро спускалась в темноте по лестнице, а когда увидела его, то испустила странный блеющий звук и неподвижно застыла тремя ступеньками выше него.
На ней был ночной халат, украденный одним из людей Короля для нее в Хагсгейте. Ее волосы были распущены, а ноги босы, и при виде нее такая печаль обвилась вокруг костей Принца Лира, что он уронил и свои стихи, и свои претензии и чуть было впрямь не бросился бежать. Но при этом он оставался героем во всех отношениях и поэтому смело развернулся к ней лицом, говоря спокойно и учтиво:
— Желаю вам доброго вечера, моя Леди.
Леди Амальтея же, не отрываясь смотрела на Принца в этом мраке, протягивая вперед руку, — но все–таки отдернула ее прежде, чем коснуться его.
— Кто ты? — прошептала она. — Ты — Рух?
— Я Лир, — вдруг испугавшись, ответил тот. — Разве вы не узнаете меня?
Но она отпрянула, и Принцу показалось, что шаги ее стали стремительными шагами животного, и что она даже опустила голову, как это делают козы или олени.
— Я — Лир, — повторил он.
— Старуха… — сказала Леди Амальтея. — Луна погасла. Ах!
— Ее охватила моментальная дрожь, но глаза потом все–таки признали его. Однако, ее тело оставалось все таким же диким и осторожным, и ближе она не подходила.
— Вы грезили, моя Леди, — сказал он, вновь обретя дар рыцарской речи. — Желал бы я знать, о чем были ваши грезы.
— Мне это снилось и прежде, — медленно вымолвила она. — Я была в клетке, и там были другие — звери в клетках и старуха. Но я не стану беспокоить вас, мой Лорд Принц. Мне это прежде снилось уже много раз.
Тут она бы его и покинула, но он заговорил с ней тем голосом, который бывает только у героев — так у многих животных появляется особый клич, когда они становятся матерями:
— Сон, приходящий столь часто, — скорее всего, посланник. Он призван предупредить вас о будущем или же напомнить о вещах, позабытых прежде времени. Скажите мне больше, если желаете, и я попытаюсь разгадать для вас этот сон.
При этих словах она остановилась, слегка повернув голову и глядя на него так, словно какое–то стройное мохнатое существо выглядывало из чащобы. Но в ее глазах была человеческая утрата, будто она потеряла что–то необходимое ей или вдруг поняла, что этого необходимого у нее никогда не было. Если бы он хотя бы моргнул, она бы убежала. Но он не моргал, а удерживал ее своим постоянным взглядом, как уже научился держать без движения грифонов и химер. Ее босые ноги причиняли ему больше боли, чем любые бивни или разрывающие тело когти, — но он был настоящим героем.
Леди Амальтея сказала:
— В этом сне есть черные фургоны с клетками и звери, которых нет и которые есть, и крылатая тварь, которая звенит, как металл при свете луны. У высокого человека — зеленые глаза и руки в крови.
— Высокий человек — это, должно быть, ваш дядюшка, волшебник, — размышлял вслух Принц Лир. — Во всяком случае, с этой частью все ясно, и окровавленные руки меня нисколько не удивляют. Мне его вид никогда особенно не нравился, если вы простито мне такие слова. И это весь сон?
— Я не могу рассказать вам его целиком, — промолвила она. — Он никогда не кончается. — В ее глаза вернулся страх, как будто в пруд упал огромный камень: все было затянуто тучами и вихрилось, и везде мелькали быстрые тени. — Я бегу прочь из хорошего места, где мне было безопасно, и ночь пылает вокруг меня. Но это еще и день, и я иду под буками, под теплым, чуть кисловатым дождем, и там есть мотыльки, и медовый звук, и испещренные пятнами дороги, и городки, как рыбьи кости, и летающая тварь убивает старуху. Я все бегу и бегу в замерзающий огонь, куда бы ни свернула, и мои ноги — ноги зверя…
— Леди, — прервал ее Принц Лир, — моя Леди, с вашего позволения, не надо больше. — Ее сон начинал сгущаться и приобретать какую–то темную форму прямо между ними, и ему вдруг не захотелось знать, что же он означает. — Больше не надо.
— Но я должна продолжать, — говорила Леди Амальтея, — ибо он никогда не кончается. Даже когда я просыпаюсь, я не могу сказать, что реально, а что мне приснилось. Пока я двигаюсь, говорю, обедаю, я помню то, что никак не могло произойти, и забываю то, что случается со мною сейчас. Люди смотрят на меня, как будто я должна их знать, и я в самом деле знаю их — во сне, и огонь постоянно подбирается ближе и ближе, хотя я не сплю…
— Не надо больше, — в отчаяньи вымолвил он. — Этот замок построила ведьма, и часто разговоры о кошмарах только пробуждают эти кошмары к жизни. — Его бросил в дрожь не сам ее сон, а то, что она не плакала, рассказывая его. Будучи героем, он понимал плачущих женщин и знал, что нужно сделать, чтобы они плакать перестали (в общем и целом надо было что–то просто убить), но ее спокойный ужас смущал и обескураживал его, пока очертания ее лица сминали то отдаленное достоинство, поддержанием которого он был так доволен. Когда он заговорил вновь, его голос был молод и неуверен:
— Я бы ухаживал за вами с большим приличием, если бы знал, как мои драконы и мои подвиги утомляют вас, но они — это все, что я могу вам предложить. Я — герой лишь с недавних пор, а прежде, чем стать им, я вообще никем не был — никем, скучным, мягкотелым папенькиным сынком. Возможно, я и сейчас скучен, только по–другому, но я — здесь, и с вашей стороны неверно было бы ни к чему меня не приспособить. Я хочу, чтобы вы пожелали от меня чего–нибудь. Не обязательно доблестное деяние — что–нибудь, лишь бы оно было полезным.
И тогда Леди Амальтея улыбнулась ему — впервые с тех самых пор, как пришла и осталась в замке Короля Хаггарда. Маленькая улыбка, подобная новорожденной луне, легкий изгиб яркости на краешке невидимого, но Принц Лир склонился к ней, чтобы согреться. Он взял бы эту улыбку в ладони и своим дыханием раздул ее — если бы посмел.
— Спойте мне, — попросила она. — В этом как раз и будет доблесть — возвысить голос в этом одиноком, темном месте, и польза тоже будет. Спойте мне, спойте громко — потопите все мои сны, не давайте мне вспоминать, что бы там, внутри, ни хотело, чтобы я его вспоминала. Спойте мне, мой Лорд Принц, если вам это угодно. Это может показаться вам совсем не героическим деянием, но я буду рада ему.
И Принц Лир жадно запел на той холодной лестнице, и множество влажных, никогда никем не виденных существ зашлепали и затопотали в свои укрытия от дневной веселости его голоса. Он пел первые слова, пришедшие к нему, и слова эти были такими:
Когда он закончил. Леди Амальтея рассмеялась, и ее смех, казалось, заставил старую–престарую тьму замка с шипом отползти прочь от них обоих.
— Это оказалось полезным, — оказала она. — Благодарю вас, мой Лорд.
— Не знаю, почему я спел именно ее, — попытался неуклюже оправдаться Принц Лир. — Один из людей моего отца, бывало, пел ее мне. На самом деле, я в нее не верю. Я думаю, что любовь сильнее привычек или обстоятельств. Я думаю, что себя можно долго хранить для кого–то — и по–прежнему помнить, зачем ждешь, когда кто–то, наконец, приходит.
Леди Амальтея снова улыбнулась, но ничего не ответила, и Принц еще на шаг приблизился к ней. Поражаясь собственной смелости, он тихо сказал:
— Я бы хотел войти в ваши грезы, если бы мог, и охранять вас там, и убить ту тварь, что преследует вас, — как я бы сделал, если бы у нее достало мужества встретиться со мной лицом к лицу при свете ясного дня. Но я не могу войти туда, пока сам не приснюсь вам.
Прежде, чем она заговорила — если она вообще собиралась это сделать, — где–то внизу на спирали лестницы раздались шаги, и голос Короля Хаггарда словно бы из–под вуали произнес:
— Я слышал, как он пел. Что это за дела у него такие, если он поет?
И голос Шмендрика, королевского волшебника, покорный и поспешный:
— Сир, это было всего лишь какое–то героическое лэ, какая–то chanson de geste из тех, что он часто поет, когда скачет к славе или с победой возвращается домой. Успокойтесь, Ваше Величество…
— Он никогда здесь не поет, — ответил Король. — Он продолжительно распевает в своих дурацких скитаниях — в этом я уверен, потому что так делают все герои. Но сейчас он пел здесь, и вовсе не о битве или доблести, но о любви. Где она? Я знал, что он поет о любви еще до того, как услышал его, ибо сами камни содрогнулись, как они содрогаются всякий раз, когда в земле ворочается Бык. Где она?
Принц и Леди Амальтея посмотрели во тьме друг на друга и в то же мгновение оказались совсем рядом, хотя никто из них не пошевелился. Вместе с этим пришел страх Короля, ибо что бы ни родилось сейчас меж ними, именно оно могло оказаться тем, чего тот желал. Лестничная площадка у них над головами выходила в коридор. Вместе они повернулись и бросились бежать, хоть дальше собственного дыхания во тьме не могли различить ничего. Ее шаги были столь же неслышны, сколь те обещания, что она дала ему, а его тяжелые сапоги звенели, как и полагается звенеть сапогам на каменном полу. Король Хаггард не бросился за ними в погоню — нет, его голос шелестел по залу им вслед, заглушаемый лишь словами волшебника:
— Мыши, мой Лорд, — вне всякого сомнения. К счастью, я обладаю одним заклинанием против…
— …Пусть бегут, — говорил Король. — Меня устраивает, что они бегут.
И тогда они замерли там, где остановились, и снова посмотрели друг на друга.
Так зима, подвывая, тащилась себе дальше — вовсе ни к какой не весне, а прямо к короткому жадному лету страны Короля Хаггарда. Жизнь в замке продолжалась в молчании, которое заполняет то место, где никто ни на что не надеется. Молли Грю готовила и стирала, терла до чистоты камень, чинила латы и точила мечи. Она рубила дрова, молола муку, скребла лошадей и мыла их стойла, плавила краденое золото и серебро для королевских сундуков и лепила кирпичи без соломы. А по вечерам, прежде, чем улечься в конце концов спать, она прочитывала все новые стихи Принца Лира к Леди Амальтее, хвалила их и исправляла грамматические ошибки.
Шмендрик дурачился, паясничал и жульничал, как того хотел Король, ненавидя свое занятие, зная, что Хаггард знает, что он его ненавидит, и получая от этого свое маленькое удовольствие. Он больше никогда не предлагал Молли бежать из замка до тех пор, пока Хаггард не удостоверится в истинности Леди Амальтеи, — но и не стремился обнаружить тайный путь вниз, к Красному Быку, даже когда ему выпадало свободное время. Казалось, он сдался — не Королю, а какому–то гораздо более старому и жестокому врагу, наконец, настигшему этой зимой именно его и именно здесь.
Леди Амальтея становилась настолько же прекрасней с каждым днем, насколько этот каждый день был суровее и мрачнее предыдущего. Когда промокшие и замерзшие старые королевские всадники спускались вниз после своих дозоров под дождем или уставшие приходили после воровских налетов во имя Короля, то, словно цветы, тихо раскрывались, встретив ее на лестницах или в залах. Она обычно улыбалась и нежно с ними заговаривала; но стоило ей пройти дальше, как замок сразу же начинал казаться еще темнее, чем обычно, а ветер снаружи громыхал в густых небесах, будто простыня на бельевой веревке. Ибо красота Леди Амальтеи была человеческой и обреченной, и старики в ней не могли отыскать успокоения. Они лишь могли туже запахнуться в свои насквозь мокрые плащи и хромать себе дальше,вниз, к маленькому очагу в каморке за кухней.
Но Леди Амальтея и Принц Лир бродили, говорили и пели вместе настолько блаженно и беспечно, будто замок Короля Хаггарда вдруг обернулся им зеленым лесом, диким и тенистым от наступившей весны. Они карабкались на самые верхушки перекрученных башен, устраивали пикники на каменных лужайках под каменным небосводом, плескались вверх и вниз по лестницам, что стекали и сбегали вниз ручейками. Он рассказывал ей все, что знал сам, и что думал обо всем этом, и счастливо изобретал для нее жизнь, и придумывал за нее суждения об этой жизни, и она, слушая его, помогала ему в этом. Нет, она его не обманывала, ибо действительно не помнила ничего до замка и до него. Она начиналась и заканчивалась Принцем Лиром — если не считать снов, а сны вскоре тускнели, как он и предсказывал.
Ночами они теперь редко слышали охотничий рев Красного Быка, но стоило этому голодному звуку достичь ее слуха, как она опять начинала бояться, и стены вместе с зимой снова вырастали вокруг них, словно она сама творила их весну как подарок ее радости Принцу. В такие времена он держал ее в своих объятьях, хотя уже давно знал об ее ужасе перед прикосновением.
Однажды днем Леди Амальтея стояла на самой высокой башне замка и смотрела, как Принц Лир возвращается из экспедиции против зятя того великана–людоеда, которого когда–то убил: он все так же выезжал иной раз на подвиги, как и обещал в свое время Молли Грю. Грязно–мыльное небо громоздилось над долиной Хагсгейта, но дождя не было. Далеко внизу море скатывалось к горизонту жесткими полосами серебра, зелени и бурых водорослей. Уродливые прибрежные птицы не знали покоя: они часто взлетали по двое и по трое, описывали в воздухе над водой быстрые круги и возвращались, чтобы вышагивать себе дальше по песку, пофыркивая и искоса поглядывая на замок Короля Хаггарда высоко на утесе:
— Что вам говорили, что вам говорили!
Прилив достиг высшей точки и уже грозил отливом.
Леди Амальтея запела, и ее голос, подрагивая, балансировал в медленном холодном воздухе, будто еще одна птица:
Она не могла вспомнить, слышала ли эту песню прежде, но слова щипали и дергали ее, как дети, которым хотелось притащить ее в какое–то место, чтобы взглянуть на него еще разок. Она повела плечами, чтобы избавиться от них.
— Но я вовсе не стара, — сказала она себе, — и я — не пленница. Я — Леди Амальтея, возлюбленная Лира, который вошел в мои сны затем, чтобы я не сомневалась в себе, даже когда сплю. Где я могла выучить песню печали? Я — Леди Амальтея, и я знаю только те песни, которым меня научил Лир.
Она подняла руку, чтобы коснуться отметины у себя на лбу. Море покачивалось внизу, спокойное, как Зодиак, а уродливые птицы кричали. Ее немножко тревожило, что эта отметина никак не хотела исчезать.
— Ваше Величество,. — произнесла она, хотя не раздалось ни звука. Потом услышала шелест усмешки за спиной и обернулась к Королю. Поверх кольчуги он был закутан в серый плащ, по голова оставалась непокрытой. Черные линии на лице показывали, где по жесткой коже скользили ногти времени, но на вид он выглядел крепче, чем его сын, — и более дико.
— Ты слишком быстра для того, что ты есть, — сказал он, — но медленна для того, чем ты, я думаю, была. Говорят, что любовь ускоряет мужчин, но замедляет женщин. Я быстро поймаю тебя, если ты будешь любить еще сильнее.
Ничего не ответив, она улыбнулась ему. Она никогда не знала, как нужно отвечать этому бледноглазому старцу, которого видела очень редко — если вообще не считать его каким–то единственным движением по краю того одиночества, что она делила с Принцем Лиром. Но латы уже подмигивали в глубине долины, и она слышала топот усталой лошади, со скрежетом спотыкавшейся о камни.
— Ваш сын возвращается домой, — молвила она. — Давайте посмотрим на него вместе.
Король Хаггард медленно подошел к ней и встал рядом у парапета, но крошечной блестящей фигурке, ехавшей домой, уделил не более мимолетного взгляда.
— Нет же, воистину, какое отношение имеем я или ты к Лиру? — спросил он. — Он вовсе не мой — ни по рождению, ни по владению. Я подобрал его там, куда его положил кто–то другой. Я всегда думал, что никогда не был счастлив, и у меня никогда не было сына. Сначала это было довольно приятно, но быстро умерло. Все вещи умирают, когда я их подбираю. Я не знаю, почему, но так было всегда — кроме одного, самого дорогого владения моего, которое не остыло и не потускнело, пока я его берег, кроме единственной вещи, которая когда–либо принадлежала мне. — Все его мрачное лицо вдруг вспыхнуло внезапным голодом, как захлопнувшаяся ловушка. — И Лир не поможет тебе найти эту вещь. Он никогда и не знал, что это такое.
Без предупреждения весь замок запел, как отпущенная струна: это зверь, спавший в его корнях, заворочался всем своим тяжким весом. Леди Амальтея легко поймала равновесие, уже успев хорошо привыкнуть к таким сотрясениям, и светло произнесла:
— Красный Бык. Но почему вы думаете, что я пришла украсть у вас быка? У меня нет королевства, чтобы его беречь, у меня нет и желания ничего завоевывать. Что мне с ним делать? Сколько он ест?
— Не насмехайся надо мною! — отвечал Король. — Красный Бык принадлежит мне не больше, чем мальчишка, он не ест, и его невозможно украсть. Он служит любому, у кого нет страха — а у меня страха не больше, чем покоя.
И все же Леди Амальтея успела заметить, как предчувствия скользят по длинному серому лицу и торопливо прячутся в тенях бровей и впадинах между костями.
— Не насмехайся надо мной, — повторил он. — Зачем ты притворяешься, будто забыла цель своего странствия, а я должен напомнить тебе о ней? Я знаю, зачем ты пришла, а ты великолепно знаешь, что у меня это есть. Бери его тогда, бери, если сможешь взять, — но не смей тогда сдаваться! — Все его черные морщины встали на свои лезвия, словно ножи.
Подъезжая к замку, Принц Лир пел, хотя Леди Амальтея еще не могла расслыщать слов. Она спокойно сказала Королю:
— Мой Лорд, во всем вашем замке, во всем вашем царстве, во всех королевствах, которые Красный Бык еще может принести вам, есть только одно, чего я желаю. Вы сами только что сказали мне, что он вам не принадлежит, и вы не можете его мне отдать — или оставить себе. Чем бы ни было то, чем вы больше всего дорожите, но если это самое дорогое — не он, то я желаю вам радости обладания этим чем–то. Доброго дня вам, Ваше Величество.
Она направилась к лестнице, уводившей с башни вниз, но Король встал у нее на пути, и она приостановилась, смотря на него глазами, темными, словно следы копыт в снегу. Серый Король улыбнулся, и странная доброта к нему на мгновение остудила ее, ибо ей внезапно представилось, что они с ним как–то похожи. Но потом Король сказал:
— Я знаю тебя. Я почти узнал тебя сразу же, когда увидел на дороге — когда ты еще шла к моей двери со своей кухаркой и своим шутом. С тех самых пор в тебе нет ни одного движения, которое бы тебя не выдавало. Поступь, взгляд, поворот головы, вспышка горла, когда ты дышишь, даже то, как ты стоишь совершенно неподвижно — все это мои шпионы. Ненадолго ты заставила меня недоумевать — это правда, и я по–своему за это благодарен. Но твое время прошло.
Он через плечо глянул в сторону моря и вдруг шагнул к парапету с юношеской безумной грацией.
— Наступает отлив, — сказал он. Подойди и посмотри. Иди сюда. — Он говорил очень мягко, но его голос вдруг схватил нотки плача уродливых птиц на берегу. — Подойди же сюда, — яростно произнес он. — Подойди, я не трону тебя.
Принц Лир между тем пел:
Ужасная голова, притороченная к седлу, подпевала ему вторым голосом — каким–то басовым фальцетом. Леди Амальтея подошла к Королю.
Волны подкатывались под густым, вихрившимся небом, распухая при движении и вырастая медленно, точно деревья. У берега они приседали, выгибая спины все выше и круче, а затем набрасывались на сушу так неистово, будто пойманные в загон звери прыгали на стену и падали обратно с рычащими всхлипами для того, чтобы опять и опять прыгать, царапая эту стену спекшимися и ломающимися костями; а уродливые птицы вопили все так же скорбно. Волны были серыми и зелеными, как голуби, до тех пор, пока не разбивались, — а потом они становились цвета волос, которые ветер трепал и у нее перед глазами.
— Вон там, — где–то совсем рядом произнес странный высокий голос. — Вон они. — Король Хаггард ухмылялся ей и показывал вниз, на белую воду. — Вон они. — Он смеялся, как испуганное дитя. — Вон они. Скажи, что они — не твой народ, скажи, что ты пришла не за ними. Ну, скажи же, что ты осталась в моем замке на всю зиму из любви.
Он не мог ждать, пока она ответит, и отвернулся, чтобы смотреть на волны. Его лицо невероятно преобразилось: восторг расцветил унылую кожу, он круглился на скулах, размягчал натянутый тетивой рот.
— Они — мои, — мягко вымолвил он. — Они принадлежат мне. Красный Бык собрал их для меня по одному, и я упросил его загнать каждого в море. Может ли быть место лучше для того, чтобы держать единорогов, — и какая еще клетка удержит их? А Бык их сторожит — во сне ли, наяву ли, уже очень давно запугав их сердца. Теперь они живут в море, и каждый прилив по–прежнему не доносит их до берега на один–единственный легкий шаг, и они не осмеливаются сделать этот шаг, они не смеют выйти из воды. Они боятся Красного Быка.
Уже совсем близко Принц Лир пел:
Руки Леди Амальтеи сомкнулись на парапете. Ей хотелось, чтобы Принц подъехал быстрее, ибо теперь знала наверняка, что Король Хаггард безумен. Под ними лежал тонкий, болезненно–желтый пляж, скалы, прилив — и больше ничего.
— Мне нравится наблюдать за ними. Они наполняют меня радостью. — Детский голосок почти что пел. — Я уверен, что это радость. Первый раз, когда я это ощутил, то подумал, что умру. В ранних утренних тенях их было двое: один пил из ручья, а второй стоял рядом, положив голову ему на спину. Я думал, что умру. Я сказал Красному Быку: «У меня это должно быть. У меня должны быть они все — все, что только есть на свете, ибо моя нужда в них очень велика». Поэтому Бык поймал их всех, одного за другим. Ему безразлично. Ему было бы все равно, если б я захотел постельных клопов или крокодилов. Он может различать только то, чего я хочу, и то, чего я не хочу.
На мгновение он забыл о ней, перегнувшись через низкий парапет, и она бы могла сбежать с башни вниз. Но она осталась, ибо старый страшный сон неумолимо просыпался вокруг нее, хотя стоял день. Прибой разбивался о камни и снова собирался воедино, и Принц Лир ехал себе дальше, распевая:
— Я полагаю, что был молод, когда впервые увидел их, — сказал Король Хаггард. — Теперь я, должно быть, стар: по крайней мере, я подобрал намного больше вещей, чем у меня было тогда, и оставил их снова. Но я всегда знал, что ничего не стоит вкладывать себе в сердце, потому что ничто не длится долго, и я был прав и поэтому — всегда стар. И все же всякий раз, когда я вижу моих единорогов, это похоже на то утро в лесу, и тогда я истинно молод, несмотря на самого себя, и в мире, обладающем такой красотой, может случиться все что угодно.
Во сне я смотрела на четыре белые ноги и чувствовала землю под раздвоенными копытами. Мой лоб жгло — как сейчас. Но в прибое никаких единорогов нет. Король безумен, думала она.
Он сказал:
— Интересно, что станет с ними, когда меня не станет. Красный Бык забудет их сразу же, я знаю, — и уйдет искать себе нового хозяина, но даже тогда — вернут ли они себе свободу? Надеюсь, что нет, ибо тогда они будут принадлежать мне вечно. — Он повернулся и снова взглянул на нее, и его глаза были такими же нежными и жадными, какими становились глаза Принца Лира, когда тот смотрел на нее. — Ты — последняя. Бык пропустил тебя, потому что ты сложена, как женщина, но я–то всегда знал. Как тебе удалась эта перемена, кстати? Твой волшебник не мог этого сделать. Не думаю, чтобы у него получалось превращать сметану в масло.
Если бы она отпустила парапет, то упала бы, но так она спокойно ответила ему:
— Мой Лорд, я не понимаю. Я вообще ничего не вижу в воде.
Лицо Короля содрогнулось так, словно бы она смотрела на него сквозь пламя.
— Ты по–прежнему себя отрицаешь, — прошептал он. — Ты осмеливаешься отрицать себя? Нет, это так же фальшиво и трусливо, как если бы ты по–настоящему была человеком. Я швырну тебя вниз, к твоему народу своими собственными руками, если ты будешь отрицать себя. — Он шагнул к ней, а она смотрела на него широко раскрытыми глазами, не смея пошевельнуться.
Рев моря кипел у нее в голове вместе с пением Принца Лира и захлебывавшимся смертным воем человека по имени Рух. Серое лицо Короля Хаггарда молотом нависало над ней.
— Это должно быть именно так, я не могу ошибиться, — бормотал он. — Однако, у нее глаза так же глупы, как и у него. Как и любые другие глаза, никогда не видевшие единорогов, никогда не видевшие ничего, кроме самих себя в зеркале. Что это за обман, как это может быть? Теперь в ее глазах нет никаких зеленых листьев.
И тогда она закрыла глаза, но внутри они хранили больше, чем снаружи. Бронзовокрылая тварь с лицом ведьмы налетела, хохоча и лепеча что–то, и мотылек сложил крылышки для удара. Красный Бык молча шел сквозь лес, расталкивая голые ветви своими бледными рогами. Она знала, когда Король Хаггард ушел, но глаз не открывала.
Спустя много времени — или всего лишь немного погодя — за спиной она услышала голос волшебника:
— Будь спокойна, спокойна, все кончилось. — Она и не знала, что сама говорит что–то. — В море, — продолжал он, — в море… Что ж, слишком этому не огорчайся: я их тоже не видел — ни в этот раз,ни в какой другой, когда тоже стоял здесь и смотрел на прибой. Но их видел он — а если Хаггард что–то видит, значит, оно там есть. — Он засмеялся, и смех его был похож на топор, упавший на дерево. — Не расстраивайся. Это — ведьмовский замок, и пристально смотреть на вещи трудно, если живешь здесь. Недостаточно быть готовым увидеть — надо смотреть все время. — Он снова рассмеялся, но уже нежнее. — Ладно. Теперь мы их найдем. Пошли. Пойдем со мною.
Она повернулась к нему, шевеля губами, чтобы произнести слова, но слов не выходило. Волшебник изучал ее лицо своими зелеными глазами.
— Твое лицо влажно, — встревоженно произнес он. — Я надеюсь, что это брызги. Если ты стала достаточно человеком, чтобы плакать, то ни одна магия в мире… ох, это просто обязано быть брызгами. Пойдем со мной. Лучше, если б это оказалось брызгами.
XII
В большом зале замка Короля Хаггарда часы пробили шесть. На самом деле, было одиннадцать минут первого, но даже в полночь зал был лишь чуть–чуть темнее, чем в шесть или в полдень. Однако, те, кто жили в замке, определяли истинное время именно по оттенкам тьмы. Иногда в зале было холодно просто от недостатки тепла и мрачно от недостатка света. Тогда застоявшийся воздух был тих, а камни воняли стоячей водой просто потому, что не было окон, которые могли бы впустить внутрь немного стремительного ветра. Такое время называлось днем.
Но по ночам, подобно тому, как некоторые деревья весь день захватывают живительный свет оборотной стороной своих листочков и удерживают его еще очень долго после заката солнца, — так по ночам замок был заряжен тьмой, кишел тьмой, жил тьмой. В такое время для холода в большом зале была причина. В такое время маленькие звуки, что спали днем, просыпались и принимались топотать и царапаться в углах. Именно по ночам застарелый запах камней поднимался, казалось, из глубин, что залегали гораздо ниже пола.
— Зажги свет, — сказала Молли Грю. — Ну, пожалуйста, ты можешь сделать свет?
Шмендрик коротко бормотнул что–то профессиональное. В следующее мгновение не произошло ничего, но затем странная нездоровая яркость начала растекаться по полу, разбрасывая себя по всему залу тысячами разбегавшихся осколков, которые сияли и попискивали. Маленькие ночные зверюшки замка тлели светлячками. Они стремглав проносились по всем углам туда и сюда, взметая своим больным светом быстрые тени и делая тьму еще холоднее прежнего.
— Уж лучше бы ты этого не делал, — вздохнула Молли. — А ты можешь их снова выключить? Хотя бы тех, лиловых, с этими… кажется, ногами?
— Нет, не могу, — сердито ответил Шмендрик. — Тише. Где череп?
Леди Амальтея видела, как тот скалится со столба, лимонно–маленький в набегавших тенях и тусклый, как утренняя луна, но ничего не сказала. Она не говорила ничего с тех пор, как спустилась с башни.
— Вон он, — сказал волшебник. Он прошагал к черепу и долго вглядывался в его растрескавшиеся и крошившиеся глазницы, медленно кивая головой и урча себе под нос что–то торжественное. Молли Грю смотрела на него с прежним усердием, но не забывала частенько поглядывать и на Леди Амальтею. Наконец, Шмендрик вымолвил:
— Хорошо. Не стойте так близко.
— А что, в самом деле есть чары, которые могут заставить череп заговорить? — спросила Молли. Волшебник расправил пальцы и одарил ее легкой полуулыбкой знания:
— Есть чары, которые могут заставить говорить все что угодно. Колдуны–мастера были великими слушателями, и они придумали способы очаровывать все на свете, живое или мертвое, чтоб оно с ними разговаривало. Как раз в этом — вся сущность работы колдуна: в том, чтобы видеть, и в том, чтобы слышать. — Он глубоко вдохнул, вдруг отвернувшись от них и потирая руки. — Остальное — дело техники. Ну что ж. Начали.
Он резко развернулся лицом к черепу, легко возложил одну руку на бледную макушку и обратился к нему глубоким повелительным голосом. Слова маршировали изо рта волшебника будто солдаты, и их шаги разносились мощным эхом, пока пересекали темный воздух. Но череп на это ничего не отвечал.
— Я просто спросил, — мягко произнес волшебник. Он поднял руку и заговорил с черепом снова. На этот раз заклинание звучало рассудительно, вкрадчиво и почти жалобно. Череп по–прежнему хранил молчание, но Молли показалось, что по его безлицему переду скользнуло пробуждение — и снова исчезло.
В трусливом мерцании светящихся тварей волосы Леди Амальтеи сияли, словно цветок. Казалось, ей все происходившее не было ни интересным, ни безразличным: она оставалась спокойной, как иногда спокойным бывает поле битвы, и наблюдала за тем, как Шмендрик нараспев читает одно заклинание за другим перед костяным комком пустнынного цвета, говорившим не намного больше слов, чем она сама. Каждый раз чары произносились со всевозраставшим отчаянием — череп отвечать не желал. Однако, Молли Грю была уверена, что он пребывал в сознании, слышал и развлекался. Она знала молчание насмешки слишком хорошо, чтобы принимать его за смерть.
Часы пробили двадцать девять ударов — по крайней мере, на этой цифре Молли сбилась со счета. Ржавые звуки еще не успели до конца опасть на пол, как Шмендрик вдруг потряс взметнувшимися кулаками перед черепом и заорал:
— Ну, ладно, ладно же, претенциозная коленная чашечка! А не хочешь ли в глаз получить, а–а? — На последних словах его голос полностью развернулся рычанием жалкой ярости.
— Правильно, — произнес череп. — Вопи. Разбуди старого Хаггарда. — Его голос звучал так, будто на ветру потрескивали и стукались друг о друга сухие ветки. — Вопи громче. Старик, вероятно, где–то здесь. Он много нынче не спит.
Молли легко вскрикнула от восторга, и даже Леди Амальтея подошла на шаг ближе. Шмендрик стоял, не шевелясь, с плотно сжатыми кулаками и без всякого выражения триумфа на лице. Череп продолжал:
— Ну, давай. Спроси меня, как найти Красного Быка. Все равно лучше ничего нельзя придумать, как спросить у меня совета. Я — королевский сторож, меня поставили здесь охранять путь к Быку.
Немного робея, Молли спросила:
— Если вы действительно здесь на страже, то почему вы не поднимаете тревогу? Почему вы предлагаете помощь вместо того, чтобы позвать королевских всадников?
Череп хмыкнул погремушкой:
— Я долго проторчал на этом столбе. Когда–то я был главным оруженосцем Хаггарда — пока тот не снес мне голову — просто так, без всякой видимой причины. Это произошло еще тогда, когда он был настолько порочен, что хотел посмотреть, действительно ли ему нравится рубить головы. Оказалось, что нет, но он решил, что еще может извлечь из моей головы какую–то пользу впридачу, и поэтому повесил ее сюда, чтобы она служила ему сторожем. В подобных обстоятельствах я не настолько лоялен к Королю Хаггарду, насколько мог бы быть.
Тихим голосом Шмендрик попросил:
— Тогда дай ответ на загадку. Расскажи, как пройти к Красному Быку.
— Нет, — ответил череп. А потом захохотал, как безумный.
— Почему же нет? — яростно вскричала Молли. — Что это за игра такая?..
Длинные желтые челюсти черепа даже не шевельнулись, но немало времени прошло, прежде чем мерзкий хохот сменился невнятным болботанием и затих совсем. Пока он звучал, даже спешившие ночные твари на мгновение замирали, скрученные своим леденцовым светом.
— Я мертв, — произнес череп. — Я мертв и подвешен в темноте, чтобы следить за собственностью Хаггарда. Единственное маленькое развлечение, которое у меня ееть, — это раздражать живущих и досаждать им, а у меня не очень много шансов поскольку при жизни моя натура была особенно вредной. Вы извините меня — я в этом уверен — за то, что я немного поразвлекаюсь с вами. Итак, приходите завтра. Может, завтра я и скажу вам.
— Но у нас нет времени! — взмолилась Молли. Шмендрик толкнул ее в бок, но та рванулась вперед, подступив к черепу совсем близко и взывая прямо к его ничем не населенный глазам. — У нас нет времени. Уже сейчас может быть слишком поздно.
— Это у меня есть время, — задумчиво отозвался череп. — На самом деле, иметь время не очень хорошо. Спешка, суета, отчаянье: это пропустил, то не сделал, остального слишком много, чтобы втиснуть его в такое маленькое пространство. Вот какой должна быть жизнь. Предполагается, что ты всегда должен чего–то не успевать. Не беспокойся об этом.
Молли упрашивала бы его и дальше, но волшебник схватил ее за руку и оттащил в сторону.
— Стой тихо! — сказал он ей быстро и настойчиво. — Ни слова, больше ни слова. Эта проклятая штуковина заговорила, правильно? Может быть, это все, чего требует загадка.
— Не все, — сообщил им череп. — Я буду болтать, сколько захотите, но ничего вам не скажу. Довольно паршиво, правда? Видели бы вы меня при жизни…
Шмендрик не обращал на него никакого внимания.
— Где вино? — потребовал он у Молли. — Давай посмотрим, что я смогу сделать с вином.
— Я не смогла ничего найти, — занервничала та. — Я искала везде, но мне кажется, что в целом замке не осталось ни капли. — Волшебник уставился на нее в наступившем непомерном молчании. — Я правда искала, — оправдывалась она.
Шмендрик медленно поднял обе руки и в бессилии уронил их вновь.
— Что ж, — вымолвил он. — Что ж, если мы не можем найти вина, тогда — все. У меня, конечно, есть свои иллюзии, но вина из воздуха я делать не умею.
Череп хихикнул, тикая и потрескивая.
— Материю нельзя ни создать, ни уничтожить, — заметил он. — Большинство волшебников, во всяком случае, не могут.
Из складок платья Молли извлекла маленькую фляжку, слабо блеснувшую в темноте.
— Я подумала, что если бы для начала у тебя было немножко воды… — И Шмендрик, и череп посмотрели на нее примерно одинаково. — Ну, это ведь уже делалось, — громко сказала она. — Это же не что–то новое творить. Нового я бы у тебя никогда не попросила.
Слыша себя, она смотрела в сторону, на Леди Амальтею. Шмендрик взял фляжку из ее протянутой руки и стал задумчиво ее изучать, вертя так и этак и бормоча себе под нос любопытные хрупкие слова. Наконец, он вымолвил:
— А почему бы и нет? Как ты говоришь, это обычный трюк. Помню, одно время на него была страшная мода, но сегодня, боюсь, он немного устарел. — Он медленно провел над фляжкой одной рукой, вплетая в воздух слово.
— Что ты там делаешь? — нетерпеливо спросил его череп. — Эй, делай поближе, вот здесь. Мне ничего не видно. — Но волшебник отвернулся, прижимая фляжку к груди и сгорбившись над нею. Он начал шепотом напевать что–то, напомнившее Молли те звуки, которые продолжает испускать мертвый огонь спустя много времени после того, как потух последний уголек.
— Понимаешь, — перебил он самого себя, — ничего особенного из этого не получится. Vin ordinaire, так сказать. — Молли серьезно кивнула, а он продолжал: — Оно, к тому же, обычно получается слишком сладким. А как оно собирается само себя пить, я вообще не имею ни малейшего понятия.
Он вновь подхватил заклинание, на этот раз еще тише. Череп же тем временем горько хныкал, что ему совсем ничегошеньки не видно и не слышно. Леди Амальтее Молли сказала что–то полное надежды и спокойствия, но та на нее не взглянула и ничего не ответила.
Пение, внезапно прекратилось, и Шмендрик поднес фляжку к губам — но сначала понюхал и пробормотал:
— Слабое, слабое, почти совсем никакого букета. Никто никогда хорошего вина магией но сделал.
Затем он взболтнул фляжку, чтобы попробовать, потом потряс ее — и уставился на нее в недоумении; а затем с кроткой, ужасной улыбкой опрокинул ее вниз горлышком. Из нее ничего не вылилось — ни капли.
— Ну, вот и все, — почти радостно произнес он. Потом провел сухим языком по сухим губам и повторил: — Ну, вот и все. Ну, вот, наконец, и все. — С этой же улыбкой он поднял фляжку, чтобы швырнуть ее через весь зал.
— Нет, постой — эй, не надо! — Протестующий стук и лязг черепа был так дик, что Шмендрик остановился, не успев выпустить фляжку из рук. Одновременно они с Молли развернулись к черепу, который — настолько сильно было его негодование — на самом деле начал ерзать на своем крючке, изо всех сил стуча видавшим виды затылком о колонну и пытаясь освободиться.
— Не надо! — выл он. — Вы, люди, должно быть, рехнулись, если собираетесь выбросить такое вино. Отдайте его мне, если сами не хотите, только не выбрасывайте! — Он хныкал, раскачиваясь и грозя сорваться со столба.
Сонный вопрошающий взгляд пересек лицо Шмендрика — будто дождевое облако проплыло над сухой страной. Он медленно спросил:
— А что пользы тебе от вина, если у тебя нет языка — его попробовать, н ба — его оценить, глотки — его заглотнуть? Будучи пятьдесят лет покойником, неужели ты до сих пор помнишь, до сих пор желаешь?..
— А что еще я могу делать, будучи пятьдесят лет покойником? — Череп прекратил свои нелепые подергивания, но от безысходности его голос звучал почти по–человечески. — Я помню. Я помню больше, чем вино. Дайте мне глоточек и все — дайте глотнуть — и я распробую его так, как никто из вас никогда не сможет — со всей вашей текучей плотью, со всеми вашими бугорками и органами чувств. У меня уже было время подумать. Я знаю, что такое вино. Отдайте его мне.
Шмендрик, ухмыляясь, покачал головой:
— Красноречиво, но в последнее время я ощущаю в себе какое–то злобное коварство. — Он в третий раз поднял пустую фляжку, и череп застонал в смертной тоске. Из чистой жалости Молли Грю заговорила было:
— Но это не… — Но волшебник наступил ей на ногу.
— Конечно, — размышлял он вслух, — если бы случилось так, что ты вспомнил, где вход в пещеру Красного Быка, — так же, как помнишь, что такое вино, то мы еще могли бы сойтись в цене. — Он безразлично вертел фляжку, удерживая ее двумя пальцами.
— Решено! — немедленно воскликнул череп. — Договорились — за глоток вина, но дай мне его сейчас же! Моя жажда сильнее, когда я думаю о вине, чем она была при жизни, когда у меня имелось горло, которое могло пересыхать. Дай мне сейчас вина всего на один большой глоток, и я расскажу тебе все, что ты хочешь знать. — Заржавленные челюсти начали перемалываться друг о друга, двигаясь из стороны в сторону. Слоистые зубы черепа дрожали и крошились.
— Дай ему, — шепнула Шмендрику Молли. Ей было жутко от того, что нагие глазницы могут вдруг наполниться слезами. Но волшебник снова лишь покачал головой.
— Я отдам тебе все, — сказал он черепу, — но только после того, как ты расскажешь нам, как найти Быка.
Череп вздохнул, но не усомнился ни на миг:
— Путь лежит сквозь часы, — сказал он. — Просто идите сквозь часы — и вы там. Ну, могу я теперь получить свое вино?
— Сквозь часы? — Волшебник повернулся и вгляделся в дальний угол огромного зала, где стояли часы. Они были высокими, черными и тонкими — лишь закатная тень часов. Стекло на циферблате разбилось, часовая стрелка пропала. За серым стеклом едва угадывался механизм — он подергивался и проворачивался сердито и неровно, как рыба. Шмендрик сказал:
— Ты имеешь в виду, что когда часы бьют верное время, то в них открывается тоннель или спрятанная лестница? — В его голосе слышалось сомнение, ибо часы были слишком тощи, чтобы скрывать в себе какой бы то ни было подобный проход.
— Про это я ничего не знаю, — отозвался череп. — Если вы будете ждать, пока эти часы пробьют назначенный час, то простоите здесь, пока не полысеете, как я. Зачем усложнять простой секрет? Проходите сквозь часы, и ваш Красный Бык — на той стороне. Давай.
— Но кот сказал… — начал Шмендрик, но потом развернулся и зашагал к часам. Во тьме казалось, что он сходит с холма вдаль, все сильнее горбясь и уменьшаясь в размерах. Дойдя до часов, он продолжал идти без всякой остановки, как будто часы действительно были не более чем тенью. Но ударился носом.
— Это глупо, — холодно молвил он черепу, вернувшись назад. — Как ты собираешься нас надуть? Очень может быть, что путь к Быку действительно пролегает сквозь часы, но чтобы пройти, нужно знать что–то еще. Скажи мне, или я вылью все вино на пол, чтоб ты помнил запах его и вид сколько тебе влезет. Ну, быстро!
Но череп снова смеялся: на этот раз его смех был глубокомысленным и почти доброжелательным:
— Помните, что я сказал вам о времени. Когда я был жив, я верил — как и вы, — что время, по меньшей мере, так же реально и прочно, как и я сам, — даже, возможно, еще больше. Я говорил «один час», как будто мог видеть его, я говорил «понедельник», как будто мог отыскать его на карте. И я позволял торопить себя от минуты к минуте, изо дня в день, год за годом, как будто действительно передвигался из одного места в другое. Как и все остальные, я жил в доме, как из кирпичей сложенном из секунд и минут, из выходных дней и новогодних ночей, — и никогда не выходил наружу, пока не умер, поскольку в этом доме нет иной двери. Теперь я знаю, что мог бы проходить сквозь стены.
Молли ошеломленно моргала, но Шмендрик согласно кивал головой:
— Да… Именно так это делают настоящие волшебники. Но в таком случае часы…
— Часы никогда не пробьют верное время, — сказал череп. — Хаггард испортил механизм очень давно: он однажды пытался ухватить время на лету, когда оно проносилось мимо. Но самое важное, что вам нужно понять, — это то, что не имеет значения, пробьют ли часы в следующий раз десять, семь или пятнадцать раз. Вы можете отбивать свое собственное время и начинать отсчет где вам угодно. Когда вы это поймете — тогда любое время станет для вас верным.
В это мгновение часы пробили четыре. Еще не затих последний удар, как из–под пола большого зала донесся ответный звук. Не рев, не злобное ворчание, какое часто издавал Красный Бык, когда ему что–то снилось, — нет, то был низкий вопрошавший звук, как будто Бык проснулся, ощутив в ночи нечто новое. Каждая плита пола зазудела змеей, и, казалось, сама тьма содрогнулась, а тускло мерцавшие ночные твари начали дико разбегаться по углам зала. С внезапной уверенностью Молли поняла, что Король Хаггард близко.
— Дайте мне вина, — сказал череп. — Я выполнил свою часть сделки. — Шмендрик молча сунул горлышко пустой фляги черепу в зубы, и тот долго глотал, вздыхал и причмокивал.
— Ах, — вымолвил он наконец, — ах, вот это настоящая штука, вот это вино! Ты волшебник больше, чем я о тебе думал. Теперь–то ты меня понимаешь — насчет времени, а?
— Да, — ответил Шмендрик. — Думаю, что да.
Красный Бык снова издал свой любопытствующий звук, и череп задребезжал о колонну. Шмендрик сказал:
— Нет. Не знаю. Другого пути нет?
— Откуда ему взяться?
Молли услышала шаги. Потом ничего. Потом тонкие, осторожные приливы и отливы дыхания. Она не могла сказать, откуда оно доносилось. Шмендрик обернулся к ней, и его лицо показалось ей испачканным изнутри страхом и смятением, как внутренняя поверхность фонарного стекла. Огонек там тоже был, но он трясся, как будто фонарь раскачивало бурей.
— Мне кажется, я понимаю, — вымолвил он, — но я уверен, что нет. Я попытаюсь.
— Я все–таки думаю, что это настоящие часы, — сказала Молли. — Хотя все в порядке: я могу пройти сквозь настоящие часы. — Отчасти она говорила это, чтобы успокоить его, но в то же время ощущая в своем собственном теле какую–то яркость, начиная осознавать: то, о чем она говорит, — правда. — Я знаю, куда нам надо идти, — продолжала она. — И это — так же верно, как знать время в любой час суток.
Череп не дал ей договорить:
— Раз мы с вами заключили сделку, я дам вам один дополнительный совет, потому что вино было очень хорошим. — Шмендрик выглядел виноватым. Череп продолжал: — Разбейте меня. Просто сшибите меня на пол и дайте разбиться на куски. Не спрашивайте, зачем. Сделайте это и все. — Он говорил очень быстро, почти шепотом.
В один голос Шмендрик и Молли воскликнули:
— Что? Но почему?
Череп повторил свою просьбу. Шмендрик продолжал настойчиво спрашивать:
— Что ты мелешь? Зачем, во имя всего на земле, нам тебя разбивать?
— Сделайте это! — настаивал череп. — Сделайте же! — Шорох дыхания приближался со всех сторон, хотя были слышны шаги только одной пары ног.
— Нет, — ответил Шмендрик. — Ты спятил. — Он повернулся к черепу спиной и опять зашагал к тощий черным часам. Молли взяла Леди Амальтею за холодную руку и пошла за ним следом, ведя белую девушку, как будто та была воздушным змеем.
— Хорошо же, — печально вымолвил череп. — Я вас предупредил. — И ужасным голосом, как градом по железу, немедленно завопил: — Караул, Король! Ко мне, охрана! Здесь взломщики, бандиты, налетчики, разбойники, похитители, грабители, наемные убийцы, плагиаторы! Король Хаггард! Хо, Король Хаггард!
Теперь и у них над головами, и вокруг с лязганьем приближались шаги, и они уже слышали шелест голосов престарелых королевских всадников, переговаривавшихся на бегу. Факела, правда, не вспыхивали, поскольку в замке нельзя было зажигать никакого света, если этого не приказывал сам Король, а Хаггард пока хранил молчание. Трое воров стояли, обессиленные и оглушенные происходящим, беспомощно взирая на череп.
— Извините, — сказал тот. — Вот такой уж я — предатель, то есть… Но я пытался… — И тут его давно исчезнувшие глаза заметили Леди Амальтею. Они расширились и засверкали — хотя, конечно, сделать этого не могли. — О, нет, — тихо сказал он. — Нет, ты не… Я неверен, но не настолько же…
— Беги, — сказал Шмендрик, как говорил это очень давно дикой пенно–белой легенде, которую только что выпустил на свободу. И они бежали вместе через весь огромный зал, пока всадники громко блуждали в потемках, а череп визжал:
— Единорог! Единорог! Хаггард, Хаггард, вон она, она идет к Красному Быку! Не забудь про часы, Хаггард — где же ты? Единорог! Единорог!
И тогда королевский голос злобно прошелестел под всеобщим шумом:
— Дурак, предатель, это ты ей сказал! — Быстрые, тайные шаги Короля прозвучали совсем близко, и Шмендрик уже совсем было собрался повернуться и драться. Но вслед за этим донесся хрип, треск, царапанье и хруст старой кости, раздавленной о старый камень. Волшебник бежал дальше.
Когда они остановились перед часами, отсрочки ни на сомнение, ни на понимание им уже не оставалось. Всадники были в зале, и удары их шагов эхом грохотали меж стен и столбов, а Король Хаггард шипел и ругался, подгоняя их. Леди Амальтея не раздумывала ни мгновенья. Она шагнула в часы и исчезла, как луна проходит за тучами, спрятанная ими, — но не внутри них, а за тысячи миль одиночества вдалеке.
Она будто дриада, безумно подумала Молли, а время — ее дерево. Сквозь тусклое, покрытое пятнами треснувшее стекло она смогла разглядеть гири, маятник и изъязвленные временем куранты. Все покачивалось и горело, пока она смотрела на механизм. За ним не было никакой двери, сквозь которую Леди Амальтея могла бы пройти. Там виднелся только ржавый проспект механизма, уводивший взгляд Молли прочь, под дождь. Гири колыхались из стороны в сторону, словно водоросли.
Король Хаггард орал:
— Остановите их! Разбейте часы!
Молли начала было поворачивать голову, собираясь сказать Шмендрику, будто ей показалось, что она знает, что имел в виду череп; но волшебник исчез, как исчез и зал Короля Хаггарда. Часы тоже пропали, а сама она стояла рядом с Леди Амальтеей в каком–то холодном пространстве.
Голос Короля теперь доносился до нее из далекого далека — не столько слышимый, сколько припоминаемый. Она продолжала поворачивать голову — и оказалась лицом к лицу с Принцем Лиром. За его спиной упал яркий туман, дрожавший, как бока рыбы, и вовсе не похожий на заржавленный и поломанный часовой механизм. Самого Шмендрика нигде не было видно.
Принц Лир сурово склонил голову перед Молли, но его первые слова были обращены к Леди Амальтее:
— А вы хотели уйти без меня. Вы совершенно не слушали!
И та ответила ему, хотя прежде не говорила ни с Молли, ни с волшебником. Низким ясным голосом она сказала:
— Я бы вернулась. Я не знаю, зачем я здесь и кто я такая. Но я бы вернулась.
— Нет, — сказал Принц. — Вы бы никогда не вернулись.
Прежде, чем он смог добавить что–то еще, в разговор вмешалась Молли — к своему собственному удивлению пылко воскликнув:
— Да не беспокойтесь вы об этом! Где Шмендрик?
Эти посторонние люди взглянули на нее с учтивым изумлением: как может в этом мире разговаривать кто–то еще, кроме них самих? И она почувствовала, как от макушки до пяток ее охватывает дрожь.
— Где он? — потребовала она. — Я пойду назад сама, если вы не пойдете. — И она повернула было обратно.
Шмендрик вышел из тумана с опущенной головой, как будто приходилось идти против очень сильного ветра. Одну руку он прижимал к виску, а когда отнял ее, то кровь тихо побежала у него по щеке.
— Все в порядке, — сказал он, когда увидел, что кровь капает на руки Молли Грю. — Все в порядке, она не глубокая. Я не мог пройти, пока этого не случилось. — Он шатко поклонился Принцу Лиру. — Я подумал, что вы прошли мимо меня в темноте. Скажите, как вам удалось пройти сквозь часы так легко? Череп сказал, что вы не знали пути.
Принц был, по всей видимости, озадачен:
— Какого пути? — спросил он. — Что там было знать? Я увидел, куда прошла она, и пошел следом.
Внезапный смех Шмендрика до крови растер себя о шершавые стены, состоявшие из одних острых выступов, уже начинавших выплывать к ним, когда глаза их стали привыкать к этой новой тьме.
— Конечно, — сказал он. — Некоторые вещи владеют собственным временем по самой своей природе. — Он снова рассмеялся, потряхивая головой, — и кровь потекла опять. Молли оторвала лоскут от своего платья.
— Бедные старики, — сказал волшебник. — Они не хотели делать мне больно, да и я не хотел причинять им вреда, если бы мог без этого обойтись. Так мы там кружили друг напротив друга, то и дело извиняясь, Хаггард вопил, а я все стукался и стукался о часы. Я знал, что они не настоящие, но они продолжали такими казаться — это меня и беспокоило. Подбежал Хаггард со своим мечом и ударил меня. — Он закрыл глаза, и Молли перевязала ему голову. — Хаггард, — произнес он. — Он мне уже начинал нравиться. Он мне по–прежнему нравится. Он выглядел таким испуганным.
Отдаленные невнятные голоса Короля и его людей, казалось, стали чуть громче.
— Не понимаю, — сказал Принц Лир. — Почему он был испуган — мой отец, то есть? Что он…
Но как раз в этот миг с дальней стороны часов до них донесся вой триумфа без слов и зародился шум великого падения. Мерцавшая дымка немедленно пропала, и черное молчание пещерой окружило их со всех сторон.
— Хаггард уничтожил часы, — в конце концов вымолвил Шмендрик. — Теперь пути назад нет. Выхода тоже нет — кроме пути к Быку.
Медленный, густой ветер начал просыпаться вокруг них.
XIII
Проход был достаточно широк, чтобы все они могли идти вместе, но они двигались гуськом. Леди Амальтея предпочла идти первой. Принцу Лиру, Шмендрику и Молли Грю, шедшим следом, лампой служили только ее волосы, но ей самой дорогу не освещало ничего. Однако, она шла вперед так легко, словно уж была здесь прежде.
Куда лежал их путь на самом деле, они не знали. Холодный ветер казался реальным — как и та холодная вонь, которую он нес с собою, а тьма пропускала их сквозь себя гораздо неохотнее часов. Сама дорога была достаточно реальна для того, чтобы ранить им ноги там, где она частично задыхалась под грузом настоящих камней и настоящей земли, осыпавшихся со стен подземелья. Но несмотря на окружавшую их реальность, весь их путь оказывался невозможным путем сна: наклонный и косой, он то и дело замыкался на самом себе; он то почти отвесно падал, то, казалось, немного поднимался; то уводил прочь и медленно вел вниз, то забредал обратно и, возможно, снова заводил их под большой зал, где старый Король Хаггард, должно быть, все еще неистовствовал над опрокинутыми часами и раздавленными черепом. Определенно, ведьмовская работа, думал Шмендрик, а все, что сделано ведьмой, — в конечном итоге нереально. Затем он мысленно прибавил: но ведь это и должно быть конечным итогом. И это все станет достаточно реальным, если оно — не конечный итог.
Пока они, спотыкаясь, брели по этой тропе, он торопливо рассказывал Принцу Лиру сказку об их приключениях, начиная со своей собственной странной истории и еще более странной судьбы; пересказывал подробности краха Полночного Карнавала и своего бегства вместе с единорогом, последовавшей за этим встречи с Молли Грю, путешествия в Хагсгейт и истории Дринна о двойном проклятии на город и на башню. Здесь он остановился, ибо дальше лежала ночь Красного Быка, ночь, которая — к добру ли, к худу ли — кончилась магией и обнаженной девушкой, бившейся в собственном теле, как билась бы корова в зыбучих песках. Он надеялся, что Принца больше заинтересует история его собственного героического рождения, чем история происхождения Леди Амальтеи.
Тот дивился рассказу волшебника, но с подозрением — а одновременно это делать довольно неловко.
— Я очень давно знал, что Король — не мой отец, — говорил он. — Но я все равно старался быть ему хорошим сыном. Я — враг любому, кто замыслит против него, и чтобы заставить меня ускорить его падение, понадобится намного больше, чем болтовня какой–то старой карги. Что же касается второго, то, я думаю, никаких единорогов больше нет, и я знаю, что Король Хаггард ни одного никогда не видел. Разве может какой–нибудь человек, хотя бы разок взглянувший на единорога, не говоря уже о тысячах в каждом приливе, быть таким печальным, как Хаггард? О, увидеть бы мне единорога один лишь раз и никогда больше… — Теперь уже он сам замолчал, сконфузившись, ибо тоже почувствовал, что разговор уходит к какой–то печали, из которой вызволить его больше никогда не удастся. Шея и плечи Молли вслушивались во все это очень внимательно, но если Леди Амальтея и могла слышать, о чем говорили мужчины, то виду она не подала.
— И все же Король прячет какую–то радость где–то в своей жизни, — заметил Шмендрик. — Ты разве никогда не видел ее следа — никогда не замечал ее следа у него в глазах? Я заметил. Подумай немного, Принц Лир.
Принц замолчал, и они петляли по тропе все дальше и дальше в мерзкую тьму. Они не всегда могли точно определить, карабкаются они вверх или спускаются вниз, изгибается ли коридор иногда вообще, пока постоянно ощущавшаяся корявая близость камня у их плеч не превращалась внезапно в блеклую терку стены у самой щеки. До них не доносилось ни малейшего отзвука Красного Быка, ни малейшего отсвета его коварного огня; но когда Шмендрик коснулся рукою своего влажного лица, с пальцев его стек бычий запах.
Принц Лир произнес:
— Иногда, когда он стоит на башне, что–то есть в его лице. Не совсем свет, но — ясность. Я помню. Я был маленьким, а когда он смотрел на меня — или на что–нибудь другое — то никогда таким не был. А у меня был сон. — Теперь он шел очень медленно, еле волоча ноги. — У меня раньше был сон — один и тот же, снова и снова: я стою у своего окна посреди ночи и вижу Быка, вижу, как Красный Бык… — Он не окончил.
— Видишь, как Красный Бык гонит единорогов в море, — сказал Шмендрик. — Это был не сон. У Хаггарда теперь они все плавают взад–вперед в прибое для его собственного удовольствия — все, кроме одной. — Волшебник набрал в грудь побольше воздуха. — Этот один — Леди Амальтея.
— Да, — ответил ему Принц Лир. — Да, я знаю.
Шмендрик вытаращился на него:
— То есть как — «знаешь»? — рассерженно потребовал он. — Как ты вообще можешь знать, что Леди Амальтея — единорог? Она же не могла тебе сказать этого сама, потому что сама она этого просто не помнит. С тех пор, как ты завладел ее воображением, она только о том и думает, как ей стать смертной женщиной. — Он очень хорошо знал, что истина — как раз в обратном, но сейчас это не имело для него никакого значения. — Откуда ты знаешь? — снова спросил он.
Принц Лир остановился совсем и повернулся лицом к волшебнику. Было слишком темно, чтобы Шмендрик мог видеть что–нибудь, кроме прохладного молочного сияния в том месте, где были глаза.
— До сих пор я и не знал, что это так, — ответил Принц. — Но когда я впервые увидел ее, я понял, что она — что–то большее, чем видно мне. Единорог, русалка, ламия, колдунья, Горгона — ни одно из имен, которые ты мог бы мне сообщить, не удивило и не испугало бы меня. Я люблю того, кого я люблю.
— Это очень милый сантимент, — сказал Шмендрик. — Но когда я снова превращу ее в истинную ее самое — с тем, чтобы она могла сразиться с Красным Быком и освободить свой народ…
— Я люблю того, кого я люблю, — твердо повторил Принц Лир. — У тебя нет власти ни над чем, что имеет значение.
Прежде, чем волшебник смог ему что–то ответить, между ними возникла Леди Амальтея, хотя ни один из мужчин не видел и не слышал, как она вернулась к ним по проходу. Во тьме она мерцала и дрожала, словно бегущая вода.
— Я дальше не пойду, — произнесла она.
Она сказала это Принцу, но ответил ей Шмендрик:
— Выбора нет. Мы можем идти только вперед.
Молли Грю подошла поближе — один встревоженный глаз и бледный исток скулы. Волшебник повторил:
— Мы можем идти только вперед.
Леди Амальтея избегала смотреть прямо на него.
— Он не должен изменять меня, — сказала она Принцу Лиру. — Не давай ему наводить на меня чары. Быку ни к чему человеческие существа — мы сможем выйти мимо него наружу и спастись. Бык желает только единорога. Скажи ему, чтобы он меня не превращал.
Принц Лир до хруста сплетал и расплетал пальцы. Шмендрик вымолвил:
— Это правда. Мы можем запросто избежать встречи с Быком даже сейчас — так же, как спаслись от него прежде. Но если мы это сделаем, то другого случая у нас уже никогда не будет. Все единороги на свете тогда навечно останутся его пленниками — кроме одной, да и та умрет. Она просто состарится и умрет.
— Вс умирает, — произнесла она, по–прежнему обращаясь только к Принцу Лиру. — Это хорошо, что все умирает. Я хочу умереть, когда умрешь ты. Не дай ему очаровать меня, не дай ему сделать меня бессмертной. Я не единорог, я никакое не волшебное существо. Я — человек, и я люблю тебя.
Он ответил ей очень нежно:
— Я почти ничего не знаю о чарах, кроме того, как их разбивать. Но я знаю, что даже самые величайшие колдуны бессильны против двоих, если эти двое держатся друг за друга, — а здесь, в конце концов, всего лишь наш бедный Шмендрик. Не бойся. Ничего не бойся. Чем бы ты ни была, ты теперь моя. Я могу удержать тебя.
Она повернулась, чтобы, наконец, посмотреть волшебнику в глаза, — и даже сквозь тьму тот почувствовал ужас в ее взгляде.
— Нет, — вымолвила она. — Нет, мы недостаточно сильны. Он превратит меня, и что бы ни случилось после, ты и я потеряем друг друга. Я не буду любить тебя, когда стану единорогом, а ты будешь любить меня только потому, что ничего не сможешь с этим сделать. Я буду прекраснее, чем что бы то ни было на свете, — и буду жить вечно.
Шмендрик заговорил было, но от звука его голоса она задрожала, словно пламя свечи:
— Я не вынесу этого. Я не вынесу, чтобы это было так. — Она переводила взгляд с Принца на волшебника, стягивая свой голос, будто края раны. — Если останется хотя бы один–единственный миг любви, когда он превратит меня, то ты будешь знать это, ибо я позволю Красному Быку загнать меня в море, к остальным. Тогда я хотя бы останусь рядом с тобой.
— Во всем этом нет нужды, — Шмендрик говорил легко, пытаясь заставить себя смеяться. — Сомневаюсь, что мне удалось бы превратить тебя обратно, даже если бы ты этого сама захотела. Даже Никос так никогда и не смог превратить человека в единорога — а ты теперь истинно человек. Ты можешь любить и бояться, запрещать вещам быть тем, что они ость, и переигрывать… Пусть тогда все это здесь и закончится, пусть странствие завершится. Стал ли мир хуже от того, что потерял единорогов, и станет ли он хоть сколько–нибудь лучше, если они вновь окажутся на свободе? Одной хорошей женщиной в мире больше — это стоит утраты всех единорогов до единого. Пускай все закончится. Выходи за Принца и живите впредь счастливо.
Проход, казалось, становился светлее, и Шмендрик вообразил, как к ним подкрадывается Красный Бык — нелепо осторожный, ставя копыта на землю чопорно и аккуратно, как цапля. Тонкое мерцание скулы Молли Грю погасло, когда она отвернулась.
— Да, — произнесла Леди Амальтея. — Таково мое желание.
Но в то же самое мгновение Принц Лир сказал:
— Нет.
Слово вырвалось у него внезапно, как апчхи, как какой–то вопросительный писк — голос глупого молодого человека, до смерти обескураженного богатым и ужасным подарком.
— Нет, — повторил он, и на этот раз слово прозвенело другим голосом — королевским, голосом не Хаггарда, но такого короля, который скорбил не по тому, чего у него нет, но по тому, что он не мог отдать. — Моя Леди, — продолжал он, — я — герой. Это — ремесло, не более, как ткачество или пивоварение. Как и там, в нем есть свои собственные навыки, трюки и маленькие искусства. Есть способы различать ведьм и распознавать отравленные ручьи, есть определенные слабые места, которые имеют все драконы, и определенные загадки, которые обычно задают незнакомцы в капюшонах. Но подлинный секрет геройства лежит в знании порядка вещей. Когда свинопас отправляется на поиски приключений, он не может быть уже женат на принцессе, а мальчик не может постучаться к ведьме, когда та на каникулах. Все вещи должны случаться, когда им приходит пора случиться. Странствия и поиски не могут быть просто прерваны; пророчества не могут оставаться гнить несобранными плодами; единороги могут ходить неспасенными очень долго, но не вечно. Счастливый конец не может наступить в середине истории.
Леди Амальтея ничего не ответила ему. Шмендрик спросил:
— Почему же нет? Кто это сказал?
— Герои, — печально ответил Принц Лир. — Герои знают о порядке и о счастливых концах. Герои знают, что некоторые вещи лучше других. Плотники знают о шкурке, гонте и отвесах. — Он простер руки к Леди Амальтее и шагнул к ней. Она не отпрянула от него и не отвернулась. Наоборот, она подняла голову выше — взгляд отвел как раз сам Принц. — Ты же сама меня учила, — сказал он. — Я никогда не смотрел на тебя, не видя того, как мило устроен мир, не испытывая грусти по тому, как он испорчен. Я стал героем, чтобы служить тебе и всему, что похоже на тебя. И чтобы найти какой–то повод завязать разговор.
Но Леди Амальтея не отвечала ему ни слова. Бледная, как известь, в пещере поднималась яркость. Они уже ясно видели друг друга, и каждый казался тусклым и странным от страха. Даже красота Леди Амальтеи убывала под этим скучным, голодным светом. Она выглядела более смертной, чем любой из трех остальных людей.
— Бык идет, — проговорил Принц Лир. Он повернулся и устремился по проходу смелыми и жадными шагами героя. Леди Амальтея последовала за ним легко и гордо, как учат ходить принцесс. Молли Грю держалась ближе к волшебнику, не отпуская его руки — так она касалась единорога прежде, когда была одинока. Шмендрик улыбнулся ей сверху вниз: похоже было, что он достаточно доволен собой. Молли сказала:
— Пусть она останется такой, какая есть. Пусть она будет.
— Скажи это Лиру, — бодро ответил тот. — Разве это я придумал, что порядок — это все? Разве это я сказал, что она должна вызвать на бой Красного Быка, потому что так будет должно и аккуратно? Меня не касаются управляемые спасения и официальные счастливые концовки. Это все Лир.
— Но это ведь ты его заставил, — сказала она. — Ты знаешь, что на свете ему хочется только одного — чтобы она отказалась от своего странствия и осталась с ним. Он бы так и сделал, но ты напомнил ему, что он — герой, и теперь ему приходится делать то, что делают все герои. Он ее любит, а ты его одурачил.
— Никогда, — сказал Шмендрик. — Тише, он тебя услышит.
Молли начала ощущать в голове легкость и глупость от близости Быка. Свет и запах стали липким морем, в котором она барахталась, как единороги, безнадежные и вечные. Тропа начала крениться вниз, в углублявшийся свет, и далеко впереди Принц Лир и Леди Амальтея шагали навстречу беде так же спокойно, как сгорают и плавятся свечи. Молли Грю фыркнула.
— Я, к тому же, знаю, зачем ты это сделал, — продолжала она. — Ты сам не можешь стать смертным, пока не превратишь ее обратно. Разве не так? Тебе наплевать на то, что с ней случится, что случится с остальными, раз ты, наконец, сможешь стать настоящим волшебником. Разве не так? Так вот, ты никогда им не станешь, даже если превратишь Быка в божью коровку, потому что когда ты это делаешь — это всего лишь фокус. Тебе наплевать на все, кроме своей магии, а какой же в таком случае ты волшебник? Шмендрик, мне нехорошо. Мне надо присесть.
Должно быть, некоторое время волшебник нес ее на себе, потому что она совершенно определенно не шла своими ногами, а его зеленые глаза звенели у нее в голове.
— Это так. Ничто, кроме магии, не имеет для меня значения. Я бы сам загонял для Хаггарде единорогов, если бы это увеличило мою мощь хотя бы на полволоска. Это правда. Я никому не отдаю никаких предпочтений и никому не верен. У меня есть только магия. — Его голос звучал жестко и печально.
— Правда? — переспросила она, сонно укачиваясь в собственном ужасе и наблюдая, как бычья яркость плывет мимо. — Это ужасно. — Все это производило на нее очень большое впечатление. — Ты на самом деле такой?
— Нет, — ответил он тотчас или же позднее. — Нет, это не правда. Как бы я мог быть таким и все же ввязаться во все эти хлопоты? — Потом он сказал: — Молли, теперь ты должна пойти сама. Он здесь. Он здесь.
Сначала она увидела рога. Свет заставил ее закрыть лицо руками, но бледные рога безжалостно пробивали руки и веки и тянулись к самому затылку ее разума. Она видела, как Принц Лир и Леди Амальтея стоят перед этими рогами, пока пламя расцветало на стенах пещеры и взмывало во тьму, над которой нет крыши. Принц Лир обнажил меч, но тот вспыхнул в его руке, выпал и разбился, как сосулька. Красный Бык топнул ногой, и все рухнули наземь.
Шмендрик надеялся найти поджидавшего Быка в его берлоге или в каком–нибудь широком месте, где было бы достаточно пространства для битвы. Но тот молча вышел вверх по проходу навстречу им и теперь стоял перед ними, перегораживая собой все: не только занимая весь проход от одной пылавшей стены до другой, но и каким–то образом утверждаясь в самих стенах и за ними, вечно уходя своими размерами прочь. Однако, он был не миражом, а все тем же Красным Быком — сопел и исходил паром, тряс своею слепою головой. В дыханье звучало ужасное чавканье его челюстей, как будто эта пасть засасывала их всех.
Ну. Вот настало это время, что бы я ни делал — творил разрушенье или великое добро. Вот он — конечный итог. Волшебник медленно поднялся на ноги, не обращая внимания на Быка и слушая только самого себя, взятого в горсть, как слушают морскую раковину. Но никакая сила не шевелилась и не говорила в нем; он не смог услышать ничего, кроме тоненького дальнего завывания пустоты в ухе: так, должно быть, старый Король Хаггард слышал его, и засыпая, и просыпаясь, — всегда один и тот же звук, и никогда ничего иного. Она не придет ко мне. Никос ошибся. Я — то, чем кажусь.
Леди Амальтея отступила от Быка всего лишь на какой–то шаг и теперь спокойно смотрела, как тот бьет в землю передними копытами и фыркает, выдыхая из громадных ноздрей рокочущие дождевые тучи. Казалось, что он озадачен ею. От этого он выглядел почти глупо. Он не ревел. Леди Амальтея стояла в его замораживающем свете, откинув голову, чтобы лучше видеть его целиком. Не отводя от Быка взгляда, она протянула руку, чтобы пальцами встретиться с Принцем Лиром.
Хорошо, хорошо. Я ничего здесь не могу сделать, и я этому рад. Бык ее пропустит, и она уйдет вместе с Лиром. Это правильно — как и все остальное. Мне только вот жаль единорогов. Принц еще не заметил ее протянутой руки, но в следующее мгновение он обернется и увидит — и коснется ее в первый раз. Он никогда не узнает, что она дала ему; и она этого тоже никогда не поймет. И тут Красный Бык пригнул голову и бросился на них.
Он рванулся вперед без всякого предупреждения, беззвучно, и только трещала земля, вспарываемая его копытами; и если бы он предпочел сокрушить всех четверых в этом одном молчаливом рывке, то сделал бы это. Но перед своим приближением он дал им рассеяться и распластаться по сморщенным стенам пещеры и пронесся, не причинив им вреда, хотя без труда мог бы своими рогами выдернуть их из плоских убежищ, как барвинки на поле. Гибким пламенем он развернулся там, где для разворота не было места, и встретил их снова: морда его почти касалась земли, а шея набухала огромной волной. Вот тогда–то он и заревел.
Они бежали, а он преследовал их: не так быстро, как нападал, но достаточно для того, чтобы все они бежали порознь, одинокие и беспомощные, без друзей в этой дикой тьме. Земля рвалась под их ногами, и они кричали в голос, но не могли услышать даже самих себя. Каждый рык Красного Быка вызывал на них со всех сторон камнепады и обвалы, а земля содрогалась под ними. И все же они стремились вперед, как полураздавленные насекомые, а он по–прежнему следовал за ними. Сквозь его безумный трубный рев до них донесся новый звук: глубокий и низкий вой самого замка, натянувшего все свои корни будто струны и флагом бившегося на ветру собственного проклятья. И очень слабо вверх по проходу им навстречу плыл запах моря.
Он знает, он знает! Я уже один раз его одурачил, но больше не выйдет. Женщина или единорог — на этот раз он затравит ее, загонит ее в море, как ему было велено, и никакое мое волшебство не отвратит его от этого. Хаггард победил. Так волшебник думал на бегу, впервые за свою долгую, странную жизнь распрощавшись со всеми надеждами. Проход внезапно расширился, и они оказались в каком–то гроте, который мог быть только берлогой Быка. Застарелая вонь его лежбища висела здесь так густо и долго, что теперь в ней была гнусная сладость; пещера, как гигантское чрево, переливалась багровым, словно свет Быка, тершегося о стены, оставался на них и запекался в морщинах и трещинах. Дальше опять уходил тоннель, в котором туманно поблескивала вода разбивавшегося прибоя.
Леди Амальтея упала так же окончательно, как ломается цветок. Шмендрик отпрыгнул вбок, поймав на лету Молли Грю и захватив ее с собой. Они оба жестко ударились о расколотый обломок скалы и пригнулись под ним, когда мимо, не оборачиваясь, в ярости пронесся Красный Бык. Но сделав один шаг и не сделав следующего, он вдруг остановился; и эта внезапная неподвижность — нарушаемая только его собственным дыханием и дальним звучанием жерновов моря — была бы нелепой, если бы не причина, вызвавшая ее.
Леди Амальтея лежала на боку с подвернутой ногой. Она медленно шевелилась, хотя не было слышно ни звука. Принц Лир стоял между ее телом и Быком, безоружный, но руки его были подняты так, словно он до сих пор держал меч и щит. В очередной раз за эту бесконечную ночь Принц повторил:
— Нет.
Он выглядел очень глупо и уже мог считаться растоптанным: Красный Бык не видел его и убил бы, даже не узнав, что он стоял на пути. Чудо — и любовь — и великая печаль сотрясли тогда Шмендрика–Волшебника и слились воедино внутри него, и заполнили его, и наполнили его до того, что он почувствовал себя полным до краев и истек тем, что не было ничем из всего, что его переполняло. Он не поверил, но оно все равно пришло к нему, как дважды касалось его прежде и оставляло его более бесплодным, чем до этого. На сей раз всего этого было слишком много, чтобы он мог его удержать: оно сочилось сквозь кожу, брызгало из пальцев, равно поднималось в глазах, в волосах и в углублениях его ключиц. Слишком много нужно было удержать, слишком много, чтобы когда–нибудь всем этим воспользоваться; но он понимал, что все же плачет от боли своей невозможной алчности. Он думал, или говорил, или пел: Я не знал, что был столь пуст, чтобы быть столь полным.
Леди Амальтея лежала там же, где упала, но теперь пыталась подняться, и Принц Лир по–прежнему охранял ее, воздев свои пустые руки против огромной фигуры, что громоздилась над ним. Кончик языка высовывался из уголка его рта, и Принц был так серьезен, что походил на ребенка, занятого разбиранием игрушки на части. Много долгих лет спустя, когда имя Шмендрика стало еще более великим, чем имя Никоса, и намного более ужасным, чем те имена, при одном звуке которых сдавались злобные африты, он никогда не мог сотворить ни малейшего чуда, не видя перед собою Принца Лира с прищуренными от яркости глазами и старательно высунутым кончиком языка.
Красный Бык опять топнул ногой — и Лир упал лицом вниз и поднялся снова, обливаясь кровью. В глубинах Быка зародилось ворчание, и слепая распухшая голова начала клониться вниз, как, чаша весов Страшного Суда. Доблестное сердце Лира повисло меж бледных рогов, уже почти стекая с них каплями, и сам он был уже почти раздавлен и разбросан: его рот слегка кривился, но он не двигался. Звук внутри Быка стал громче — а рога между тем опускались все ниже.
Тогда Шмендрик ступил на открытое место и произнес несколько слов. Это были короткие слова, неразборчивые ни по мелодии, ни по жесткости, и сам Шмендрик не мог их расслышать за ужасным воем Красного Быка. Но он знал, что они значили, и он точно знал, как их надо произносить, и он знал, что сможет произнести их снова, когда захочет — так же, как сейчас, или же по–другому. Сейчас он говорил их нежно и с радостью, и, произнося их, чувствовал, как бессмертие опадает с него словно латы — или словно саван.
При первых звуках заклинания Леди Амальтея вскрикнула тонко и горько. Она снова потянулась к Принцу Лиру, но тот стоял к ней спиной, защищая ее, и не мог ничего услышать. Молли Грю, полная сердечной боли, поймала Шмендрика за руку, но волшебник продолжал говорить. И даже когда там, где была Леди Амальтея, расцвело чудо — белое, как море, белое, словно море, безгранично прекрасное — так же, как был могущественен Бык, — Леди Амальтея все–таки льнула к самой себе еще какой–то миг. Ее там уже не было, но ее лицо все парило дыханием в холодном тошнотворном свете.
Принцу Лиру лучше было бы вовсе не оборачиваться, пока она не исчезла совсем, но он обернулся. Он увидел единорога, и девушка сияла в единороге, как в стекле, но он воззвал к другой — к отброшенной, к Леди Амальтее. Звук его голоса был ее концом: она сгинула, стоило ему выкрикнуть ее имя, будто прокукарекав наступление дня.
Все произошло и быстро, и медленно, как все и случается в снах, где «быстро» и «медленно» — на самом деле одно и то же. Единорог стояла очень спокойно, глядя на всех потерянными, нездешними глазами. Она казалась еще прекрасней, чем помнил Шмендрик, ибо никому не удается держать единорога в памяти слишком долго; и все же она стала не такой, как раньше — как и он сам, впрочем. Молли Грю бросилась было к ней, но единорог ничем не показала, что узнала ее. Дивный рог оставался тусклым, словно дождь.
С ревом, заставившим стены берлоги надуться колоколами и лопнуть цирковым шатром, Красный Бык во второй раз ринулся вперед. Единорог бежала через всю пещеру — и дальше, прочь, во тьму. Принц Лир, поворачиваясь, немного отступил в сторону и прежде, чем смог снова отскочить, был повержен наземь прыжком Быка. Его оглушило, и он упал с открытым ртом.
Молли хотела подбежать к нему, но Шмендрик схватил ее и потащил с собой вслед за Быком и единорогом. Ни одного из зверей видно уже не было, но тоннель еще грохотал от их отчаянного бега. Ошеломленная и растерянная, Молли спотыкалась рядом с яростным незнакомцем, который не давал ей упасть, но и шага своего не сбавлял. Она чувствовала, как и над ее головой, и вокруг них замок стонет и потрескивает в скале ослабленным зубом. У нее в памяти снова и снова брякал ведьмин стишок:
Их шаги вдруг задержал песок, а вокруг уже витал запах моря — тоже холодный, как и тот, другой, но такой хороший, такой дружелюбный, что они оба остановились и громко рассмеялись. Над ними, на вершине утеса замок Короля Хаггарда выплескивался к серо–зеленому утреннему небу, заляпанному жидкими молочными облачками. Молли была уверена, что сам Король, должно быть, наблюдает за ними с одной из трепетных башен, но увидеть его не могла. Несколько звезд все еще дрожали в тяжелом синем небе над водой. Прибоя не было, и лысый пляж серо и влажно поблескивал обнажившимися ракушками и медузами, а за дальним краем береговой полосы море выгибалось дугой тугого лука, и Молли поняла, что отлив кончился.
Единорог и Красный Бык стояли друг против друга прямо в изгибе этого лука, и спина единорога была обращена к морю. Бык надвигался на нее медленно, не атакуя, а почти нежно прижимая ее к воде и ни разу не притронувшись к ней. Она ему не сопротивлялась. Ее рог был темен, голова опущена, и Бык сейчас был настолько же ее повелителем, насколько и на равнине Хагсгейта — еще до того, как она стала Леди Амальтеей. Это могло бы показаться той же самой безнадежной зарей, если бы не море.
Однако, она была не совсем еще побеждена. Она пятилась, пока одной задней ногой не вступила в воду. При этом она сразу же прыгнула сквозь тусклое марево Красного Быка и побежала прочь по пляжу — так быстро и легко, что ветер, поднятый ее бегом, сметал с песка следы ее копыт. Бык бросился за нею.
— Сделай что–нибудь, — сказал Шмендрику хриплый голос, как когда–то давно говорила ему Молли. За его спиной стоял Принц Лир — лицо в крови, глаза безумны. Сейчас он был похож на Короля Хаггарда. — Сделай что–нибудь. У тебя есть сила. Ты превратил ее в единорога — теперь сделай что–нибудь, чтобы спасти ее. Я убью тебя, если ты этого не сделаешь. — И он показал волшебнику свои руки.
— Я не могу, — спокойно ответил ему Шмендрик. — Даже вся магия в мире не может ей теперь помочь. Если она не вступит с ним в бой, она должна будет уйти в море вместе с остальными. Ни волшебство, ни убийство не помогут ей.
Молли слышала, как маленькие волны шлепают по песку — начинался прилив. В воде она не видела никаких ворочавшихся единорогов, хотя изо всех сил искала их глазами, желая, чтобы они там оказались. Что если уже слишком поздно? Что если они уплыли вместе с последней волной отлива — прочь, в глубочайшее море, куда корабли не заплывают из–за кракенов и змеев, обитающих в плавучих джунглях из обломков тысяч кораблекрушений, в которых запутываются и тонут даже морские чудовища? Она их тогда никогда не найдет. Останется ли она со мной?
— Зачем же тогда вообще волшебство? — дико вскричал Принц Лир. — Что пользы в колдовстве, если оно не может спасти единорога? — Он жестко стиснул плечо волшебника, чтобы не упасть самому.
Шмендрик не повернул головы. С оттенком грустной насмешки в голосе он произнес:
— Вот для этого как раз и существуют герои.
За огромностью Быка они не могли рассмотреть единорога, но та внезапно повернулась и понеслась по пляжу тем же самым путем им навстречу. Слепой и терпеливый, словно море, Красный Бык преследовал ее, и его копыта выдавливали во влажном песке огромные канавы. Дым и пламя, брызги и буря — они слились воедино, ни одна из стихий не брала верх, и Принц Лир с пониманием тихо проворчал что–то, а потом добавил:
— Да, конечно… Именно для этого и существуют герои. Сами по себе колдуны не могут ничего значить, потому и говорят, что ничто ничего не значит, но герои предназначены для того, чтобы умирать за единорогов. — Он отпустил плечо Шмендрика, улыбаясь самому себе.
— В твоей аргументации есть один коренной недостаток… — негодующе начал Шмендрик, но Принц так никогда и не услышал, в чем тот заключался. Единорог сверкнула мимо них — ее дыхание парило белым и голубым, а голова была вздернута как–то чересчур уж высоко, и Принц Лир, прыгнув, встал на пути Красного Быка. На какой–то миг он исчез полностью, точно перышко в пламени. Бык пробежал над ним и оставил его лежать на земле. Одна сторона его лица как–то слишком глубоко вжалась в песок, а одна нога три раза дернулась в воздухе, прежде чем замереть неподвижно.
Он пал без единого крика, и Шмендрик с Молли были равно поражены молчанием, как и он сам, но единорог обернулась. Красный Бык тоже остановился, когда остановилась она, и начал обходить ее с одной стороны, чтобы она снова оказалась между ним и морем. Пританцовывая, он возобновил свое сминающее наступление, но внимание, которое она уделила ему, было не большим, чем если б он оказался женихавшимся петушком. Она стояла без движения и смотрела только на изломанное тело Принца Лира.
Прилив уже, рокоча, наступал, и пляж убывал ломтиками, становясь все уже и уже. Волны с гребешками и барашками разливались в распластавшемся рассвете, но Молли по–прежнему не видела ни одного единорога, кроме своего. Над замком небо было алым, и Король Хаггард стоял на самой высокой башне так же черно и отчетлииво, как дерево зимой. Молли могла разглядеть прямой шрам его рта и ногти, темневшие, когда он крепче сжимал пальцами парапет. Но замок же не может пасть сейчас, думала она. Только Лир мог бы заставить его пасть.
Внезапно единорог закричала. Ее крик был вовсе не похож на трубный вызов, которым она впервые встретила Красного Быка, — то был уродливый, квакающий вой тоски, утраты и ярости, каких никогда не испускало ни одно бессмертное существо. Замок колыхнулся, и Король Хаггард попятился, закрывая одной рукой лицо. Красный Бык чуть помедлил, шевеля в песке ногами и в сомнении пригибаясь.
Единорог вскричала вновь и поднялась на задние ноги, точно ятаган. Славный взмах ее тела заставил Молли зажмуриться, но она открыла глаза как раз вовремя, чтобы увидеть, как единорог прыгнула на Красного Быка — и Бык метнулся вбок, прочь с ее пути. Ее рог был светел снова, он пылал и вздрагивал мотыльком.
Она опять бросилась на Быка, и опять Бык отступил, тяжелый от охватившего его недоумения, но все еще быстрый, как рыба. Его собственные рога по цвету и подобию были молнией — и единорог спотыкалась и качалась от малейшего взмаха его головы; но он все отступал и отступал, неуклонно пятясь по берегу, как до этого пятилась она. Она же бросалась на него, нацеливаясь убить, но достичь его не могла. Она с таким же успехом могла бы делать выпады против тени или против воспоминания.
Так Красный Бык откатывался, не давая боя, пока она не подогнала его к самому краю воды. Там он и остановился намертво: прибой вихрился вокруг его копыт, и песок с шорохом бежал из–под них прочь. Бык не сражался и не убегал, и теперь она знала, что никогда не сможет уничтожить его. Но она все же приготовилась к следующему броску, пока Бык что–то изумленно бормотал своим горлом.
Для Молли Грю в этот стеклянный миг весь мир недвижно завис. Как если бы она стояла на башне, более высокой, чем башня Короля Хаггарда, и взглянула бы вниз, на бледную корку земли, где игрушечные мужчина и женщина глядели своими пришитыми глазами–бусинами на глиняного быка и единорога из слоновой кости. Забытые игрушки… Там была еще одна — полузасыпанная куколка, и замок из песка, где в одну из покосившихся башенок был воткнут король–палочка. Прилив зальет это все в одно мгновение, и не останется ничего, кроме дряблых птиц, прыгающих кругами по берегу.
Потом Шмендрик, встряхнув, притянул ее к своему боку и сказал:
— Молли.
Издалека, с моря, на них надвигались гребни глубинных волн — длинные, тяжелые валы, закручивавшиеся белым поперек своих зеленых сердцевин; они разбивали себя в дым на песчаных отмелях и скользких скалах и скрежетали по песчаному пляжу со звуком, похожим на пламя. Птицы подлетали вверх вопившими кучками, и их настойчивые крики негодования терялись в реве волн, словно булавки.
И в белизне, из белизны, расцветая в разорванной в клочья воде, с телами, измученными, исполосованными мраморными впадинами волн, с гривами, хвостами и хрупкими бородками самцов, пылая в солнечном свете, с глазами, такими же темными и драгоценными, как самое глубокое море — и в сиянии рогов, в перламутровом сиянии рогов!.. Рога близились к берегу, словно радужные мачты серебряных кораблей.
Но они не хотели выходить на сушу, пока там стоял Бык. Они кувыркались на отмелях, вихрями безумно кружились друг с другом, как испуганная рыбешка, когда выбирают сети: больше не с морем, а постепенно стряхивая его с себя. Каждый накат волн нес в себе сотни их и сбрасывал к тем, кто уже упирался, стараясь не оказаться вытолкнутым на берег, и они, в свою очередь, отчаянно вздымались вверх, становясь на дыбы, оступаясь и вытягивая свои длинные, облачные шеи далеко назад.
Единорог в самый последний раз опустила голову и бросила себя на Красного Быка. Если бы он был существом из подлинной плоти или же призраком из ветра, то от ее удара лопнул бы сгнившим плодом. Но он, ничего не заметив, развернулся и медленно пошел в море. Единороги яростно барахтались в воде, освобождая ему проход, топча и рассекая прибой и превращая его во взбаламученную дымку, в которой их рога зажигали радуги. А на берегу, на вершине утеса, и вдоль, и поперек — по всему королевству Хаггарда земля вздохнула, когда его тяжесть отошла от нее.
Он шел очень долго, прежде чем поплыть. Самые высокие морские валы разбивались, едва доходя ему до поджилок, а робкий прилив вообще убегал от него. Но когда, наконец, он отдался воле потока, то огромное море стеной встало за ним: зеленая и черная гора воды, глубокая, гладкая и жесткая, как ветер. Она собралась в молчании, складываясь от одного горизонта до другого, пока на мгновение взаправду не скрыла собой горба Красного Быка и его покатой спины. Шмендрик поднял на руки мертвого Принца, и они побежали вместе с Молли, пока лицо утеса не остановило их. Волна опала взрывом тучи цепей.
И тогда единороги из моря.
Молли никогда так и не разглядела их: они были светом, прыгавшим к ней, и криком, слепивщим ей глаза. Она была достаточно мудра, чтобы понимать: ни одному смертному никогда не суждено увидеть всех единорогов на свете, — и поэтому пыталась найти только свою и смотреть только на нее. Но их там было слишком много, и все они были слишком прекрасны. Слепая, как Бык, она двинулась, чтобы встретить их, протягивая к ним руки.
Единороги, конечно, сбили бы ее наземь, как Красный Бык растоптал Принца Лира, — они обезумели от свободы. Но Шмендрик заговорил, и они устремились влево и вправо от Молли, Лира и его самого, а некоторые даже перепрыгивали через их головы — так море разбивается о камень, а потом, вихрясь, смыкается вновь. Вокруг Молли со всех сторон тек и цвел свет, такой же невозможный, как подожженный снег, а тысячи раздвоенных копыт пели вокруг цимбалами. Она стояла очень тихо, ни плача и ни смеясь, ибо ее радость была слишком велика для того, чтобы ее могло понять тело.
— Посмотри наверх, — сказал Шмендрик. — Замок падает.
Она обернулась и увидела: башни тают, единороги вскакивают на утес и обтекают их со всех сторон, будто те и впрямь слеплены из песка, и теперь их затапливает море. Замок рушился огромными холодными шматами, которые становились тонкими и восковыми, едва начинали кружиться в воздухе на пути к полному исчезновению. Он крошился и испарялся беззвучно, после него не оставалось развалин — ни на земле, ни в воспоминаниях тех двоих, что смотрели на его падение. Минуту спустя они уже не могли вспомнить ни где он стоял, ни как он выглядел.
Король же Хаггард, который сам по себе был достаточно реален, падал вниз сквозь обломки своего расколдованного замка, будто нож, уроненный с облаков. Молли слышала, как он засмеялся, точно давно ожидал этого: немногое могло вообще когда–либо удивить Короля Хаггарда.
XIV
Как только море взяло обратно отпечатки их копыт, похожие на алмазы, не осталось больше ни единого знака того, что они здесь когда–то были, — как и следов замка Короля Хаггарда. Вот только единорогов Молли Грю помнила очень хорошо.
— Хорошо, что она ушла, не попрощавшись, — говорила она себе. — Я была бы глупой. Я через минуту вое равно буду глупой, но на самом деле лучше все–таки вот так. — И тут тепло шевельнулось у нее на щеке, солнечным зайчиком скользнуло в волосы. Она обернулась и обхватила руками шею единорога.
— О, ты осталась! — прошептала она. — Ты осталась! — Она уже собралась было стать совсем глупой и спросить: — А ты останешься еще? — Но единорог нежно ускользнула от нее и отошла туда, где лежал Принц Лир, и его темно–синие глаза уже начинали утрачивать свой цвет. Она встала над ним так же, как он чуть раньше охранял Леди Амальтею.
— Она может восстановить его, — мягко вымолвил Шмендрик. — Рог единорога — противоядие от самой смерти.
Молли пристально посмотрела на него, как уже давно не смотрела, и увидела, что он, наконец, пришел к своей силе и к своему началу. Она не смогла бы сказать, почему она это поняла, ведь вокруг его головы но пылало в этот миг никакой яркой славы, никаких узнаваемых знамений не случалось в его честь. Он оставался обычным Шмендриком–Волшебником — и все же она увидела его как будто впервые.
Долго единорог стояла над Принцем Лиром, прежде чем коснуться его рогом. Несмотря на то, что ее странствие завершилось радостью, в том, как она держала себя, виделась усталость, а в ее красоте — печаль, которой Молли никогда прежде не замечала. Ей вдруг показалалось, что печаль единорога была не по Лиру, но по той утраченной девушке, которую уже нельзя было вернуть, по Леди Амальтее, которая могла бы впредь счастливо жить со своим Принцем. Единорог склонила голову, и ее рог как взглядом скользнул по подбородку Лира — так же неуклюже, как первый поцелуй.
Он сел, моргая и улыбаясь чему–то очень давнему.
— Папа, — произнес он быстрым недоуменным голосом. — Папа, мне приснился сон. — Потом он увидел единорога и поднялся на ноги, и кровь на его лице засияла и зашевелилась снова. Он сказал: — Я был мертв.
Единорог еще раз коснулась его — над сердцем — и позволила своему рогу задержаться там чуть дольше. Оба они дрожали. Принц Лир вытянул к ней руки, как слова. Она ответила:
— Я помню тебя. Я помню.
— Когда я был мертв… — начал Принц Лир, но ее рядом уже не было. Ни один камень не громыхнул ей вслед, ни травинки не вырвалось из земли, когда она вспрыгнула на утес: она ушла легко, как тень птицы; и когда она оглянулась, согнув одну ногу и чуть приподняв раздвоенное копыто, и свет солнца заиграл на ее боках, и ее голова и шея показались до нелепости хрупкими под бременем рога, — тогда каждый из троих, оставшихся внизу, от боли воззвал ей вслед. Она отвернулась и пропала; но Молли Грю видела, что их голоса, как стрелы, попали точно в нее, и еще больше своего желания, чтобы единорог вернулась, она пожалела, что закричала ей вслед.
Принц Лир сказал:
— Как только я увидел ее, я понял, что был мертв. Так было и в тот, другой раз, когда я выглянул из башни своего отца и увидел ее. — Затем он взглянул вверх, и дыхание его затаилось. Это был единственный звук скорби по Королю Хаггарду, который издало какое бы то ни было живое существо. — Это я? — прощептал он. — В проклятье говорилось, что я стану тем, кто ниспровергнет замок, но я бы никогда этого не сделал. Это было для меня нехорошо — но нехорошо только потому, что я был не тем, кем он хотел, чтобы я был. Это я сделал так, что он пал?
Шмендрик ответил:
— Если бы ты не попытался спасти единорога, она бы никогда не встала против Красного Быка и не прогнала бы его в море. Это Красный Бык заставил море переполниться и тем самым освободил остальных единорогов, а они уже уничтожили замок. Поступил бы ты иначе, зная все это?
Принц Лир покачал головой, но ничего не сказал. Молли спросила:
— Но почему Бык бежал от нее? Почему он не остановился и не принял бой?
Когда они всмотрелись в море, то не увидели там ни следа Быка, хотя он, конечно же, был слишком огромен, чтобы уплыть так далеко за такое короткое время. Но достиг он какого–то другого берега, или же вода, наконец, втянула в себя даже его гигантскую тушу, никто из них не узнал еще очень и очень долго, и больше его никогда не видели в том королевстве.
— Красный Бык никогда не принимает бой, — сказал Шмендрик. — Он покоряет, но бой никогда не принимает. — Он обернулся к Принцу Лиру и положил руку ему на плечо. — Теперь ты — Король, — произнес он. Еще он дотронулся до Молли, произнеся что–то, скорее похожее на свист, чем на слово, и они втроем поплыли по воздуху к вершине утеса, точно венчики молочая. Молли нисколько не испугалась. Волшебство подняло ее так нежно, как будто она была музыкальной нотой, а оно ее пело. Она чувствовала, что это волшебство никогда не было очень далеко от того, чтобы стать диким и опасным, но ей все–таки было жаль, когда оно опустило ее на землю.
От замка не осталось ни единого камня, ни единого шрама. Даже земля была нисколько не бледнее в том месте, где он стоял. Четверо юношей в ржавых поломанных латах бродили, разинув рты, по исчезнувшим коридорам, снова и снова возвращаясь в то отсутствие, которое когда–то было большим залом. Заметив Лира, Молли и Шмендрика, они, хохоча, подбежали. Перед Лиром они упали на колени и хором вскричали:
— Ваше Величество! Да здравствует Король Лир!
Лир залился краской и попытался собственноручно поднять их на ноги.
— Не стоит, не стоит, — бормотал он. — Вы кто? — Он в изумлении вглядывался то в одно лицо, то в другое… — Я знаю вас — я действительно знаю вас, но как это может быть?
— Это правда, Ваше Величество, — со счастливым смехом ответил первый молодой человек. — Мы действительно всадники Короля Хаггарда — те же самые, что служили ему столько холодных и утомительных лет. Мы сбежали из замка после того, как вы исчезли в часах, потому что Красный Бык ревел, все башни шатались — и мы испугались. Мы знали, что старое проклятье должно, наконец, исполниться.
— Огромная волна захлестнула замок, — сказал второй всадник, — точно как и предсказала ведьма. Я видел, как эта волна стекала по утесу — медленно, словно снег; а почему нас не унесло вместе с ней, я сказать не могу.
— Волна расступилась и обошла нас, — сказал еще кто–то. — Я никогда не видел, чтобы волны так поступали. Но это была все равно странная вода — как призрак волны, кипевший радужным светом, и на какой–то миг мне показалось… — Он протер глаза, пожал плечами и беспомощно улыбнулся. — Не знаю. Это было как сон.
— Но что же с вами со всеми случилось? — спросил Лир. — Когда я родился, вы уже были стариками, а теперь вы моложе меня. Что это за чудо?
Трое говоривших хихикнули и омушенно переглянулись, а четвертый ответил:
— Это — чудо истинного смысла того, что мы сказали. Однажды мы сболтнули Леди Амальтее, что снова станем молодыми, если она этого пожелает, — и, должно быть, мы в тот раз сказали правду. Где она? Мы придем ей на помощь, даже если это значит вступить в схватку с самим Красным Быком.
Король Лир ответил:
— Ее нет. Найдите моего коня и оседлайте его. Найдите моего коня! — Его голос был шершавым и голодным, — и всадники поспешили подчинитьея своему новому господину.
Но Шмендрик, стоявший за его спиной, спокойно сказал:
— Ваше Величество, этому не бывать. Вы не должны следовать за ней.
Король обернулся и стал похож на Хаггарда.
— Волшебник, она — моя! — Он сделал паузу, а потом продолжил более мягким тоном, близким к мольбе: — Она дважды подняла меня из мертвых, и чем я буду без нее, как не мертвецом в третий раз? — Он схватил Шмендрика за запястья хваткой, достаточно крепкой, чтобы перемолоть волшебниковы кости в порошок, но тот не шевельнулся. — Я — не Король Хаггард, — продолжал Лир. — У меня нет желания пленить ее — я хочу лишь потратить свою жизнь на то, чтобы следовать за ней, отставая на мили, лиги, даже на целые годы, никогда, возможно, не видя ее, но довольствуясь этим. Это мое право. Герою полагается его счастливое окончание сказки, когда оно, в конце концов, наступает.
Но Шмендрик ответил ему:
— Это не конец — ни для вас, ни для нее. Вы — Король опустошенной земли, где никогда не было иного короля, кроме страха. Ваше истинное дело только началось, и вы можете за всю свою жизнь не узнать, удалось ли оно вам, — если только вас не постигнет неудача. Что же касается ее, то она сама — история без окончания, счастливая или же грустная. Она никогда не сможет принадлежать ничему достаточно смертному для того, чтобы желать ее. — И, что было самым странным, он обхватил молодого короля руками, и так они простояли некоторое время. — И все же будьте довольны, мой Лорд, — тихим голосом продолжал волшебник. — Ни один человек не удостаивался большей милости от нее, чем вы, и никто больше не будет благословен ее воспоминанием. Вы любили ее и служили ей — удовольствуйтесь и будьте королем.
— Но это не то, чего я хочу! — вскричал Лир. Волшебник не ответил ему ни словом, а лишь взглянул на него. Синие глаза пристально посмотрели в зеленые; лицо, ставшее сухим и повелительным, — в лицо, не бывшее никогда ни столь привлекательным, ни столь смелым. Король начал морщиться и моргать, словно смотрел на солнце, и совсем немного погодя вовсе опустил глаза и пробормотал:
— Так тому и быть. Я останусь и буду править в одиночестве этим жалким народом на земле, которую ненавижу. Но радости в моем правлении будет не больше, чем у бедняги Хаггарда за всю его жизнь.
Маленький осенний кот с вывернутым ухом спокойно вышел из какой–то потайной складки воздуха и зевнул Молли. Та прижала его к лицу, и он немедленно запутался лапами у нее в волосах. Шмендрик улыбнулся и сказал Королю:
— Мы должны сейчас оставить вас. Но не желаете ли вы пойти с нами и в дружбе проводить нас до пределов своих владений? Между «здесь» и «там» есть множество того, что заслуживает вашего изучения, а я могу вам обещать, что там найдутся и кое–какие знаки единорогов.
Тогда Король Лир снова крикнул, чтобы ему подавали коня, и его люди искали коня, и нашли его; но не было лошадей для Шмендрика и Молли. Однако, когда люди вернулись с королевским конем, то обернулись, следя за изумленным взглядом Короля, и увидели еще двух лошадей, покорно бредших за ними: вороную и каурую, уже оседланный и взнузданных. Себе Шмендрик взял вороную, а каурую отдал Молли. Та сначала испугалась их:
— Они — твои? — спросила она волшебника. — Ты их сделал? Ты теперь можешь просто так делать вещи? — Шепот Короля эхом отозвался на ее изумление.
— Я нашел их, — ответил Шмендрик. — Но то, что я имею в виду под нахождением, — совсем не то, что ты имеешь в виду. Не спрашивай меня больше. — Он поднял ее в седло, а затем вскочил на коня сам.
Так они втроем отправились вдаль, а всадники шли за ними пешком. Никто из них не оглядывался, ибо позади нечего было видеть. Только Король Лир сказал однажды, не обернувшись:
— Странно: когда вырос и возмужал где–то, а потом это место вдруг пропало, и все изменилось — и вдруг стать королем. Было ли вообще все это настоящим? Настоящий ли тогда я сам?
Шмендрик ничего не ответил.
Король желал ехать вперед быстрее, но волшебник сдерживал его, выбрав неторопливый темп езды и окружную дорогу. Когда тот стал недовольно бурчать, ему указали на необходимость заботы о людях, идущих пешком, хотя королевские всадники каким–то чудесным образом ни разу за все путешествие не устали. А Молли вскоре поняла, почему медлил волшебник: он хотел заставить Лира дольше и внимательнее рассматривать свои владения. И, к собственному удивлению, она обнаружила, что на эту землю действительно стоило взглянуть.
Ибо очень медленно, но весна возвращалась в бесплодную страну, которая когда–то была страной Хаггарда. Посторонний не заметил бы разницы, но Молли было видно, что усохшая почва постепенно становилась ярче от легкой зелени — робкой, будто дымок. Скорчившиеся сучковатые деревья, до сих пор никогда не знавшие цвета, распускались цветочками так же осторожно, как армия высылает вперед своих разведчиков; пересохшие ручьи начинали шелестеть в своих руслах, а маленькие зверюшки — перекликаться друг с другом. Запахи проскальзывали мимо путешественников лентами: запахи бледной травки и жирной черной грязи, меда и орехов, мяты, сена и гниющего яблоневого дерева. Даже свет полуденного солнца пах нежно и щекотал в носу — Молли узнала бы этот запах, где бы она ни находилась. Она ехала бок о бок со Шмендриком, наблюдая за деликатным пришествием весны и размышляя о том,что весна эта пришла и к ней — хоть и поздно, зато надолго.
— Здесь проходили единороги, — шепнула она волшебнику. — Причина — в этом? Или это потому, что пал Хаггард и ушел Красный Бык? Что это, что это происходит?
— Всё, — ответил он ей. — Всё, всё сразу. Это не одна весна, а пятьдесят; и исчезли не один–два маленьких кошмара, а тысяча маленьких теней поднята с земли. Подожди и увидишь. — И добавил — уже так, чтобы слышал Лир: — Ведь это — не самая первая весна, что пришла сюда. Давным–давно здесь была хорошая земля, и чтобы стать такой снова, она желает немного — всего лишь истинного короля. Посмотрите, она смягчается перед вами.
Король Лир ничего на это не сказал, но взор его блуждал влево и вправо, когда он ехал по своей стране, и он не мог не замечать, как она созревает. Даже недоброй памяти долина Хагсгейта шевелилась от пробуждения всевозможных полевых цветов — водосборов и колокольчиков, лаванды и люпина, наперстянки и тысячелистника. Выбоины от копыт Красного Быка смягчались мальвами.
Когда же они на исходе дня добрались до Хагсгейта, странное и дикое зрелище открылось их глазам. Вспаханные поля были безжалостно изрыты и изодраны, а богатые сады и виноградники — вытоптаны так, что ни единое дерево, ни единая лоза не остались целыми. Опустошение было настолько потрясающим, что, казалось, принес его сам Бык; а Молли поняла, что напасти, которые люди Хагсгейта сбивали со следа пятьдесят лет, обрушились на город все сразу, точно так же, как множество весен начинало, наконец, согревать всю остальную землю. В позднем свете затоптанная почва походила на странный пепел. Король Лир тихо спросил:
— Что это?
— Поедемте дальше, Ваше Величество, — ответил волшебник. — Поедемте дальше.
Солнце уже садилось, когда они миновали опрокинутые городские ворота и медленно повели своих лошадей по улицам, загроможденным шкафами, пожитками и битым стеклом, обломками стен и окон, труб, стульев, кухонной посуды, крыш, ванн, постелей, каминов и трюмо. Каждый дом в Хагсгейте был снесен, все, что могло быть сломано, было сломано. На город как будто наступили. Жители сидели у своих порогов — то есть, там, где они были в состоянии их найти, — прикидывая нанесенный ущерб. У них всегда был вид нищих, даже посреди всего былого изобилия, и настоящее бедствие, казалось, принесло им почти что облегчение — беднее, во всяком случае, они не выглядели. Они едва заметили подъезжавшего к ним Лира, пока тот не сказал:
— Я Король. Что постигло вас здесь?
— Землетрясение, — мечтательно промычал один человек, но другой немедленно стал противоречить ему:
— Это была буря, с северо–востока, прямиком с моря. Она растрясла город на кусочки, а ураган грянул, как грохот копыт.
Еще кто–то спорил с этими двумя и настаивал на том, что Хагсгейт накрыло огромной волной: то был прилив, говорил он, белый, как кизиловое дерево, и тяжелый, как мрамор, — он не утопил никого, но все разбил. Король Лир слушал их, мрачно улыбаясь.
— Послушайте, — сказал он, когда те закончили говорить. — Король Хаггард мертв. Я — Лир, сын Хагсгейта. Меня бросили после рождения, чтобы не сбылось проклятье ведьмы и этого, — он обвел рукой разбитые строения, — не произошло. Жалкие, глупые люди, единороги вернулись — единороги, на которых охотился Красный Бык, как вы все хорошо видели, но притворялись, что не замечаете. Это они снесли и замок, и город. Вас же уничтожили ваша жадность и ваш страх.
Жители потерянно вздыхали в ответ, и лишь одна женщина средних лет выступила вперед и сказала с некоторым чувством:
— Это все, наверное, не совсем справедливо, мой Лорд, с вашего позволения. Что мы могли сделать, чтобы спасти единорогов? Мы боялись Красного Быка. Что мы могли сделать?
— Хватило бы одного слова, — ответил Король Лир. — Теперь вы этого уже никогда не поймете.
Тут бы он повернул коня и оставил их там, где они были, как вдруг слабый, заискивающий голос позвал его:
— Лир… маленький Лир… дитя мое, мой король!..
Молли и Шмендрик узнали человека, который, шаркая, шел к ним, раскрыв объятия, хрипя и хромая, как будто был старше, чем на самом деле. То был Дринн.
— Кто ты? — строго спросил Король. — Что тебе нужно от меня?
Дринн, хватаясь за стремя, ткнулся носом в его сапог:
— Ты не знаешь меня, мой мальчик? Нет… откуда же? Достоин ли я того, чтобы ты узнал меня? Я твой отец, твой бедный старый отец, свихнувшийся от радости. Я тот, кто оставил тебя на рыночной площади однажды зимней ночью много лет назад и тем самым вручил тебя твоей героической судьбе. Как же мудр я был и как печален я был так долго — и как горд я сейчас! Мой мальчик, мой маленький мальчик! — Настоящими слезами он плакать не мог, но из носа у него текло.
Без единого слова Король Лир натянул поводья — и его конь стал медленно выбираться из толпы. Старый Дринн позволил своим простертым рукам упасть вниз.
— Вот что значит иметь детей! — проскрипел он. — Неблагодарный сын, ты покинешь своего отца в его горестный час, когда одного слова твоего любимца–колдуна хватит, чтобы все исправить? Презирай меня, если хочешь, но я сыграл свою роль в том, чтобы посадить тебя туда, где ты сейчас сидишь, и не смей этого отрицать! У низости тоже есть свои права.
Король по–прежнему не хотел оборачиваться, но Шмендрик коснулся его руки и склонился к его уху:
— Это правда, знаете ли, — прошептал он. — Но для него, для них всех сказка обернулась бы совсем иначе, и кто может сказать, был бы тогда конец таким же счастливым, как вот этот? Вы должны быть их королем и править ими так же милостиво, как если б они были народом храбрым и верным. Ибо они — часть вашей судьбы.
Тогда Лир поднял руку перед людьми Хагсгейта, а они толкались и пихали друг друга локтями, призывая к тишине. Он сказал:
— Сейчас я должен ехать с моими друзьями, составляя им в пути компанию. Но я оставлю здесь своих всадников, и они помогут вам начать строительство заново. Когда я вернусь через некоторое время, то и я вам помогу. Я не стану закладывать себе нового замка, пока не увижу, как Хагсгейт воздвигнется вновь.
Они начали горько стенать, что Шмендрик мог бы все это сделать в один момент посредством своей магии. Но тот им ответил:
— Я не смог бы сделать этого, если бы даже захотел. Есть законы, управляющие искусством колдуна, так же, как есть законы моря и законы времен года. Волшебство однажды сделало вас состоятельными, когда все остальные на вашей земле были бедны. Но теперь ваши дни процветания окончены, и вы должны начать все заново. Что было пустошью во времена Хаггарда, зазеленеет и снова станет щедрым, Хагсгейт же будет обеспечивать вам существование столь же скудное, сколь жалки сердца, обитающие в нем. Вы можете снова засевать свои акры, поднимать свои павшие сады и виноградники, но они никогда не станут процветать, как это было в прошлом, — никогда, пока вы не научитесь радоваться им просто так, без всякой причины. — Он посмотрел на молчавших жителей Хагсгейта без гнева во взгляде: там была одна лишь жалость. — На вашем месте я бы завел детей, — сказал он. А затем обратился к Королю Лиру: — Как скажет Ваше Величество? Мы сегодня переночуем здесь, а с зарей двинемся дальше?
Но Король повернулся и тронулся прочь из разрушенного Хагсгейта, пришпоривая коня что было сил. Много времени прошло, прежде чем Молли с волшебником догнали его, и еще очень долго они не укладывались в ту ночь спать.
Много дней ехали они по владениям Короля Лира, и с каждым днем все меньше узнавали их и все больше ими восхищались. Весна бежала пред ними быстрым огнем, одевая все, что было нагим, и раскрывая все, что уже давно было накрепко закрыто, касаясь земли, как единорог коснулась Лира. Всевозможная живность — от медведей до черных жуков — баловалась, возилась или суетилась у них на пути, а высокое небо, что раньше было таким же песчаным и безводным, как и сама земля, теперь цвело птицами, вившимися так густо, что большую часть дня казалось, что близится закат. Рыба прыгала и резвилась в ручьях, быстро убегавших вдаль, а дикие цветы носились вниз и вверх по склонам холмов, как сбежавшие на волю пленники. Вся эта земля шумела жизнью, а по ночам троим путешественникам не давала уснуть молчаливая радость цветов.
Жители деревень приветствовали их с опаской и лишь чуть–чуть приветливее, чем в ту пору, когда Шмендрик и Молли проходили здесь в первый раз. В тех местах только глубокие старики когда–либо прежде видели весну, а многие вообще подозревали, что вся эта буйная зелень — либо эпидемия, либо интервенция. Тогда Король Лир говорил им, что Хаггард умер, а Красный Бык ушел навсегда, приглашал их посетить свой новый замок, когда тот будет выстроен, и ехал дальше.
— Им понадобится некоторое время, чтобы уютно чувствовать себя среди цветов, — говорил он.
Где бы они ни остановились, он пускал весть, что все разбойники прощены, и Молли надеялась, что эта новость дойдет до Капитана Шалли и его веселой ватаги. Так и случилось — и вся веселая ватага немедленно бросила жить в зеленых лесах, кроме самого Шалли и Джека Дзингли. Те вдвоем принялись за ремесло бродячих менестрелей и, как сообщалось, приобрели значительную популярность в провинциях.
Однажды ночью трое путешественников расположились на ночлег в высокой траве на самой дальней границе королевства Лира. Король собирался попрощаться с Молли и волшебником на следующее утро и возвращаться после этого в Хагсгейт.
— Будет одиноко, — говорил он в темноте. — Лучше б я поехал с вами и не был королем.
— О, вы привыкнете, и вам понравится, — ответил Шмендрик. — Лучшие молодые люди из деревни будут приближены к вашему двору, и вы научите их быть рыцарями и героями. Мудрейшие из министров будут давать вам советы, самые искусные музыканты, жонглеры и рассказчики будут искать вашей милости. И еще будет принцесса — не сразу, конечно, со временем — она либо убежит от своих неимоверно злых отца и братьев, либо, наоборот, будет искать для них справедливости. Возможно, вы о ней услышите — о бедняжке, запертой в крепости крепче кремня и алмаза, с единственным спутником — паучком, полным к ней сострадания…
— Мне наплевать на это, — сказал Король Лир. Он молчал так долго, что Шмендрик решил, что он заснул, но тот, наконец, сказал: — Если б я мог увидеть ее хотя бы еще один раз, чтобы рассказать все, что у меня на сердце. Она никогда не узнает что я действительно собирался сказать. Ты ведь обещал, что я ее увижу.
Волшебник ответил ему резко:
— Я обещал только, что вы увидите какие–то знаки единорогов, — и вы их увидели. Ваши владения благословенны больше, чем заслуживает любая земля, потому что они прошли по ним свободными. Что же касается вас, вашего сердца и того, что вы сказали и чего не сказали, то она будет помнить это все, даже когда люди останутся только в детских сказках, написанных кроликами. Подумайте об этом и успокойтесь.
После этого Король больше не говорил, а Шмендрик пожалел о своих словах.
— Она коснулась вас дважды, — промолвил он через некоторое время. — Первый раз — чтобы вы снова вернулись к жизни, а второй — ради вас самого.
Лир ничего не ответил, и волшебник так никогда и не узнал: услышал тот его или нет.
Шмендрику приснилось, что единорог пришла и остановилась подле него на восходе луны. Тонкий ночной ветерок ерошил и трепал ее гриву, а луна сияла на ее маленькой голове, вылепленной из снежных хлопьев. Он знал, что это сон, но был счастлив увидеть ее.
— Как ты прекрасна, — сказал он. — Я тебе так этого и не сказал.
Он бы разбудил остальных, но ее глаза пропели ему предупреждение так ясно, будто были двумя испуганными птичками, и он понял, что если сдвинется с места, чтобы позвать Молли и Лира, то разбудит только самого себя, а она исчезнет. Поэтому он лишь сказал:
— Я думаю, они любят тебя больше, хотя я тоже стараюсь, как могу.
— Вот почему, — ответила она, и он не смог понять, чему она отвечала. Он лежал очень тихо, надеясь, что сможет вспомнить точную форму ее ушей, когда проснется утром. Она сказала: — Ты теперь — истинный и смертный колдун, как тебе всегда хотелось. Счастлив ли ты?
— Да, — ответил он со спокойным смехом. — Я — не бедный Хаггард, чтобы терять желание своего сердца в обладании тем, чего желаю. Но есть колдуны и колдуны; есть черная магия и есть белая магия — и бесчисленные оттенки серого между ними, и я теперь вижу, что все это — одно и то же. Предпочту ли я быть тем, кого люди назовут мудрым и добрым волшебником, который помогает героям, перечит ведьмам, злобным лордам и несговорчивым родителям, вызывает дождь, лечит сибирскую язву и безумные порывы, снимает котов с деревьев, — или предпочту реторты, полные эликсиров и эссенций, порошки, травы и отравы, запертые на замки книги некромантов, переплетенные в кожи, которым лучше оставаться неназванными, мутный туман, собирающийся в каморке, и сладкий голос, пришепетывающий в нем? Какая разница, ведь жизнь коротка, и смогу ли я в ней много помочь или много навредить? У меня, наконец, есть моя сила, но мир по–прежнему слишком тяжел для того, чтобы я мог его сдвинуть, хотя мой друг Лир, может быть, считает иначе. — И он снова засмеялся в этом своем сне — чуточку грустно…
Единорог промолвила:
— Это правда. Ты — человек, а люди не могут сделать ничего, что имело бы какое–нибудь значение. — Но ее голос был странно медленен и чем–то отягощен. — Что же ты предпочтешь?
Волшебник рассмеялся в третий раз:
— О, это вне всякого сомнения будет добрая магия, поскольку тебе она понравится больше. Не думаю, что когда–нибудь увижу тебя снова, но я буду стараться делать то, что доставило бы тебе удовольствие, если бы ты об этом знала. А ты — где будешь ты весь остаток моей жизни? Я думал, ты уже давно ушла домой, в свой лес.
Она чуть отвернулась в сторону, и внезапный свет звезд, осветивший ее плечи, придал всей его болтовне о магии привкус песка в горле. Бабочки, мошкара и другие ночные насекомые, слишком мелкие для того, чтобы быть чем–то в отдельности, подлетали и медленно танцевали вокруг ее яркого рога, но она не выглядела от этого глупо, — наоборот, было похоже, что они, мудрые и милые, прилетели сюда в ее честь. Кот Молли терся об ее передние ноги, бродя между ними туда и сюда.
— Остальные ушли, — сказала она. — Они разбрелись по тем лесам, откуда пришли, не парами, но поодиночке, и люди будут замечать их не чаще и не легче, чем если бы они по–прежнему оставались в море. Я тоже вернусь в свой лес, но не знаю, буду ли я жить в довольстве там или же где–нибудь еще. Я была смертной, и какая–то часть меня все еще смертна. Я полна слез, голода и страха смерти, хотя не могу плакать, ничего не желаю и не могу умереть. Я теперь — не как другие, ибо никогда не рождался единорог, который мог бы сожалеть, но я — я могу. Я сожалею.
Шмендрик спрятал лицо, как дитя, хоть он и был великим волшебником.
— Прости меня, прости меня, — бормотал он в собственные запястья. — Я причинил тебе зло, как Никос — тому, другому единорогу, с тем же самым благим намерением, и переделать все это могу не больше, чем он. Мамаша Фортуна, Король Хаггард и Красный Бык вместе взятые были добрее к тебе, чем я.
Но она ответила ему нежно:
— Мой народ снова есть на свете. Никакая печаль не поселится во мне так надолго, как эта радость, — кроме одной, а я благодарю тебя и за нее тоже. Прощай, добрый волшебник. Я попытаюсь пойти домой.
Не раздалось ни единого звука, когда она покидала его, но он проснулся, а кот с вывернутым ухом одиноко мяукнул. Повернув голову, он увидел, как лунный свет подрагивает в открытых глазах Короля Лира и Молли Грю. Все трое лежали без сна до самого утра, и никто из них не произнес ни слова.
На заре Король Лир поднялся и оседлал своего коня. Прежде, чем сесть в седло, он сказал Шмендрику и Молли:
— Я бы хотел, чтобы вы однажды приехали повидать меня.
Они заверили его, что приедут, но он все еще медлил, наматывая на пальцы болтавшиеся поводья.
— Она приснилась мне сегодня ночью! — сказал он.
Молли воскликнула:
— И мне тоже! — А Шмендрик открыл рот, но потом снова закрыл его.
Король Лир хрипло вымолвил:
— Во имя нашей дружбы умоляю вас — расскажите, что она вам сказала. — Он стиснул руку каждого из них — и его хватка была холодной и болезненной.
Шмендрик слабо улыбнулся ему в ответ:
— Мой Лорд, я так редко запоминаю свои сны. Мне кажется, что мы с важностью беседовали о каких–то глупостях, как это обычно бывает — о суровой чепухе, пустой и эфемерной… — Король отпустил его руку и перевел полубезумный взгляд на Молли Грю.
— Я никогда вам не скажу, — ответила та немного испуганно, но странно при этом покраснела. — Я помню, но не скажу никому, если даже придется за это умереть — даже вам, мой Лорд. — Говоря это, она смотрела не на него, а на Шмендрика.
Король Лир уронил и ее руку, а потом бросил себя в седло так яростно, что конь попятился к восходу, затрубив, как жеребенок. Но Лир удержался на нем и сверху метнул взгляд на Молли и Шмендрика: его лицо было таким мрачным, изрубленным и впавшим, что могло показаться, будто он был королем ровно столько же, сколько до него сам Хаггард.
— Она ничего мне не сказала, — прошептал он. — Понимаете? Она мне ничего не сказала, ни единого слова.
Затем его лицо смягчилось точно так же, как лицо Короля Хаггарда становилось нежнее, когда тот наблюдал за единорогами в море. На этот единственный миг он снова стал тем молодым принцем, которому нравилось сидеть с Молли в каморке за кухней. Он сказал:
— Она смотрела на меня. Во сне она лишь смотрела на меня и ничего не говорила.
Он уехал прочь, не попрощавшись, и они провожали его взглядом, покуда он не скрылся за холмами — прямой, печальный всадник, возвращавшийся домой, чтобы быть королем. Молли не выдержала:
— Ох, бедняга. Бедный Лир.
— У него все вышло далеко не худшим образом, — ответил волшебник. — Великим героям нужны великие печали и тяготы, или половина их величия проходит незамеченной. Все это — часть волшебной сказки. — Но в его голосе звучало немного сомнения, и он мягко обнял Молли за плечи. — Если любишь единорога, — продолжал он, — это не может быть несчастьем. Это несомненно должно быть самым драгоценным везением, хотя оно достается тяжелее всего.
Вскоре он отстранил ее от себя и, касаясь ее одними кончиками пальцев, спросил:
— Ну, так теперь ты мне скажешь, что же она тебе сказала?
Но Молли Грю только рассмеялась в ответ и покачала головой, и волосы ее рассыпались, и она стала еще прекраснее Леди Амальтеи. Волшебник вздохнул:
— Очень хорошо. Тогда я снова найду единорога, и она, вероятно, скажет мне это сама.
И он спокойно отвернулся, свистом подзывая к себе лошадей.
Молли не вымолвила ни слова, пока он седлал свою лошаль, но стоило ему приняться за ее каурую кобылку, как она положила руку ему на плечо:
— А ты думаешь… ты действительно надеешься, что мы сможем ее найти? Я кое–что забыла ей сказать.
Шмендрик взглянул на Молли через плечо. В утреннем свете солнца его глаза казались веселыми, словно трава; но когда он то и дело наклонялся и попадал в тень лошади, в его взгляде шевелилась более глубокая зелень — зелень сосновых иголок, в которой есть слабая прохладная горечь. Он ответил:
— Я боюсь этого — ради нее самой. Это будет значить, что она сейчас тоже скиталец, а скитания — удел людей, а не единорогов. Но я надеюсь — конечно, я надеюсь. — Затем он улыбнулся Молли и взял ее ладонь в свою. — Все равно, коль скоро ты и я должны выбрать одну дорогу из многих, что ведут в конце в одно и то же место, то с таким же успехом это может быть та дорога, по которой пошла единорог. Мы, возможно, никогда не увидим ее, но мы всегда будем знать, где она побывала. Значит, идем. Идем со мной.
Так они начали свое новое путешествие, которое в свой черед вводило их в большинство складок этого милого, коварного, морщинистого мира и выводило из них, и в конце концов привело к их собственной странной и чудесной судьбе. Но все это было потом, а сперва, не успели они и на десять минут отъехать от королевства Лира, как встретили деву, пешком спешившую им навстречу. Ее наряд был изорван и испачкан, но богатство его все еще было хорошо заметно; и хотя волосы ее были взлохмачены и полны колючек, руки исцарапаны, а прекрасное лицо в грязи, невозможно было ошибиться и принять ее за кого–то иного, нежели за принцессу в прискорбно бедственном положении. Шмендрик сиганул с лошади, чтобы поддержать ее, а она схватилась за него обеими руками, словно тот был кожурой грейпфрута.
— На помощь! — воскликнула она. — На помощь, аu sесоurs! Ежели вы — человек с характером и состраданием, то помогите же мне. Прозываюсь я Принцессой Алисон Жоселин, дочерью доброго Короля Жиля, убитого предательски братом его, кровавым Герцогом Вульфом, пленившим трех братьев моих — Принцев Корина, Колина и Калвина, и заточившим их в премерзкую темницу как заложников, дабы я обвенчалась с жирным сыном его, Лордом Дудли, но я подкупила стражника, бросила собакам кусок…
Тут Шмендрик–Волщебник поднял руку — и она умолкла, в изумлении уставившись на него своими сиреневыми глазами.
— Прекрасная Принцесса, — сурово сказал ей он. — Человек, который вам нужен, только что поехал вон туда. — И он ткнул пальцем назад, в сторону той земли, которую они только что покинули. — Возьмите моего коня, и вы его нагоните, не успеет ваша тень уйти у вас из–за спины.
Он подставил руки, и Принцесса Алисон Жоселин устало и в некотором недоумении вскарабкалась в седло. Шмендрик развернул ей лошадь с такими словами:
— Вы определенно с легкостью догоните его, ибо ехать он будет медленно. Он — хороший человек и герой более великий, чем какие бы то ни было подвиги. Я посылаю к нему всех моих принцесс. Его зовут Лир.
Затем он шлепнул лошадь по крупу и отправил ее по той дороге, которой уехал Король Лир. А потом смеялся, так долго, что ослаб и не смог взобраться на лошадь позади Молли и некоторое время был вынужден идти рядом пешком. Когда же дыхание снова вернулось к нему, он запел, и Молли подхватила его песню. А вот и то, что они пели, вместе уходя прочь, из этой истории — прямиком в другую:
К о н е ц