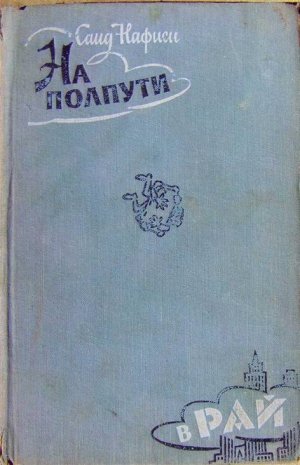
1
— Ах, как я огорчена, ханум, как мне неловко перед вами… — затараторила Мехри Борунпарвар, появляясь в дверях гостиной.
— Избави бог, ханум, не случилось ли какого несчастья?
— Клянусь если не вашей драгоценной жизнью, то жизнью ваших детей, я так волновалась, так спешила поскорее закончить дела в этом проклятом благотворительном обществе! Ах, мне безумно хотелось навестить вас! Бог свидетель, от тоски моё сердце превратилось в пепел.
— Полно, дорогая ханум, зачем так убиваться! Мы же отлично знаем, как вы заняты. Разве люди оставят в покое такого бесценного ангела? Все надеются на вас. И они правы: на кого же ещё им рассчитывать?
— Поверьте, я чувствую расположение ко мне дам, но всё же дела доводят меня до отчаяния, особенно это проклятое благотворительное общество. Из-за нескольких сироток я не знаю ни сна, ни отдыха. Мне, конечно, жаль бросить их на произвол судьбы, но и себя не хочется забывать. И в результате я не имею покоя ни днём ни ночью. В гости по-человечески сходить не могу. Вечно опаздываю на час, а то и на два. Вот и сейчас я чувствую себя неловко перед такой прелестной и уважаемой дамой, как вы…
— Что вы, что вы, дорогая ханум, мы только приступили к делам, вы пришли как раз вовремя. Надеюсь, муж и дети не ждут вас скоро? Тогда и огорчаться нечего.
— Ах, что бы вы ни говорили, я всё равно не нахожу себе оправдания, — вздохнула Мехри Борунпарвар. — Но клянусь вашей бесценной жизнью, я ничего не могла поделать! Сегодня день стирки в нашем заведении, и, если бы я не стояла над душой у этой дряхлой старухи, одному богу известно, как бы она выстирала детское бельё! Что поделаешь, за всё сердце болит. А потом качались неприятности в пути. Ах, я так спешила к вам, так всю дорогу торопила Ядолла, моего шофёра, что он буквально терял голову! На перекрёстке Мохбер-од-Доуле чуть не задавил оборванного старика в очках, а на Пехлеви — девочку лет двенадцати с корзиной зелени на голове. Правда, не случилось бы большой беды, если бы он их и задавил. На свете стало бы меньше одним бестолковым стариком и одной несчастной девочкой, только и всего. А вот я потеряла бы минимум десять-пятнадцать минут: пришлось бы давать полицейскому домашний и служебный адрес мужа, номер нашего телефона! Слава богу, мы всё же доехали быстро, и я, кажется, застала всё общество. И дорогая Махин ещё здесь! Ах, милая Махин, клянусь богом, в мыслях о тебе я иссушила своё сердце, и оно стало вот таким… — произнеся последние слова, ханум Мехри Борунпарвар показала кончик своего мизинца и улыбнулась, как бы выражая этим нежные чувства к самой очаровательной гостье из всех молодых женщин, собравшихся в просторной, блещущей великолепием гостиной ханум Доулатдуст.
Была весенняя ночь. Из затянутой бархатом и атласом гостиной ханум Доулатдуст в открытое окно был виден молодой поднимающийся месяц. Его ласковый свет золотыми нитями пробивался меж ветвями деревьев, дрожал на листьях. Белый тополь и плакучая ива под окном наполняли комнату какой-то особой свежестью. В цветущих кустах трепетала радостная песня влюблённого соловья. Зелёные аллеи сада, который раскинулся под окнами, сходились к большому бассейну. Они создавали картину торжественно-величавой красоты, за которой хозяева дома старались скрыть царящие в доме коварство и лицемерие.
Этот дом с его роскошным садом выделялся среди всех недавно построенных на проспекте Шах-Реза особняков удивительно противоречивым сочетанием вкуса и безвкусицы, красоты и безобразия, показной роскоши и убожества.
Большое, двухэтажное здание, грубо выкрашенное в тёмно-зелёный и тёмно-красный цвета, при свете дневного тегеранского солнца говорило о том, что нечестно добытые деньги оказались к тому же ещё в руках людей бездарных. Особенно подчёркивали убожество вкуса этой новоявленной столичной знати Ирана позолоченные пояски, вылепленные в цементных углублениях.
Фризы около колонн и под потолком террасы у входа в гостиную, нагромождение листьев, каких-то нелепых цветов, непропорционально больших фруктов, безжизненных птиц и даже обнажённых ангелов с несуразно торчащими грудями и тонкими шеями, наконец, слишком яркие и грубые краски, которыми они были разрисованы, — всё это не только не привлекало глаз, а, наоборот, отталкивало и вызывало отвращение.
Над широкой печью, занимавшей почти всю северную стену гостиной, на больших конюшенных цепях и крюках висело огромное зеркало. Ханум Доулатдуст с большим трудом достала его и повесила на это место специально для того, чтобы зрелище отражавшегося в нём великолепного сада, всего, до последней клумбы, ошеломляло своей пышностью и размерами всякого, кто был в гостиной.
Посредине западной стены гостиной висел большой портрет господина Манучехра Доулатдуста, счастливого мужа ханум, а посредине восточной — портрет самой ханум с жемчужным ожерельем, славящимся на весь Тегеран, и с бриллиантовой брошью в виде цветка, обрамлённого двумя изумрудными листочками, по которой в Тегеране вздыхают тысячи влюблённых. Ханум смотрела с портрета восторженными глазами.
Жемчужное ожерелье и бриллианты на груди ханум Доулатдуст оказывали какое-то магическое влияние на тегеранскую жизнь. Мужчин шахиншахской столицы так ослепляло это сверкающее великолепие на короткой шее ханум, что они не замечали ни уродливости самой шеи, ни того, что ханум неуклюжа, мала ростом, не замечали её круглого лица цвета вареной репы, с безжизненными, навыкате глазами, с толстыми губами, бледность которых пробивалась даже сквозь толстый слой губной помады. Жемчужное ожерелье притягивало к себе, как магнит, возбуждало страсти, зажигало своим блеском любовь, заставляя забывать обо всём на свете, а бриллиантовый цветок с изумрудными листочками играл так неотразимо, что люди глядели на него, словно заворожённые, и не замечали мясистых родинок на полной груди ханум Доулатдуст.
Те, кто считают себя близкими друзьями ханум Доулатдуст и несколько дней в неделю наслаждаются её невкусными обедами и снисходительной милостью, убеждены, что эта женщина, уже давно являющаяся одним из столпов политической жизни Тегерана, высоконравственна и обходительна, что же касается красоты, то она вполне компенсируется драгоценностями, деньгами, подхалимством, лестью и обманом.
А разве сам Манучехр Доулатдуст после двадцати лет супружеской жизни всё ещё не влюблён по уши в свою «дорогую Нахид»? Недаром огромные портреты госпожи и господина, что висят в гостиной, день и ночь, весной и осенью, когда надо и когда не надо, так внимательно смотрят друг другу в глаза. Эта супружеская чета, или, вернее, эти два неразлучных компаньона, не только на этом, но и на том свете всегда будут бдительно следить друг за другом.
Глупых людей можно узнать по манере украшать гостиные собственным, не в меру большим изображением. постоянно напоминающим о значении и величии хозяина, и по стремлению лишний раз поставить свою подпись под любой, даже самой ничтожной бумажкой. Кстати, и то и другое было присуще Манучехру Доулатдусту. И уродливая коротышка Нахид-джан тысячи раз использовала эти замечательные достоинства своего супруга.
На её туалетном столике стоял небольшой его портрет в простой серебряной рамке. И, если Нахид нужно было что-нибудь получить от Мануча, она брала в руки этот портрет и смотрела на него влюблёнными глазами. Сердце Манучехра не выдерживало, начинало сладостно таять, и он, позабыв все расчёты, теряя свою плешивую голову, сдавался. Что поделаешь, ведь за любовь в этом мире тоже платят! Кроме того, господин Манучехр Доулатдуст знает, что любовь без сделок на взаимно выгодных условиях долго не продлится. А разве брак не есть выгодно завершённая сделка? Если нет, в чём же заключается тогда разница между мужем и первым уличным подметалой?
Не зря Нахид-джан слывёт в аристократическом мире Тегерана особой высоконравственной. Своей мягкой улыбкой и сладчайшими речами она пленит любого при первой же встрече. Именно эта способность и даёт ей возможность так усыплять бдительность супруга, что он даже не замечает слишком частых встреч жены с Хушангом Сарджун-заде. Она умеет так заговорить зубы всем своим друзьям и знакомым, что они, сами того не желая, становятся её единомышленниками. Зачем им вмешиваться в чужие дела? Что им за дело до того, какие отношения связывают женщину, держащую в руках богатого и влиятельного мужа, с бестолковым, несостоятельным юношей? А потом, женщины, которым что-то может быть известно, сами, слава богу, имеют какого-нибудь Хушаига[1] или Сарджун-заде[2], о чём великолепно осведомлена Нахид, и, если дело дойдёт до разоблачения, она в долгу не останется. Если же об этом узнают мужчины, то это одно из двух: либо те, которые уже пользовались благосклонностью Нахид, либо те, которым предстоит пользоваться этим в будущем. Так или иначе, неразумно быть неблагодарными за полученное или заранее отказываться от возможности получить.
Впрочем, вряд ли Манучехр Доулатдуст не знал об отношениях жены с Хушангом. Но стоило ли из-за таких пустяков, как тонкие усики, чёрные глаза и брови юноши, расставаться с женщиной, оказывающей влияние на всё тегеранское общество и довольно энергично продвигающей по службе своего мужа? Нельзя сбросить со счетов и то, что, когда бедный Хушанг Сарджуи-заде поднимался по административной, политической и общественной лестнице, он пользовался поддержкой Манучехра Доулатдуста. И может ли Манучехр Доулатдуст теперь сбросить с крыши верблюда, которого сам туда затащил? Бедный Хушанг так же необходим ему, как сам он и его жена — аристократическому Тегерану. Да и как может человек, подобно господину Доулатдусту владеющий домом на проспекте Шах-Реза, садом в Дербенде, поместьями в Верамине, Араке, Зенджане и Ардестане, автомобилем кадиллак последнего выпуска, имеющий, слава богу, наглую, не считающуюся с общественным мнением жену, большую серую овчарку, похожую на волка, хозяйственную и верную служанку Мах Солтан, человек, связанный с высшими кругами общества, непременный гость на всех свадьбах в клубе «Иран» и в офицерском собрании, возбуждающий зависть тысяч тоскующих сердец, — как может такая персона не иметь хотя бы одного Хушанга? Да, одного бледного, хрупкого, с тонкими, как у паука усиками Хушанга? Разве не имеют другие по три, по четыре? Честь и хвала ханум, что она довольствуется лишь одним.
Правда, в этом виноват и сам злополучный Манучехр Был бы он неграмотным, нанял бы четырёх секретарей, и тогда ханум могла бы заняться ими. Или поместья — накупил их где-то у чёрта на куличках, единственное близкое — в Верамине[3], но и там нельзя же держать больше одного управляющего! Манучехр не военный и поэтому не имеет трёх ординарцев, не учитель, у которого сотни учеников, и даже не издатель газеты, содержащий десяток корреспондентов и фотографов. Он не начальник канцелярии, не генеральный директор, не чёрт, не дьявол, чтобы им подохнуть, и, конечно, у него нет тридцати штатных и нештатных служащих. Он всего-навсего депутат от захолустного городишка, находящегося так далеко, что уже десяток лет оттуда никто не заглядывал в Тегеран. Естественно, при таких условиях бедной ханум Нахид довольно трудно выбрать кого-нибудь для себя. Поневоле приходится довольствоваться одним этим Хушангом Сарджуи-заде, таким тщедушным, что ткни его пальцем — и он рассыплется. Единственная надежда ханум — это попасть и в нынешнем году в Америку. О, там она, даже будучи безъязыкой, хоть на время избавится от мучительного тегеранского аскетизма.
В прошлом году Нахид нашла хороший выход: ей удалось ввести в дом двух репетиторов для Фарибарза и Виды. Но этот щенок Фарибарз и худосочная Вида помешали её счастью, они в один голос заявили, что не хотят брать уроков. Они, видите ли, слишком устают в школе, и ежедневные дополнительные занятия дома их совсем утомят. Негодники день и ночь изводили мать, просили отказать репетиторам, грозили уйти из дому и покрыть её позором.
Нахид сначала не сдавалась. Но как-то раз дети действительно не пришли домой. Она сперва даже обрадовалась, избавившись от посторонних глаз хоть на одну ночь, но вот прошло четверо суток, а Фарибарз и Вида всё не возвращались! Тогда Манучехр и Нахид решили, что дольше молчать нельзя. Да и разве можно двадцатилетнему парню и семнадцатилетней девушке слоняться по большому городу, где из каждой двери льётся поток злобы, зависти и вражды в адрес господина Манучехра Доулатдуста и его милой жены Нахид? Завистники могут наговорить бог весть что, а отвечать-то придётся бедным родителям!
Манучехр и Нахид заявили в полицейское управление, позвонили в полицейский участок, известили редакцию газеты «Эттелаат», даже дали объявление в «Журиаль де Техран»! Они обратились за помощью ко всем жителям города, к правительству — официально и неофициально. После десяти дней бесплодных поисков от беглецов пришло письмо: «Если вы откажете репетиторам и дадите обещание никогда не заставлять нас учить уроки и ходить в школу, мы прекратим забастовку и вернёмся домой».
Так оба репетитора пали жертвой каприза избалованных отпрысков. Отец делает им поблажки, поэтому они не считаются с матерью, а мать балует и побаивается их, оттого они не признают отца за человека.
Словом, с того дня Нахид-ханум вынуждена страдать, ограничивая себя одним-единственным Хушангом Сарджуи-заде. Разве всё предусмотришь! Жизнь в Иране таит в себе тысячи неожиданностей. Мог ли кто-нибудь, например, предположить десять лет назад, что сын торговца шнурками для штанов из лавчонки около базарной ямы превратится во влиятельнейшее лицо политического аппарата Ирана, а о его уродливой, опустившейся жене, которая была посмешищем даже в цыганском квартале, заговорят в аристократических кругах Тегерана?
Бог, творящий подобные чудеса, ещё существует! Пока не прикрыли двери божьего дома, путь с неба на землю ещё открыт. И если бог не пошлёт другую милость, то радость в виде самолётов из Лондона, Парижа или Нью — Йорка может спуститься на землю и принести нам особ поважнее ныне властвующих, особ, подкупленных иностранцами.
Через год-два Фарибарз женится и у него будут свои заботы. Выйдет замуж и Вида, хотя она и недалёкая девица. Вот тогда-то бедная мать, принявшая из-за детей столько мук, вздохнёт свободно и поживёт в своё удовольствие. Захочет — приведёт в дом репетиторов для детей служанок, для самих служанок, и никто не будет предъявлять ей претензий. Правду говорят: пока человек жив, дети терзают его душу, а ушёл в мир иной — прибирают к рукам наследство.
Кроме того, разве заколочена дверь Организации Объединённых Наций? А вдруг выпадет в ближайшее время поездка на государственный счёт в Америку? За займом ли, за подачкой, для оформления ли сделки, купли или продажи, либо для того, чтобы что-то заложить и ещё бог знает для чего, лишь бы избавиться от этого вынужденного тегеранского траура и хорошенько повеселиться.
Как только мысли Нахид доходят до этого, она вспоминает своё первое путешествие и замечание, сделанное ей перед отъездом одной наглой образованной девчонкой: «Ханум, ведь вы не знаете языка, куда же вы едете?» Ах, этот глупый, нахальный вопрос Нахид до сих пор не может вспомнить без смеха. Она хватается за свой жирный живот, на который тратит по меньшей мере полчаса в день, втискивая его в корсет «Скандаль», — и хохочет! Когда же ей и смеяться, если не сейчас?
2
Мехри Борунпарвар в этот вечер вернулась из «проклятого благотворительного общества» утомлённой. После того как были сказаны все любезности, истинный характер которых ей был известен лучше, чем кому бы то ни было, Мехри незаметно распустила немного бандаж и бюстгальтер, сжимавшие её, как свивальник, и тяжело упала в красное бархатное кресло ханум Нахид Доулатдуст. Однако удовольствия она от этого не получила: торчащие из сиденья пружины врезались в её тело.
Наша дорогая Мехри всегда старается сидеть на деревянных стульях с высокими спинками, сидеть прямо, чтобы застёжки бандажа не впивались в тело, как шампуры в шашлык. Но на этот раз стулья предусмотрительно были заняты её милыми подружками и Мехри пришлось опуститься в это ужасное кресло. Она сидела очень беспокойно, то и дело неестественно выпрямляясь, поводя плечами, закидывая голову, словом, из всех сил стараясь спастись от гвоздей и проволоки, скрытых в кресле. Со стороны казалось, что её кусают тысячи блох.
А разве поведение Мехри-ханум в данном случае не отражает её мировоззрения вообще? Она мучает себя, чтобы казаться такой, какой её хотят видеть. Ханум Борунпарвар, подобно многим аристократкам Тегерана, ежедневно с невероятными усилиями и в страшных мучениях затягивает себя этим ужасным корсетом, который сокращает тело на одну треть, делает его более стройным, гибким и молодым. Впрочем, не правда ли, стоит потерпеть немножко во имя того, чтобы люди, которые отлично знали, что ей уже сорок лет, принимали её — тьфу, тьфу, как бы не сглазить — за шестнадцатилетнюю девушку?
Приглашённое в этот вечер общество представляло собой довольно странное сборище. Двумя столпами, подпиравшими его, были Мехри Борунпарвар и Нахид Доулатдуст. Они обладали здесь неограниченной властью, хотя и являлись рупорами различных группировок, отношения между которыми основывались на фальши и лицемерии. Участницы собрания видели друг друга насквозь и всё же продолжали лгать и рисоваться.
Мужчины, выдававшие себя за патриотов и верных сынов отечества, на деле были вероломными предателями, кровопийцами и душегубами. Их жёны, дома грубые даже с собственными детьми, в то же время состоят членами благотворительных обществ и заботятся о сиротах; дома обычно раздражённые и ядовитые, как змеи, они на людях стараются быть сладкоречивыми и любезными. Детей своих они не воспитывают, предоставив это нянькам и слугам, но в благотворительном обществе донимают прачек, требуя отличной стирки сиротского белья. И всё это для того, чтобы, собравшись в гостиной Нахид Доулатдуст, лицемерно похвастаться перед дамами своей деятельностью. Ханум Борунпарвар уже несколько лет посещает курсы английского языка, только бы создать видимость большой занятости, только бы пощеголять этим перед дамами. Но за всё время она не научилась даже читать по— английски.
Несчастные женщины, они лучше других понимают свою ограниченность и ничтожность. Поэтому-то они и пускают в ход все средства косметики, делают вид, что сострадательны и милосердны, хоть этим стараясь привлечь внимание мужчин.
Эти люди, получившие в наследство от своих предков все их дурные качества, порождённые невероятно тяжёлой жизнью и переходившие из поколения в поколение, были сотворены природой для того, чтобы жить, как и их предки бездомными, в позоре и бесчестии. Но в один прекрасный день произошло нечто необычайное и горстка низменнейших, ещё недавно бывших на «дне» людей поднялась на самую высокую ступень общественной лестницы. Теперь им уже ничего больше не оставалось, как скрывать свою гнусную натуру и подлые нравы под шёлковой, шитой золотом одеждой да стремиться выдавать себя совсем не за тех, кем они были на самом деле.
Итак, ханум Борунпарвар с большим огорчением опустилась в неудобное кресло и погрузилась в свои мысли. Разве это кресло не походило на собравшихся в зале приятельниц? Красная в цветах бархатная обивка манила к себе и сулила полное блаженство, но стоило опуститься на сиденье, как в несчастного впивались пружины и его сразу постигало разочарование.
Махин Фаразджуй, сердечная приятельница Мехри, оказалась рядом с ней. Она сидела на деревянном стуле. Вот уже двенадцать лет эти закадычные подруги лицемерят, лгут друг другу. Где бы ни повстречались, они поют друг другу дифирамбы, клянутся в верности. Но послушайте, что говорят эти женщины друг о друге за глаза. В самом начале вечера, ещё до прихода Мехри, Нахид проговорила: «Не знаю, почему нет Мехри? Может быть, она опять кем-нибудь увлечена?» На что Махин ответила: «Не огорчайтесь, дорогая, она сейчас явится, как внезапная смерть, наговорит нам массу всякого вздора и, как всегда, начнёт кичиться своей деятельностью в «проклятом благотворительном обществе». Именно в этот момент дверь отворилась и на пороге появилась запыхавшаяся Мехри-ханум Борунпарвар. Торопливо взбегая по ступенькам лестницы, она не могла расслышать слов своей подруги. Ну а если бы даже и расслышала, что это изменило бы? Предположим, всё было бы наоборот! Мехри сидела бы в комнате, а Махин отсутствовала. Разве Мехри не сказала бы то же самое о своей приятельнице? Какие же они аристократки, если не лицемерят друг перед другом! Если они станут честными, правдивыми и искренними, что тогда отличит их, разъезжающих в автомобилях новейших марок, от всяких там жён бакалейщиков и разносчиков, шлёпающих босиком по уличкой грязи?
Почему, спрашивается, человек, и к тому же женщина, одевающаяся в самые дорогие платья, украшающая себя золотом, изумрудами, бриллиантами и жемчугами, разъезжающая в восьмицилиндровом автомобиле, женщина, которая живёт в роскошном доме и является непременным членом аристократического общества города, почему она должна быть такой простачкой, чтобы верить всякому книжному вздору о нравственности и морали? Почему она должна волновать своё драгоценное сердце чепухой, которую выдумали неимущие ради собственного успокоения?
Откровенно говоря, никакая слава, никакое величие, положение в обществе и высокая должность не даются без обмана и лицемерия. А вы хотите, чтобы сладкоречивая и злоязычная ханум Махин Фаразджуй или чересчур порядочная дама-благотворительница Мехри Борунпарвар были честны и неподкупны? Прямо-таки скажем, странные у вас желания!
Да смилостивится аллах на том свете над предками этих двух дам, ведь они, как и Марьям Хераджсетан, которая выделяется этим среди жён генеральных директоров и генерал-губернаторов, имеющих не только личные заслуги, но и заслуги предков, не лгут во всеуслышание и не распространяют ложь по радио и в газетах. Они и подобные им хотя бы соблюдают внешние приличия и делают вид, что относятся с уважением к людям своего круга. В обществе они стараются поддерживать показную дружбу и даже помогают друг другу! А разве этого недостаточно для женщин их круга, чтобы слыть порядочными?!
Кстати, никогда за свои семьдесят с лишним лет ханум Марьям Хераджсетан не была так разговорчива, как в этот вечер. Пусть останется грех на совести людей, утверждающих, что в молодости ханум была красавицей и украшала собой общество. Сейчас она больше напоминает ведьму или колдунью.
С того дня, когда волосы ханум начали седеть, она каждое утро, подходя к зеркалу, выдёргивала белые нити и теперь стала похожа на жирную лярскую курицу, на плешивой голове которой торчит только тонкий хохолок. Эта ничтожная растительность, украшающая голову красавицы, растительность, напоминающая волоски кукурузы в начале осени, жалкие остатки прежней роскоши и блеска бедной пустомели, были — одному богу известно, какими усилиями, — выкрашены хной в рыжий цвет.
Да, можно посочувствовать этому отставшему от каравана бытия путнику, этому обломку величия двора Насер-эд-Дина[4], этой бедной даме хотя бы уже потому, что ей по утрам приходилось в страшных муках выдёргивать свои седые волосы. Каждый выдернутый волосок орошал её глаза слезами, и она вытирала их пёстрым платком. А наутро страдания начинались снова.
Вы не представляете себе, какие муки испытывает Марьям Хераджсетан, когда ветреные, праздношатающиеся молодые люди стараются отыскать в ней былую красоту и очарование! Ведь ей даже в знойные дни приходится закрывать свои утомлённые жизнью плечи и дряблую старческую шею тяжёлой накидкой из чернобурых лис!
Когда она, стоя перед зеркалом, надевает на палец известное всему Тегерану кольцо с изумрудом и с гордостью, которую не испытывает и победитель на поле боя, подносит руку к гладкой поверхности стекла, её глаза блестят ярче, чем у восемнадцатилетней красавицы.
А посмотрите, как ловко, хоть и с большим трудом, массирует она свою морщинистую, поблекшую кожу, покрытую коричневыми пятнами и узлами, вращая перед зеркалом двойным подбородком! Не один силач из зурхане[5], работающий большими коническими палицами, позавидовал бы её ловкости и выдержке.
Сейчас ханум Хераджсетан сидела в кресле на террасе, сбросив на колени лисью накидку и выпятив грудь. Она вертела на пальце перстень, стараясь собрать в большом изумруде лучи сорокаламповой пятидесятигранной люстры, чтобы игрой камня ослепить расположившихся в зале дам.
Подлая Махин Фаразджуй, для которой не было ничего святого, придвинула своё кресло к Мехри Борунпарвар и с ехидным видом начала что-то нашёптывать ей на ухо. Она со злорадством повторяла хвастливые басни госпожи Хераджсетан, которые та распространяла о себе по всему Тегерану. Обе дамы хихикали. Смеяться громко они не решались — ханум Хераджсетан стёрла бы их в порошок.
На сегодняшний вечер Нахид Доулатдуст пригласила двадцать четыре самые известные и знатные дамы Тегерана, с тем чтобы они, усевшись в круг и выставив напоказ свои драгоценности, дорогие платья и изящную обувь, между прочим подумали и о том, как помочь обездоленным. Эта встреча была организована при условии, что о ней будет сообщено в печати, и не в дешёвых ежедневных газетёнках, а в иллюстрированном еженедельнике, где на фотографиях можно было бы хорошо разглядеть не только самих дам, но и их туалеты и драгоценности.
Незадолго перед тем как Мехри, закончив свои дела в «проклятом благотворительном обществе», прибыла на вечер, среди гостей ханум Нахид Доулатдуст произошёл любопытный обмен любезностями по поводу выборов председателя, заместителя председателя, секретаря, директора-распорядителя, наконец, чёрта и дьявола нового общества. Дело в том, что те, кто сначала особенно настойчиво отказывался от этих почётных должностей, больше всех обиделись на то, что не выдвинули их кандидатуры. Поднялся спор. Собрание так и расстроилось бы, не возьми Нахид на себя роль старшей и не прояви она беспримерную ловкость…
— Если вы не будете благоразумны, — сказала она, — сию минуту сюда, как внезапная смерть, явится Мехри и нагло вырвет из наших рук председательское место, а тогда одному богу известно, что с нами будет.
В это время Махин, да-да, та самая Махин, которая с таким увлечением сейчас смеётся, увидев Мехри, недолго думая взяла слово и тоненьким, елейным голоском, лицемерным и подлым, произнесла пламенную речь в честь своей милой подруги.
Надо сказать, что Нахид пока ещё не получила от своего дорогого мужа никакого имущественного наследства, но зато она блестяще переняла его моральные качества. Выходя замуж за ловкого политикана, женщина пользуется не только большими материальными благами, получаемыми её мужем от лицензий на торговые сделки и игры на бирже; она извлекает из его многолетнего опыта на политическом базаре такие уроки, что мусульманину не дай бог видеть, а неверному слышать!
Все знают, как сорок шесть лет назад была создана конституция и из какого посольства она появилась. Принципы свободы и демократии, или, как их называют, «западная демократия», были так ловко применены в Иране, что, хвала всевышнему, в этом мы обогнали даже самих создателей этой системы. Наивные и неосведомлённые простаки и не подозревают, какие группировки с их преступными интересами руководят всеми событиями, о которых пишут в газетах, подготавливают речи, которые произносятся с высоких трибун, и предопределяют выборы. Они не знают, что даже при назначении на пост ректора университета, на этот высокий, важный в политической игре пост, никто не сможет добиться согласия этих людей, если он недостаточно лицемерен.
Иран — страна, где все стоящие у власти политические группировки возглавляют самые порочные, самые ничтожные и низкие люди. Недаром в прежние времена тегеранские жулики, возвращаясь домой пьяными, размахивая ножами, пропитыми голосами орали:
— Иран — страна, бросившая на ветер всё святое!
Когда эти закулисные политические дельцы во имя собственных интересов начали развращать народ, подрывая последние устои благочестия, они и женщин включили в орбиту своей общественной и политической деятельности. Что и говорить, великолепный получился букет!
С тех пор не прошло и трёх лет, а «дамы» и «барышни», как они сами изволят называть себя, так вошли во вкус политической игры и набрались в этом такого опыта, что многие из них перещеголяли самых искусных своих учителей. Дело дошло до того, что, глядя на них, уже начали говорить об иных мужчинах: какой это мужчина, если он хуже бабы!
Нахид, например, тоже вначале нуждалась в советах своего обожаемого супруга. Но в последнее время она открыто называет его дураком. «Вы, мужчины, — говорит она, — стареете, но ума у вас с годами не прибавляется».
Вот уже несколько дней ходят слухи, что летом в Тегеране будет устроен пышный праздник. Подобные увеселения, шумные и дорогостоящие, очень обременительные для народа, время от времени необходимы. Они увлекают простонародье, а кое-кому из сильных мира сего дают возможность нажиться, завязать отношения с прибывшими на торжество иностранцами, устроить свои делишки.
С помощью своего дорогого мужа Нахид решила добиться постановления правительства о предоставлении льгот на импорт за государственный счёт кое-каких предметов, якобы необходимых для благотворительных целей общества. Конечно, она прекрасно знала, что в случае удачи эта операция даст ей возможность положить в карман кругленькую сумму. С этими-то «благотворительными» целями она и созвала сегодняшнее собрание, на которое пригласила более двадцати выдающихся «дам» и «барышень» — жён министров, генералов и депутатов. Обычно благотворительное общество помощи обездоленным и сиротам создаётся так: избирается правление, вырабатывается устав, в вечерних газетах помещаются три-четыре статьи — и всё в порядке, дураков обвели вокруг пальца. Затем вдруг выясняется, например, что для благотворительных целей из Голландии выписывают партию цветочных луковиц и ваз. Освобождённые от таможенных пошлин и оплаты фрахта, они будут доставлены в Иран и распроданы на благотворительных вечерах, выручка же потечёт прямёхонько в карманы «благотворителей». И, пока раскроется истинная цель нового благотворительного общества и его позорная деятельность будет предана гласности, организаторы успеют положить на свой текущий счёт в американских банках не один миллион. Ну а если об этом узнает народ? Допустим, что руководители общества сделают глупость — не дадут взятку журналисту, ещё более подлому, чем они сами, и эта ядовитая змея напишет две-три статьи? Что же, придётся благотворительному обществу напечатать официальное опровержение, которое с невероятной наглостью и цинизмом сделает чёрное белым, а правду — ложью! Одним словом, эти ловкачи чисто обделают своё дельце. Они способны доказать всё что угодно.
Чтобы избежать неприятностей, в подобные общества, кроме жён министров, генералов и депутатов, привлекают жён нескольких издателей газет и видных журналистов. Именно поэтому и среди друзей Нахид появились обозреватели по политическим, литературным, научным, экономическим, техническим, спортивным и прочим вопросам.
Ярким украшением этой весьма своеобразной новой культурнической организации была также и ханум Роушан Сафидбахт, избранная на заседании, состоявшемся в доме Нахид Доулатдуст, секретарём общества. Машалла![6] Не сглазить бы! Эта ханум, несмотря на свою полноту, так ловка, что пролезет сквозь игольное ушко и сумеет просунуть нос в любую щель. Когда Роушан ещё была неопытной девочкой и ходила в школу, она уже и тогда любила хвастать своими занятиями музыкой и посматривать на мужчин. Не имея опыта и не зная мужчин, она навязала себя одному из молодых учителей и, выражаясь её же словами, «выскочила за него замуж, чтобы через него познакомиться с его товарищами и выбрать одного из них». Таким путём через несколько месяцев она приглядела себе нового жениха. Господин этот был их соседом и жил всего этажом выше, так что сладить дельце было нетрудно.
Теперь Роушан-джан красива, гостеприимна, благовоспитанна. Она считается женщиной со вкусом и украшает собой общество. В одной руке Роушан держит перо, а другой делает политику. В общем, она стала достойной спутницей и соратницей мужа и не только обеспечивает себе возможность жить на широкую ногу, но и систематически пополняет накопления в банке, без лишнего шума приближающие её отъезд в Европу и Америку. Да простит бог прегрешения отца сладкоречивого и ловкого мужа Роушан-джан, который в такое тяжёлое время, когда каждый редкобородый мечтает о густой бороде и думает только о своих невзгодах, терпит родственников жены и таскается с этими калеками и несчастными по разным учреждениям, добывая им средства к существованию.
Удивительная особенность свойственна тегеранским аристократкам: все эти уважаемые дамы считают самым обычным делом, выйдя замуж, без конца менять мужей и заводить любовные шашни с чужими мужьями. И если ещё вчера такая дама выходила из машины новейшей марки и направлялась на званый вечер в аристократический дом с мужем, то завтра так же просто её может вести под руку другой мужчина. Это стало настолько привычным, что никому даже в голову не придёт порицать их, как никто не станет спрашивать, зачем они ходят в баню или парикмахерскую. Такие дамы, мило улыбнувшись, представят вам своего нового друга и скажут: «Теперь мы будем жить вместе».
Двадцать четыре дамы в гостиной Нахид Доулатдуст выглядят словно прекрасные розы в цветочной корзине, а на самом деле они наглы, лицемерны, у них за душой нет ничего, кроме нескольких платьев разных фасонов и оттенков — для весны, для лета, для осени — да солидного автомобиля, который приобретается нечестным путём, за взятки или якобы для того, чтобы подмаслить какую-нибудь израильскую, египетскую, сирийскую, ливанскую или иракскую компанию, и меняется их мужьями каждые две-три недели. Иногда они пользуются государственными автомобилями, как жены директоров-распорядителей фирмы или членов правления государственной компании. Мужья этих дам под стать своим жёнам: всё, на что они способны, — это устраивать закулисные интриги в парламенте и сделки с грязными дельцами, именующими себя государственными деятелями. Вы, видно, удивлены, что сии мужи, кроме махинаций, ничего не умеют делать? Но разве, по— вашему, этого мало, разве это пустяки? Именно это «ничего» и составляет для них всё. Ведь на совести каждого из них не одна кража, не один нечестный и жульнический поступок, но тем не менее никто не осмелится сказать им в глаза то, чего они заслуживают. Когда борьба партий и интриги в парламенте утомляют этих людей, они идут в сенат, недавно выдуманный ими самими. А порой они выбирают из своей среды самых низких по происхождению и, кощунствуя над всем, даже над словарём[7], сажают их на кафедру благороднейших аристократов страны с десятитысячелетней историей, выдвигают на высокие посты.
Кроме этих мужей, которые в своих авантюрах не стесняются прибегать к помощи жён, в столице иранского государства имеются пройдохи и ловкачи, уверенные в себе и обладающие такими блестящими способностями сколачивать группировки, обходить собственный народ с чашей благотворительности, наполняя за его счёт свои карманы, паразитировать и заниматься спекуляцией, что им нет необходимости вводить своих жён в общество двадцати четырёх, собравшихся сегодня в салоне ханум Доулатдуст. Только иногда, чтобы показать, что они тоже не лыком шиты, их жёны храбро вступают в этот круг избранных и становятся членами одного из благотворительных обществ, одурачивающих народ.
Среди мужчин, которые обогащаются при помощи жён, и мужчин, вынужденных делать это самостоятельно, встречаются поразительные шакалы, подобия которых вы не найдёте ни в одном зоопарке мира. И, конечно, во главе этих зверей стоит тот самый неграмотный ахундик[8] из Йезда который с трудом объясняется даже по-персидски. С него сойдёт семь потов, пока он произнесёт одну фразу. Этот господин, не имеющий и понятия о медицине, никак иначе не величается, как только доктором медицины. Даже во сне и в своих ответах Накиру и Мункеру[9] он не произнесёт своего имени без этого учёного титула. И это ничтожество вершит всеми делами. Бедное, безмолвное, безгрешное создание действует только за кулисами, тайно.
Его закадычный друг и соратник в этих делах делает вид, будто он уже давным-давно оставил своё невинное занятие по торговле кишмишем в Мелайере, и теперь, увенчанный пышным именем Алак Бедани, представляет собой пятый столп иранского конституционализма после первых четырёх — меджлиса и сената, трона, судебной власти, печати. Он ведёт себя так, словно конституция, парламент, выборы, партии и фракции достались ему по наследству от матери.
Эти два самшитовых отростка конституционного леса Ирана дали тысячи сортов сорных трав, породили массу дикорастущих кустов в цветнике парламента. Их бурную деятельность и их успехи в этом отношении едва ли сумели бы описать все талантливейшие писатели мира, вместе взятые.
Среди взращённых ими приспешников, прихвостней, прихлебателей так много научных, литературных, экономических и политических советников, что не дай бог мусульманину видеть, а неверному слышать. Живи эти диковинные существа в любом другом государстве, им, для того чтобы заработать жалкие гроши, пришлось бы весь день гнуть спину, собирая мусор. А в нашей столице они пасутся на подножных кормах, день и ночь едят и пьют, плодятся и размножаются. И похоже, что они будут пользоваться этими благами до судного дня.
Хорошо было нашим простодушным предкам, верившим в мстительные силы природы, возмездие неба и наказание божеское! Они могли заглушить этим боль и страдания своего сердца. Мы же, отщепенцы в этом мире и кандидаты в потусторонний, не знаем ни чувства страха и возмездия, ни ответственности за грехи наши. Или люди перестали бояться бога и заколотили врата небесные? А может быть, и там совершился государственный переворот, как знать(
В таких группах и группировках есть люди, которые в этом соревновании ослов попеременно вырываются вперёд соответственно их способностям ко лжи и лицемерию. Вот кто-то из этой бесчестной породы людей вырывает из рук того, кто слабее, пост первого министра, начинает разъезжать в министерском автомобиле, произносить в меджлисе длинные речи. Он ездит то в Америку, то в Европу, сочиняет всякий вздор на иностранных языках и передаёт его как официальную информацию таким же глупцам, как и он сам, живущим в этих странах. Но это всё до той поры, пока однажды ночью такой деятель, вздыхая и скорбя, не поведает своей жене о полном своём банкротстве и отстранении от должности. Потом он предупредит её, что во избежание подвохов она должна гнать прочь журналистов, быть осторожна с людьми и на всякий случай выключить телефон, в бане не пускать к себе в номер мойщицу, мыться своими собственными благородными ручками. Короче говоря, он предложит ей переждать это ненастное время, а там будет видно, что принесёт ему американская и европейская политика!
Таких прожжённых проходимцев, сидящих верхом на ослах, немного. Они пользуются министерскими постами для получения более долговременных и спокойных должностей, скажем директора банка, руководителя или администратора государственного ширкета[10], ректора университета, председателя меджлиса. Ну а если кому-нибудь из них не удаётся получить ни одного из этих постов, он устраивается инспектором какой-нибудь компании. Выбитый из министерского кресла, он с очаровательной непосредственностью усаживается в новое. Глядя на такого господина, невольно вспоминаешь стихи:
Как удивительно схожи между собой нынешняя политическая машина и существовавшие ранее, до запрещения их военными властями, религиозные мистерии. Какой-нибудь неграмотный осёл с диким голосом в зависимости от обстоятельств становился в этих мистериях то Шимром, Язидом, Хули, Муслимом, Зейнаб, Фатьмой, Согрой, Сакине, Али Акбаром, то Касемом, Аббасом, джином, дивом или пери и даже европейцем или арабом[11]. Правда, небольшие труппы, разыгрывающие мистерии, не располагали столь большими штатами, как совет министров, они состояли из двух или трёх человек, не более. У них не было ни возможности, ни времени даже сменить костюм или загримироваться. Играя роль имама, этот же актёр вдруг делал небольшую паузу и тут же начинал изображать его противника Шимра… Конституционное и демократическое иравительство Ирана как две капли воды похоже на эти старинные бедствующие труппы исполнителей религиозных мистерий.
Создав университет, эти политические деятели постарались заполнить его невеждами-преподавателями, ибо, по мнению европейской политики, именно такие педагоги более всего могут принизить науку, отбить у людей охоту учиться. Вот и забили так называемыми инженерами, докторами, профессорами все уголки университета. Его теперь можно сравнить с развалинами бани Горгана. Рассказывают, что однажды тёмной ночью туда забрёл человек, незнакомый с этими местами. И вот, куда бы он ни шагнул, немедленно раздавался резкий оклик: «Осторожно, здесь лежит мирза»[12]. Наконец чаша терпения странника переполнилась, и он сказал: «Слушай, дяденька, заложи ты хоть одного мирзу и на эти деньги купи светильник, чтобы люди могли глядеть себе под ноги».
Из этих «учёных» особый интерес представляют те, которые устроились в правительстве и обеих палатах меджлиса. Выходцы из захолустных деревень, они в чалме и рваном габа[13], голодные и измождённые, еле волоча ноги, скитались по свету без цели, без духовного наставника, с пустыми карманами и сумой, наполненной одними алчными желаниями. Спали в ночлежках на голых досках, в холод накрывались чужим тряпьём, их кусали клопы, клещи и блохи. Но вот наконец им повезло — они попали в медресе[14]; для этого ведь достаточно иметь благообразный вид и внушительный голос, а не знания. Там они постепенно стали менять свой облик: с каждым днём чалма на их голове становилась меньше, а наглость больше. В конце концов они добились успеха на этом поприще. Теперь и следа нет от чалмы, габа и аба[15], но на каждом шагу эти учёные мужи считают нужным красноречиво напоминать всем о тех днях, когда они, одинокие и безвестные нищие, вышли из такой же нищей деревни, расположенной где-то близ опалённой солнцем пустыни, где нет ни воды, ни растительности, вышли, чтобы достичь этих вершин. Не зря, видно, один остроумный человек некогда сказал: «Если кто-нибудь, пусть даже на полчаса, ради шутки или на сцене театра намотает себе на голову вместо чалмы хотя бы платок, махните на него рукой — пропащий он человек!»
Но вернёмся к двадцати четырём прекрасным дамам, приглашённым в этот весенний вечер в пышную гостиную госпожи Нахид Доулатдуст. Все они были или нежными жёнами, или подругами тех, о ком мы сейчас рассказали. Ведь не секрет, что ни одно общество, создаваемое в нашей прославленной, подобной раю столице, не просуществует и двух дней, если среди его членов не будет представителей сильных мира сего.
Итак, как только Мехри Борунпарвар опустилась в бархатное кресло с вылезшими пружинами, а Махин Фараз-джун придвинулась к ней и они начали шептаться, все, даже Марьям Хераджсетан, облегчённо вздохнули.
Марьям Хераджсетан подтянула под блузкой фиолетового бархата обвислые, как бурдюк, груди, выпрямилась, помассировала свой двойной подбородок, покрытый морщинами, тёмными пятнами и узлами, поправила серебристую лису и почувствовала вдруг такое блаженство, словно только сейчас освободилась от объятий восемнадцатилетнего юноши или увидела на небе сияющие силуэты райских чертогов.
Видя, что Мехри и Махин, самые лицемерные и лживые из дам, увлечены разговором, остальные занялись делами. Все знали, что, пока эти две подружки, известные своими выходками на весь аристократический Тегеран, не увлекутся какой-нибудь авантюрой, они никому не дадут ни вдоволь почесать язык, ни заняться серьёзным делом. Ведь и в правлении обществ они обычно никому не дают проявить себя, словно все должности, начиная с председателя и кончая инспектором или ещё бог весть каким доходным местом, попали к ним по наследству или были подарены им их наглыми мужьями в свадебную ночь.
Около Махин на стуле сидела вялая, словно осёл, стоящий возле забора в ожидании хозяина, дама и изумлённо смотрела на гостей. Это была жена дипломатического светила, некогда чистое, невинное создание. Без жизненного опыта, без образования, она, выйдя замуж, оказалась в каком-то замкнутом кругу. Господин Али Акбар Дипломаси, её дорогой супруг — да убережёт его аллах! — уже десять лет как тихо, без шума, никого не предупредив, вышел из франкмасонской ложи Тегерана. За эти годы он несколько раз занимал министерские посты, был даже одним из первых министров без портфеля «эпохи демократии»[16], а теперь уже восемь лет, с удивительной наглостью втёршись в учёный мир, руководит высшим научным учреждением страны. Сорок лет назад он перевёл какую-то устаревшую книгу по педагогике, полную ошибок и нелепостей. За эти сорок лет мир встал с головы на ноги, но научная эрудиция господина Али Акбара Дипломаси продолжает пребывать всё на той же первобытной ступени.
Этот знаменитый учёный, только и умеющий произносить бессмысленные речи на нескольких мёртвых и живых языках, известен на весь мир от Петельпорта[17] до Янги — донья[18] своей миловидной внешностью, изящной фигурой, тонким носом и очень мудрым лбом, свидетельствующим о чистоте иранской расы и благородном арийском происхождении. И всё-таки для того, чтобы войти в среду аристократов, ему необходимо было иметь жену из знатного рода. Вот он и взял эту наивную бедняжку, наградил её четырьмя детьми и теперь, несмотря на её годы, заставляет паясничать с дамами в великосветских гостиных. Он вводит жену в правления различных благотворительных обществ, хотя она умоляет его избавить её от этой пытки. Раз в неделю машина руководителя высшего научного учреждения страны высаживает несчастную у дома одной из авантюристок, где она вынуждена жалкой тенью маячить в каком-нибудь кресле и помимо воли участвовать в этом грязном маскараде.
Сегодня несчастная жертва с особым нетерпением ждала конца заседания, мечтая поскорее вернуться домой, смыть с себя румяна, снять драгоценности, которые её заставляет надевать муж, и, юркнув под одеяло, горько жаловаться богу на злую судьбу, соединившую её с таким милым, приятным и щедрым мужем.
Бедная Мехри, которая так шумно вбежала в гостиную, выплеснула, как всегда, залпом свою брехню и погрузила свои телеса в кресло, ещё не знала, что выборы уже произошли и председателем правления нового общества избрана Нахид, а секретарём его — Роушан. Можно было подумать, что Махин было специально поручено занять подругу злословием, дабы та не сразу узнала, что её околпачили. Когда закончилась обычная церемония обмена любезностями и заседание пошло своим чередом, Мехри услышала несколько колких фраз, произнесённых Махин, и тут же вдруг заметила у входа в гостиную столик, на котором были расставлены большой мельхиоровый звонок, стеклянный прибор с двумя чернильницами, две ручки и пресс-папье воронёной стали. За столом гордо восседали торжествующие победу и жаждущие новых успехов Нахид и Роушан. Нахид председательствовала, Роушан держала в руке карандаш и на листочках бумаги, украшенных грубыми монограммами Манучехра Доулатдуста, записывала бессмысленные речи, чтобы потом составить протокол «высочайшего заседания».
Когда Мехри Борунпарвар увидела эту картину и поняла весь ужас происшедшего, лицо её так пожелтело от злости, что желтизна проступила даже сквозь толстый слой пудры. Мехри совершенно потеряла самообладание, и это не ускользнуло от зоркого глаза Махин, но ей так хотелось посплетничать с подругой о Марьям Хераджсетан, что даже растерянность Мехри не остановила её, и она продолжала тараторить, правда несколько замедлив темп, словно граммофон, у которого кончается завод. Мехри же совсем не слушала свою милую подругу, её занимала лишь одна мысль — как сорвать собрание.
Надо сказать, что, стремясь всюду поспеть, всюду сунуть свой нос и оставить свой след, Мехри три года провела на литературном факультете. Сдавать экзамены ей было нетрудно — здесь помогали знатность её рода, телефонные звонки, записки, весьма положительно воздействующие на преподавателей. Так, не учась, она без труда отлично закончила университет и при выдаче дипломов даже прочла пустую, но громкую речь, составленную одним профессором по поручению администрации факультета в знак уважения к благородной семье. И теперь перед этими двадцатью четырьмя дамами, даже перед Роушан и Махин Фаразджуй, она кичится тем, что её портрет, как первой ученицы факультета, был напечатан в журнале «Эттелаате хафтаги», в ежегоднике «Парс», в журнале «Амюзеш её парвареш» и ещё в десяти не то двенадцати других журналах и газетах, Правда, и Роушан, и Махин Фаразджуй тоже имеют официальное звание лиценциата литературы и иностранного языка. Но разве можно сравнить знания Мехри и их знания! Чтобы получить звание лиценциата, они все же должны были что-то знать. Ведь они учились ещё до замужества, а их род не был так славен, как род Мехри, и родители их не имели такого влияния в обществе. Они вынуждены были хоть за несколько дней до экзаменов взять в руки и вызубрить бездарные брошюры своих профессоров, чтобы на экзамене, как попугаи, повторить их глупые мысли. Приходилось готовиться им и к письменным экзаменам: ведь они не могли так открыто мошенничать, как она.
Наиболее ценные познания за время своей трёхлетней «учёбы» в университете Мехри получила от общения с теми профессорами, которые особенно славятся в Тегеране своим мошенничеством. В этой науке она обнаружила недюжинные способности, в совершенстве овладев секретами самого видного профессора педагогики, занимающего большой государственный пост и известного в научных кругах не только Ирана, но и за его пределами. Она изучила его характер и в совершенстве усвоила его приёмы: как, например, сорвать выборы, если они не соответствуют твоим интересам, или как расстроить группировки, члены которых отказываются войти с тобой в сообщество и перетягивают к себе голоса. Таким образом ханум Мехри Борунпарвар стала непревзойдённым мастером этой не облагаемой налогом профессии среди дам, так же как её учитель — среди мужчин.
Итак, Мехри обнаружила, что её оставили в дураках, как раз в тот момент, когда ханум Рогийе Асвад-ол-Эйн начала свою длинную и бестолковую речь. Этой женщине исполнилось уже шестьдесят лет, и всю свою жизнь, день и ночь, в Иране и за его пределами, на своём весьма оригинальном персидском языке и ломаном французском и английском она старается доказать людям, что это не её покойный отец был садовником в Таджрише[19], что это не она в десять лет уже была сиге[20] у своего покойного мужа, довольно известного государственного деятеля. Потом она плечом к плечу прошла с ним долгий путь, вращаясь в высших сферах иранского общества. И даже когда её муж назначался регентом шаха, она становилась регентшей шахинь. Но что бы человек ни совершил в своей жизни, он всегда останется пленником своего происхождения. Бог ведает, сила какого волшебства передаёт из поколения в поколение черты предков, и сколько бы человек ни ездил по Европе и Америке, какие бы поместья около Хамадана ни доставались ему в наследство от мужа, какое бы влияние ни имели его сыновья во дворце и дочь в доме министра или посла, — всё равно, стоит ему открыть рот и заговорить, в памяти людей воскрешается покойный Мешхедн Багер, садовник из Таджриша. В чём провинился этот несчастный, что и в том мире нет ему покоя?
Да, ханум Рогийе Асвад-ол-Эйн, по-видимому, немало унаследовала от своего родителя. Эта женщина, сумевшая достичь вершин общества, получившая от мужа несметные богатства, добытые им бог весть каким путём, немало встречавшаяся и за границей и у себя на родине с самыми высокопоставленными лицами, имеющая двух непутёвых сыновей, лодырей и бездельников, при каждом удобном случае начинает жаловаться на свою бедность. Поневоле скажешь, что сама природа не хочет предать забвению садовника Мешхеди Багера, сама природа за то, чтобы тень его постоянно напоминала людям родословную тегеранской знати, награждаемой чинами, ордерами и званиями.
Покойный муж этой почтенной дамы в своё время добился очень высокой должности, которую можно получить лишь при поддержке иностранцев, играющих немалую роль в политической жизни Ирана, был награждён высшими орденами, удостоен даже того, чтобы перед его именем употреблялось «his highnes»[21], и поэтому она, естественно, считала себя украшением общества тегеранских дам. Сегодня ханум Рогийе Асвад-ол-Эйн явилась в особняк Нахид Доулатдуст первой и уйдёт позже всех. И это не случайно, ведь именно болтливость и лицемерие, родившиеся вместе с ней, создают ей популярность во всех кругах тегеранского общества.
Итак, ханум Рогийе Асвад-ол-Эйн начала свою длинную речь с безудержного восхваления сегодняшнего собрания, затем пожаловалась на свою бедность, стеснённость в средствах и, как всегда, без всякой логики заговорила вдруг о Кербеле[22]. Подобно поэтам, творцам хвалебных од, которые, лишь бы попышнее прославить своего кумира, подбирали бессмысленные рифмы и эпитеты, не забывая, кстати, вплести в заключительный стих свой псевдоним, она начала льстить присутствующим. Тем подобострастно угодническим тоном, который шестьдесят с лишним лет назад перешёл к ней по наследству от садовника из Таджриша, Рогийе начала расхваливать сегодняшнее собрание, призванное осуществить «высокие надежды», «благотворительные цели», «возвышенные идеи», «справедливость» и так далее и тому подобное, хотя прекрасно понимала неискренность своего выступления, прекрасно знала, что от Фарса до Азербайджана[23], от Хорасана до Кермана — во всём Иранском государстве не найти ничего лживее её слов.
Пока ханум Рогийе неудержимо изливала потоки красноречия, Мехри Борунпарвар беспокойно ёрзала в кресле, вертелась, поводила плечами, будто её кусали блохи. Она была так взволнована и расстроена, что даже перестала слушать увлекательный рассказ своей дорогой Махин.
В самый возвышенный момент речи хану Асвад-ол-Эйн Мехри Борунпарвар резко дёрнула коленями, разжала стиснутые зубы, сделала глубокий вдох, отчего бюстгальтер, туго стягивавший её, не выдержал и все сидевшие поблизости услышали, как лопнули его петли. Потом она шумно выдохнула, устроилась в кресле поудобнее, ослабила немного пояс, поддерживающий американские нейлоновые чулки, и, как только ханум Рогийе Асвад-ол-Эйн сделала паузу, торопливо заговорила:
— Да! Вы совершенно правы. Полчаса назад на высочайшей аудиенции я докладывала именно об этом. Все мои предложения были приняты, и мне было дано категорическое повеление взять на себя обязанности председателя этого общества и регулярно, раз в неделю, лично докладывать о его деятельности.
Эти слова привели в смятение всех дам, а Нахид и Роушан побледнели и так растерялись, что даже забыли о жалобах Мехри на свою занятость в «проклятом обществе» и рассказ о том, как её машина по дороге оттуда чуть не задавила старика в очках и девочку. Да и до того ли было! Заявление Мехри заставило всех оцепенеть, и они сразу забыли, что ещё полчаса назад Мехри извинялась за опоздание и скорее походила на побитую собаку, чем на человека, который только что был на высочайшей аудиенции. Никому из двадцати четырёх прелестниц не пришло и в голову, что когда эта лживая и хитрая Мехри на самом деле хоть на шаг приближается к шахскому дворцу, то и сам Шимр[24] не сравнится с ней в наглости и коварстве. Бывали случаи, когда она возвращалась оттуда с таким грозным видом, что даже её дорогой супруг приходил в трепет. Раза два он пытался оказать ей слабое сопротивление, но об этом сразу становилось известно в самых высших сферах.
Да и неужели эта ловкая шарлатанка, мастерски воспринявшая от своего профессора науку лжи и лицемерия, взобравшаяся на высшую ступень политической лестницы, могла бы явиться на собрание, побывав перед тем на высочайшей аудиенции, и тут же не раззвонить об этом? Но оставим сегодняшний вечер и выдумку Мехри. Если бы это событие произошло даже не сегодня, а две недели тому назад, то её муж по крайней мере получил бы уже пост министра без портфеля, произнёс бы две речи на открытии нового факультета и получил бы орден или Знания, или Признательности — бог ведает какой! Вот тогда всё это было бы достаточным основанием для того, чтобы в гостиной ханум Нахид Доулатдуст счесть себя выше всех дам, даже выше Рогийе Асвад-ол-Эйн, щёлкнуть раз десять по носу Марьям Баджсетан и дать по зуботычине всем остальным дамам!
Хорошо ещё, что в подлой среде тегеранской знати быстро забывают мерзкие дела друг друга. Впрочем, это естественно, ибо люди, совершившие тысячи безнравственных поступков в нарушение шариата и орфа[25], не осмелятся помнить и выдавать тайны своих соратников, боясь, что те в свою очередь укажут пальцем на них.
Именно по этой причине представительницы женской половины избранного общества при встречах прикладываются друг к другу своими толстыми накрашенными губами и звонко целуются, а мужчины усердно трясут друг другу руки, приговаривая: «Да будут ясны наши очи», «Давно мы не имели счастья встретиться», «Не забывайте искренне преданных вам». Человек непосвящённый невольно примет всё это за чистую монету и поверит в искренность отношений. Чтобы дорисовать картину, нужно сказать, что эти люди часто видят друг друга во сне, как бы иллюстрируя и дополняя этим теорию Фрейда о сновидениях.
Трудно представить себе, сколько в арсенале этих людей фальши и лицемерия. Они быстро забывают свои грязные дела, и это помогает им соревноваться в подлости, хитрости и безнравственности, изобретать всё новые способы разврата и распутства.
Вот почему уважаемые дамы, присутствующие на собрании, никогда не замечающие своих дурных поступков и быстро забывающие безобразия других, вынуждены были немедленно забыть, как несколько минут назад Мехри Борунпарвар вошла в зал, бесконечно извиняясь за опоздание, как она села в очень неудобное кресло, как она плакалась, пресмыкалась и заискивала перед самыми низкими дамами собрания. Ведь Мехри тогда ещё не знала, что председатель и секретарь уже избраны, и, мечтая об этих должностях, лебезила перед всеми — давала в долг лепёшку, чтобы получить приправу к своей.
Но, как только Мехри увидела, что её одурачили, она пошла на авантюру. Могли ли дамы уличить её во лжи? Разумеется, нет. Никто из них даже не усомнился в истинности её слов. Ну а если бы даже они, вспомнив, как Мехри вошла в гостиную, усомнились и стали бы доказывать, что она не была на аудиенции, то ослиная голова застряла бы в другом месте, возникли бы новые затруднения. Мехри донесла бы куда следует, представив всё происшедшее на аристократическом собрании как «бунт еретиков», «нарушение долга» и даже «предательство любимой родины», пожаловалась бы на то, что там не придали значения её «чистосердечным и верноподданническим убеждениям, высказанным из патриотических чувств и любви к…» И тогда не оберёшься беды… А если бы Мехри проявила нерадивость в выполнении «патриотического долга», то двадцать три другие дамы не замедлили бы посплетничать где-нибудь, а то и написать донос, и, наконец, если бы даже никто из них не выполнил этого своего «долга», достаточно было бы самой молчаливой и с виду такой беспомощной и добропорядочной ханум Дипломаси ночью рассказать обо всём своему учёному мужу, и тогда, во имя научного долга, донёс бы он.
Именно поэтому, как только Мехри закончила свою блестящую речь, двадцать три затянутые в эластичные корсеты дамы начали взволнованно перешёптываться и зал наполнился шипением, затем раздался общий тяжёлый вздох, от которого на головах наших красавиц зашевелился перманент, а пыль, поднятая воздухом, выпущенным из их необъятных лёгких, взвилась, окутала портреты Манучехра Доулатдуста и его вечной подруги ханум Нахид, а потом осела и затёрлась в густом слое пыли, скопившейся за многие годы на знаменитой люстре. Этот глубокий вздох, исторгнутый из двадцати трёх грудей, облегчил прелестных дам и растворился в атмосфере честности и глубокой нравственности. Вы не представляете, как моральные поражения ослабляют грудь этих дам, туго затянутых в корсеты и бюстгальтеры, выпуская весь накопившийся там воздух. Человек неискушённый принимает его за вздох скорбящей души, но это вовсе не так. Грудь такой дамы напоминает зонтик: когда, складывая его, нажимают на спицы, шёлк теряет опору и превращается в мятый чехол. То же происходит и с тегеранской аристократкой: она надувается от важности, но стоит только ей потерять опору, как вся эта важность и спесь бурно вылетают из неё через ворот атласного или шёлкового платья, оставляя пустой чехол.
Вслед за этим вздохом зал наполнился шорохами и шумами. Изумрудный перстень Марьям Баджсетан сконфузился и с тоской взглянул на большой портрет Мануча — дорогого мужа ханум Нахид. Шикарные палантины из серебристых лисиц соскользнули на пол, Сумочки из змеиной кожи и нейлона, следуя примеру своих владелиц, сдали на хранение вечным просторам заключённый в них воздух. Несколько пар бритых, с синими венами, одетых в розовые нейлоны ног, с невероятной силой втиснутых в туфли на два номера меньше и выпиравших из-под переплётов обуви, как масло из лопнувшего бурдюка, как-то странно отделились одна от другой. — Те, кто две минуты назад видел, с какой заносчивостью эти ноги покоились одна на другой, обнажая нижнее колено, перехваченное резинкой, никак не могли ожидать, что, услышав несколько лживых фраз Мехри, они неожиданно разъединятся и шлёпнутся в кресла, а подолы дорогой одежды их безжалостно прикроют.
Как бы там ни было, но Мехри сделала своё дело, ещё раз проявив чудеса находчивости и хитрости. Лейла Хане— ресан и Эффат Бипарва, самые невинные из всех присутствующих в гостиной дам, года которых настолько далеко зашли за пределы положенного на этом свете возраста, что о них обычно забывали, сидели с самого начала собрания молча, не проявляя признаков жизни, и жевали американскую, настоящую американскую резинку, привезённую прямо из-за Атлантического океана. Широко раскрывая рот, они обнажали свои изрядно поредевшие челюсти, неуклюже водили большими бесцветными губами, от которых даже во сне отвернулся бы самый дряхлый американский плут, и со страдальческим видом, отвратительно причмокивая, поворачивали языком резинку.
Всё происшедшее на собрании, а особенно пылкая страстность Мехри, произвело на их холодеющие души такое сильное впечатление, что резинка попала в горло Лейлы и она чуть было не задохнулась. Если бы соседка не постукала кулаком по спине несчастной, неровен час, унесла бы она с собой в могилу тысячи опечаленных взглядов министров и депутатов. Эффат Бипарва везёт в жизни больше, чем подруге. Эффат посчастливилось позавчера завлечь в свои сети молодого щёголя из тех, что слоняются возле кинотеатра «Иран». К счастью, дантист, да хранит бог его отца на том свете, посвободнее поставил ей нижнюю челюсть, чтобы можно было целоваться. Но именно из-за этого безжалостная жвачка не пощадила и Эффат и вырвала её искусственную челюсть. Если бы челюсть не вылетела изо рта и не упала бы в бархатный подол своей хозяйки, пришлось бы бедную Эффат снести на кладбище «молодых», похоронить рядом с могилой Захира-од-Доуле[26] и насыпать величественный холм. Её нежно любящий муж поместил бы в последнем столбце второй полосы газеты «Эттелаат» напечатанный крупным шрифтом некролог, в котором он, перечислив сорок-пятьдесят фамилий, в основном вымышленных, выразил бы печаль по поводу «неожиданной и безвременной» кончины несчастной Эффат. За большие деньги он, несомненно, добился бы от издателя, чтобы тот упомянул в некрологе имена премьер-министра, министров, депутатов, сенаторов, профессоров университета, банщиков, чистильщиков сапог, бакалейщиков, первоклассников школы Моллы Насреддина и Шейха-Хасана Шимра, выражающих соболезнование «членам высокочтимой семьи».
Меньше всего пострадала от страстной речи Мехри Марьям Баджсетан, которая устроилась за креслом ханум Рогийе Асвад-ол-Эйн и могла, не выдавая своих чувств, слушать каждое слово Мехри.
Выслушав с соблюдением положенных церемоний пламенную речь Мехри, собравшиеся ничего не могли поделать, кроме как повиноваться ей. Нахид пришлось подняться с председательского места и с выражением полной покорности подойти к ней, взять её почерневшие подагрические руки в свои и поцеловать их, лицемерно приговаривая: «Да паду я жертвой за вас, за ваши ласковые глаза». Затем она помогла Мехри встать с злополучного кресла и усадила её на председательское, к столу, на котором стояли чернильница, пресс-папье и звонок.
Мехри с видом победительницы уселась за стол и торжественно произнесла: «Дорогие дамы, кто изволит согласиться с предложением, пусть поднимет ручку». Поднялись двадцать три руки, обнажая под мышками тёмные пятна волос, четыре дня назад сбритых по случаю великосветской свадьбы и уже успевших вновь прорасти на благородной аристократической почве.
Увидев, что все эти старческие, покрытые пятнами подагрические руки с готовностью взвились, Мехри подняла свою и, обращаясь к госпоже Роушан, высокомерно заявила: «Зафиксируйте, пожалуйста, — единогласно!»
Шарлатанка Роушан быстро записала результаты голосования на служебном бланке Манучехра Доулатдуста и предупредительно положила бумагу около Мехри, чтобы та заметила её усердие. Ей очень хотелось сохранить себя на секретарском посту. Результаты не замедлили сказаться. Мехри ничего больше не оставалось, как елейным голоском предложить: «Ну а теперь пусть поднимут руки те, кто согласен с назначением на должность секретаря нашей уважаемой госпожи Роушан, лиценциата по иностранным языкам», и, разумеется, как повелось, Роушан первая подняла свою руку.
3
Одним из неоспоримых законов биологии является закон влияния среды на живые организмы. Рост и жизнь организма зависят прежде всего от солнца. От направления и силы его лучей, от количества света, в котором рождаются и живут люди, зависит их психология.
У людей, выросших в сиянии света, в широких степных просторах, где ничто не загораживает солнце, мысли более ясные и смелые. Люди же, над которыми постоянно нависают тучи, которые живут в тумане, в дремучих лесах, всегда мрачны, скрытны и коварны. Их лица похожи на забитый ящик, а их мысли — на тёмную комнату, в которой ничего нельзя разглядеть.
От солнца зависит и жизнь растений. В солнечных местах они раскидывают большие ветви, покрываются великолепными по яркости красок и аромату цветами. Гордо поднимая вверх свои яркие, цветущие головки, как бы протестующие против всяческой лжи и обмана, они кажутся чистыми и прекрасными. На севере же, там, где бесконечные тучи и туманы закрывают солнце, растения хилые, слабые, с мелкими цветами. И краски у них блеклые — сероголубые или сиреневые, настолько бледные, что теряются среди ветвей.
Франкмасоны прекрасно знают закон влияния среды на организм и воспитывают своих преданных и послушных рабов — безвольных, малодушных и лицемерных — в тёмных подвалах. Но и в этом мраке, где человек не может разглядеть даже комнаты, в которой он находится, они намеренно облачаются в чёрные одежды. Если им понадобится что-нибудь металлическое, они покрывают сталь серой или синей краской. И всё это делается для того, чтобы вырастить вероломных негодяев, скрывающих свои мысли, убеждения, веру, чуждающихся даже своих жён и детей. Они живут в мрачных, как нора, комнатах и там, в уединении, размышляют, набираются сил для тёмных деяний.
Такой же метод воспитания можно наблюдать и в религиозных общинах и сектах, где тоже царит лицемерие. Члены секты католических и протестантских священников, секты ортодоксов, несториан и особенно иезуитов и отдельных монашеских орденов ходят во всём чёрном и даже своих жён одевают в чёрные одежды. Некоторые христианские проповедники отличаются более свободным образом мысли и поведения, и в их одеждах преобладают белый, лиловый, кофейный цвета, как, например, у доминиканцев или кармелитов. Но и среди них есть такие, в одежде которых имеется чёрный цвет, и чем его больше, тем они лицемернее.
Одной из наиболее свободомыслящих, смелых и благородных религий был зороастризм[27], духовные лица которого — мобеды, хирбеды и азербеды — всегда ходили в белом. Некоторые духовные лица на Дальнем Востоке, люди тоже смелые и благородные, а также буддисты и индийские джиннаисты носят жёлтые одежды. Древние иранцы времён ахаменидов, ашканидов и сасанидов, которые были самыми храбрыми народами мира, даже во время траура облачались в белое одеяние. В исламский период представители мужественного племени иранцев — приверженцев Муканны — носили белую одежду и назывались «сафид-джаме»[28], а другая труппа иранцев имела красное знамя и называлась «краснознамёнцами».
Как только иранцы потеряли отвагу, их траурной одеждой стала чёрная. Одними из самых лживых и подлых людей в мире, когда-либо стоявших у власти, были Аббасидские[29] халифы, которые избрали своим цветом чёрный цвет, и каждый, кто хотел войти к ним в доверие или польстить им, одевался в чёрное.
Если вы посмотрите вокруг себя, то увидите, что люди низкие любят чёрные цвета. Предатели носят даже чёрные очки, скрывающие их душу.
Люди, живущие в холодных степях, покрытых белым снегом, являются самыми честными и правдивыми. Без сомнения, ни одна народность не может сравниться с чистосердечностью эскимосов и сибиряков, а также людей, населяющих северные степные просторы.
Одним из бесспорных подтверждений этой мысли может служить то, что в нашей стране лицемеры и негодяи всегда любили тёмные бороды и при помощи хны прятали седину и даже свой возраст, изобличая тем самым свою мрачную душу.
Лицемерие и подлость тесно связаны между собой. Люди, внешний облик которых не соответствует их сущности, в любых условиях и обстоятельствах — лицемеры и предатели.
В современной психологии есть понятие «комплекс». Оно означает двойственность особого типа, болезненное состояние человека. Подверженные этой болезни стараются показать себя совсем не такими, какие они есть на самом деле. «Комплекс» проявляется двояко. Один вид этой болезни наши предки называли «смирением», а современные психологи, наоборот, именуют комплексом превосходства. Люди, подверженные ему, стремятся к превосходству над другими, но умышленно прикидываются скромными, чтобы скрыть свои пороки. Другим видом болезни является «комплекс» самоуничижения, а наши деды называли его «гордыней». Это состояние присуще натурам низким, но они, чтобы скрыть свою низость, делают всё для того, чтобы казаться высоконравственными и великодушными.
Шпионская организация Англии является самой удивительной из всех организаций человечества. Кто не посвящён в её секреты, не может себе представить, что там находят себе применение все подонки общества. Они не брезгуют даже проститутками и преступниками. Метод вербовки английских разведчиков прост: за человеком, намеренно или по неосторожности совершившим проступок, они устанавливают слежку, затем приглашают его к себе и прямо предлагают поступить к ним на службу, в случае же отказа грозят разоблачением. И несчастный сдаётся. Материально его обеспечивают. Но бедняга знает, что стоит ему ослушаться, и его песенка спета. Так и живёт он всю жизнь, зажатый в клещи, с истерзанной и измученной душой. Служба этих людей таит в себе много неожиданностей и опасностей. Очень редко они умирают естественной смертью. При малейшем подозрении несчастного отправляют к праотцам, и он уносит с собой в могилу все страшные тайны — и свои, и организации.
Организация, крутящая это колесо, бессовестна и подла. В ней нет и грана человечности, никто там не думает о будущем, о судьбе человека.
Подобные же нравы царят в Англии и в судебном разбирательстве. Ведь суд тоже зависит от этой организации. Присяжные заседатели, может быть, и невольно, но поступают по её указке. Людей, в которых она нуждается, оправдывают, а отказавшихся ей служить осуждают.
Шпионская организация Англии — самая крупная, разветвлённая и сильная в мире. Она, как спрут, распустила свои щупальца, как паук, свила опасную паутину. Наиболее активно она действует в колониях, особенно на Ближнем и Среднем Востоке. Именно эти несчастные, многострадальные страны представляют лакомый кусочек, источник прибыли и наживы для чудовищной, ахримановой[30] организации, тесно связанной с французскими и английскими франкмасонами, которых она очень ловко использует в своих интересах, заставляет слепо выполнять её поручения. Франкмасоны всюду охотятся за людьми ограниченными, безнравственными, легкомысленными.
Все люди делятся на три группы. Одни видят источник счастья и благополучия в науке, знании, искусстве. Это самая благородная группа людей. Другие равнодушны к науке, не думают о высокой нравственности. Они приходят в жизнь и, безобидно и бесполезно просуществовав положенное число лет, уходят из неё, так ничего и не совершив, ни полезного, ни вредного.
Третья группа — это люди, стремящиеся к превосходству. Эти люди стремятся и к знаниям, и к совершенству, но только к показным знаниям, к показному совершенству, чтобы за этим скрыть свою тупость и ограниченность. Знания им нужны для личного благополучия, для того, чтобы потом удобнее было прожить жизнь паразитом. Эта группа людей является обузой для общества, источником всех его бед и несчастий. Ими-то франкмасоны и пополняют свои ряды.
Именно эти люди составляют лучшую часть армии европейских франкмасонов и шпионской организации Англии.
Может быть, тысячи тысяч франкмасонов во всех концах мира, верой и правдой служащие шпионской организации, даже не знают, кому они служат, кем направляются и кому помогают. Добивается этого английская шпионская организация очень просто. Она подбирает ограниченных, бездарных людей из третьей группы, занимающих в обществе незавидное положение, и выдвигает их на высокие должности. Такие люди становятся настолько обязанными своим благодетелям, что всю жизнь беспрекословно выполняют любые приказания организации, опасаясь, как бы из-под ног их не выбили лестницу, по которой они взобрались так высоко, и снова не бросили бы их в пучину бед и несчастий.
Часто такой человек страдает, мучается, клянёт судьбу, раскаивается в своих дурных поступках, но, как он ни старается, не может вырваться из этого вечного плена. Он знает, что, если его освободят от этих пут, он уже ни на шаг не продвинется больше вперёд и карьера его закончится, он снова попадёт из рая в ад.
Такова сущность политических деятелей, которые вот уже три века приносят несчастья цивилизованному миру и около ста пятидесяти лет орудуют в Иране. С первых же дней своего появления здесь они начали сближаться с невежественными людьми, у которых в жизни не было никаких стремлений, кроме стремления к авантюрам и высоким постам. Таких людей франкмасоны вербовали в свою организацию, выдвигали на большие должности, помогали подняться по лестнице славы и благополучия. Почти все видные деятели Ирана того времени — министры, депутаты, генеральные директора — были франкмасонами. Те же, кто попадал в этот круг избранных, не принадлежа к их организации, очень быстро либо завербовывались в неё, либо выходили из игры.
Сто лет назад французские франкмасоны руками армянина, выдавшего себя за мусульманина, основали в Тегеране масонскую ложу. Но ещё до этого, во времена Фатхали-шаха[31], некоторые иранцы, приезжавшие в Англию для получения образования или занимавшие в Лондоне дипломатические посты, познакомились там с франкмасонами и вступили в их организацию. Однако, вернувшись в Иран, эта кучка иранцев-франкмасонов около пятидесяти лет не могла создать у себя на родине солидной организации из-за религиозного фанатизма населения. Широкую организацию удалось сформировать английским франкмасонам в Индии, главным образом в Калькутте. В неё были завербованы люди различных национальностей. В их числе оказались и проживавшие там иранцы. Вернувшись на родину, они стали распространять франкмасонские идеи в определённом, ограниченном кругу людей в провинциях Фарс и Исфаган.
Проповедниками масонства в Иране, завёзшими этот своеобразный товар из Индии, в большинстве своём были купцы. Встречались и ученики духовных школ, служители амвона, которые отправлялись в Индию для распространения своих учений или чтения проповедей о мученической смерти шиитских имамов[32], а возвращались начинённые масонскими идеями. Но создать крупную английскую франкмасонскую организацию в Иране им всё же не удавалось.
С франкмасонами французского воспитания столкнулась другая группа иранцев, главным образом купцы-азербайджанцы, которые торговали с Турцией и Египтом. В Стамбуле и Каире они получали наставления, а вернувшись в Иран, распространяли здесь масонство. Среди них встречались иногда, правда очень редко, люди с чистыми намерениями. Ища спасения от царивших в стране произвола и насилия, от алчности двора, обирающего народ, от наглых, лицемерных и жестоких церковников, сковывающих человеческую мысль, они или примыкали к секте суфиев, бабидов или бехаистов[33], или становились франкмасонами. Но таких было мало, большинство же торговцев и маклеров этого довольно странного базара составляли карьеристы, охотники за наживой, обращающиеся в масонство ради корыстных целей.
Группа французских франкмасонов вдохновлялась из Стамбула. Молодому армянину из исфаганской Джульфы предстояло сыграть большую роль в этой политической схватке европейцев в Иране, принять участие в мошеннических торговых и политических сделках и даже в азартных играх. Этот человек занимал в посольстве Ирана в Стамбуле скромную должность переводчика французского языка.
Франкмасоны, особенно французские, обладают тонким чутьём. Они быстро находят нужного им человека и умело готовят его к специальной службе. Вербуя агента и нанимая его на службу, они требуют от него полного подчинения и здесь уже не останавливаются ни перед какими средствами. Они даже детей берут под свою опеку, стараясь подготовить их на смену родителям. Проникнув в семью, франкмасоны уже не выпускают её из рук. Если дети окажутся непокорными, франкмасоны привлекают к работе других родственников — зятя, брата, племянника.
Молодой армянин Мальком, сын Якуба, был самым лучшим, преданным и отважным из вожаков и зачинателей франкмасонства в Иране. Он был воспитан в Стамбуле и возвращён в Иран для выполнения возложенной на него миссии.
Это произошло в момент, когда Мирза Асадолла-хан Нури, известный под именем Мирзы Ага-хана Этемад-од — Доуле, бывший со времени царствования Мохаммед-шаха[34] военным министром, стал вместо Мирзы Таги-хана Амире Кабира главой правительства. Мирза Ага-хан был деловым, сообразительным, приветливым и гостеприимным человеком. Он предоставлял широкие права своим подчинённым, особенно близким помощникам, но, опасаясь неверности и предательства, назначал на должности только своих родственников. В те времена это был единственно надёжный путь для политических деятелей избежать предательства.
Тогда в Иране было очень мало людей, знающих иностранные языки и знакомых с европейскими обычаями. И так как мусульмане недоброжелательно относились к тем, кто имел дела с иностранцами, и избегали встреч с ними, правительству и шахскому двору для связи иранцев с европейцами приходилось использовать армян и евреев.
Поэтому долгое время дипломатическими работниками и даже послами Ирана в европейских странах были большей частью армяне и ассирийцы халдейского происхождения.
Мирза Якуб, армянин из Джульфы, числился начальны— ком протокольной части при правительстве и осуществлял связи с европейскими дипломатическими представителями. В то время своих представителей о Иране имели только Англия, Россия и Франция.
Пользуясь близостью к правительству, Мирза Якуб сумел устроить в министерство иностранных дел своего сына Малькома, смышлёного парня, по хитреца и интригана, добиться для него прекрасной для того времени дипломатической должности — сотрудника посольства в Стамбуле. Там Мальком прожил несколько лет, женился на армянке из довольно богатой семьи. При содействии тестя, крупного политического деятеля, он обосновался во французской франкмасонской ложе османского двора, большинство влиятельных членов которой были армяне, и вскоре стал в ней значительной фигурой. Потом он был направлен обратно и Иран с заданием основать в Тегеране масонскую ложу.
Возвращение этого молодого человека расценивалось в тегеранских политических и дворцовых кругах как значительное событие и привлекло к нему внимание многих. Ведь в это время люди только начинали знакомиться с европейской политикой, понимать её силу и приноравливаться к европейской цивилизации, или, как говорили тогда, европеизироваться. Молодёжь старалась не только внешне подражать всему европейскому, но и изучала европейские языки, особенно французский, а некоторые даже были не прочь вступить в тайные сделки с европейцами.
Со времени правления Фатхали-шаха англичане начали активно интересоваться Ираном. Ост-Индская компания послала в Иран капитана Малькольма с огромной суммой денег, чтобы привлечь на свою сторону иранцев. Он дал большие взятки премьер-министру Мирзе-Шафи, премьер-министру Хаджи Мохаммеду, Ибрагим-хану Этемад-од-Доуле Ширази и министру финансов Мирзе Хосейн-хану Амин-од-Доуле Исфахани Мостоуфи-ол-Мамалеку, который потом также стал премьер-министром. Итак, первые шаги капитана Малькольма в Иране ознаменовались взяточничеством, и потому люди, дорожившие национальной честью, считавшие позором обнажать пороки перед иностранцами, не хотели пятнать свой народ и решительно избегали связей с англичанами. Из-за этого капитану Малькольму не удалось вовлечь иранцев в английскую франкмасонскую ложу. И только с иранцами, которые побывали в Индии, масоны имели кое-какие дела.
Те из иранцев, кто хотел хотя бы внешне оставаться честным, предпочитали сближаться с французами, которые не предпринимали прямых акций и не имели в Иране такой дурной славы, как англичане. Это долгое время и вызывало у иранцев больший интерес к французскому языку. Мало-мальски свободомыслящие, стремившиеся к европеизации, жаждавшие избавления от надоевших им сухих и нудных проповедей своих благочестивых соотечественников иранцы для утешения души стали примыкать к французским франкмасонам.
Но французских франкмасонов поддерживали англичане, извлекая при этом для себя большую политическую выгоду, поэтому сотни иранских франкмасонов, сами того не подозревая, верой и правдой служили преступной английской политике.
Русские же, наоборот, считали политику франкмасонов не только неприемлемой, но и вредной для себя и никогда не сотрудничали с ними в Иране.
Приверженцы франкмасонов были и среди бабидов, которых в свою очередь поддерживали масоны. Ища спасения от преследований каджарского двора, бабиды шли к иностранцам, и франкмасоны охотно помогали им. Затем, когда появился Бехаолла, одни из бабидов примкнули к нему, другие, кто остался при прежних убеждениях, пошли за Собхом Азалем и стали называться азалийцами. Большинство азалийцев и прежних бабидов остались верны франкмасонам. Мало того, существовала договорённость, что бехаисты тоже будут следовать принципам франкмасонства и укреплять общее дело и обе организации обязуются оказывать друг другу материальную помощь. Эти организации приучают своих членов знать окружающих их людей, быть в курсе их поведения и настроения. И, если масоны или бехаисты заподозрят, что человек, которого они хотят привлечь к себе, всё же не подходит им и может оказаться помехой в их делах, они быстро начинают распространять о нём самые нелестные и нелепые слухи. И бехаисты и франкмасоны начинают чуждаться этого человека и даже перестают здороваться с ним. Но эти несчастные даже не могут сообразить, что он прекрасно понимает их ханжество и легко догадывается, что хорошие знакомые, теперь так старательно избегающие его, — или правоверные франкмасоны, или бехаистские фанатики. Но не только это роднит франкмасонов с бехаистами. И у тех и у других в организации царит полное и беспрекословное подчинение руководству, превращающее человека в машину или послушное вьючное животное. Даже не верится, что уважающий себя свободный человек может так слепо выполнять распоряжения неизвестного лица, которое появляется из какой-то прискорбной тьмы, исполнять его приказы без возражений, немедленно, не имея права даже задать вопрос.
Франкмасоны широко используют силу страха, в котором они постоянно держат человека. Они приводят его к себе замаранного, напоминают ему о его грязных делах и говорят, что при малейшем неповиновении об этом узнает весь мир. Бывает, иногда им не удаётся сразу сломить попавшего в беду человека, тогда они применяют самые решительные меры и всё равно заставляют его идти на гнусные поступки.
В свои сети франкмасоны всегда и повсюду прежде всего старались захватить прибитых жизнью, немощных, слабовольных и ограниченных людей. Сначала они присматриваются к намеченной жертве, разузнают о человеке всё, что можно, расспрашивают его самого, но, пока не появится уверенности в нём, в игру его не вводят. Когда же решение привлечь этого человека к работе принято и получено его согласие, оговорены все условия и на беднягу навечно надет тяжёлый рабский ошейник, начинаются глупые детские устрашения. За ним приезжают тёмной ночью, сажают в карету, туго завязывают глаза, часами возят взад и вперёд по одной-двум улицам, создавая впечатление дальнего пути; въезжая во двор, долго катают его ещё там, чтобы совершенно сбить с толку, затем таскают по бесконечным лестницам и наконец приводят в тёмный подвал, где в беспорядке расставлено много стульев и столов, натыкаясь на которые он окончательно теряется, и душу его охватывает страх. Его сажают на стул и в полной тишине, будто издалека, начинает звучать однообразная печальная мелодия. Затем над самым его ухом раздаётся выстрел. Всё это доводит нервы до крайней степени напряжения, и безотчётное чувство страха ещё более охватывает несчастного. В это время слышится грубый низкий голос, обращённый к прибывшему. Чётко произнося каждое слово, он просит сказать фамилию, имя, происхождение, подробно расспрашивает о жизни. После этого несчастного заставляют отвечать на более серьёзные вопросы, выбалтывать вещи, о которых он не имеет права говорить. Так одурачивают человека, лишают его воли, превращают в ничтожество. И, когда он уже совершенно подавлен, ему развязывают глаза. Бедняга видит горящую на столе свечу, по обеим сторонам стола по рангам и положению, занимаемому каждым в организации, сидят, а за плечами сидящих стоят люди. Они одеты в чёрное платье и что-то держат в руках. Церемония кончается, зажигают свечи, и человек узнает среди тех, кто находится в комнате, своих давних друзей, которые за все годы знакомства ни разу даже не намекнули ему на свою причастность к ложе. Он теперь знает, чей это дом, кто здесь хозяин, знает, где живут остальные. Но пока он находится в магнетическом состоянии, в состоянии полной прострации, он унижен и потрясён, и ему кажется, что он никогда не смоет с себя этого позорного пятна.
Таковы приёмы, которыми пользуются франкмасоны для вовлечения в свою ложу новых членов. Они всё делают для того, чтобы запугать и на всю жизнь подчинить себе эти несчастные жертвы, заставить их всю жизнь плясать под свою гнусную музыку. Одному богу извести но, сколько вреда принесли за последние два века народам разных стран английские и французские франкмасоны. Одному богу известны все их преступления.
Иранские франкмасоны действуют теми же приёмами, Некоторые из них вступили в масонскую ложу ещё в молодости. Может быть, груз, который они взвалили на свою совесть в годы, когда голова была горяча и сердце полно дерзаний, оказался тяжелее, чем они думали. Но куда теперь от этого уйдёшь? Никуда, иначе — смерть. А им хочется жить, и они продолжают начатое, умножая свои преступления.
В Иране можно встретить много таких субъектов, проникших во все артерии государства и, словно раковая опухоль, глубоко пустивших там корни. Тем, кто не знает тонкостей закулисной игры, эти люди представляются вполне добропорядочными: они молчаливы, скромны, терпимы ко всем вероисповеданиям, сдержанны в выражении чувств во взаимоотношениях не только с друзьями, но и с женой, детьми и другими родственниками. Раньше, когда в Тегеране было много экипажей, эти люди, нанимал их, обязательно поднимали верх. Если к тому же прибавить, что все они носили аба и сюртук старого покроя с закрытым воротом, а на голове — высокую каракулевую шапку, то можно себе представить, как великолепно псе это выглядело. Надо сказать, что Реза-шах доставил им большую неприятность, запретив носить мужчинам аба, а женщинам — чёрную чадру. Но из страха они послушались его и стали носить европейские головные уборы.
Дома у каждого из этих людей есть укромный уголок для размышлений в одиночестве, куда нет доступа посторонним. Обычно это тёмная комната, иногда чулан, кладовая или что-нибудь в этом роде. Сюда, кроме хозяина, никто не имеет права войти. Такая келья похожа на таинственные пещеры дивов из детских сказок. Заходя в келью, он плотно прикрывает за собой дверь и, уединившись, как суфий, погружается в самосозерцание, делая рассудок своим судьёй. Так бывает каждую неделю, в определённый день и час, и никто в доме не знает, куда исчез хозяин. У него имеется специальный чемодан, ящик или шкатулка, содержимое которого для всех является тайной, и только смерть раскрывает эту тайну. Ключ от чемодана или шкатулки в этом случае попадает в руки доверенного лица, которое с трепетом открывает крышку, надеясь найти в таинственной шкатулке богатое наследство, но вместо драгоценностей обнаруживает там несколько приказов и распоряжений масонской ложи, которые сами масоны называют дипломами, знак отличия — ленту определённого, в зависимости от ранга, цвета, печатный экземпляр устава и программы ложи.
Скрывая в жизни всё, особенно свои чувства, эти господа держат в тайне и свои любовные похождения. Многие из них живут двойной жизнью: одна открыта для всех, другая тайная. Пока они живут, о их личной жизни никто ничего не знает, но, когда кого-нибудь из них настигает смерть, выясняется, что у него где-то есть сиге, постоянная жена и ещё две-три женщины, от которых в разных концах города или страны бегает несколько незаконнорождённых детей, вдруг объявивших себя наследниками.
Связи масонов с людьми крайне ограниченны и всегда преследуют корыстные цели. Если они обратились к кому-то, значит, они в нём нуждаются. К ним же обращаться бесполезно: они встречают неприветливо, и просителю приходится быстро ретироваться. Они избегают принимать у себя даже родственников и близких знакомых, зато у каждого есть закадычный друг — заместитель министра, начальник канцелярии или председатель кабинета, с которым он встречается и устраивает различные политические сделки.
Все эти герои когда-то учились в школе, но никогда не отличались большими способностями и сообразительностью. Самый большой талант их заключался в умении зубрить. Жонглирование книжными фразами и формулами считалось неотъемлемым качеством каждого учёного мужа. Пустое фразёрство, бесконечно длинные речи без единой мысли, звонкие фразы, иногда пересыпанные плохими стихами, — вот всё, чем отличались они от простых смертных. Как правило, они цитируют каких-то неизвестных писателей и поэтов, и главным образом почему-то американских.
Эти существа представляют собой настоящую коллекцию самых заурядных личностей. Никогда среди них не было видного учёного, деятеля искусства, художника, музыканта, певца или танцора. Они славятся тем, что умеют писать бессодержательные статьи и читать банальные стихи. Так как они насквозь пропитаны низменным «комплексом» и им обязательно хочется числиться в учёных, они питают страстную любовь к пухлым дипломам, званиям, привилегиям. С тех пор как погоня за званием «доктор» и «инженер» превратилась у нас в эпидемию, они стали пользоваться именно этими званиями вместо позорных титулов времён каджаров.
Есть ещё одна странность у больших и малых руководителей этой братии. Они так коверкают язык, что невозможно понять смысл их речи. Можно подумать, они годами трудились над тем, чтобы сделать язык не средством выражения мысли, а средством скрыть мысль, дать возможность каждому понимать их по-своему, подобно волшебному поэту Хафизу, в стихах которого любой человек находит сокровенное движение своей души[35].
Именно таким человеком является господин Шейх Ха— ди Тейэби. Сей почтенный муж, который провёл молодость в городе богомольцев Йезде, носил на голове не большую чалму, зимой и летом ходил в потёртом аба, аккуратно появлялся в медресе и внимательно слушал проповеди своего учителя, стал вдруг важной политической фигурой не только в Иране, но и на международной арене. Теперь ему семьдесят лет, хотя выглядит он значительно моложе. Потрясения, пережитые миром, не наложили на него отпечатка. Не изменилось даже его напыщенное йездское произношение, хоть он и провёл не одну ночь в беседах с заокеанскими политическими деятелями.
Год-два дискуссий на элементарные темы в духовной семинарии Йезда, ещё два года писания рецептов в частном заведении тегеранского врача — и поразительный результат: капитал на сладкую жизнь и неисчислимые прибыли обеспечены!
Всеми правдами и неправдами господин Тейэби сумел за эти четыре года получить свидетельство «на право врачевания», потом заменить его фиктивным дипломом, успел насладиться жизнью и стал даже называть себя Шейхом-ор-Раисом[36], но вскоре так увлёкся наживой, что забыл про свой пышный титул и перестал его употреблять.
Господин Шейх Хади Тейэби из Йезда, которого коротко называют доктор Тейэби, чудо природы, подобное которому появляется на свет божий раз в несколько веков, — весьма существенный винтик в странной машине, называемой Иранским государством. Несмотря на его посредственный умишко, на косноязычие, на его душераздирающий йездский акцент, на отвратительную манеру даже о пустяках говорить с таинственным видом, полушёпотом, будто речь идёт невесть о каких тайнах, он уже больше тридцати лет обводит людей вокруг своих коротких, толстых и синих пальцев не только в меджлисе Иран на, но и повсюду.
Среднего роста, в меру полный, он обладает обыкновенной, ничем не примечательной внешностью. Слава творцу, создавшему эту удивительную человеческую неопределённость, господина, о котором нельзя сказать, красив он или уродлив, есть ли у него рассудок или нет, есть ли понятие, язык, спит ли он или бодрствует, жив или мёртв, имеет ли он сердце, может ли чувствовать, человек он, наконец, или животное, мужчина или женщина. Видел ли его кто-нибудь хоть секунду опечаленным? Выражало ли его каменное лицо восторг, восхищение, радость? Он как жаба — не поймёшь, что думает, что замышляет; как плесень на берегу реки или на стволе дерева, — не то животное, не то растение, не то камень.
Учёным-психологам стоит проделать длинный путь и приехать в Иран, чтобы посмотреть на это странное существо. Случается, что при поломке машина начинает выпускать брак — странные, уродливые изделия. Вот и этот милейший и любезнейший господин является продукцией поломанной машины фабрики-природы. Я уверен, что если обратиться к самому господу богу, то и он не сможет определить творение рук своих и, возможно, отнесёт его в особый, пятый вид существ — после человека, животного, растений и минералов, назвав этот вид «доктор Тейэби Йезди». Тогда бы Йезд, город богомольцев, стал четвёртым местом после рая, ада и чистилища. До сих пор люди после смерти делились на три группы: одних отправляли в рай, других — в ад, третьи попадали в чистилище. Теперь же типов, подобных доктору Тейэби, следует определять в четвёртую группу и отправлять в Йезд, поднимая тем самым величие этого славного города.
Есть ещё одна примечательная особенность у нашего дорогого доктора: многие имеют с ним дело, но никто не бывает у него в доме; с ним часто встречаются, но не вступают в близкие отношения; его выдвигают, но не видят его дел; все с ним говорят, но ещё никто не понял смысла его слов, никто никогда не ссылался на его мнение, и никто не припомнит хоть одну стоящую мысль, высказанную этим стойким, справедливым депутатом от города богомольцев Йезда. Он как джин из волшебной сказки: люди, видевшие его, не могут сказать, что видели, где видели, что от него слышали и, наконец, как поняли это милейшее существо. Разве кто-нибудь наблюдал, что он кашлял, смеялся, лил слёзы, вздыхал, стонал, печалился, разве слышал кто-нибудь его дыхание? Он безмолвен даже перед женой и детьми, ибо и во сне боится разболтать свои секреты.
Разве кто-нибудь знает, как он шутит, видел его слушающим музыку или пение? Подал ли он нищему хоть шай[37]? Оглянулся ли хоть раз на хорошенькое личико? Видел ли кто-нибудь, как он любуется рассветом, наслаждается дыханием весны, лёгким дуновением вечернего ветерка?
Вот какие загадочные личности имеются в нашем дорогом Иране, личности, имена которых, как имя Заафар-дженни, известного знахаря, не сходит с уст народа. И я уверен, что именно это имя чаще других иранских имён упоминается на иностранных языках в посольствах Тегерана.
Это удивительного права животное, подобное которому не найдёшь ни в одном зверинце, является исполнителем воли и политики иностранцев.
Масоны, со светильником в руках выискивающие таких людей в Иране уже более пятидесяти лет, иногда натыкаются на совершенно изумительные экземпляры, над которыми задумался бы любой этнограф: а человекообразное ли это существо? Не машина ли это, не марионетка? В самом деле, может ли живой человек быть лишён страсти, пыла души, может ли он всегда оставаться равнодушно холодным, никогда не прийти в возбуждение, не проявить нетерпение? И если он действительно человек, созданный из мяса и костей, если в жилах его течёт кровь, может ли он всю жизнь плясать под одну и ту же музыку и хоть один раз на секунду не сбиться с такта?
Поведение доктора Тейэби, милейшего человека, выдающегося тегеранского политика, заставляет задуматься многих проницательных людей: иранец ли он или, может быть, кто-нибудь завёз его в Иран и обучил этому ломаному персидскому языку с йездским акцептом?
А если он и правда иранец, да ещё из Йезда, почему среди иранцев и йездцев за всю длительную историю Ирана не нашлось второго такого экземпляра, как доктор Тейэби?
Кроме перечисленных высоких качеств, этот господин обладает ещё способностью чувствовать и видеть на расстоянии. Раньше этим чувством обладали погонщики верблюдов, ослов и мулов — чарвадары и караванщики. Они припадали ухом к земле и на расстоянии многих фарсангов[38] угадывали, что идёт караван, определяли расстояние до него, рассчитывали, когда этот караван приблизится и из каких животных он состоит — ослов, верблюдов, мулов или лошадей, и даже точно называли количество голов скота.
Нет сомнения, что человечество на заре своего развития, кроме нынешних чувств, обладало чувством предвидения путём ощущения отдалённых и загадочных явлений. Человек мог определять надвигающиеся на него события по изменению направления ветра, колебанию почвы, перемене погоды, предчувствовал приближение какого-нибудь несчастья — смерти, эпидемии. По мере роста культуры человека знания его расширялись, а острота ощущения терялась. В науке память и мышление противоположны. Чем больше у человека знаний, тем меньше он запоминает. Людям, умеющим читать, не обязательно всё запоминать, и это ведёт к ослаблению памяти. Так развитие культуры привело к уничтожению некоторых ощущений, и только там, куда культура проникла ещё слабо, не затронула человека, прежние способности чувствовать и ощущать сохранились. Особенно это относится к кочевникам.
Вот и доктор Тейэби сохранил в себе эти способности малоразвитых и малокультурных людей. С поразительной проницательностью предугадывает он надвигающиеся события. Этим он очень похож на Абдолла Бахмани, который несколько лет назад почему-то ушёл в отставку. Но раньше, когда он играл немаловажную роль в тегеранской политике, он обладал удивительной способностью быстро определять силу и слабость политических партий. Стоило лишь той или иной партии ещё только начать подбираться к власти, как он уже чувствовал это и моментально вступал в неё. И, наоборот, как только партия начинала слабеть, Бахмани выходил из неё.
Господин Тейэби тоже хорошо знал, когда нужно выступать за или против правительства, и если правительство должно пасть, то бог знает откуда, благодаря ли интуиции или хорошей информации, господин Тейэби первый узнает об этом и по своей инициативе, ещё до получения приказа принимает надлежащие меры в угоду иностранным боссам, вызывая восхищение и признательность своих хозяев.
В дождливый день месяца дей[39] на углу узкой улочки Махайлейе Сарчашме и проспекта Сирус царило необычное оживление. Примерно через каждые полчаса у тротуара останавливался шикарный автомобиль, из которого выходили то толстые, то худые люди. Одни были одеты богато и изящно, другие — в котелках или в широкополых шляпах, бывших в моде у тегеранских стиляг. Из машины эти люди выходили осторожно. Сначала оттуда появлялся шофёр, оглядывался и, убедившись, что поблизости никого нет, быстро распахивал дверцу автомобиля, выпуская своего пассажира, который, тоже осторожно оглядываясь, торопливо проходил в переулок и скрывался за еле заметной калиткой, всегда открытой для такого рода гостей. Там он быстро пересекал двор и так же торопливо входил в дом.
В квартале всем было известно, что этот дом принадлежит господину Ахмаду Бехину Йезди, молчаливому и весьма уважаемому сотруднику министерства юстиции, верному и справедливому судье одного из судов Тегерана, где втихую вершатся тёмные дела.
Ровно тридцать лет живёт господин Ахмад Бехин в этом квартале, на этой улице, в этом доме, и за всё время из его дома ни разу не доносились ни плач, ни смех, никто не родился в нём и не умер, не женился и не вышел замуж, не дал и не получил развода. У дверей этого дома никогда не появлялся ни должник, ни кредитор, никогда ничего не покупали и не продавали. Даже в последние годы, когда соседи с утра до ночи пускали на всю мощь радиоприёмники, из дома господина Ахмада Бехина нельзя было услышать даже поминания Льва божьего[40], не говоря уже о чтении нараспев стихов на ломаном персидском, французском, турецком, арабском, английском, русском, курдском и семи других языках, хотя в Иране немало любителей этакой «декламации».
Самого же господина Ахмада Бехина можно видеть на улице только утром, когда он идёт в своё учреждение, и после полудня — возвращающимся оттуда. Жители уже отчаялись лицезреть его даже в такие дни, как день Ноуруза, тринадцатого фарвардина[41] или день Ашура[42], когда все высыпают на улицу.
Господин Ахмад Бехин в полном смысле слова чужой на этой улице, в этом городе, в этом государстве, да, пожалуй, и во всём мире. А если ближе познакомиться с ним, станет ясно, что и в своей собственной семье, и среди своих товарищей в министерстве юстиции он только гость. У него недурной характер и не злой язык. Он скромен, тих, и всё же никто не желает не только иметь с ним никаких дел, но даже просто знаться. Никто не поздравляет его с Новым годом и не приветствует, когда он идёт по улице.
Но именно такие незаметные, серенькие люди, которые никогда не будут влиять на мир ни хорошо, ни плохо, нужны франкмасонам. Сорок лет назад одна из франкмасонских лож обратила внимание на тихого господина Ахмада Бехина Йезди, и он был выделен из числа прочих ничтожеств. Подобно женщине, подобравшей на улице мужчину и ухаживающей за ним ради того, чтобы родить от него ребёнка, франкмасоны воспитывали и выхаживали Ахмада Бехина, заботясь о будущем своей организации. Методически, день за днём, они убивали в нём все человеческие качества, которыми когда-то наградила его природа, и в конце концов превратили в существо без чувств, без стремлений, без любви и привязанностей.
Господин Ахмад Бехин Йезди — это какое-то месиво из мяса и кожи, костей и мозга, сосудов и нервов, безвольное тело, которое лежит там, куда его бросят. Имея глаза, он не видит, имея уши, не слышит. Все его чувства, всё существо, жизнь подчинены франкмасонам.
Этот господин уже настолько лишён способности самостоятельно мыслить и ощущать, что спокойно наблюдает за тем, как в его доме по нескольку раз в год решается судьба Ирана. Его благодетельный властелин господин Тейэби Йезди, получая указание свалить одно и привести к власти другое правительство, собирает в доме этого человека всех своих приспешников, устраивает встречи с уходящими и приходящими министрами, заключает с ними сделки. Короче говоря, все тёмные дела Тейэби вершатся в этом доме. И сам хозяин дома Ахмад Бехин Йезди в это время находится тут же. А вдруг великому властелину что-нибудь понадобится? Кто же выполнит его распоряжения? На этот случай он смиренно сидит, замирая от волнения, в маленькой комнатке, расположенной рядом с кабинетом доктора Тейэби. Ахмад Бехин настолько запуган, что ему ни разу даже не пришло в голову встать и, приложив ухо к двери, подслушать, хотя бы любопытства ради, о чём говорит на напыщенном йездском наречии со своими ставленниками его почтенный хозяин.
Для тайных сговоров в доме Ахмада Бехина господин доктор Тейэби назначает полночь или послеполуденное время нерабочего дня, когда люди или спят, или отдыхают и на улице не так уж много любопытных.
Четыре каменные, ступеньки ведут к маленькой двери из осокоря, выкрашенной в тёмно-зелёный цвет, с медной ручкой, уже потёртой и поцарапанной. Как только нога человека встаёт на последнюю, четвёртую, ступеньку лестницы, преданный слуга господина Ахмада Бехина, горбун Мешхеди Мохаммед Голи Йезди, подобострастно согнувшись, распахивает дверь.
Характерно, что все обитатели этого тёмного гнезда, даже прислуга, происходят из славного города богомольцев Йезда. И Мешхеди Мохаммед Голи, и его двоюродная сестра, старая Хава Солтан, известная всему кварталу служанка в доме господина Ахмада Бехина, родом тоже из Йезда.
Несмотря на то что Мешхеди Мохаммеду Голи уже за восемьдесят и на голове у него нет ни одного чёрного волоса, а во рту ни одного зуба, он всё же обладает острым слухом и безошибочно определяет по звуку шагов, кто идёт по переулку. Шаги министров и депутатов, приходящих на свидание к доктору Тейэби, он не спутает с шагами простых смертных и, покорно склонив голову, откроет калитку только перед нужным человеком.
Благоразумная природа, лишая человека одного какого-нибудь чувства, обостряет у него другое. Так, слепой прикосновением пальцев узнает фальшивую монету, глухой обладает острым зрением, а у нашего Мешхеди Мохаммеда Голи, потерявшего все остальные чувства и даже разум, необычайно обострился слух. Известно, что и профессия помогает человеку развивать определённые чувства. Так как Мешхеди Мохаммеду Голи по роду своей службы чаще всего приходилось пользоваться ушами, поворачивая их в нужном направлении, они у него настолько развились, стали настолько послушными, что казались даже больше, чем у других людей. К восьмидесяти годам Мешхеди Мохаммед Голи был уже не человек, а только большое ухо.
Между прочим, Мешхеди Мохаммед Голи был довольно ценным творением города богомольцев и как бы дополнял и завершал собой галерею, состоящую из господина Тейэби, известного судьи Ахмада Бехина и старой Хавы Солтан. Его личность как бы завершала этот блестящий ансамбль, создавая впечатление, будто город богомольцев способен выводить только подобные феномены, что именно этим он и славен, так же как Тебриз славится бережливостью и предприимчивостью населения, Исфахан — ловкостью и верностью, Казвин — простотой, Мазандеран — доверчивостью, Кашан — трусливостью, Кум — алчностью, Хорасан — горделивостью. Свойства, присущие жителям этих городов с давних пор, отмечены ещё в древ-, них книгах.
Компания господина доктора Тейэби Йезди представляет собой замечательную коллекцию экспонатов города богомольцев, и если бы доктор Тейэби составил из них труппу и давал цирковые представления в столицах Европы, он наверняка заработал бы больше, чем на своём политическом базаре.
У Мешхеди Мохаммеда Голи есть ещё одно ценное качество: в особо горячие дни, когда аппарат господина доктора Тейэби работает на полную мощность, когда происходят решающие схватки в борьбе за новое правительство, он так чувствует пульс жизни своего хозяина, что раньше всех знает, кто и когда придёт к господину Тейэби, сколько просидит и когда уйдёт. Он стал в этих делах настолько опытным, что словно нюхом чует высокого гостя и в момент, когда тот подходит к двери, поднимается со своего места и идёт открыть ему.
Войдя в дом, человек попадает в небольшую квадратную переднюю, куда выходят три двери. Комната справа — кабинет господина доктора Тейэби. В этой комнате господина Тейэби называют просто «доктор». Когда в ней никого нет, она запирается на надёжный замок, а единственный ключ кладётся в жилетный карман господина доктора. Дверь напротив входной ведёт в узкую клетушку, зажатую между двумя другими комнатами. В ней помещается господин Ахмад Бехин вместе со своей простотой, молчаливостью, послушанием, смирением и скрытностью. С левой стороны — комната ожидания для именитых и уважаемых политических деятелей Тегерана. Здесь царствует Мешхеди Мохаммед Голи.
Позади этих трёх комнат небольшой и плохонький дворик — владения Хавы Солтан, неотъемлемой части и ангела милосердия этого дома. Пожалуй, здесь особенно применимы стихи Фирдоуси:
Хава Солтан — ей уже перевалило за шестьдесят — старая, злоязычная, своенравная женщина, изводящая даже своего дорогого двоюродного брата. Она буквально измучила жителей всего квартала. Все считают её отвратительной и распутной бабой, но для мужчин этого дома она добрая волшебница. На её обязанности лежит приготовление пищи, стирка, уборка дома. Но, кроме того, она, и только она в этом доме, суёт свой нос в каждую щёлочку и даёт волю своему языку. Ведь ни от господина доктора, ни от господина Бехина, и тем более от Мешхеди Мохаммеда Голи в течение целого года никто не услышит и звука. И если бы в этой тихой обители не шумела Хава Солтан, потрясая стены, не давая покоя соседям, мог ли бы кто-нибудь догадаться, что там есть жизнь? Если бы в часы досуга Хава Солтан не заглядывала в приоткрытую дверь или замочную скважину, не прислушивалась к тому, о чём говорят в комнате, во дворе, вряд ли была бы разница между этим домом и кладбищем.
Говорят, у господина Бехина в Йезде есть жена, разбитная, но привлекательная особа, и дети. Живёт семья, по слухам, не очень ограничивая себя, но за двадцать лет жизни господина Бехина в Тегеране его дорогая жена и ещё более дорогие дети ни разу не показывались в столице шахиншахского государства.
Ходят разговоры, что это господин доктор потребовал от господина Бехина, чтобы тот не перевозил в Тегеран свою семью. Да он и прав, пожалуй, ведь дела господина доктора в доме Бехина не детская забава, и могут ли женщина и дети совать в них свой нос и делать их достоянием случайных людей? Высокая политика и интересы такого древнего и совершенно независимого государства как Иран, превыше всего, и нельзя допустить, чтобы какая-то женщина и несколько ребятишек из Йезда знали о встречах, сделках, купле и продаже, закладе и аренде и о тысяче других политических авантюр, совершающихся в этом доме. Даже английское правительство, у которого немало доверенных лиц, разрешает быть в курсе этих дел только своему послу в Тегеране. Если бы кто-нибудь посторонний мог узнать, что делается в этом доме, кто приходит сюда и кто отсюда уходит, тогда Англия не сделала бы господина доктора Тейэби своим избранником, а господин доктор Тейэби Йезди не считал бы посла Англии безоговорочным авторитетом для себя.
Вот почему время от времени господин Ахмад Бехин Йезди, измученный одиночеством и тоской по жене и детям, отправляется в Йезд, гостит там несколько дней и вновь возвращается в свою наблюдательную будку. Надо сказать, что уважаемый судья раз в году имеет месячный отпуск с сохранением содержания. А если даже до отпуска ещё далеко, разве министр юстиции не устроит господину Бехину официальную поездку с оплатой путевых и суточных расходов или откажется регулярно посылать его в Йезд для ревизии? Ведь всегда найдётся какое-нибудь поручение: ознакомление с судебными делами, составление заключений по ним, подготовка докладов министру. Слава аллаху, пока существует министерство, можно подавать всевозможные ценные мысли, выдвигать интересные проекты и таким образом каждый год устраивать себе поездку из Тегерана в Йезд. Эти служебные поездки Ахмада Бехина — неплохой выход из положения: можно и деньги получить, и навестить жену и детей. Да и самого господина доктора Тейэби они устраивают: он хоть два-три месяца в году отдохнёт от своего верного друга. Ведь у господина доктора могут оказаться и настолько важные дела, что о них не должен знать даже господин Ахмад Бехин. На это время господину доктору с лихвой хватает одних Хавы Солтан и Мешхеди Мохаммеда Голи с их ослиными достоинствами.
Но, несмотря на величайшую осторожность, которую проявляет в своей деятельности господин доктор, на все его старания предотвратить появление его имени в газетах, меджлисе или на устах людей, злонамеренным лицам иногда всё же удаётся узнать тайну и предать её гласности. И всё это благодаря непутёвой и глупой Хаве Солтан.
Если есть в народе выражение: «Ворота и калитку можно закрыть, но рот человека — нельзя», то оно имеет в виду шестидесятилетних, выживших из ума женщин, и в первую очередь Хаву Солтан. Известно, что каждая женщина чем-то может завораживать мужчин. Седая, сгорбившаяся, с высохшей шеей и лицом, покрытыми глубокими морщинами и пятнами, с кривыми ногами и впалой грудью, она способна своим отвратительным языком занимать только мастеровых и лавочников. Когда господин доктор отправляется в меджлис или в посольство, Мешхеди Мохаммед Голи бывает свободен; в это время он делает покупки, торгуется с лавочниками. Но, когда встречи и переговоры господина доктора с политическими деятелями происходят дома, может ли бедный Мешхеди Мохаммед Голи, который должен дежурить у входа, встречая и провожая гостей, может ли он отвлекаться на что-нибудь другое? Естественно, в эти решающие для истории Ирана дни хозяйственные обязанности целиком падают на плечи Хавы Солтан.
В такие дни Хава Солтан берёт старую, изодранную корзинку, которую следовало бы выбросить ещё сорок лет назад, в день приезда из города богомольцев, отправляется купить на два риала[43] луку, один сир[44] брынзы или полкилограмма бобов и полбутылки керосина и пропадает на два-три часа. Иногда сам уважаемый служитель иранского правосудия господин Ахмад Бехин вынужден накидывать поверх рубахи и кальсон выцветшее, залатанное и засаленное аба, вытканное сорок лет назад, и, проявляя величайшую осторожность, чтобы, не дай бог, не разгневать эту сварливую бабу и не оказаться опозоренным, идти за ней и уговорами и ласками возвращать её домой. Есть женщины, которые не тяготятся своей неграмотностью и невежеством, не стыдятся своего дурного поведения, женщины, вся жизнь которых подчинена лишь одному стремлению всё знать, всё предвидеть, раскрыть и рассказать другим чужие тайны. Хотя Хава Солтан и происходит из Йезда и ей уже перевалило за шестьдесят, хотя лавочники квартала Сарчашме говорят о ней, что старуха, мол, одной ногой уже стоит в могиле, она всё же принадлежит к категории этих женщин.
Самое большое наслаждение она испытывает тогда, когда в её беззубый рот попадает ложка рисового киселя или мороженого. в переулке есть лавочка Плешивого Аббаса, известного своим кривлянием на весь квартал. Этот говорящий уголёк, шут гороховый, который может околпачить само небо, зимой торгует рисовым киселём, за порцию которого берёт один риал, кладя туда рисовой муки, молока и сахара не более как на полриала, а летом продаёт мороженое, наживаясь на каждой порции вдвое. Как только Хава Солтан с древней корзиной, сохранившейся со времён всемирного потопа, выходит из дому, Аббас, глядя на неё своими огромными навыкате глазами и подняв широкие дугообразные брови, зазывает её к себе. Несколькими слащавыми и высокопарными фразами или шуточками он прежде всего выуживает у неё два-три риала, завязанных в платке, а затем умело выпытывает о вещах, не подлежащих огласке.
Обычно, когда господин Ахмад Бехин находит Хаву Солтан, бывает уже поздно: она успевает выболтать всё. Но не следует думать, что эта выжившая из ума старуха из Йезда, неспособная отличить крик петуха от свирели, может ясно и точно рассказать о всех соратниках, друзьях и сообщниках господина доктора Тейэби Йезди, известного дипломированного врача, лидера движения за полную и безоговорочную свободу Ирана. К счастью, иранский народ, особенно население Тегерана и жители квартала Сарчашме, — разумеется, это относится и к Плешивому Аббасу, торговцу рисовым киселём зимой и мороженым летом, — не такие уж простаки и верят всему не так быстро и не в такой степени, как это хотелось бы доктору Тейэби, его дорогим сообщникам и почтенным хозяевам.
Удивительные, однако, происходят дела! Чем больше господин доктор Тейэби Йезди и его друзья приобщаются к культуре, тем больше пройдох, одетых в длинные старые кафтаны, ещё не вышедших в лидеры, не ставших депутатами, не посещающих посольства, тоже приобщаются к ней и становятся их соперниками. Проклятые газеты и радио заставляют всех плешивых аббасов, и даже ещё плешивее его, входить во вкус политических авантюр и интриг. Не зря господин доктор Тейэби и его стойкие компаньоны день и ночь тоскуют по прошлым временам и скорбят по «усопшему», моля о возврате былого[45].
Во всяком случае, если этот плут и мошенник Аббас, который, так ловко обманывая покупателей, наживается на мороженом и рисовом киселе, не перенял от своих предков всего их жизненного опыта, то проклятущее радио и, того хуже, газеты, которые читают ему школьники за порцию мороженого, устранили этот пробел. И вот в квартале Сарчашме, прямо возле осиного гнезда, пристроился этот Аббас, с вечно грязным воротом, в замызганном габа, с редко торчащими кустиками полос на плешивой голове, похожей на вершину горы с подтаявшим снегом, покрытую белыми и синими пятнами. Кустики волос на голове в зависимости от времени года он красит то хной, то тёмной сурьмой, и они торчат, как можжевельник в пустыне.
Несмотря на старания меджлиса, сената и усилия полиции и жандармерии добиться того, чтобы такие, как Плешивый Аббас, не могли знать, видеть, слышать и разнюхивать слишком много, бог всё же милостив. Стоит кому-нибудь сказать один слог, как он уже знает всё слово. Например, Хава Солтан только скажет:
— Сегодня раньше всех явился толстяк! Он был как чёрт: сигара к его губам словно припаяна, можно подумать, что он с ней родился, чётки прямо-таки приросли к рукам. Он вышел из автомобиля такой надменный, так важно ступал по земле! Он, наверное, думает, что каждым своим шагом оказывает тысячу милостей людям и само небо должно благодарить его, когда он пускает вверх дым изо рта.
Этого было достаточно для Плешивого Аббаса, и он моментально угадывал, что Хава Солтан говорит о Мораде, депутате от Тегерана, который каждый раз при любых обстоятельствах оказывается избранным. Кстати, Аббас так хорошо знает этого почтенного господина, что как-то даже сказал:
— Кажется, земля Лавасана лучше всего родит горькие огурцы, ведь они растут именно там. Видно, жители этого района удобряют свою землю каким-то особым навозом.
Этот Плешивый Аббас со своим природным умом и богом данной проницательностью, полученной в наследство от многострадальных предков, знает массу анекдотов о господине Мораде, одном из столпов иранского конституционализма. Например, в прошлом году, когда этот баловень судьбы был министром без портфеля, в чайхане кто-то рассказал, будто один плут слышал от двоюродного брата жены, работающего слугой в совете министров, что якобы ещё до того, как этот тип стал министром без портфеля, в совете министров был обычай сидеть за столом в зависимости от министерского стажа: чем больше министерский стаж, тем почётнее место. Однако наш уважаемый господин, потомственный аристократ и светоч законности, гордость конституционализма, господин, благородный отец которого был таким демократом и борцом за свободу, что по одному его приказу убивали тысячи моджахедов[46], с первого дня появления в совете министров важно восседает на почётнейшем месте, закинув ногу на ногу, пускает изо рта дым и грубо цедит сквозь зубы каждое слово. Сей муж, не стесняясь, садится на более почётное место, чем какой-нибудь бедный министр, хотя тот занял свой пост значительно раньше его, не оказывая даже элементарного уважения старику, который одной ногой уже стоит в могиле.
Услышав эту историю, Аббас, полный негодования, положил руку на свою плешивую голову, смачно выругался и сказал:
— Бедное безмолвное создание! Он, пожалуй, прав, что думает: «А почему бы мне не сидеть повыше старика? Если он осёл, то и я осёл, если он турок, и я турок. Чем я хуже его? Единственное, в чём превосходит меня мой соперник, — это что я ростом не вышел, но зато я толст, как бочка». Поистине люди потеряли и стыд, и совесть! Впрочем, с какой стати человеку, у которого отец был духовным лицом, а жена европейка, сидеть ниже того, у которого отец не носил на голове даже маленькой чалмы? Ну а разве в масонской ложе, где они оба бывают, этот коротышка не сидит выше того старика? Да пусть их меняются своими ролями, что из того!
Не знаю, каких начитался книг и у кого брал уроки этот Плешивый Аббас, но в разговоре он за словом в карман не полезет. Однажды Хава Солтан, рассуждая об этих выскочках из меджлиса, сказала:
— Эта каналья из себя невесть кого строит: всегда с сигарой во рту, одна рука в кармане, другой свои чётки перебирает. Похоже, что он и в уборной не оставляет их в покое. Сколько лет он бывает у господина доктора и ни разу даже ломаного гроша не положил в руки Мешхеди Мохаммеда Голи. А ведь бедняга тысячу раз гнул перед ним спину, покорно отворял дверь, вежливо принимал у него шляпу и галоши.
Сочувственно кивнув головой глупой старухе из Йезда, Плешивый Аббас поддакнул:
— Да будет милостив бог к твоему отцу, разве этот коротышка не считает себя святым? А такие люди любят всё брать и ничего не давать. Будто ты не знаешь, что ахунды первым делом учат своих детей протягивать руку. Не зря говорят в народе, что дети ахундов родятся с длинными руками. Или ты забыла примету: если ребёнок появляется на свет с ручонками, сжатыми в кулаки, он будет жадный, если с раскрытыми ладонями — добродушный и если с длинными руками родится, то за всю жизнь не выпустит из них ни шая.
Многих странных политических деятелей Ирана приходится видеть Хаве Солтан. Эта коллекция типов очень разнообразна: тут есть старые и молодые, невежественные и образованные, умные и глупые, решительные и трусливые, нахальные и скромные, деревенские и городские, богатые и бедные, красавцы и уроды. Наивно было бы, конечно, ожидать, чтобы старая женщина шестидесяти с лишним лет могла запомнить их имена, к тому же очень разные по своему звучанию, — тут и персидские, и арабские, и тюркские, и еврейские, и армянские, а если она и запомнит какое-нибудь имя, то всё равно исказит его. Догадаться, кого имеет в виду Хава Солтан, когда она произносит то или иное имя, могут только очень сведущие люди, хорошо знающие это общество. Разве можно понять, о ком идёт речь, когда она рассказывает! Ясно же, ей трудно запомнить столько имён, титулов, запомнить, чем занимаются эти люди и чем они знамениты, и она пользуется приметами. Имя не выражает существо и характер человека, в том числе и этих важных персон, зато простой народ награждает их удивительно меткими эпитетами: «тот важный коротышка», «этот широкоротый», «слепой» «тот, с козлиной бородкой» и тому подобное.
Хава Солтан часто не помнит, что человек, рано утром или поздно вечером чуть не сорвавший с петель дверь, есть тот самый «в больших очках», которого Мешхеди Мохаммед Голи называет Голь Разеки, либо что к тому, кто ежегодно в день Ноуруза присылает мелайерский кишмиш, мелайерский баслук[47], мелайерские соки и имеет свой автомобиль, Мешхеди Мохаммед Голи обращается: господин Алак Бедани. Что взять со старой женщины, у которой притупилась память? У женщины разум связан с волосами и зубами. Как потеряет она зубы и поредеют её волосы, она прощается с разумом и чувствами, держит путь к могиле.
Плешивый ловкач Аббас обладает невероятными способностями выуживать у беззубой старой простофили важные сведения. Не успевает эта бедная женщина проглотить и первую ложку киселя или мороженого, а Плешивый Аббас уже делает томные глаза и со страдальческим видом кладёт свои мясистые синие ладони на высохшие, бесцветные руки Хавы Солтан, выражая этим чувство дружбы, преданности и любви и вызывая трепет в её истлевшем теле. Затем нежностью и лаской, которым может позавидовать лохань из-под мороженого и котёл, в котором варился кисель, он настолько завораживает её, что из сердца Хавы Солтан в подол плешивого шарлатана начинают потоками литься тайны.
Выходит, что, проявляя бдительность, господин доктор Тейэби допускает и безрассудство. Когда ожидается падение кабинета, он посылает своего соратника и верного сообщника Ахмада Бехина за чёрным горохом[48] и одним махом убивает двух зайцев: предоставляет возможность Бехину бегать по своим делам и сам избавляется от человека хотя и доверенного, но которому совсем не обязательно всё видеть и слышать. Однако, спроваживая господина Бехина, доктор Тейэби забывает, что его отсутствие вполне возмещается появлением Хавы Солтан в чадре и с корзиной в руках у лавки Аббаса.
Какая-то удивительная сила притяжения существует между этой дряхлой старухой и ловким шутом, способным своей хитростью заставить даже звезду спуститься на землю. Известно, что противоположности всегда сходятся. На основании этого чёрное тянет к белому, умного к невежде, женщину к мужчине, бедного к богатому, слепого к зрячему, слабого к сильному, немого к говорящему, а Плешивого Аббаса к Хаве Солтан.
Несмотря на то что за всю историю человечества было сказано много прекрасного о любви и не зря считают, что только благодаря любви существует мир, распускаются цветы и светят звёзды, нужно признать, что влечение Плешивого Аббаса и Хавы Солтан друг к другу подогревалось расчётливостью и корыстолюбием, особенно со стороны Аббаса. Любовь часто приносит несчастье. Бывает, что человек любит недоступное, и чем более оно недоступно, тем сильнее стремление к нему. Вот почему любовь нередко возникает между абсолютно разными людьми. Уроды влюбляются в красивых, старые в молодых, бедные в богатых, слабые в сильных. Любовь почти всегда имеет какую-то цель — бескорыстная любовь редка, — и, как только эта цель достигается, огонь любви угасает, страстно влюблённые когда-то расходятся, и остаётся только горечь.
Не объясняется ли влечение Хавы Солтан к Плешивому Аббасу его возрастом? Ведь не тянет же Хаву Солтан к Мирзе Мохаммеду Джаваду, торговцу лечебными снадобьями? Седая борода Мирзы Мохаммеда Джавада ежеминутно и ежесекундно, стоит только посмотреть на него, напоминает Хаве Солтан о его возрасте. А Аббас, как бы ни был он плешив, всё же молод и даже привлекателен. Этот острый на язык плут пользуется успехом и у молодых женщин квартала, так что уж говорить о женщине из Йезда, которой перевалило за шестьдесят и которой в молодости не удалось попользоваться благами жизни.
Но ни молодость, ни привлекательность Аббаса, ни его нежный взгляд не подействуют на сердце Хавы Солтан, если он не будет подавать ей порцию мороженого или наливать в миску киселя больше, чем полагается. В противном случае любовь её тоже не поднимется выше метки.
Да и Аббас, пропади он пропадом, не из тех, кто дёшево продаёт своё чувство. Стоит только Хаве Солтан подойти к дверям его лавки и поднести к беззубому рту мороженое или кисель, как этот пройдоха с ловкостью, которой может позавидовать сам господин Тейэби, моментально умаслит бедную женщину и выудит у неё всё, что ему нужно. А уж когда она съест порцию мороженого или киселя, за которую, кстати, всегда расплачивается звонкой монетой, она так расчувствуется, что её беззубый рот раскрывает тайны семи государств.
Плешивый Аббас всегда узнает раньше всех, когда ожидается смена кабинета, кому будет выражено доверие, сколько министров будет иметь в новом кабинете каждая группировка и кого она выдвинет на пост премьер-министра. Он безошибочно определит, у кого из посетителей господина доктора Тейэби больше шансов стать министром. Впрочем, это и не мудрено. Сколько людей — толстых и тонких, чёрных и белых — встречал за последние несколько лет Аббас, сколько узнала о них его плешивая голова. Совсем недавно отставной почтовый чиновник господин Рад— жаб Имамверди рассказал ему забавную историю, происшедшую очень давно. Так как телеграф был построен во времена Насер-эд-Дин-шаха англичанами, а в то время с европейцами общались только армяне, правоверные же мусульмане считали англичан нечистыми, то и телеграфисты были из армян. Тогда телеграф находился в ведении министерства просвещения, начальником его был Мирза — Этезад-ос-Салтане, а Али Голи-хан, сын Реза Голи-хана Хедаятоллабаши, был у него в подчинении. Со временем начальником телеграфа стал Али Голи-хан, и так как он получал отовсюду и сам рассылал во все концы вести, ему присвоили титул «Мохбер-од-Доуле», то есть «вестник государства». Этот новоявленный начальник был настолько безграмотен, что не мог даже прочитать армянскую фамилию. Однажды ему вручили такую депешу: «Ходжа Асатур пусть едет в Тебриз на место Мирзы Хачатура, который должен вернуться в Тегеран на его должность». Сколько ни старался Мохбер-од-Доуле разобрать эти две армянские фамилии, так и не смог и вынужден был подписать под депешей такой перевод: «Этот пусть поедет, а тот пусть вернётся. Мохбер-од-Доуле».
С того дня, как Плешивый Аббас услышал от господина Раджаба Имамверди этот злой анекдот, всегда, когда в чайхане, на базаре или на перекрёстке заходит речь о каких-либо перемещениях, этот плут и мошенник многозначительно качает своей плешивой головой и говорит: «Этот пусть поедет, а тот пусть вернётся. Мохбер-од — Доуле».
В эту пятницу воздух в Тегеране был особенно свеж. Три дня назад, когда отмечали последний день Ноуруза, впервые за много дней прошёл небольшой дождик, и с тех пор каждый вечер он снова освежает душный воздух. Аббас проснулся ещё до восхода солнца и пошёл к арыку, чтобы совершить омовение перед молитвой. На траве, словно алмазики, сверкала роса.
Аббас жил в доме, примыкающем стеной к дому Шейха Мохебали Талегани, самого счастливого домовладельца в переулке, так как у него в саду полным цветом распустились несколько вишнёвых, персиковых и яблоневых деревьев. Аббас присел у арыка и, прежде чем коснуться руками воды, несколько раз жадно вдохнул свежий опьянящий воздух раннего утра.
Затем Аббас прочитал молитву, свернул коврик, надел на ноги свои старые гиве[49], служившие ему много лет, и вернулся домой, чтобы прожить ещё один день.
Весной торговля Аббаса была особенно оживлённой. Зима ещё не совсем кончилась, а лето не начиналось, и Аббас мог торговать и мороженым, и рисовым киселём. Те, что не сбросили с себя зимней одежды, приходили поесть киселя, а встречавшие лето требовали мороженого.
Мороженое Аббаса славилось по всему Сарчашме. Каждый день Аббас надевал свою старую красную феску, от долголетней службы почти потерявшую первоначальный цвет, садился на скамеечку возле пузатой деревянной бочки и, как заводная кукла, поворачивал свою плешивую голову то в одну, то в другую сторону. На его плече висела старая выцветшая тряпка. Широкие тёмно-синие шаровары купались в пыли. Тихо напевая, он крепко обхватывал своими сильными ногами бочку и, взяв толстыми, короткими, волосатыми пальцами лопаточку, начинал старательно перемешивать молоко и сахар. Время от времени Аббас вынимал лопаточку; масса становилась всё гуще и гуще.
Проходившие мимо школьники с завистью посматривали на белую лопаточку, облепленную мороженым, и утешали себя надеждой когда-нибудь хоть на один кран[50] вкусить этой живительной массы.
Постукивание лопатки о металлические стенки и дно сосуда и грохот перекатывающихся в деревянной бочке кусков льда стали привычными для жителей квартала. Они слышали этот однообразный звук изо дня в день, и даже дети не обращали на него внимания. Вот уже пять лёг стучала лопаточка и перекатывался лёд, вызывая в душе Хавы Солтан самые светлые чувства.
Если господин Ахмад Бехин, воспитанник и подопечный доктора Тейэби, известного столпа иранского конституционализма, и был судьёй, то только по тем признакам, что в конце каждого месяца он получал жалованье по шестому разряду, несколько раз в году на казённый счёт ездил к жене в Йезд якобы по делам службы, чтобы таким образом, когда нужно, избавить господина Тейэби от лишнего свидетеля, и там спокойно устраивал личные дела. Само собой разумеется, один раз в два года, перед новыми выборами, его поездка имеет иную, деловую цель.
Ясно и то, что господина, которому покровительствует известный политический лидер, никто не заставлял вовремя приходить на работу. Достигалось это очень просто. Первое условие, которое ставил господин доктор Тейэби новому министру юстиции, — не требовать от господина Ахмада Бехина, самого прилежного и примерного работника юстиции Ирана, регистрации в книге прихода и ухода. Уже по одному этому можно судить о той роли, которую играл в правительстве Ирана господин Бехин.
Так вот, когда намечалась смена правительства и господин доктор Тейэби рано открывал свою лавочку, начиная приём депутатов и кандидатов в министры, и поздно закрывал её, успешно закончив свою бурную деятельность, господин Бехин, убедившись, что в доме всё спокойно и благополучно, отправлялся в судебную палату, чтобы почитать газету, выкурить несколько сигарет и повидаться с очень уважаемыми и менее уважаемыми судьями, а Хава Солтан брала свою старую корзину и под предлогохм, что ей хочется освежиться мороженым, шла к лавке Плешивого Аббаса. Мороженое уже было готово, и мошеннические руки торговца ложкой доставали из металлического сосуда аппетитные белые шарики, соблазняющие прохожих.
Подойдя к лавке, старуха ставила корзину на землю, усаживалась на корточках у прилавка, поправляла платок, пряча под него седые волосы и делая вид, что достаёт деньги, широко расстёгивала ворот, обнажая старую, изрезанную морщинами грудь, а затем, как всегда, начинала изливать перед Аббасом душу, получая от этого огромное наслаждение.
Удивительная связь существует в мире чувств и ощущений. Словно в человеке скрыты весы, и как только одна чаша их облегчается, другая становится тяжелее. Стоит ослабнуть одному чувству, как тут же возникает и утверждается другое. У слепых необычайно развито чувство осязания. Быстро пробежав пальцами по лицу и рукам человека, они могут определить его возраст и даже представить себе его внешний вид. Это внутреннее равновесие, свойственное человеку, особенно помогает ему в конце жизни, У старух, например, когда их тело приходит в полную ветхость и не может доставить им наслаждения, вся сила их страсти переходит в язык, и они становятся чрезмерно болтливыми. То же самое произошло и с Хавой Солтан. Когда к старости ома лишилась возможности более ощутимо удовлетворять свою страсть, единственным её наслаждением стала болтовня.
Любая женщина всегда стремится рекламировать себя. День и ночь она старается обратить на себя внимание окружающих и чего только не сделает ради этого, подчас даже совершенно не считаясь с мужем. Словно торговец на базаре, который не беспокоится за своих постоянных покупателей — в них он уверен, они придут — и всю свою энергию затрачивает на то, чтобы зазвать в лавку новых, она старается привлечь к себе внимание других мужчин. Многие девочки, ещё совсем крошки, любят ходить по улице, взяв в руки куклу и набросив на голову чадру. Уже в таком возрасте они отлично знают, как нужно кокетничать с мужчинами. Чтобы выделиться, на, фоне других, женщина готова идти на жертвы, терпеть физическую боль. Она может часами простаивать перед зеркалом и выщипывать волосы из бровей, со лба и щёк. Каждый выдернутый волос вызывает у неё слёзы, но она стоически переносит эту боль. Кто не видел такой женщины!
Стремление к славе и карьеризм в равной степени присущи и мужчине и женщине. Но мужчины гонятся за титулами, чинами и бесполезными орденами, галунами, шпорами, погонами, ради чего лезут в политику, хотя это доставляет нм немало хлопот и неприятностей, у женщин же стремление к славе связано только с внешним эффектом, со стремлением произвести впечатление на посторонних людей. Поэтому вы можете встретить женщину, разодетую в шелка и парчу, но с грязным бельём на теле.
В задней комнате этих шикарных красавиц всегда беспорядок и грязь, потому что посторонний этого не видит в гостиной же — цветы, зеркала, гобелены, портреты в позолоченных рамах, атласные гардины. Часто такие женщины кормят детей и мужа хлебом и похлёбкой с потрохами, но стоит появиться двум гостям, как на стол ставится столько всевозможных яств, что ими можно накормить пятнадцать человек. Избалованные женщины любят прикидываться больными, вызывая этим сочувствие к себе со стороны мужчин. Таким женщинам обычно нравятся крупные, сильные мужчины, которые ведут себя дерзко, грубо. Этим можно объяснить и любовь женщин к военным. Есть категория женщин, которые любят показываться обнажёнными перед посторонними мужчинами. В Европе этих «нюдисток», как они сами себя называют, было особенно много в Англии, в скандинавских странах и догитлеровской Германии. Есть они и сейчас во Франции и Америке. «Нюдистки» считают, что для нравственного очищения, уничтожения вожделений и для здоровья человеку необходимо ходить голым. И к этому быстрее привыкают женщины, особенно молодые.
Хава Солтан Хоть и является уважаемой служанкой в доме господина Ахмада Бехина, но она тоже не ангел. И её старческое тело волнуют человеческие страсти. Конечно, всякая старая женщина любит зимой кисель, а летом мороженое. Известно, что их тянет ко всему, что приготовлено на сахаре и молоке. Но всё же нашу Хаву Солтан каждый день к лавке плешивого влечёт не только мороженое, но и здоровые, сильные, с закатанными до локтя рукавами волосатые руки, сбивающие это мороженое, и грудь колесом, которая может покорить женщину и помоложе. Закончив свою работу и перестав крутить мороженое, Аббас получает большие преимущества перед старой Хавой Солтан, которая уже загостилась на этом свете. Во-первых, мороженое готово, его можно есть, и оно, попав на язык Хавы Солтан, вызовет особое наслаждение. Во-вторых, от горячей работы лицо Аббаса становится красным и возбуждённым и ещё больше привлекает внимание старых женщин, которым этот плут так широко раскрывает своё сердце.
Этого уже достаточно, чтобы старая Хава Солтан заговорила. Чем больше Аббас подбавлял в мороженое яиц и сливок, тем тягучее оно становилось, а соответственно удлинялся и рассказ Хавы Солтан. Так постепенно Аббас стал самым осведомлённым человеком в политических делах. Особенно хорошо он изучил организацию господина доктора Тейэби Йезди, самую сильную, честную, деятельную и верную опору иранского конституционализма. Поздно вечером, сидя в чайхане и потягивая трубку, Аббас рассказывал такое, чего не найдёшь в коробе ни одного продавца пряностей. Этот Плешивый Аббас стал вездесущим и всезнающим. Важно прижимая большим пальцем правой руки табак в своей трубке из вишнёвого дерева и пуская вверх кольца дыма, он на жаргоне мошенников и шарлатанов начинал многозначительно рассуждать о политике. По правде сказать, только благодаря Хаве Солтан, весьма картинно изображавшей подлость м лицемерие министров, депутатов и политических деятелей, ему так легко удалось проникнуть в тайны этого мира. Но не дай бог кому-нибудь попасть на язык этих плешивых аббасов! Они моментально раззвонят об этом по всему миру, так что услышат даже глухие.
4
Со вчерашнего дня в Тегеране идёт страшный ливень, какой тегеранцам доводится видеть раз в двадцать лет. По переулку Сарчашме вниз спускаются домики из сырцового кирпича и глины, очень похожие на расставленные в беспорядке куфте[51] или большие миски с кашей. Коричневая глина с торчащими из неё палками походила на мясо с рисом, а камыши и трава украшали всё это, как зелень. В переулках, которые тянутся по обе стороны проспекта Сирус, липкая грязь налипала на ботинки, пачкала одежду прохожих. В выбоинах тротуаров и мостовых стояли озёра воды. Подобного безобразия не найдёшь ни в одном государстве мира. Всё это говорит о полном безразличии властей к интересам народа.
Поздно ночью кто-то из жителей квартала сказал Плешивому Аббасу, что в его лавке рухнули стропила и разбили фаянсовые блюдца и тарелки. Вот злая судьба! Неужели дождь не мог найти другой крыши, кроме крыши Аббаса, чтобы её размыть?!
Надев свою засаленную феску, Аббас взял в руки керосиновую лампу и заспанный, испуганный и дрожащий от холода пошёл спасать остатки своего имущества. На горизонте сквозь тучи показались первые лучи солнца.
В этой предрассветной мгле Аббас увидел на углу переулка старый, видавший виды автомобиль. Аббас уже так научился всё определять с первого взгляда, догадываться о многом по мелочам и хитрить, что мог бы играть не последнюю роль в мистериях господина доктора Тейэби. Господин доктор имеет в своём распоряжении несколько старых, потрёпанных автомобилей различной окраски, на которых, чтобы не бросаться в глаза прохожим и обмануть бдительность своих политических соперников, не показать им, что он, доктор Тейэби, в доме своего друга и земляка господина Ахмада Бехина занят подготовкой к свержению старого и составлением нового кабинета, в горячие дни страдания за отечество, спасения правительства и трона, конституции и демократии, он приезжал в этот глухой переулок.
Сегодня на углу стоял форд мышиного цвета выпуска тысяча девятьсот двадцать седьмого года. Маленький, серый, он почти сливался с предутренним туманом этого ненастного дня.
Дверца машины открылась, и из неё вышел мужчина среднего роста, с брюшком, короткой шеей и широким лицом. Это был сам господин доктор. На нём, как на вешалке, висело грубое, плохо сшитое пальто из ткани фабриканта Казеруни, полученное господином доктором в виде взятки от продавца тканей и портного. Господин доктор зашлёпал своими нечищеными ботинками по лужам, как медведь, перепрыгнул через арык и важной, величавой походу кой, разбрызгивая грязь, дошёл до ступенек суфийской обители. Подобная торжественность и важность не проявлялись ещё ни при одном свержении кабинета. Как только он приблизился к дому, божественное откровение, небесное вдохновение, или, как говорят иностранцы, «телепатия»[52], заставило калитку, которую Мешхеди Мохаммед Голи ежедневно смазывал оливковым маслом, чтобы она не скрипела и жители квартала не знали, когда она открывается, бесшумно распахнуться, и в ней показалось бледное, смиренное лицо самого Мохаммеда Голи. Увидев своего дорогого и уважаемого земляка, известного депутата от города богомольцев Йезда, Мохаммед Голи мигом отошёл в сторону, и первый столп конституции Ирана вступил в свою «обсерваторию», которую арабские поэты, узнай они её тайны, назвали бы местом позора и срама.
Не успел этот дипломированный доктор перевести дыхание и снять пальто, как к его серому форду, разрывая мрачную предрассветную пелену, подкатил другой автомобиль.
Аббас узнал шевроле одного из последних выпусков за номером семьсот сорок пять, принадлежащий тегеранскому университету. Эту машину Плешивый Аббас видел здесь уже не однажды и в разное время суток. Много раз ему приходилось наблюдать, как из неё выходил, осторожно озираясь, господин доктор Али Акбар Дипломаси, несравненный учёный, непревзойдённый эрудит. Иногда он исчезал в таинственной калитке один, иногда с настоящим европейцем, иногда с человеком в чалме, а случалось, и с военным в позументах и с шашкой. Бывало, что его сопровождал какой-нибудь известный политический деятель.
Сегодня наш непревзойдённый глава науки, опора ислама и мусульман, самый великий из всех уважаемых профессоров, ниспосланных когда-либо человечеству, вышел из машины один. Когда Аббас увидел господина учёного во всём его великолепии, увидел американскую шляпу с широкими полями, свободное, мягкое серое пальто, сшитое в Париже, очки в золотой оправе, яркое шёлковое кашне, он понял, что ему представился человек во всём его величии и блеске, сильный и славный на весь мир от Петельпорта до Аляски и от дна преисподней до рая.
Обычно, если у бедного Аббаса не было клиентов, он от нечего делать вертел регулятор настройки радиоприёмника. И вот как-то он обнаружил, что этот почтенный человек за океаном произносит речи ка французском, английском и ещё бес его знает, на каких языках, а также читает свои путевые записки и другие литературные шедевры. С тех пор, слушая по радио подробные сообщения о разводах и свадьбах, об открытии бани или сапожной мастерской, наш бедный Аббас жаждал в числе других имён услышать имя этого великого учёного.
Можно себе представить, как засияли от радости глаза у Плешивого Аббаса, когда в мрачное, словно осеннее утро, принёсшее ему столько бед, он увидел этого человека. Появление здесь знаменитости в тот час, когда обвалилась крыша лавки, Аббас счёл за хорошее предзнаменование и возблагодарил за это бога. Дождь, ниспосланный небом, разорил его, но на земле появилось благодатное молодое деревцо, тоже ниспосланное небом, как великая надежда всех слепых и несчастных.
Глава науки и величайший из учёных, обладатель бесконечных знаний и основатель педагогической школы, с большим трудом, с невероятными усилиями и страданиями, в годы, когда страна переживала голод в науке и знаниях, привёз в Иран из-за океана заморскую педагогику. Эта персона вся до последней ниточки пропитана наукой, так что еле несёт на себе этот груз знаний. Поэтому-то он и подъезжает к грязному, заплёванному переулку в автомобиле.
В это пасмурное дождливое утро господин Али Акбар Дипломаси был поглощён размышлениями о том, какие новые методы стоило бы применить в воспитании молодого поколения — новоявленной знати этой древней страны, стяжателей и любителей наживы — и как ему лучше поразить мир цитатами из Сократа, Платона, блеснуть безграничной широтой своих знаний.
Кто не сидел рядом с этим мировым учёным, не убедился воочию в его неиссякаемых знаниях, не ощущал цветения его языка, не поднимался с ним на вершины наук древнего и нового мира, с этим учёным, не достигшим неба только потому, что не было подходящей лестницы, тот не сможет понять и представить себе, насколько такие дельцы, приспособившиеся к науке и завладевшие ею, унижают страну, презирают свой народ, а мировую науку превращают в детскую забаву и источник наживы. Разумеется, и господин доктор Али Акбар Дипломаси, являясь памятью о предках — царство им небесное — на широких просторах вселенной и арене земного мира, имеет право на всех смотреть свысока, не считаться ни с чем и презирать простых смертных.
В этот день наука и знание, осведомлённость и предвидение с особой силой проявлялись в учёной особе. Оно и понятно. Ведь он должен был предстать пред ясные очи господина доктора Тейэби, выложить ему харвары[53] знаний, равные горе Эльбурс, изумить и покорить его своей эрудицией.
Итак, хочешь не хочешь, а господину ректору Тегеранского университета в американской дымчатой шляпе и свободном плаще горохового цвета пришлось подойти к четырехступенчатой лестничке обители господина Ахмада Бехина, ещё раз превращённой в лобное место правительства Ирана. Разве мог Мешхеди Мохаммед Голи, который чутьём угадывал приближение к дверям журналиста, мошенника или депутата от любого города, не услышать приближения человека науки не только земной, но и потусторонней! Разумеется, с присущей ему таинственностью и учтивостью он плавно и быстро открыл дверь этому морю знаний, словно опасаясь, что, если он замешкается хоть немного, море разольётся и затопит весь квартал Сарчашме.
Люди из Йезда хорошо знают, что шутить с учёными мужами, заставлять их ждать за дверью — дело опасное. Мирские науки слишком многообразны. Тут и солёная вода морей, и страшные ветры пустынь, гром, молния, всё разрушающие бури, печи дьявола и огненные языки пламени, стихийные бедствия, эпидемия чумы и холеры, страшные Гог и Магог и орды Гитлера и Муссолини. Из всех наук самой благородной является педагогика, которая восходит от великих греков и римлян. Она содержит в себе необычайную внутреннюю силу, которой покоряются даже такие могучие животные, как слон. Так как же тут устоять несчастному старику из Йезда, согнувшемуся в три погибели, стоящему уже одной ногой в могиле, готовому упасть от малейшего дуновения ветерка!
Господин Тейэби Йезди, готовясь к приёму посетителей, которых сегодня ожидалось больше, чем обычно, только было собрался в гостиной господина Ахмада Беда Бехина, как всегда, устроиться в древнем, расшатанном, обитом красным бархатом кресле и обдумать кое-какие дела, как в дверях появилась голова ректора университета.
На сей раз даже этот пройдоха из Йезда, сам способный одурачить любого и уже двадцать лет терроризирующий столицу Ирана, пройдоха, которого ничто не могло удивить, не смог скрыть своего удивления.
Господин доктор Али Акбар Дипломаси сегодня был особенно лицемерен. Но так как господин доктор Тейэби и сам был не лыком шит, он в ответ на льстивое, подобострастное «салям»[54], цена которому ему была вполне ясна с ехидной улыбкой ответил:
— Алейком-ас-салям[55], господин доктор, да будут ясны ваши очи. Встреча с вами в такой ранний час — великое счастье. Иншаалла[56], нашему делу обеспечен успех, если первым посетителем являетесь вы, ваше превосходительство!
Господину ректору ничего не оставалось, как сделать вид, что он не понял насмешки.
Если педагогическая наука не дала ему знаний, то по крайней мере она научила его в нужный момент стерпеть обиду, проглотить, даже не поморщившись, горькую пилюлю. И разве горечь эта не вознаграждается потом сладостью достигнутого?
Господин ректор ответил так, словно именно подобное приветствие он и ожидал услышать:
— Вы же знаете, думая о встрече с вами, человек может потерять и сон, и аппетит,
— Прошу вас, не снимайте пальто, в комнате ещё прохладно. Что поделаешь с этим старым дураком Мохаммедом Голи: прожил на свете восемьдесят лет, а до сих пор не может догадаться, когда нужно встать пораньше и натопить печь.
— Не беспокойтесь, пожалуйста, это пустяки. Такие люди, как я, привыкли ко всему.
— О, ваши достоинства известны всем. Но мне хотелось бы знать, что заставило вас после столь долгого перерыва вспомнить вашего искреннего друга?
— Да что вы, ваш покорный слуга всё время думает о вашем превосходительстве. Только позавчера я через господина доктора Музани передавал вам поклон.
Да, да, он говорил мне, что вы хорошо отзываетесь обо мне. Но вот в конце прошлой недели я просил вас об одном молодом человеке из Йезда, моём дальнем родственнике, и вы проявили нелюбезность.
— Клянусь честью, вас неверно информировали. Дело
в том, что последние дни я был очень занят и не смог выполнить вашу просьбу. В секретариате уже давно заготовлена бумага, она просто залежалась в портфеле вашего покорного слуги. Сию минуту, при вас, я её подпишу, отдам вам и буду просить лично передать молодому человеку.
С этими словами уважаемый учёный поднял с ковра известный всему Тегерану американский портфель жёлтой кожи, степенно открыл его, достал из голубой папки письмо, напечатанное на машинке, взял паркеровскую ручку — память о последней поездке в Европу — и скупым, нервным движением вывел свою подпись. Затем он поднялся и с подобострастием, в котором сквозило лицемерие, передал письмо господину доктору Тейэби — герою дня и благодетелю всех министров будущих кабинетов. Важнейший столп конституционализма Ирана взял письмо, с трудом прочёл его, провёл рукой по лбу и успокоился. А господин доктор Али Акбар Дипломаси закрыл портфель, снова поставил его на пол и, думая о том, что эта подпись ещё не решает дела, сказал:
— Обычно ваше превосходительство считались с моей занятостью, и, если я забывал что-нибудь сделать, вы напоминали мне о своей просьбе.
— Вы ведь знаете, господин доктор, что я тоже очень занят. Целыми днями меня одолевают со всех сторон женщины и мужчины — старые и молодые, мусульмане и неверные. Разве тут упомнишь, что обещали и не сделали тебе друзья?
— Горбан[57], но и меня одолевают мусульмане и неверные. Да что и говорить, человек так погряз в неприятностях, которых становится всё больше и больше, что не замечает, что делается вокруг.
— Всё это так, однако юноша был у вас несколько раз, но вы изволили его избегать.
— Ваш покорный слуга решительно опровергает это. Либо юноша неверно информировал вас, либо при встрече со мной он не сказал, что пришёл от имени вашего превосходительства. Я даже мысли не могу допустить, что так обошёлся бы с ним, зная, что он рекомендован вами.
— Я очень ценю вас, но за вами водится грешок: стоит вашему ослу перейти мост, вы начинаете вести себя, как хаджи[58]; короче, как только устроите свои дела, так и знать нас не хотите.
Господин доктор Али Акбар Дипломаси сделал такое страдальческое лицо, что, казалось, из-под его очков в золотой оправе вот-вот брызнут слёзы, и жалобно произнёс:
— Умоляю вас, не оставьте меня в немилости. Как могло случиться, что после стольких лет моего неизменного расположения к вам вы усомнились в моей преданности? Вы же знаете, я человек простой, в политику не вмешиваюсь, всю жизнь учился, дышал дымом коптилки. Видит бог, я не лицемер. Будь я таким, разве бы я смог руководить государственным университетом и ладить с ограниченными, избалованными барчуками?
— Прошу вас, господин доктор, не принимайте мои слова близко к сердцу. Вы сами понимаете, что в политике иногда необходимо встряхнуть человека, чтобы, не дай бог, у него не притупилось чувство товарищества и политического сотрудничества. Но вы опытнее всех и лучше иного политического деятеля разбираетесь в наших делах…
В этом мало кто может равняться с вами.
— Я очень благодарен вам. Поверьте, ваше расположение является для меня лучшей наградой.
— Признаюсь, я на вас тоже не в обиде. Если вы и проявляете иногда невнимание ко мне, то это ничто в сравнении с тем, что мы делали вместе.
— Мне очень приятно, что вы вспомнили об этом. Я сегодня как раз затем и пришёл, чтобы обратиться к вашему превосходительству с просьбой.
Доктор Тейэби прекрасно знал, к чему клонит его собеседник, однако, чтобы набить себе цену, он спросил:
— Разве случилось что-нибудь?
— Я слышал, что вы лишили своего расположения…
Доктор Тейэби продолжал притворяться простачком:
— О каком расположении вы говорите, дорогой доктор?
— Я имею в виду премьер-министра…
— Да… идут какие-то слухи…
— Насколько я знаю, это истина.
— Право, может, мы с вами сейчас и установим её?
— Стало быть, я вовремя удостоился аудиенции.
— Вы всегда приходите вовремя. Среди наших друзей нет человека, который бы всегда являлся так кстати.
— Меня сегодня мучила бессонница, и я задремал только под утро. А не то пожаловал бы к вам ещё раньше.
— Полно, разве можно приходить в такую рань? Чего доброго, и дверь была бы заперта. Пришлось бы вам всем на посмешище торчать на улице. Что тогда стали бы говорить о вас друзья и враги!
В то время как господин доктор Али Акбар Дипломаси лебезил перед своим собеседником, господин доктор Тейэби Йезди сидел в красном бархатном кресле, закинув короткие, толстые ноги одна на другую и барабаня по колену пухлыми пальцами. Было видно, что он нервничал, что ему надоели эти лживые, льстивые слова, которых он досыта наслушался за свою жизнь. Каждый раз, когда уходило одно правительство и на смену ему приходило другое, подобные бессмысленные разговоры неизменно кончались торгом, и Он так набил руку на этом маклерстве, что стал непревзойдённым мастером во всём Иране. Но господин доктор Али Акбар Дипломаси был в экстазе, он так упивался холодным, безжизненным и бесцветным лицом доктора Тейэби, смотрел на него такими влюблёнными глазами, что, казалось, хотел употребить все свои американизированные педагогические знания, чтобы привлечь к себе симпатии этого человека, чтобы он согласился помочь ему. Но доктор Тейэби был куда хитрее своего собеседника. Кроме того, он слишком дорожил своим временем, чтобы попусту тратить его на бесполезные разговоры с этим ничтожеством. Поэтому он начал задавать ему вопросы на первый взгляд совсем безобидные, но на самом деле таившие подвохи.
— Ну а что слышно, господин доктор, о вашем дорогом друге, господине инженере Батенгане?
— Простите, я не расслышал, о ком вы спрашиваете?
— Да о нашем бородатом инженере-ахунде, которого зовут Ашейх Мохандес.
— Вы имеете в виду Батенгана?
— Ну да, того хитрого типа.
— Так ведь он вчера до полуночи сидел у вас!
— Вчера? Да полно вам! Я уже давно не лицезрел его благословенной бороды.
— Но ведь, горбан, вчера поздно ночью он поднял меня с постели и велел мне сегодня утром навестить вас.
— Брешет, как пёс, каковым он и является. Опять должно быть, ночью гонялся за мальчиками и оказался по ту сторону стадиона Амджедийе, около вас. А когда его заметили, он и решил заглянуть к вам, замести следы Ну и наговорил, как всегда, несусветную ложь. Небось, болтал всякую всячину от имени «поборников ислама»' хотя они его и знать не хотят.
— Машалла, господин доктор, какой проницательностью наделил вас бог! Можно подумать, что вы или присутствовали при нашем разговоре, или сто лет прожили с этим прощелыгой!
— Дорогой доктор, ведь я его знаю как облупленного. Когда мы жили и учились в Йезде, среди семинаристов было немало таких проходимцев. Их называли у нас бурдюками, начинёнными ложью.
— Прекрасно придумано. Позвольте мне на ближайшем заседании «Фархангестана» от вашего имени предложить этот термин. Мы сможем его применить к руководителю по крайней мере одного из факультетов.
— Вы ведь, доктор, бывалый человек, язык у вас подвешен неплохо, зачем же вы даёте этим длиннобородым прощелыгам обманывать себя?
— Смею сказать, что в политике приходится ладить с каждым.
— Ладить нужно, но смотрите, как бы эти бородачи не одурачили вас. Надо иметь дело с теми, кто может дать в залог ещё кое-что, кроме своей бороды. Если хотите знать правду, отцы их — люди денежные. Не знаю, какие ещё числятся способности за этим Ашейхом Мохандесом, но на спекуляции различными товарами и других делишках он заработал немало денег. У него три сына, и все они только о том и думают, как обобрать отца. Они соревнуются в лицемерии, хитрости и обмане, стараются подражать ахундам, болтаются то у одного, то у другого мембара[59], надеясь таким образом найти путь к карману отца, тайком выманить у него дарственную грамоту если не на всё состояние, то хотя бы на часть его. А момент вполне подходящий: ведь отец одной ногой уже стоит в могиле.
— Я поражён! Вы, машалла, больший психолог, чем я. Не мне, а вам надо читать лекции по психологии.
Господин доктор Тейэби погладил усы, поправил галстук, выпятил грудь, приосанился и сказал:
— Вы очень любезны. Премного вам благодарен.
— Да что вы, я как-то даже теряюсь перед вами. Кстати, не отнимаю ли я у вас драгоценное время? Может быть, у вас назначена встреча с кем-нибудь ещё?
Господин доктор Тейэби вынул из жилетного кармана золотые часы с крышкой на очень изящной золотой цепочке и открыл их.
— Да, через четверть часа ко мне должен прийти один из ваших соратников по первому кабинету Кавама, и он взял с меня слово, что здесь его никто не увидит.
Тогда господин доктор Али Акбар Дипломаси заторопился:
— Разрешите очень коротко доложить.
— Прошу вас.
— Горбан, университетские дела очень неважны. Студенты стали дерзки, а некоторые профессора поглядывают на нас косо и даже открыто выступают против нас. Они и в газетах пишут всё, что им хочется. Ведь это может нанести урон интересам государства. Боюсь, что мы опозоримся и нас обвинят в беспомощности наши же друзья.
— Что я слышу, господин доктор! — воскликнул господин Тейэби. — Разве можно сыскать более опытного в этих делах человека, чем вы? Бог свидетель, всякий раз, когда там — вы понимаете, конечно, кого я имею в виду, — заходила речь о реформах, моментально всплывало ваше имя. Уж не знаю, как это вам удалось заслужить их расположение. Даже покойный Хажир со своим одним глазом (господин Тейэби прикрыл один глаз), да помилует его бог, не мог соперничать с вами.
— Во всяком случае, горбан, чтобы исправить положение в университете, вы должны оказать милость и включить меня в состав нового правительства.
Господин доктор Тейэби громко захохотал.
— Клянусь, доктор, — сквозь слёзы сказал он. — на сей раз вряд ли что выйдет, дело приняло довольно серьёзный оборот. И виноваты в этом вы сами. Сколько мы ни старались, нам так и не удалось замять ту историю. Простите, не хочу доставлять вам неприятности, но должен сказать, что своими опрометчивыми поступками вы лишили себя поддержки в меджлисе.
— Вы изволите говорить о делах, давно минувших?
— Люблю догадливых людей. Скандал, который тогда разразился, ещё не забыт.
— Ведь было решено — вы сами обещали — сказать друзьям, о которых вы сейчас говорили, что мы совершили ошибку, каемся и больше никогда нога наша не будет в том проклятом посольстве. Мы даже условились, что они сами дадут указание своим агентам оставить наконец нас в покое.
— Дорогой доктор, мне не хотелось говорить вам об этом, но, мой милый, душа моя, вы ведь, машалла, получше нас разбираетесь в этих делах. Зачем же вы посещали Общество культурных связей[60]? Слушали лекции, смотрели кинофильмы? Что вам, больше делать нечего?
— Бог свидетель, каюсь, как пёс. Но неужели наши друзья так злопамятны? Почему они не могут забыть такой незначительный проступок? За это время я оказал им столько услуг! Это сторицей окупает мой промах. Помните, когда мне было приказано выгнать из университета тех предателей, я, не мешкая, расправился с ними.
— Да, всё это так. Однако вы и сами знаете, что иногда миска бывает горячее плова. У них есть такие преданные агенты, которые, если их хозяева даже и скажут им: «Оставьте в покое такого-то», всё равно от него не отстанут.
— Во всяком случае, прошу вас, внушите им любой ценой, что слуги преданнее меня им не найти.
— Я не сомневаюсь в этом, но с величайшим сожалением должен сказать вам, что тут уже поздно что-либо предпринимать.
— Как, уж не обещано ли это место кому-нибудь другому?
— Да, вчера нашёлся человек, более расторопный, чем вы, и мы обо всём договорились.
— О, я никак не предполагал, что всё закончится так быстро!
— Ничего не поделаешь, с государственными делами нельзя мешкать. Да и время очень ненадёжное, стоит только зазеваться — и останешься в дураках. Наши друзья обещали изменить обстановку в нашу пользу. Они уже закончили переговоры в высших сферах.
— Насчёт премьер-министра их мнение не изменилось?
— Да, сошлись на том, что на этот пост будет назначен наш человек. Он должен быть недалёким, чтобы не впутывался в наши дела. И министрами будут наши.
— Господин Саед со мной в хороших отношениях.
— Знаю, даже слишком в хороших. Но он безвольный человек, кого ему дадут, того он и возьмёт. В этом его великое достоинство.
— Так что же прикажете теперь делать мне?
— О, я чуть не забыл. На сей раз мы вручим вам портфель министра иностранных дел. Наши друзья хотят иметь возможность больше вмешиваться в наши внешние дела. Ведь влияние американцев значительно усилилось, и в высших сферах им покровительствуют. Я с самого начала считал, что мы должны быть абсолютно уверены в делах министерства иностранных дел и поэтому возглавлять его должен наш человек. В конце концов друзья согласились со мной.
— Боюсь, что я не справлюсь с этой ролью.
— Не справитесь? Что я слышу? Откуда такая неуверенность?
— Вы же знаете, мне хотелось бы получить министерство просвещения, а если это уже невозможно, то я не прочь стать хотя бы министром без портфеля.
— Дорогой мой, душа моя, тут не приходится рассуждать о том, что нравится вам. Надо считаться с интересами друзей и нашими собственными.
— Но, милый доктор, ведь министерство иностранных дел мне не по плечу.
— Почему вы так неблагодарны? А кому оно по плечу? Прежний министр тоже доказывал, что он просвещенец, а не успел переступить порог министерства, как развил такую деятельность, что только держись. Вы же помните, он был мозгом кабинета! А вы, слава аллаху, много лет работали во французском посольстве, позавчера ночью праздновалось тридцатилетие вашего вступления в Тегеранскую ложу. Наконец, разве не любовь к этому делу заставила вас ещё в молодости принять фамилию Дипломаси — дипломатический!
— Могли ли мы в то время думать, что политика станет такой сложной и запутанной!
— Что значит запутанной? Уж во всяком случае, министерство иностранных дел требует ловкости не больше, чем университет. К тому же, политику будем делать мы и наши друзья, а вам придётся лишь выполнять наши указания и сводить концы с концами. Вот и всё.
В это время в комнату на цыпочках вошёл Мешхеди Мохаммед Голи. Приблизившись со смиренным и подобострастным видом к креслу господина доктора Тейэби, он поднял свою руку над головой, затем свёл большой и указательный пальцы обеих рук и поднял их к глазам. Это означало, что прибыл тот, высокий, в очках.
Доктор Тейэби молча указал Мешхеди Мохаммеду Голи на соседнюю комнату, давая таким образом распоряжение провести посетителя туда.
Доктор Дипломаси понял, что его время истекло, пришёл новый клиент и ему пора уходить. Он поднялся и, обращаясь к хозяину, который тоже встал, произнёс:
— Ничего не поделаешь, придётся подчиниться воле вашего превосходительства, принять пост министра иностранных дел и, я надеюсь временно, отказаться от министерства просвещения, к которому, как вы знаете, я очень привязан. Но я убедительно прошу вас позаботиться о том, чтобы наши друзья забыли о своей обиде. Тогда я буду совершенно спокоен.
Два героя, два учёных доктора, два столпа политики, две торгующиеся стороны, в конце концов довольные друг другом, обменялись рукопожатиями, и фигура доктора Али Акбара Дипломаси снова продефилировала мимо лавки Плешивого Аббаса. Шофёр торопливо выскочил, открыл дверцу чёрного шевроле, и наш учёный, честнейший из честных, ректор университета, быстро помчался по своим научным делам.
Как только Али Акбар Дипломаси вышел из комнаты, наступила очередь мужчины в очках, которого так изящно изобразил Мешхеди Мохаммед Голи. Высокий, крупный, он вошёл в комнату и, подойдя к господину доктору Тейэби, крепко пожал ему руку:
— Очень признателен вам за приглашение.
— Я боялся, что вы опоздаете. Ну-с, как поживаете, как дела?
— Да какие там, горбан, дела? Разве это жизнь.
— Не огорчайся, дорогой, всё должно свершиться в течение двух дней. Мы дали обещание нашим друзьям послезавтра утром представить состав кабинета, по на сей раз…
— Горбам, а разве в прошлый раз были какие-нибудь упущения?
— Собственно, лично я к вам претензии не имею, но я поражаюсь, как это вы, при вашей, машалла, проницательности, не можете понять, что я не один решаю дела в меджлисе. Вам не следует пренебрегать и другими, особенно своей группой депутатов. Если они будут против, даже я не смогу помочь вам.
— Горбан, но ведь их претензиям нет предела. Поднеси им всё государство на подносе — они всё равно скажут, что мало.
— Это я прекрасно понимаю, но что поделаешь? Одно из двух: нужно либо оставаться и выполнять всё, что велят, либо заняться чем-нибудь другим.
— Но я не об этом. Дело в том, что эти господа не ладят между собой.
— Знаю и это, однако вы должны понять, что люди там разные: есть полезные, даже очень полезные, есть вредные и очень вредные. Нельзя мерить всех на один аршин. Верно, что каждый депутат имеет один голос, но голос голосу рознь. Иной голос равен десяти. Нужно иметь в виду авторитет человека, его способность вести политическую борьбу, устраивать дела. Большое значение имеет его внешность, роль и вес в политических кругах, в печати, в посольствах…
— Да, всё это верно, — подтвердил гость.
— Ну, раз вы согласны, давайте решать.
— Горбан, извините вашего покорного слугу, боюсь оказаться дерзким, но вы же сами понимаете, время сейчас сложное. Ведь мне день и ночь придётся иметь дело с хазаратами[61]. Через два-три дня они будут здесь. Вчера до трёх часов ночи мы вели переговоры — господин Фатех специально прибыл для этого в Тегеран. Впереди нефтяной вопрос, и на сей раз они не будут торговаться. Помните, какими они были мягкими раньше, и то могли ватой горло перепилить, а сейчас они будут действовать решительно.
— Кому вы это говорите? Я буду знать всё раньше вас всех! Вы же знаете, они приходят сначала ко мне, а потом уже к вам.
— Во всяком случае, раз известно, что на днях появится мистер Гес и, как внезапная смерть, свалится на наши головы, разрешите обстоятельно обсудить этот вопрос.
— Для этого я и пригласил вас.
— Горбан, давайте сделаем так: ваше превосходительство изложит сейчас своё мнение, а я его запишу. Мы с радостью примем всё, что вы пожелаете для своей группы в меджлисе.
— Выражаю вам большую благодарность от своего имени и от имени наших друзей. Мы знаем, что с вами можно договориться скорее, чем с кем-либо другим. Не зря же мы включаем вас в состав большинства кабинетов. В этом кабинете вы тоже будете.
— Позвольте мне проявить ещё одну дерзость.
— Пожалуйста, я к вашим услугам.
— Нижайше прошу вас, если я принесу вам огорчение, не скрывайте, скажите мне об этом прямо. Хотелось бы сейчас, не откладывая в долгий ящик, разрешить все сомнения.
— Господин министр финансов, вы, кажется, начинаете сомневаться в вашем преданном друге?
— Клянусь, нет. Но как бы вашему покорному слуге не подбросили под ноги мыло, дынную корку или ещё что-нибудь в этом роде и он не поскользнулся бы. Время очень тревожное. Надо быть поистине семи пядей во лбу, чтобы угодить хазаратам. Ведь все мы люди, все можем ошибиться, а наши друзья в меджлисе не считаются ни с обстановкой, ни с моей занятостью, и мои ничтожные упущения, чего доброго, могут принять за серьёзную ошибку или злой умысел.
— Не надо думать о мести, пока не совершено преступление. Пока ещё и глиняный сосуд цел, и маст[62] не пролит. Мы полностью доверяем вам, и если бы у нас были хоть малейшие сомнения, я не имел бы чести сегодня с вами беседовать.
— Понимаю, в эти тревожные дни вы предпочли преданного вам слугу всем другим.
— Нет сомнения, вас мы ценим выше всех. Даже если допустить на секунду, что мы бы вас не захотели! то наши единомышленники никогда не откажутся от вас. Это и понятно. Ведь не зря всякий приезжающий из Абадана[63] идёт прямо к вам и только через два-три часа мы удостаиваемся чести видеть его у себя.
— Как бы там ни было, но, учитывая сложность обстановки, я должен вам сказать откровенно и прямо…
— Пожалуйста, прошу вас. Вы же знаете, я готов на всё.
— Первое моё условие: ваше превосходительство должны быть преданным моим другом.
— Разве этого не было до сих пор?
— Слов нет, горбан, ваше дружеское ко мне отношение бесспорно. Но иногда вы забываете старых друзей, предпочитая им новых.
— Честное слово, не понимаю, что вы имеете в виду! Допустим даже, что вы и правы, но, дорогой мой, ведь это же политика! Кроме того, вы знаете, что мы не распоряжаемся всем до мелочей. Бразды правления находятся в руках других, а они частенько обходят нас, заключают сделки с новыми лицами. Вот и приходится на время забывать кого-нибудь из наших искренних друзей.
— Да, горбан, именно это я и имел в виду, и мне хотелось бы, чтобы подобные вещи больше не повторялись.
— Машалла, какой же вы злопамятный. Забудьте об этом, дорогой мой. Не стоит вспоминать минувшее. Ведь мы начинаем новое дело. Что же касается прошлого, то скажу вам, душа моя, это было сделано по настоянию хазаратов. Но, слава богу, в конце концов они поняли, что более подходящего человека, чем вы, им не найти.
— Судя по переговорам, которые они вели в последние два-три дня, пожалуй, так.
— Ну а по основному делу, по нефтяному вопросу, между мной, вами и хазаратами как будто нет больших разногласий?
— Но, как я уже не раз докладывал вам. меджлис возлагается на вас, а всё, что за его пределами, будет в моих руках.
— Здесь возражать не приходится, но, как говорит пословица, самая большая голова ещё под одеялом спрятана Ведь это дело очень тёмное. Вы, очевидно, думаете, что держать в руках меджлис легко?
— И всё же, машалла, в меджлисе самое большее сто двадцать — сто тридцать человек, а за его пределами мы должны иметь дело с тысячами. Тут журналисты и ахунды, чиновники и придворные, гражданские и военные, авантюристы и мошенники. Я готов хотя бы на недельку поменяться с вами местами.
— Я, дорогой мой, тоже готов поменяться с вами. Верно, нам приходится иметь дело только со ста двадцатью — ста тридцатью депутатами, но не думаете ли вы, что претензий у депутатов меньше, чем у четырнадцати миллионов девятисот девяноста девяти тысяч восьмисот восьмидесяти иранцев?
— Мне это известно лучше, чем кому-нибудь другому.
— Тогда как же вы говорите, что вам будет труднее? Ведь если на вас обидятся один-два депутата, это будет меньше только одним или двумя голосами. А вот если они не послушаются меня, то знаете, что может произойти с государством?
— Не приведи господи случиться этому!
— Ну, давайте тогда набросаем план действий.
Словно он всю жизнь только этим и занимался, министр финансов шахиншахского государства проворно раскрыл свой портфель, с которым, словно с талисманом, он никогда не расставался, достал именной министерский блокнот с эмблемой льва и солнца, вынул из кармана пиджака автоматическую ручку «паркер» и с выражением полной покорности, как смиренный ученик перед учителем, скромно произнёс:
— Прошу вас, говорите, я буду записывать.
— Прежде всего о вашем заместителе, — начал доктор Тейэби. — На эту должность претендует тот приятель, тебризец. В нём заинтересован и председатель меджлиса. Остальное вы сами знаете.
— Горбан, ведь мне положен только один заместитель, а их уже, машалла, намечается четыре. Упаси бог, как бы, чего доброго, не стало кандидатов ещё больше.
— Вы правы, и это может статься. Но есть выход из положения: будет больше кандидатов — увеличивайте штат заместителей. Пока объявите четыре должности, а там Судет видно.
— Очень хорошо, повинуюсь.
— Затем вопрос о государственном представителе в национальном банке… Вы остановите свой выбор на вашем друге, том самом…
— Хорошо, но что я скажу этому приятелю?
Во-первых, он и так жрёт больше, чем может вместить его пузо, и вам, с вашим опытом, к лицу ли оглядываться на него? А во-вторых, ему подскажут его собственные товарищи. Ведь нешуточное дело поручать деньги, валюту и прочие ценности этому пузатому, надутому, как бурдюк, мальчишке. Наконец, наш друг Алак Бедани сам родом из Мелайера и лучше всех сможет объяснить обстановку этой начинённой опиумом утробе.
— Что ж, если друзья не будут против, я не возражаю.
— Председателя страхового общества мы вчера уже с вами наметили.
— Да, я тут же отдал распоряжение. А как вы решили относительно директора сельскохозяйственного банка?
— С этим вы сами справитесь. Посоветуйтесь с депутатами из Кермана, но скажите им, что от меня они не должны требовать никаких серьёзных изменений.
— Так, решено и это. Да, я придумал кое-что для нашего друга по ложе…
Господин доктор Тейэби забеспокоился:
— Да, да, это важнее всего, а я чуть было не запамятовал.
— Если вы не против, горбан, пошлём его в Национальный банк.
— Куда?
— В Национальный банк!
— В Национальный банк? Туда, где выпускают деньги?
— Ну, конечно. Ведь у нас только один банк…
— Простите, господин министр финансов, уж не бредите ли вы? Или, может, вы хватили немного спозаранку? Да разве можно соваться в Национальный банк! Вы же знаете, что там засело это чудовище, и рука, даже посильнее нашей с вами, туда не проникнет. Это может произойти разве только в том случае, если наши друзья уйдут из Ирана и лишат нас своего покровительства. Но такой день никогда не наступит, да и не дай бог этому случиться!
— Так что же прикажете делать? И сколько можно терпеть наглость и безумство этого господина? Он засел в Национальном банке, и для него не существует ни правительства, ни меджлиса, ни двора.
— Всё это верно. Но меня поражает, что вы до сих пор не понимаете одного: что бы ни произошло, наши друзья от него не отступятся.
— Так что же нам делать?
— Ничего. Помните только мой совет: в этом государстве можете протягивать руку куда угодно, кроме Национального банка. Не забывайте, сколько они положили труда, чтобы взрастить этого молодого человека. И вы хотите, чтобы они теперь согласились убрать его оттуда?
— В таком случае наш товарищ останется не У дел.
— Это не имеет значения, придумаем ему что-нибудь другое. Да, хорошо, что кстати вспомнили. Устроим его в сенате.
— Это уж ваше дело!
— Чудесно! Правда, сейчас важнее всего прибрать к своим рукам мелюзгу, засевшую в меджлисе. Ведь завтра-послезавтра они нам могут понадобиться, и нужно быть готовыми. Только прежде, пока не забыл, я хотел спросить, отдали ли вы распоряжение валютной комиссии.
— Да, горбан, в ту же самую минуту. Но вот просвещенцы решили совать нам палки в колёса. Как будто они не знают, что дети высокопоставленных особ должны обязательно учиться в Америке. Им, видите ли, подай документы на получение валюты. Но какие могут быть документы, когда речь идёт о такой незначительной сумме, к тому же предназначенной для того, чтобы дети мужественного народа могли получить высшее образование в Америке!
— Не огорчайтесь. Скоро мы доберёмся до Высшего совета просвещения и они перестанут своевольничать. Всем другим наглецам мы уже подрезали крылышки, остались, кажется, только эти слишком ретивые болтуны. Им, видите ли, больше всех надо! Впрочем, ладно, оставим это, есть дела поважнее. Сегодня же дайте распоряжение, чтобы вопрос о контрабанде в Хузистане забросили за горы Каф[64].
— Горбан, это не в моей власти. Такими делами ведает министерство юстиции.
— Сейчас дойдём и до министерства юстиции. Мы думаем опять назначить туда нашего человека, того старого сеида[65]. Как ваше мнение?
— Да, пожалуй, неплохо. Правда, он иногда бывает упрям.
— Ничего, обуздаем. Во всяком случае, вы должны постараться сегодня же уладить хузистанский вопрос, чтобы это не помешало нам добиться вотума доверия. Как вы поступили с исфаханской фабрикой?
— Право, это дело прокурора.
— Напрасно вы, господин министр, так много позволяете разным ахундам. Ведь мы с вами ещё в молодости натерпелись от них, когда работали в судебных учреждениях, и разве вы не изучили эту породу людей: чем больше делать им поблажек, тем больше они наглеют. Такому только скажи: «Поправь вьючное седло», а его уже и след простыл.
— Да, это так. Но что поделаешь, у нас тысячи всяких забот и болячек. А люди совсем обнаглели и всюду суют свой нос. Да, не ценили мы времён Пехлеви, вот и наказал нас за это бог. Появились газеты, студенты, партии, которые лезут всюду, куда надо и куда не надо, а мы ещё обязаны улаживать все конфликты. Опозорят меджлис или депутата, а достаётся за это нам. Ведь народ-то знает, что мы привели и усадили этих господ. Поэтому мы вынуждены иногда привлекать кого-либо к ответственности, чтобы на два-три дня хоть немного успокоить людской гнев. Сами знаете, мы больше всех, гораздо больше, чем сами господа депутаты, стараемся задобрить народ, успокоить и убаюкать его, чтобы под шумок можно было проводить линию наших друзей.
— Прекрасно! Какое наслаждение иметь дело с понятливым человеком! Стало быть, здесь мы можем быть спокойны?
— Конечно. Если бы мы не разбирались в таких делах, мы бы за них не брались. Нельзя, едучи на верблюде думать, что ты можешь спрятаться.
— Да, опять чуть не забыл. Самая большая голова всё ещё находится под одеялом — мы не решили основной вопрос.
— Вы говорите о высших сферах?
— Люблю догадливых людей.
— Клянусь богом, это очень трудное дело!
— Придётся что-нибудь придумать. Вчера вечером я дал категорическое обещание.
— Горбан, уж слишком они алчны, а при нашем безденежье что я могу сделать? Разве только скорее выяснить, что хочет мистер Гес, и пойти ему навстречу. Если от этого дела нам перепадёт хоть шай, я готов от всей души.
— Дорогой мой, к этому делу нужно отнестись со всей серьёзностью. У них ведь тоже расходы. Хажир избаловал их, они стали такими жадными, что лишили нас и сна, и пищи. Идёшь налево — нехорошо, направо свернёшь — опять-таки неладно. Сколько раз они напоминали мне об этом. Кого бы я ни встретил: военного или штатского, мусульманина или неверного, соотечественника или иностранца, — все передают мне напоминания от них. Ради бога, спасите меня от этих господ!
— Клянусь вам, сейчас у нас нет выхода. Машалла, вы сами мастер выбираться из беды, дайте мне какой-нибудь разумный совет, и я его выполню. Единственное, что могу предложить я сам, — это пустить в ход деньги, предназначенные на перевозку останков[66].
— Да помилует бог вашего отца, теперь я могу вздохнуть свободно. Это большое дело. Сделайте его — и велик аллах! Кстати, пора принять меры, чтобы перестали шуметь о создании всяких там организаций.
— Ну, это уже совсем не под силу вашему покорному слуге.
— Да что вы! Подкиньте что-нибудь журналистам. Бросьте им кость — и всё сразу кончится.
— Ничего другого не придумаешь, но и это в вашей власти. Надо позаботиться, чтобы начальником управления пропаганды стал понятливый человек, который газетной бумагой, объявлениями, змеиным ядом и ещё чем угодно смог бы заполнить брешь.
— Пожалуй, для этого подошёл бы тот парень, зороастриец.
— Что вы, что вы! Этот парень одурачит хоть само небо. Да будет вам известно, что даже южные наши друзья не верят ему, опасаясь, что он при первой же возможности обманет их.
— Ну и что же?
— Не доверяя ему, они могут и в нас начать сомневаться.
— Пожалуй, вы правы.
— В таком случае, может быть, подумать о другой кандидатуре?
— Клянусь, ваш покорный слуга не против, но боюсь, что в конце концов нам всё равно придётся обратиться к этому болтливому шарлатану — зороастрийцу. Кстати, вы ведь знаете, что он хорошо зарекомендовал себя в верхах и они поддерживают его. Взвалим всю ответственность на них — если он и обманет, мы будем чисты.
— Это очень умно придумано. Видит бог, как легко вы решаете такие сложные вопросы. Всё сразу становится на свои места. А теперь разрешите мне удалиться, нужно заглянуть в министерство.
— Думаю, что не плохо было бы вам прямо сейчас навестить Размара.
— Есть что-нибудь новое?
— Нет, ничего, но всегда перед составлением нового кабинета надо повидаться с ним.
— Но разве он может мериться силой с вами?
— Безусловно, не может. Но пока с ним приходится считаться. Потерпите, порешим и с ним. Он ведь человек неугомонный, всегда готов идти в огонь и в воду и в конце концов добивается успеха. Разве можно не считаться с таким горячим угольком, который ни днём ни ночью не гаснет!
— Слушаюсь и повинуюсь.
— Не забудьте сказать ему, что я сейчас отзывался о нём в самых тёплых тонах.
— Будет исполнено. И напоследок я бы ещё просил вас подобрать такого министра просвещения, который бы относился к нам с почтением и понимал нас с полуслова.
— Пока мы вынуждены взять этого упрямого и самодовольного сынка сеида.
— Господин доктор, бог с вами, разве вы не помните, что этот гостинец, куда мы его ни совали, всегда причинял нам только одну мороку. Сам он по уши погряз в тёмных делишках, а другим стоит только на вершок переступить черту дозволенного, как он моментально доносит.
— Я знаю о нём ещё больше, чем вы. Мне известны его отношения с женой, с братом, с матерью и с отцом, но — что поделаешь! — пока что он обворожил наших друзей.
— В таком случае прошу вас, призовите на помощь всё своё красноречие, но угомоните его, пусть он хоть на этот раз оставит меня в покое.
— На него не действуют никакие уговоры, только сила. Попробуйте натравить на него Размара, лучшего не придумаешь. Возьмитесь за это сегодня же, сразу как придёте к нему. У меня тоже есть свой план. Сделаем его министром, недели две потерпим его фокусы, а потом, как всегда, состряпаем на него какое-нибудь дельце, и тогда одно из двух: либо он в открытую пойдёт на нас и мы с ним окончательно разделаемся, либо придётся ему отправиться куда-нибудь губернатором, попечителем священных мест или ещё в какую-нибудь дыру, и мы от него избавимся хотя бы на время. Впрочем, на это тоже особенно надеяться нельзя. Не лучше ли всё же взять того, ну, вы знаете, бывалого парня и этим удовлетворить Алака Бедани?
— Да продлит бог нашу жизнь! Какой груз сняли вы с моих плеч!
— Да, да, любой ценой мы не должны допустить, чтобы этот бодливый бык встал нам поперёк дороги. Ведь со всеми можно поладить, а с этим сумасшедшим ахундом никак. Ума не приложу, что нашли наши друзья в этом типе, почему они цепляются за него обеими руками.
— Это известно одному богу. Я тоже никак этого не пойму. Можно подумать, что он опытнее и сильнее всех нас.
— Ну, хранит вас господь, до свидания. Не забудьте Размара.
5
Воздух так насыщен запахом нефти, что человеку непривыкшему очень трудно дышать. Но толстая, с массивной грудью и морщинистой шеей Нахид Доулатдуст легко и изящно, словно мотылёк, порхала по своим пяти комнатам в особняке на проспекте Шах-Реза. Она переходила из комнаты в комнату, поправляя то безвкусную скатерть, вышитую тамбуром и гладью, то кружевные дорожки, раскладывала по серебряным, латунным и фарфоровым вазам поблекшие хризантемы, которые ещё утром купила на перекрёстке проспекта Стамбули, нудно выторговывая каждый риал, расставляла грубо разрисованные, аляповатые латунные пепельницы исфаханской работы. На этих пепельницах уже оставили свои следы тысячи сигарет «Вирджиния», «Кэмел», «Честерфилд». Стулья стояли по стенам в строгом порядке, как в приёмной зубного врача, лавке чистильщика сапог или бане. Вдоль лестницы и по комнатам через каждые пять-шесть шагов были поставлены высокие керосиновые печи разных фасонов. Каждый раз, когда Нахид проходила мимо большого зеркала, которое висело над печкой в гостиной, она обязательно задерживалась на одну-две минуты, окидывала себя быстрым взглядом, поправляла своё жемчужное ожерелье, от которого был без ума весь Тегеран, и старательно прикрывала брошью в виде бриллиантового цветка с изумрудными листьями чёрную безобразную родинку на груди. Затем она одёргивала подол платья, сдвигала вниз корсет и поводила плечами, стараясь поправить бюстгальтер, туго сжимавший грудь.
Сегодня между милой Нахид-джан и её нежным Манучем пробежала чёрная кошка. Через несколько минут в этих пяти комнатах, растянувшихся в одну линию, соберутся турки и персы, эфиопы и византийцы, чёрные и белые, красные и жёлтые, старики и молодые, тонкие и толстые, низкие и высокие, богатые и бедные — все самые известные и важные деятели шахиншахского государства, чтобы лгать и обманывать друг друга, выуживать друг у друга деньги, женщины — льстить чужим мужьям, мужчины — лицемерно улыбаться чужим жёнам, если они так же стары и безобразны, как хозяйка, или кокетничать с ними, если они молоды и красивы.
Целый месяц спорили господин Манучехр Доулатдуст и Нахид по поводу этого приёма. Нахид, как и все женщины, вылезшие из грязи, алчна и скупа. Уж очень она не любит без выгоды кормить людей. Она считает, что давать обеды, ужины и вообще устраивать приёмы — самая пустая и зряшная трата денег. Её же дорогой муж утверждает, что такие сборища приносят только выгоду. Приглашая к себе в дом политических деятелей и экономических воротил, набивая им чем попало рот, он выуживает у них деньги в картёжной игре, заключает всевозможные сделки.
Нахид слишком глупа и бестолкова, чтобы понять смысл подобных собраний. Что ж, в этом нет ничего удивительного. Разве она может равняться с мужем, отец которого был торговцем шнурками для штанов на задворках базара? Хаджи Мохаммед Али, да простит его бог, всегда покупал шнурки, выбирая самые широкие. Придя домой, он запирал дверь и ночью, при тусклом свете коптилки аккуратно разрезал каждую тесёмку пополам, вытаскивал с краёв одну-две ниточки и таким образом получал два шнурка. Наутро он продавал каждую половинку за целый шнурок. Его клиентами были крестьяне из Кана, Саулкана, Лавасана, которые не очень-то разбирались в шнурках.
Ну а если случалось, что, заметив обман, они пытались уличить его, он на своём характерном исфаганском диалекте отвечал бедным покупателям: «Дяденька, ведь ты только что из деревни и не знаешь, что в городе штаны давно носят на узких шнурках». И ему верили.
Ещё до того как наша милая чета стала цивилизованной и приобщилась к сложной политической игре, она жила много лет в доме отца господина Манучехра Доулатдуста в шумном переулке Деладжа. Ютились они в трёх тесных тёмных комнатушках, размером всего по три квадратных зара[67]. И ныне почтенного господина Манучехра Доулатдуста называли тогда просто господин Мортаза, а милую ханум Нахид — Эзра, «коротышка».
Когда человек богатеет, он меняет своё имя и имя своей жены. Но если другие могут забыть, что когда-то господин Манучехр Доулатдуст был просто господином Мортазой, а его жена «коротышкой», то сами они этого никогда не забудут. Они усердно тренировались, приучая друг друга называть господина Мортазу — Манучем, а «коротышку» — Нахид-джан, но, когда человек раздражён и начинает браниться, он уж непременно вспоминает старое. Вот и Нахид-ханум, если она распетушится, изливает свою ярость примерно так: «Опять нажрался, Мортаза», на что господин Манучехр Доулатдуст в свою очередь отвечает: «Заткни свою глотку, коротышка!»
Короче говоря, сегодня, как и частенько, господин и госпожа Доулатдуст обменялись подобного рода любезностями. И господин Доулатдуст сгоряча даже разболтал государственные секреты. «Можно ли женщине с твоим птичьим умом соваться в политику? — сказал он. — Пойми, мы потратим шестьсот, самое большее семьсот туманов[68]. Но ведь мы приглашаем состав нового кабинета, влиятельных депутатов и нескольких крупных журналистов. Мы дадим чарек[69] солёных огурцов, лежалой икры, вольём в них десять-пятнадцать бутылок водки, зубровки, арго, несколько бутылок вина «Холлар», сварим им два мана[70] рису, добавим туда десяток кур, три чарека молока — и всё. Если уж захотим сделать пошикарнее, купим килограммов десять разных сладостей, откроем банок пятнадцать хоросанского компота, банок семь сардин, положим полмана фисташек, гороха да откроем коробку американских конфет…
Нахид-ханум грубо оборвала его:
— Ну и что?
— Что! Я не виноват, что ты глупа. Мы сегодня потратим семьсот туманов, но зато получим десять-двенадцать разрешений на ввоз и вывоз товаров, да и ещё кое— что нам перепадёт. А потом положим в карман несколько тысяч чистоганом. Тебе этого мало?
Такие доводы могут убедить человека и поглупее Нахид-ханум, но Нахид привыкла в любом случае извлекать выгоду для себя.
— Значит, мы окупим нашу поездку в Америку? — спросила она.
— Разумеется, окупим. Почему бы и нет? Бог даст, ты вернёшься осенью в новом манто и с кадиллаком последнего выпуска.
Когда Нахид услышала эти ласкающие сердце обещания, глаза её так и засверкали.
Уму непостижимо, как сложна душа у этих избалованных, самодовольных представительниц верхушки иранского общества. Одной из особенностей такой путаной души является её двойственность. Эта новоявленная знать, которая вершит судьбы древнего государства, очень низка по своему происхождению. Поэтому не удивительно, что и у Нахид-ханум Доулатдуст всегда дрожат руки, когда она что-нибудь покупает, будь это грубые ботинки для её слуги Рамазана Али, копеечная чадра для бедной служанки Омм-ол-Банин из Демавенда или лекарство для её больного ребёнка. Когда она раз в неделю платит один туман за баню и полтумана банщице, рассчитывается в конце месяца за мёд, молоко и другие продукты, её душа словно расстаётся с телом. Зато Нахид, не задумываясь, покупает манто за три-четыре тысячи туманов, автомобиль самого последнего выпуска и расплачивается за всё это с лёгкостью.
Не раз случалось, что Нахид-ханум никак не могла сговориться с торговцем и, не выторговав одного крана, со злостью хлопнув дверью, уходила в свою роскошную квартиру на проспекте Шах-Реза. Сколько раз лавочники с проспектов Стамбули и Лалезара говорили ей: «Какая вы, ханум, машалла, прижимистая!»
Многие хозяева магазинов на великолепных аристократических улицах Тегерана, завидя у своих дверей блестящий кадиллак и вылезающую из него коротышку Нахид, делали кислую физиономию. Уж они-то очень хорошо знают, как эта разодетая коротышка умеет торговаться из-за одного риала, уходить, возвращаться, снова уходить и возвращаться, чтобы выторговать этот несчастный риал. Раскрыв наконец свою нейлоновую или из змеиной кожи сумочку, она так неохотно достаёт деньги, словно они прилипли к её коротким толстым пальцам.
Но чем дороже вещь, тем легче покупает её Нахид. Готовая из-за одного крана со злостью уйти ни с чем из лавки зеленщика или кондитерской, она с какой-то непостижимой лёгкостью и даже удовольствием платит за дорогие шелка, перстни, ожерелья, браслеты. Её любимый и верный муж господин Манучехр Доулатдуст прекрасно использует это противоречие в характере своей супруги Когда ему нужно заставить её что-нибудь сделать, он обещает ей самый дорогой подарок и прежде всего поездку в Америку, манто, машину новой марки и необычайной раскраски, то-есть именно то, что особенно волнует её сердце.
Больше всех в доме от Нахид достаётся Рамазану Али — старому слуге с седеющей бородой, которую он подкрашивает хной раз в две недели, в каскетке, которую он не снимает с головы даже ночью. Каждый день, когда Рамазан Али отчитывается в покупке льда, сахара, мыла, гороха, фасоли, жёлтого имбиря, соли или перца, ханум за какие-нибудь полриала выматывает ему душу, вызывая из могилы всех его предков.
Сколько оскорблений и унижений претерпел от Нахид этот бедняк, в заплатанных, вылинявших штанах, в истлевшей рубахе, в дырявых гиве, из которых вылезают голые пальцы.
Лучше всего характеризует Нахид Доулатдуст старый дымчатый костюм в полоску, который по торжественным дням надевается на Рамазана Али. Сын Нахид — Фарибарз — когда-то сшил себе этот костюм у портного Амбарцума. Но носил он его всего два-три месяца. Однажды Фарибарз поехал в нём в Пехлеви на чёрном восьмицилиндровом бьюике. По дороге лопнула камера. Чтобы блеснуть перед майором Шахинния, другом сестры Виды, которая сидела тогда за рулём, Фарибарз выскочил из машины, поднял домкратом заднее колесо и заменил его другим. Но во время работы домкрат сорвался и испачкал светлый костюм Фарибарза. Никакая чистка не могла вывести тёмные масляные пятна. Тогда этот костюм превратился в домашний инвентарь, как рукомойник или кувшин для ритуального омовения. Когда приходили гости, ханум доставала его и приказывала надеть Рамазану Али. Но, едва гости уходили, слуга должен был снять костюм и, аккуратно сложив, вернуть ханум.
И каждый раз, забирая у Рамазана костюм после званых обедов, ханум ругала старика, злобно приговаривая: «Ты можешь провалиться в тартарары, но этот прекрасный костюм, который я тебе купила, уносить с собой не имеешь права». И в припадке ярости она срывала с головы Рамазана Али его каскетку — он не расставался
С ней ни днём ни ночью, — обнаруживая единственную тайну старого слуги Али — плешь от парши размером в ладонь, которую этот забитый бедняк так тщательно скрывал от всех. Тогда болячки бедного Рамазана могли видеть всё, даже шарлатанка Мах Солтан и невинное создание Омм-ол-Банин. Если послушать скорбь этих трёх преданных ханум Нахид слуг, можно написать большую книгу. Ведь она так ловко их обставляла, или, как говорят журналисты, злоупотребляла их доверием, а по новой терминологии — просто эксплуатировала.
Омм-ол-Банин была недалёкой деревенской женщиной, которая знала свою госпожу и её дорогого мужа Манучехра Доулатдуста уже много лет, не говоря уже об их обворожительных детях Фарибарзе и Виде. Тридцать лет назад отец или мать, а может быть и оба вместе, бросили на дороге девочку. Покойный Хаджи Мохаммед Али, да помилует его аллах, сколотивший небольшой капиталец от продажи разрезанных шнурков для штанов, в то время только вернулся из Мекки. Тогдашний Мортаза, а нынешний господин Манучехр Доулатдуст был двенадцатилетним сорванцом, который лишь тем и занимался, что без конца ругался, весь день гонял голубей и играл в бабки, орехи и ещё бог знает во что. Он был способен только на дурные поступки. Стоило матери отвернуться, как он тащил из дома какую-нибудь вещь, продавал её и деньги проигрывал в карты. Промышлял он и по лавкам. Зазевается на минутку лавочник, и Мортаза уже что-нибудь стащил. Так он позорил имя своего отца, несчастного хаджи, который честным путём заслужил этот титул.
Однажды Амине Солтан, мать господина Манучехра Доулатдуста, которую только три дня как стали называть «жена хаджи», возвращаясь от своих родственников, на улице Странников услышала плач ребёнка. Подойдя, она увидела бледное, полуживое существо, облепленное мухами. Когда Амине Солтан увидела, что это девочка, она тут же решила взять малышку к себе и вырастить её… Ведь Мортаза в конце концов образумится, захочет обзавестись семьёй, и им не нужно будет тогда давать калым за невесту.
Тут надо сказать, что во время паломничества в Мекку хаджи по пути к храму господню встретил одну вдовушку и безнадёжно влюбился в неё. Понравилась ему вдовушка то ли потому, что она была очень пышной, то ли потому, что на её шее висело золотое ожерелье. Любовь хаджи осталась неудовлетворённой: какой-то ловкий араб увёл вдовушку. И теперь хаджи решил в память о своей безответной любви назвать ребёнка Омм-ол-Банин.
Через несколько лет, когда у бледной, худой и полуживой девочки наступил переходный возраст и тело её стало приобретать некоторые формы, в одну из ночей ей молча накинули на голову вуалевый платок, прикрыв жёлтое, худое лицо, выщипали, не обращая внимания на её рыдания, волосы на щеках, и спустя два часа девочка поняла, что её выдали замуж за того самого проклятого Мортазу, которого теперь уже стали величать господином Мортазой,
Из всех событий, связанных с этим неожиданным, богом данным браком, самым незабываемым было то, что произошло на следующее утро: свекровь позвала девочку, но муж не позволил ей уйти. К сожалению, радость была недолгой: жена хаджи ворвалась в комнату молодых, как всегда, с заткнутыми за пояс концами чадры и веником в руках. Пять раз подряд ударила она девочку по голове, покрытой свадебным вуалевым платком, своим грязным, жёстким веником, приговаривая: «Чтоб тебе сгореть, проклятая, или ты решила, что раз стала моей невесткой, то можешь теперь прохлаждаться? Я для тебя не мать твоего мужа, а всё та же жена хаджи. Найди ты хоть семь лазеек, всё равно от меня не уйдёшь! Я сделала тебя своей невесткой, чтобы иметь помощь, а не обузу. Понимаешь ты это или нет?» И для большей убедительности она ещё три раза ударила её веником.
Живя со своим супругом, Омм-ол-Банин должна была во всём ему подчиняться. Выполняя священные обязанности жены, соблюдая законы шариата и орфа, она была обязана быть ему во всём помощницей и сообщницей, то есть тащить, что плохо лежит, а уж он делал из этого деньги. Хаджи, да помилует его аллах, старел, терял зрение и рассудок, и руки у него стали дрожать, особенно когда он выдавал своим домашним деньги. А взращённая в доме счастливая сноха, пользуясь каждым удобным случаем, лезла украдкой в карман кафтана хаджи, вытягивала оттуда деньги и передавала их Мортазе.
Прошло несколько лет, и, как предсказал хаджи, назвав её Омм-ол-Банин[71], она родила одного за другим четырёх сыновей и одну дочь. Но не надо думать, что такая мать, как подкидыш Омм-ол-Банин, могла воспитать и вырастить детей. А если бы даже они и имели несчастье вырасти то можно себе представить их судьбу под опекой Нахид Доулатдуст и её детей Фарибарза и Виды. Самым несчастным был бы пятый ребёнок, который, к счастью, появился на свет мёртвым. Когда он был ещё в утробе матери, покойный хаджи заболел воспалением лёгких и, пролежав две недели, несмотря на всю свою ловкость в жизни, отдал богу душу. Похоронили его в пригороде Тегерана, на кладбище Аб-амбаре Касем-хан.
Когда хаджи был жив, он красил бороду, брил голову, ходил в длинном габа, зимой — в толстом, а летом в тонком аба, белой тюбетейке ручной работы с чёрным узором, в рубахе без воротника, в башмаках с примятыми задниками. Всё это придавало ему набожный вид, и своим друзьям он казался более благочестивым, чем любой пишнамаз[72], рузехан[73] или чтец корана и наставлений. Но стоило ему умереть, как выяснилось, что он был нечист на руку и прибирал к рукам всё дозволенное и недозволенное.
Эта новость привела жителей квартала в смятение. Теперь они не знали, правда ли, что говорят о хаджи, или просто какие-то безбожники решили после его смерти половить рыбку в мутной воде. Пожалуй, единственный, кто не предъявлял ему претензий, был Хафиз Ширази. Тогда-то бывший господин Мортаза, или нынешний Мануч-джан, вместе со своей матерью, женщиной очень оборотистой, способной на любое мошенничество, тайно от Омм-ол-Банин решили породниться с кем-либо из самых наглых истцов, чтобы заткнуть рты всем, кто осмелится порочить хаджи и его близких.
Наиболее подходящим был торговец галантерейными товарами Шейх Хосейн Али, так как он был купцом и имел дело с различными сословиями. В своём квартале он считался главой духовного и светского закона и столпом разума и деловитости.
У этого Шейха Хосейна Али была перезревшая дочь, плохо сложенная, некрасивая, но с большими претензиями и очень избалованная. Это и была коротышка, нынешняя Нахид-ханум.
Кроме этого отпрыска, у Шейха Хосейна Али наследников не было, так же как не было и в лавке ничего, кроме галантереи. Но хаджи оставил после себя кое-какой капиталец и наследство сыну, и он и его мать очень не хотели, чтобы деньги достались кому-нибудь другому. В общем решено было, что коротышка и господин Мортаза сочетаются законным браком, чтобы, с одной стороны, не допустить чьего-либо вмешательства в наследство, оставленное хаджи, а с другой — дать тридцатилетней Нахид мужа. Вот и вся история супружества Нахид-ханум и господина Манучехра Доулатдуста.
За два дня до брака об этом сказали Омм-ол-Банин, которая как раз в это время рожала пятого ребёнка. Ей предложили выбрать одно из двух: получить развод и идти на все четыре стороны или остаться в доме мужа, но до конца дней своих не показывать и вида, что когда-то она была его женой. Она будет лишь служанкой, разумеется самой приближённой служанкой, господина и его ханум.
Что оставалось делать бедной Омм-ол-Банин?
Другие несчастные женщины, когда их бросали мужья, могли хотя бы вернуться к родителям. А куда деваться человеку, который никогда не видел ни отца, ни матери, не знает, где они?
Как только господин Мортаза получил полностью наследство, он начал клевать всех жителей квартала, не щадя и самого Шейха Хосейна Али. Ну а Омм-ол-Банин, девушке, подобранной на улице, конечно же, доставалось больше всех… Да и чего другого могла она ждать от Мортазы? Разве не был он нечист на руку? Был, Разве не обирал он честной народ? Обирал. Или не обсчитывал? Обсчитывал. Короче говоря, разве он не был сыном известного торговца шнурками для штанов Хаджи Мохаммеда Али Исфаханн? Разумеется, был. И если случилось так, что она уже не может быть женой, а может быть только его служанкой, то и на том спасибо!
У каждого человека своя философия. Была она у Платона и Аристотеля, есть и у Омм-ол-Банин. Разница только в том, что один вытаскивает из воды коврик ближнего — помогает людям жить, а тут человеку дай бог хотя бы свою жизнь устроить. Омм-ол-Банин рассуждала просто: да, одно время она числилась женой господина Мортазы, но ведь, по существу, она всегда была просто его служанкой. Так что же изменилось? Кроме того, велик аллах, может быть, она когда-нибудь окажется в прежней роли?
В день, когда, руководствуясь материальными соображениями и законами шариата и орфа, которые так хорошо всем известны, дочь галантерейщика Шейха Хосейна Али выдали за господина Мортазу, сына Хаджи Мохаммеда Али Исфахани, Омм-ол-Банин просто перебралась из одной комнаты в другую и легла в другую постель. Всё же остальное — одежда, обувь, чадра — остались прежними. Единственное, что потребовали от бедной женщины — это не вспоминать при новой законной жене господина Мортазы о своих прежних отношениях с ним. Однако это не мешало господину Мортазе время от времени вспоминать о своей прежней супружеской связи и давать затрещины Омм-ол-Банин.
В глубине души бедная женщина, пожалуй, была даже довольна. Пусть с неё не снималась ни одна тяжёлая обязанность, но по крайней мере ей не придётся терпеть каждый год муки беременности и родов и видеть своих детей умирающими один за другим.
О чём мечтают женщины, подобные Омм-ол-Банин? О куске хлеба, об уголке, в котором можно провести ночь, о тряпке, чтобы прикрыть наготу тела, и, наконец, о месте под холмом, где бы она могла сложить свои уставшие кости. И какое имеет значение, кем она будет, снохой ли хаджи или служанкой дочери Шейха Хосейна Али?
Ещё не известно, было бы лучше для Омм-ол-Банин, если б в дом не пришла коротышка. Ведь этот жулик, господин Мортаза, всё равно бросил бы её. Человек нечистый на руку рано или поздно разбогатеет, и зачем ему тогда прежняя жена? У бесчестного человека одно превращается в два, два в три, а три в четыре. Да паду я жертвой пророка, если такой не превратит четыре в пять! Тогда собирай свои пожитки и иди куда глаза глядят. Вот о чём думала бедная сирота Омм-ол-Банин, которая в жизни не знала не только ласки, но и просто человеческого отношения. Но думать она всё же могла. Благодарение богу, нет на свете головы пустой, как фляга из тыквы, и каждый человек наделён хоть крупицей разума.
Вот прошло уже двадцать лет — возраст Фарибарза, как Омм-ол-Банин держит своё обещание. И даже вездесущая коротышка, которая суёт свой нос в любую щель и всё разнюхивает, не подозревает, в каких отношениях были когда-то Омм-ол-Банин и господин Мортаза, ныне именуемый Манучехром Доулатдустом. Иногда, правда, она замечает, что её муж уж очень настойчиво просит купить для Омм-ол-Банин новую чадру, ситцевое платье, платок на голову или ботинки и чулки, но она никак не может понять, чем вызвана такая настойчивость и щедрость мужа.
Если раньше Нахид иногда и подмывало постичь тайну взаимоотношений мужа и служанки, то потом, когда сама она достаточно повзрослела и подросли её дети, она стала считать излишним вмешиваться в дела своего нежного Мануча. Пусть он занимается, чем хочет, только не мешает ей. А у Манучехра дел по горло. Как ему не заботиться о деньгах, если этот паршивец Фарибарз, у которого ещё молоко на губах не обсохло, дарит гарнитуры нижнего белья и шикарные платья смазливой Хайде, дочери Мехри Борунпарвар, каждый вечер водит свою смугляночку по кафе и кинотеатрам! Как ему не заниматься делами, если даже жёлтая, полуживая бездельница Вида, которую с таким трудом удалось выходить, да и сейчас, тронь её за нос, она отдаст богу душу, эта самая Вида ещё совсем сопливой девчонкой стала по десять дней пропадать с Сирусом Фаразджуем, и только потом он случайно узнал, что они флиртовали в гостинице «Дербенд»! Как же тогда несчастный отец, вынужденный смотреть на проделки детей и прикидываться невидящим, может сам жить без развлечений!
А сама ханум? Отправляясь на воды в Абе-Али, в Бухемен, на морское побережье в Рамсар или Бабольсар, на поклонение святым местам в Мешхед, Кум или в путешествие во время Ноуруза, она обязательно берёт с собой для ведения секретарских и хозяйственных дел Хушанга Сарджуи-заде, этого обиженного судьбой юношу. Так как же не заскучать Манучехру, покинутому в одиночестве дома, как не вспомнить старых привязанностей? Как слону в неволе не вспомнить об Индии? Само собой разумеется, господина надо чем-то занять, чтобы он не замечал ни ханум с Хушангом, ни Фарибарза с Хаидой Борунпарвар, ни Виды с Сирусом Фаразджуем. Слава богу, что он ещё такой невзыскательный. Впрочем, дети этих хаджи и торговцев, воспитанные на отбросах и не имевшие никогда больше крана, привыкли к таким заикам, как Омм-ол-Банин, и не гнушаются ими. Как бы то ни было, но трава козлу всегда кажется сладкой. Если дорогой Манучехр довольствуется этой бедняжкой, что же возражать Нахид?
Ну а, впрочем, чем плоха бедная Омм-ол-Банин? Если она некрасива, так ведь и Нахид не лучше, если она неуклюжа и неотесанна, так ведь и Нахид такая. Если у Омм-ол-Банин короткие пальцы, толстые, с вздутыми венами ноги, так и у Нахид они такие же. Чем ещё может похвастаться Нахид? Разве что короткой шеей и огромной грудью. Увлечение господина Манучехра Доулатдуста служанкой вполне удовлетворяет Нахид. Она знает, что муж влюблён в Омм-ол-Банин, и она спокойна. Ему надоела жена, и он идёт к другой женщине, похожей на неё, как две половинки одного яблока. Что ж, её супруг умён и благороден, он выбрал себе подружку в собственном доме и не выносит сор из избы.
И ещё одно обстоятельство устраивает Нахид-ханум и её семью. Когда Омм-ол-Банин внесли в пелёнках в дом этой семьи, было решено, что вынесут её отсюда только в саване. Такая выдающаяся фамилия, такой благородный род нуждается в фундаменте, подобном Омм-ол-Банин, который не даст рассыпаться прочному зданию.
Допустим, что Омм-ол-Банин уйдёт из этого дома. Кем её заменить? Кто будет неустанно твердить: «Ханум, да паду я жертвой вашей красоты»? Кто будет осыпать Нахид лестью? А разве не этой лестью она живёт? Именно поэтому Нахид всё, что покупает, непременно показывает Омм-ол-Банин. А у той сразу загораются потухшие глаза. Психология — это наука, в которой в большей или меньшей степени, в силу своего разума и способностей, разбирается каждый. Вот и Омм-ол-Банин, несмотря на свой скудный умишко, за эти двадцать с лишним лет общения с Нахид сумела проникнуть в тайны её сложной и тёмной души. Она поняла, что у этой себялюбивой особы дрожат руки при покупке необходимых вещей, но она не жалеет денег, когда надо похвастать перед людьми. Теперь Омм— ол-Банин знает, что легче всего завладеть капризным сердцем этой женщины, хваля на все лады её любимые безделушки. Вот почему, когда Нахид приносит в дом какую-нибудь обновку, Омм-ол-Банин выкладывает весь запас льстивых слов из своей сокровищницы знаний и осыпает ими покупку.
Особенно она старается, расхваливая новые автомобили ханум. А известное всему Тегерану жемчужное ожерелье Омм-ол-Банин просто боготворит, и всякий раз, беря его, чтобы вложить в футляр или подать ханум, она благоговей но держит его на ладони, целует и только тогда выпускает из рук. Как правило, себялюбивый человек становится рабом того, кто ему льстит. Лесть питает себялюбцев, поднимает их в собственных глазах, без неё они не могут жить. Но более всего лесть привлекает глупцов. Едва появившись на свет, они только и ждут человека, который бы начал им льстить, а встретив такого, теряют голову и уже готовы на всё. Сколько людей забывали о чести и совести, поддавшись лести! Влюблённый, умеющий красиво лгать, быстрее покорит сердце красавицы. Человек заразил лестью даже животных. Некоторые собаки часами виляют хвостом, чтобы обратить на себя внимание хозяина и получить от него подачку.
Больше всего лесть распространена среди выскочек и карьеристов. Короли, выходцы из простых семей, волею судеб и политических событий посаженные на трон, желая ещё более возвеличиться, заставляют народ славить их. Подобных примеров немало в истории Ирана. Пожалуй, нигде в мире не было такого количества политических проходимцев и узурпаторов, как у нас. Вот откуда у иранцев появилась пословица, какой нет ни у одного народа: «Непойманный вор — падишах», так как каждый преуспевающий в грабеже разбойник, которому помогала судьба, становится падишахом.
Давно поселилась лесть и в доме Нахид Доулатдуст. Каждый из его обитателей старается с её помощью добиться расположения ханум. Наиболее преуспевающей оказалась Омм-ол-Банин. Да и что ещё оставалось девочке, подобранной на улице? Был ли у неё другой путь? Нет, ей нельзя было надеяться ни на материнскую ласку, ни на любовь отца, ни на поддержку родственников. Только хитростью и лестью могла она помочь себе в жизни.
Лесть в аристократическом обществе Тегерана — родном доме господина Манучехра Доулатдуста — служит единственным средством для процветания и преуспевания. Пятидесятилетняя служанка Мах Солтан из Демавенда — серьёзная соперница Омм-ол-Банин. Хитростью и лукавством она добилась большого влияния на Нахид. Но действует она не так, как Омм-ол-Банин. Мах Солтан расхваливает внешность ханум, её лицо, глаза, фигуру, без конца называет её молодой, свежей и ещё бог весть как, великолепно сознавая, что всё это неправда. Вы опасаетесь, что в один прекрасный день Нахид обнаружит ложь Мах Солтан? Нет, этого не произойдёт. Нахид принадлежит к той породе людей, для которых приятная ложь дороже правды.
Разве может случиться, что человек, который сменил имя данное ему отцом и матерью, забыл свой род, забыл, кем был он и кем стал, вдруг вспомнит, что ему уже пятьдесят четыре года? Да разве может быть некрасивой такая женщина, хотя она низка ростом и заплыла жиром настолько, что Мах Солтан или Омм-ол-Банин с трудом стягивают на ней корсет, даже если она уродлива с головы до ног, если у неё плечи, как у заправского грузчика, толстые ноги, густо заросшие волосами, короткие, синие пальцы и ногти, которые не может приукрасить ни один выписанный из Америки лак?
Уж какой грязнуля её муж, но и он каждые пятнадцать дней вынужден напоминать жене, что ей пора помыться. И, как ни жаль тратить драгоценное время на пустяки, Нахид в сопровождении своих служанок отправляется в баню. Освободившись при помощи Мах Солтан и Омм-ол-Банин от всех туго стягивавших её шнурками одежд, Нахид становится перед зеркалом и любуется красотой своего тела, нежно и с гордостью поглаживая его. Затем она торжественно вступает в мыльную, ложится на лавку, и Мах Солтан начинает растирать госпожу банной перчаткой или мочалкой, а та Лежит на спине, томно устремив взгляд в потолок, как богомолец в экстазе. От прикосновения к телу перчатки и пальцев Мах Солтан она испытывает такое наслаждение, что выражение её лица не передаст ни один художник, не опишет ни один поэт. Но самое большое, безобидное и, главное, бесплатное удовольствие ханум Нахид получает дома. Она раздевается донага в своей спальне и зовёт Рамазана Али. Услышав шаги слуги, она поворачивается к двери спиной и делает вид, что переодевается и не замечает его появления. Тогда Рамазан Али кашляет, а Нахид поворачивается и с деланным возмущением набрасывается на него с руганью. Оба они хорошо знают, что эта игра, заранее подготовленная, повторится ещё не раз, и всегда Нахид-ханум Доулатдуст, звезда аристократического мира Тегерана, получает от неё неописуемое удовольствие.
Можно тогда себе представить, какое наслаждение получает Нахид от ласк костлявого Хушанга Сарджуи-заде! Остаётся только посочувствовать тщедушному двадцатитрехлетнему юноше, который должен потратить столько сил, чтобы удовлетворить похотливое желание этой туши. Но есть люди, которые не очень высоко ценят свои труд и свои усилия. За небольшую подачку — новый костюм, сшитый у портного с проспекта Лалезар, модный американский галстук с изображением головы свиньи или крупа лошади, шёлковую рубаху голубого или жёлтого цвета — они готовы на физическое и моральное унижение.
Сколько раз этот тщедушный Хушанг запирался на ключ с Нахид в её доме или в номерах гостиницы «Дербенд», «Абе-Али», «Рамсар», «Бабольсар» и в прочих местах. Нахид садилась на кровать или в кресло, а Хушанг устраивался у неё на коленях и начинал, словно пророк Давид, нараспев читать газели, нежно гладя и восхваляя все части тела своей возлюбленной, начиная с головы и кончая пальцами ног. Нахид млела, когда этот костлявый юноша клал свою голову ей на плечо, нежно и благоговейно гладил её расплывшиеся щёки, потом шею, плечи, добирался до большой родинки на груди и начинал стихами восхвалять её. Затем медленно и нежно Хушанг развязывал всевозможные шнурки и завязки, освобождая её тело от бесконечных шёлков, вывезенных из далёких стран, и когда они наконец падали к её ногам, опускался на колени перед своим обворожительным ангелом.
Безграничное упоение охватывало Нахид. Каждая клеточка её тела радостно пела о любви, каждый волосок излучал страсть. Висевшее в комнате большое зеркало, неотъемлемая принадлежность жизни Нахид, давало ей возможность не только ощущать ласкающие её пальцы Хушанга, но и видеть своё обнажённое тело.
Нужно быть так же страстно влюблённым, как Нахид, чтобы помять, какое наслаждение она получает, зачем живёт и почему этот дохлый Хушанг так привязан к ней. Что же делать, мир — это большой базар, где каждый предлагает то, что у него есть. На этом базаре, как хорошо сказал один поэт:
Да чего, собственно, и ждать от Нахид? Какой другой товар её лавки может привлечь покупателя? Может ли она гордиться своей родословной, призвать в заступники своего отца, покойного галантерейщика Шейха Хосейна Али, который из мальчика на побегушках стал хозяином лавки и, не уважая ни бога, ни людей, презренным прожил положенное ему на этом свете и таким же ушёл на тот? Делает ли он ей честь? Может ли она похвастать его богатством или знаниями? Или своим собственным разумом? Училась ли она чему-нибудь? Умеет ли она хотя бы шить вышивать, стряпать? Или, может быть, у неё острый язык, как у злосчастной Махин Фаразджуй или у незаконнорождённой Мехри Борунпарвар?
Нахид — это бурдюк с мясом и костями — и только. Если такой, как она, не получать подобных удовольствий, зачем тогда жить на белом свете? Чем может она заменить эти наслаждения? Разве она разбирается в музыке, поэзии живописи? Разве понимает шутки? Должна ведь эта бедняжка, несчастная коротышка из дома галантерейщика Шейха Хосейна Али, которую теперь величают Нахид-ханум, любимая и уважаемая жена господина Манучехра Доулатдуста, выдающегося политика Тегерана, живущая в обществе, где каждый думает только о себе и цепляется за хвост своей коровы, — должна же она, в конце концов, пока жива, как-то развлекаться! Нельзя же так просто, не испытав радости, покинуть этот мир!
6
Рамазан Али в восхитительной двойке и неизменной каскетке быстро поднялся в гостиную. Нахид в последний раз поправила свой корсет. В гостиной господин Манучехр Доулатдуст, стоя перед большим зеркалом, старательно завязывал американский галстук цвета бордо с большим золотым подсолнухом посредине. Мах Солтан в большом белом переднике поверх платья из американского ситца переходила от одной керосиновой печки к другой, подкручивая фитили. Появилась Омм-ол-Банин в белом платье, тоже закрытом передником. Она быстро нажала выключатели, и во всех четырёх комнатах засверкали люстры, а в гостиной зажглись бра. Когда на ступенях лестницы показался первый гость, Манучехр подбежал к нему и, подобострастно пожимая обеими руками его руку, произнёс:
— Пах-пах, какая радость, да паду я жертвой к вашим ногам! Великой чести удостоили вы наш ничтожный дом.
Вошедший был доктор Тейэби. Не успел он расстегнуть своё широкое пальто, как оно уже было подхвачено сзади и снято с его плеч Манучехром Доулатдустом. Рамазан ли тотчас же взял у своего хозяина пальто, принял у гостя фетровую шляпу и повесил всё на крючок большой вешалки. Переваливаясь, как утка, с ноги на ногу, к дорогому гостю приковыляла Нахид.
— Но почему же вы пожаловали один?
— Я не из дома. В этих краях у меня были кое-какие дела. А ханум приедет сама, я послал за ней машину…
Не дав гостю договорить, Манучехр взял его иод руку и повёл в свой кабинет. Жене он сказал:
— У меня очень важный разговор к господину доктору. Если приедут гости, ты займи их, пока мы закончим свои дела.
Посреди комнаты, в которую Манучехр ввёл господина Тейэби, стоял стол для карточной игры. Манучехр выдвинул стул и, усадив на него гостя, сам устроился напротив. Боясь, что могут войти и помешать разговору, он торопливо начал:
— Я повидался со всеми, о ком вы говорили. Они, как мы договорились, сегодня будут здесь и сами подтвердят вашему превосходительству своё согласие.
— Хорошо, а что слышно насчёт денег?
— Клянусь богом, горбан, сегодня базар не очень хорош. Большую часть лицензий, которые мы получили благодаря вашей любезности от Кавам-ос-Салтане, не удалось реализовать, и они лежат без движения.
— Не беда, дайте оставшиеся лицензии мне. Я верну их министру финансов, а у него возьму другие, которые будет легче сплавить.
— Два-три месяца назад в Ираке хорошо шёл ячмень, а сейчас просто беда.
— Неважно. Скажите, какой, по-вашему, лучше взять товар, чтобы заткнуть наши дыры?
— Горбан, сегодня господин Бадпуз по секрету сказал мне, что, если нам удастся вырвать у военных хоть немного антимонита, мы получим большую прибыль.
— Что ж, это нетрудно сделать.
— О, напрасно вы так думаете. Ведь теперь они никому не платят дани. Ещё два-три месяца назад платили, но с тех пор как их ведомство стал возглавлять этот пронырливый малый, он сам проглатывает всё до косточки. У него аппетит почище нашего. И вы скоро увидите, что он погубит наши дела.
— Клянусь, я не такой пессимист, как вы. Если даже этот птенец окрылится и полетит или обратится в рыбу и уплывёт в море, всё равно мы его настигнем. Рано или поздно он всё равно будет нашим вьючным ослом.
— Право, не знаю, чем это кончится, а пока он извёл всех нас.
— Хорошо, сколько вам нужно антимонита?
— Чем больше, тем лучше, ваше превосходительство, доставайте, сколько можете. Но имейте в виду: чтобы замести следы и отвести от себя удар, они любят прикрывать свои делишки законом.
— Так что же мы должны сделать?
— Господин Бадпуз рассказывал, что антимонит используется и в литьё шрифтов. Мы можем затребовать десять тонн на производство шрифтов. Для всего государства.
— А что это такое — шрифты?
— Вы, очевидно, изволили видеть в типографиях маленькие кусочки свинца с буквочками. Их укладывают в ряд и печатают книги и газеты.
— Ну и какое они имеют отношение к антимониту?
— Эти шрифты делаются из свинца. Когда их отливают, свинец плавят, примешивая к нему для прочности антимонит.
— А что же, собственно, представляет собой антимонит?
— Признаться, этого хорошо не знает и ваш покорный слуга. Нам ведь не, пришлось по-настоящему учиться. Мне кажется, его добывают из недр земли. Я как раз думал, что вы знаете о нём, вы ведь доктор. К тому же антимонит добывают в районе вашего Йезда, в шахтах Анарека.
— Да помилует бог вашего отца! Это, конечно, верно, люди называют меня доктором, но откуда нам знать, что такое антимонит и для чего он нужен! Правильно, я из Йезда, но я понятия не имею, где Анарек и что такое шахты.
— Как бы то ни было, а анарекский рудник находится в ведении армии. Больше в Иране нигде антимонита нет. А ведь на пего огромный спрос за границей. Военные завладели анарекским рудником под предлогом, что антимонит нужен для их заводов, а на самом деле всю добычу они продают, а денежки кладут себе в карман. Впрочем, может быть, часть денег они ещё кое-кому отсылают.
— Да что они, издеваются над нами, что ли? Разве можно лишить древний, героический иранский народ того, что ему необходимо? Антимонит нужен для издания книг и газет — для самого важного и священного дела, завещанного нам нашими предками. Мы поведём борьбу с этими вояками по всем направлениям: через меджлис, печать, радио. Мы заставим их дать нам антимонит для осуществления самых возвышенных целей государства. Так что, говорите, мне надо сделать?
— Я думаю, горбан, потребуйте у них десять-двенадцать тонн. Пообещайте, что расплатитесь через два, три, ну, через четыре года. Короче, постарайтесь выторговать как можно больший срок. Через два года мы его продлим, потом ещё немножко потянем, а там, глядишь, всё забудется. Бадпуз говорит, что это обеспечит расходы по выборам.
— Боюсь, что он ошибается. У него всегда странные подсчёты. На сей раз расходы предстоят большие. До сих пор Азербайджаном командовали не мы, а сейчас, когда во главе правительства стоит азербайджанец, нам придётся вмешаться в выборы и там. Наконец, вам известно, что англичане поручили нам провести выборы в Хузистане?
— А как вы изволите думать, какая сумма понадобится на этот раз?
— Пожалуй, не считая денег, которые придётся раздать сельским старостам, губернаторам, генерал-губернаторам и другим дармоедам, меньше чем в двадцать пять — двадцать шесть миллионов туманов нам не уложиться. Как вы думаете, десять тонн антимонита дадут нам эти средства?
— Разумеется, нет. Антимонит окупит лишь предварительные расходы.
— Ну, знаете ли, я на такие сомнительные комбинации не пойду. Никаких предварительных расходов! Надо теперь же положить в банк всю сумму, необходимую для проведения выборов. И здесь горстью антимонита не обойдёшься. С государственной политикой шутить нельзя, и нельзя на этом экономить, это не базар. А проклятый Бадпуз последнее время что-то юлит. Вот и сейчас он собирается оставить нас в дураках: сунет нам эти несчастные десять тонн антимонита, а сам опять сорвёт большой куш, как при выборах в сенат.
— Вы, как всегда, настроены пессимистически, господин доктор.
— Нет, мой дорогой, я просто люблю делать всё солидно. Мы, йездцы, не любим спускаться в колодец на чужой верёвке.
— Мне пришла в голову одна мысль, разрешите высказать? Надеюсь, вы отнесётесь к ней благосклонно.
— Говори, дорогой мой, говори всё, что думаешь.
Горбан, лучше всего вам было бы добиться от правительства разрешения на ввоз к нам из Америки поношенной одежды.
— Неплохой выход! Что же вы раньше молчали, да и сейчас говорите так робко!
— Ваш покорный слуга боялся, что вы не одобрите его, ваше превосходительство.
— Ну что вы, во имя политики, во имя достижения нашей цели, когда человеку предстоит совершить подвиг ради своего шеститысячелетнего государства, он может и должен идти не только на торговлю старьём, но и на большее. Надо учиться у европейцев — их всегда интересует результат дела, а не средства.
— Есть у меня ещё одно соображение. Неплохо было бы добиться разрешения на ввоз электрических счётчиков. Штук на шестьдесят-семьдесят.
— Клянусь аллахом, это сделать нелегко. Вы ведь знаете, сколько бы ни появилось электрических счётчиков, генерал Зармади, как гиена, набрасывается на них. С этим упрямым ослом поладить трудно.
— Насколько мне известно, наш друг Алак Бедани знает, как к нему подойти. Не соизволите ли вы поговорить с ним?
— Это можно, но при одном условии: несколькими счётчиками вы заткнёте рот журналистам!
— Я слышал, что городская управа собирается продать ещё немного земель. Нам нужно не упустить их. Земля снова поднимется в цене.
— Не возражаю, но земля не скоро приносит доход. Ведь надо сговориться с маклерами-евреями, и только после этого, месяца через три мы получим деньги. А они нам будут нужны через десять-двенадцать дней.
— Не беспокойтесь, горбан, это я беру на себя. Как только мы договоримся об условиях, на которых земля будет продана нам, ваш покорный слуга и наша дорогая Нахид записываем землю на своё имя и выплачиваем за неё деньги.
— Ну и ловкач же ты, хочешь и нас одурачить. Да чёрт с вами, пусть и этот кусок достаётся вам и ханум, я не против. Депутатом мы вас опять сделаем, но ведь, кроме этого, нужно и ещё чем-то порадовать вас.
— Да, чуть не забыл о главном. Вашему превосходительству надо в течение ближайших дней лично поговорить с генеральным директором Национального банка и заставить его дать распоряжение кредитному управлению банка увеличить кредит для меня и некоторых других наших друзей в четыре-пять раз. Нам необходимо иметь в своём распоряжении неограниченное количество векселей. Дело в том, что выборы будут идти не очень-то гладко. Кто знает, может быть, понадобится изрядная сумма, чтобы оттереть какого-нибудь слишком наглого соперника или заменить урны с бюллетенями. Тут только успевай подписывать векселя. Вот почему нельзя определить расходы заранее. Лучше нам иметь открытый счёт, чтобы в самый горячий момент не искать денег по разным концам. Однако надо остерегаться Бадпуза. Вы ведь и сами знаете, банк целиком в его лапах, и, несмотря на все обещания, эта семиглавая змея может повлиять на господина директора банка Эхтеладжа не в нашу пользу.
— Можете не волноваться, с генеральным директором договориться легче всего. Ведь для того, чтобы уладить наши дела там, вовсе нет надобности обращаться к нему лично. Как только я договорюсь с нашими друзьями, они сами дадут нужное распоряжение генеральному директору, и он сделает всё, что нам нужно. Собственно, для этого он там ими и посажен.
— Есть и ещё один путь раздобыть денег.
— Прошу вас…
— Нужно получить разрешение на рубку леса в северных районах.
— Ну, это проще простого. Мы уже много раз устраивали подобные вещи для наших людей, сделаем это и сейчас. Дело облегчается ещё и тем, что министрами сельского хозяйства чаще всего бывают самые слабые члены кабинета. Стоит только написать, и разрешение будет получено.
— Горбан, не забудьте ещё, что нам нужно пятьдесят-шестьдесят тысяч коробок ниток.
— Конечно. И мне нужно немного для одного из моих йездских друзей и тегеранского родственника. Но теперь всё стало так сложно, что не знаешь, к кому обращаться. С одной стороны, существует Министерство промышленности и ремёсел, с другой — Плановая организация, к которой присоединился Промышленный банк. И теперь не слушают ни тех ни других. Да к тому же эта Плановая организация как пропасть, в которую проваливаются караваны товаров…
И всё же, несмотря ни на что, придётся разрешить и этот вопрос. Вы, должно быть, знаете, что нитки предназначены почти исключительно для задабривания депутатов меджлиса. Ведь кто бы ни просил, всем говорили что нитки находятся в распоряжении меджлиса, а не правительства. Разве вы забыли, как депутат Пазваи, голодранец из Бендер-Аббаса, на них разбогател и выскочил в люди!
— Да, но такими способностями наделил его аллах. Сколько бы мы ни старались, нам его не догнать.
— Да что вы, горбан, зачем такая скромность!
— Ну-с, что у вас ещё?
— Этот самодовольный, надутый верблюд, франкмасон Нахс-ол-Мольк, да простит бог прегрешения его отца, ликвидировал сахарную монополию. Если бы он не наделал таких бед, мы до сих пор имели бы самый лёгкий и постоянный доход от торговли сахаром. Именно таким образом, через доктора Мильспо, покрывали свои расходы американцы и англичане. При первом случае, как только власть вновь окажется в наших руках и мы упрочим наши позиции, нам нужно будет заняться этим делом. Может быть, иншаалла, следующий состав меджлиса окажется нашим и мы добьёмся успеха. А сейчас, пока этот путь для нас закрыт, придётся заняться импортными товарами. Один из наших друзей привёз из Америки большую партию вееров, нейлоновых чулок, зубных щёток, гребешков, резиновых, игрушек и зубной пасты, которые не раскупаются и лежат мёртвым капиталом. Другой закупил партию засохшей ваксы, и её никто не берёт. Наконец, ваш покорный слуга имеет на шесть миллионов алюминиевых котелков, которые ему никак не удаётся сплавить. Распорядитесь, пожалуйста, чтобы эти товары, как предметы роскоши, не разрешали импортировать. Может быть, тогда нам удастся быстро распродать их. Одно это принесёт нам большие прибыли, и мы сможем удовлетворить наши потребности в деньгах.
— Браво, браво, господин Доулатдуст! Каким умом и смекалкой наградил вас всевышний и всемогущий бог! Кстати, мой сын Ага Мостафа прислал своей матери из Америки пищалки и волчки, которые тоже лежат на складе. Заодно сплавим и их. Тогда мать Ага Мостафы перестанет день и ночь надоедать мне. Жаль только, что братьев и сестёр высокопоставленных персон становится всё больше и больше и всеми автомобилями, радиоприёмниками и подобными выгодными для продажи вещами распоряжаются они. Хорошо ещё, что Эхтеладж-старший, да помилует бог его отца, когда был мэром города, запретил привозить на базар дыни и баклажаны, пока эти продукты не поступят из амлякских хозяйств[74]. Или, например, помните, когда купцы навезли очень много зелёной краски и она залежалась, он дал распоряжение выкрасить все ворота и наличники на окнах в зелёный цвет и купцы распродали неходовой товар. Очень жаль, что прошли те славные времена и нам приходится довольствоваться веерами, пищалками и волчками.
— Да, я вспомнил ещё об одной просьбе Нахид к вашей светлейшей особе.
— Пожалуйста, прошу вас, я готов помочь всей душой. Особенно сейчас, когда я нахожусь на этом роскошном банкете, подготовленном с таким вкусом, старанием и любезностью.
— Что вы, что вы, здесь нет ничего особенного. Прошу вас, считайте, что этот дом — ваш дом. Надеюсь, сегодня на нашем скромном ужине мы разрешим все вопросы.
— Так о чём же просит дорогая Нахид-ханум? Думаю, что её просьбу можно будет исполнить тотчас, ведь сегодня здесь соберутся все министры.
— Просьба пустяковая. Она хотела бы, чтобы вы помогли ей получить разрешение на ввоз пяти автомобилей кадиллак. Их можно выписать на имя людей, хорошо вам известных: детей вашего покорного слуги Фарибарза и Виды и преданных вам его секретаря Хушанга Сарджуизаде, слуги Рахмазана Али и служанки Омм-ол-Банин.
— Что ж, я ничего не имею против. Боюсь только, что здесь мы можем встретиться с трудностями: ведь ввоз кадиллаков, кажется, находится в ведении не то брата, не то сёстры высокопоставленной особы?
— Да, монополия в их руках. Ваш покорный слуга и не помышляет с ними ссориться, это не в интересах государства и народа. Но ведь можно выписать лицензию на одно из государственных учреждений. А заодно пусть дадут разрешение израсходовать десять тысяч долларов валютой — мне хотелось бы купить Нахид манто. Бедняжка так страдает от зимних холодов!
— Конечно, автомобили нужны. Машалла, дети стали взрослыми, с каждым днём растут и их потребности. Ну а ваш Рамазан Али, служанка и секретарь — они ведь тоже работают, им тоже нужны машины. Опять же, разве мы можем допустить, чтобы такая молодая, изящная и красивая женщина, как Нахид-ханум, мёрзла зимой! Конечно, манто необходимо! Но скажите, председатель валютной комиссии приглашён на сегодняшний банкет?
— Разумеется, горбан. Сначала, правда, он отказывался, ссылаясь на занятость и плохое самочувствие, но когда узнал, что будете вы, ваше превосходительство, и министры, тотчас же согласился.
— Очень хорошо. Как только он хлебнёт одну-две рюмки, да и у министра финансов закружится голова, кивните мне. Сведу их с ханум и тут же постараюсь получить разрешение на ввоз автомобилей, в которых так нуждаются ваши дети и ваши близкие, а также на десять-пятнадцать тысяч долларов государственной валюты.
— Теперь нам остаётся подумать, как умаслить противников. Наиболее опасный из них, конечно, этот толстобрюхий, бесцеремонный и самодовольный осёл в чалме, Джавал Аммамеи.
— Но ведь он добился своего и заполучил в этом составе правительства пост министра без портфеля.
— Горбан, разве он с его алчностью на этом остановится?
— Право, этот нахальный тип окончательно разорит нас. И что нам с ним делать?
— Ваш покорный слуга слышал, что он недавно дал маху в клубе «Иран», проиграл там крупную сумму.
— Вы хотите сказать, что мы должны взять на себя проигрыш?
— Покорный слуга ваш нашёл иной и более простой выход.
— Пожалуйста, прошу вас.
— Вы изволили видеть дом его отца в одном из переулков на улице Насире Хосроу?
— Эту старую, насквозь прогнившую развалину
— И всё же мы должны помочь ему сплавить этот дом.
— Душа моя, но кто же его купит?
— Горбан, иначе нам от него не отделаться. Он скупее и нахальнее любого ахунда. Он сумел обобрать своих братьев и сестёр, лишил их всего состояния. Деньги он уже всё промотал, и, кроме этой развалины, у него за душой ничего нет. С женой, бельгийкой, он развёлся и отправил её к родителям. Есть у него дочь, которую он пытается подсунуть какому-нибудь аристократическому отпрыску, но пока что-то дело не ладится. Разрешите помочь ему продать этот дом! Большую часть денег он проиграет в карты, немного израсходует на дочь, а остальные в рост не пойдут, так как торговать он не умеет. Вот так с ним будет покончено, и мы избавимся от его бесконечных претензий.
— Неплохо задумано. Кому же предложить купить его дом?
— По-моему, лучше всего министру просвещения.
— Да, пожалуй, это бессловесное существо будет покладистее всех.
— В таком случае разрешите сегодня же на банкете от имени вашего превосходительства предложить ему купить эту рухлядь для министерства просвещения за восемьсот тысяч туманов?
— Ба! Ишь куда хватанул! Уж не задумал ли ты получить маклерские с этого пройдохи! Кто же купит такой дом за восемьсот тысяч?
— Клянусь, я не получу с этого дела ни крана, всё сожрёт этот проклятый осёл! Но на меньшее он не соглашается.
— Не соглашается — пусть идёт к праотцам.
— Горбан, сколько он доставляет нам неприятностей! Вы ведь и сами немало натерпелись от него!
— Ладно, чёрт с ним, бросьте псу этот кусок. Сплавьте его дом, но предупредите: если он опять будет так же нагло вести себя в меджлисе или в газетах, мы ему дадим жару. Ещё одно условие: пока он не получил денег, пусть зайдёт в управление информации нефтяной компании.
— Но это, горбан, не всё.
— Помилуй бог, что же ещё?
— Господин Бадпуз и его злополучные приспешники.
— Но неужели они ещё не насытились?
— Разве есть предел их аппетиту! Они сто лет будут набивать своё брюхо и все не нажрутся.
— Что же надо сделать?
— Господин Бадпуз начал переговоры с правительством относительно получения денег из Плановой организации. Он якобы хочет реконструировать стекольный завод.
— Этого и надо было бы от него ожидать: если где что плохо лежит, он всегда заметит первый.
— Да, горбан, ему нужен один миллион двести тысяч туманов.
— Преклоняюсь перед его скромностью. Да пошлёт аллах ему изобилие!
— Он ссылается на то, что Сеид получил большие суммы на инкубацию цыплят и тому подобную ерунду, говорит, что он тоже не хуже этого Сеида Ананати и на его стекольном заводе делаются дела не менее важные, чем выведение цыплят.
— Всё это верно, но разве можно сравнить Сеида с ним? Сеид пользуется особым покровительством. Он получает директивы всегда непосредственно из Лондона. К тому же из получаемых денег он всегда некую сумму тратит и на наши дела: каждый год организует две-три партии, в которых состоят по три-четыре человека, издаёт несколько газеток. Что касается Бадпуза, то он глотает кусок за куском, растит себе брюхо, а нас удостаивает только отрыжкой.
— Как бы то ни было, горбан, но я счёл своей обязанностью предупредить вас. А вы уж смотрите сами. Если найдёте способ справиться с ним проще, ваш покорный слуга будет только рад. Если ваше превосходительство бросит в него один камень, я запущу десять. Вы ведь сами знаете, сколько несчастий принёс мне этот обжора.
— Деньги Плановой организации нам нужны на другие дела. Эту дань мы не собираемся делить ни с кем. Если Бадпуз хочет получить деньги, пусть добьётся распоряжения оттуда, откуда получает их Сеид. Деньги принадлежат им, пусть они и распоряжаются.
— Этого ему нетрудно добиться.
— Получит распоряжение — мы сдаёмся.
— А что вы изволите сказать о его злополучных приспешниках?
— Слажу и с ними. Во-первых, старший в этом году станет сенатором. Два младших — депутаты. Что им ещё нужно? Что они, яйцо с двумя желтками снесли, что ли?
— Но у них больше возможностей, чем у других. За их спиной и американцы, и англичане, и ахунды, и дворцовая знать, и купцы. Мы в них нуждаемся, а не они в нас.
— Так-то оно так… и всё-таки каждый год они хотят получить валюту. Вот мы и решим их дело на сегодняшнем банкете. Ну, хватит, господин Доулатдуст, оставишь ты меня наконец в покое? Бог свидетель, у меня голова идёт кругом. Да простит господь отца того, кто ввязал нас в эту проклятую политику! Это называется человек пришёл в гости! Думал промочить горло, поесть и отдохнуть от забот, а что вышло?
— Горбан, ваш покорный слуга не виноват. Вы сами начали обсуждать наши дела.
— Ну хорошо. Скажите, что там у нас ещё?
— Вам хочет засвидетельствовать своё почтение господин Набази.
— Избави бог от него. Если этому типу отдать весь Иран, он и тогда не угомонится. Довольно возиться с ним! На сей раз я буду действовать решительно.
— Горбан, боюсь, что слишком поздно. Он связан с самыми высшими сферами — у них там какой-то тайный сговор, — встречался с Шураи, и этот старый министр двора, который, кажется, уже покрылся плесенью, тоже не понимает, чего он хочет. Он так держит всех в руках, что нам, ваше превосходительство, с ним не справиться.
— Раз так, пусть этот Набази делает, что хочет, я умываю руки.
— Ему больше ничего и не нужно. Он только просит вас не совать ему палки в колёса. Об остальном он позаботится сам.
— Пропади он пропадом! Чего ради я должен возиться с этим дистрофиком? О, как было бы хорошо, если бы все устраивали свои дела там, где устраивает их Сеид!
— Стало быть, я могу пообещать этому Набази…
— Пожалуйста, я согласен передать ему весь экспорт, лишь бы не слышать больше его имени.
— Он только об этом и мечтает.
— Да помилует бог его отца, если он говорит правда. Иншалла, надеюсь, больше мы никому ничего не должны? Кстати, вы повидались с министром внутренних дел? Показали ему список, который я вам передал?
— Да, горбан, он согласился, но только сказал, что мы мало ему дали.
— То есть как это мало! Мы весь Хорасан отдали ему! Столько мы ещё никому не платили. Доля министра внутренних дел никогда не превышала трёх-четырёх депутатов. На сей раз, зная, что он за человек, и принимая во внимание, что он хорасанец, пошли ему навстречу и даём от Хорасана двенадцать депутатов. Так, говорите, двенадцати ему мало? Где это видано, чтобы двухкопеечный министр, хоть он и доктор, получал в меджлисе одну десятую всех депутатских мандатов!
— Он говорит, что на этот раз было решено, чтобы он выделил из своей доли долю двора.
— Конечно же, он обязан это сделать! Пусть в другой раз ослепнет, но не входит в сделки с двором. Будет знать, как связываться с ними во время выборов. Это удел каждого министра, который попадает под влияние двора, ему неизбежно придётся выделить им долю.
— Ещё он говорит, что появились американцы. Как быть с их долей? Что им сказать?
— Это уже нахальство! Пусть они обращаются в Лондон. Там знают, как поднять палку на вороватого кота. Выборы не детская забава, чтобы такой проходимец, как этот доктор Адбар, мог совать туда свой нос. Вот я с ним сам поговорю!
— Есть затруднения и с заместителем министра.
— Какие там затруднения? Во время выборов некогда заниматься такими пустяками.
— Он говорит, что кандидат на пост заместителя министра, выдвинутый вашим превосходительством, не внушает доверия.
— Какая наглость! Заместителю министра совсем и не обязательно пользоваться его доверием. Важно, чтобы он имел доверие меджлиса. Если же этот господин не согласен, пусть вместе со своим кандидатом убирается восвояси.
— Слушаюсь, всё это я ему передам. Да, я поручил ему заменить председателя избирательной комиссии, как вы приказали. Сегодня утром всё было сделано.
— Знаю, слышал даже по радио.
— А тому мальчишке я сказал, чтобы он сегодня пришёл сюда, и вы лично сможете установить контакт между ним и его министром. Мы уже подыскали ему и красивую девицу, вы увидите её здесь. Этот юноша нам очень пригодится, он и его жена в наших руках. У вашего превосходительства богатейший опыт в проведении выборов, и вы знаете, что те заурядные чиновники, которые день и ночь передают нам шифрованные телеграммы об интригах генерал-губернаторов, о подмене избирательных урн, о различных нежелательных для нас распоряжениях министров, важнее и полезнее сотни министров.
— Очень хорошо, подбодрите этого юношу от моего имени. Обеспечьте его, он не должен нуждаться. Если потребуется, расходы его жены примите на наш счёт. Такие молоденькие и смазливые женщины нам нужны. Она обведёт вокруг пальца сто мужей. Она к тому же и понятлива, эта девчонка?
— Конечно, она лукава, хитра и себе на уме.
— В таком случае передайте девчонке от моего имени, что я твёрдо обещаю ей автомобиль, манто и путешествие в Америку. И вообще не отказывайте ей ни в чём. Пусть живёт на широкую ногу, берёт, что душе угодно.
— Кстати, она заигрывает с Сирусом, сыном нашего друга господина Фаразджуя.
— Удивительно, этот, щенок просто огонь. Скольким женщинам он уже вскружил голову!
— Ваша правда, горбан. Именно па подобные дела он у нас великий мастер. Лучшего специалиста по руководству девушками и женщинами нам не сыскать, особенно во время выборов. Эта девушка — точная копия своей матери. Куда бы ни сунулась, везде сразу же пустит корни. Вашему превосходительству следовало бы пригласить к себе Сируса и обласкать его. Да и девчонка, которая увивается за ним, нам очень пригодится.
— Не имею ничего против, только с одним условием: пока не рассчитается с нами, пусть и не думает об Америке. А то, чего доброго, схитрит, да и сбежит от нас, скажет: «Я вас и знать не знаю».
— Всё это в наших руках. Мы себя провести тоже не дадим. Простите, я, кажется, слышу кашель генерала Зармади. Да, я не ошибся… Если у вашего превосходительства больше нет никаких распоряжений, позвольте мне пойти к гостям. Или, может быть, ваш покорный слуга позовёт друзей сюда?
— Не зовите только министра внутренних дел. Пусть потоскует сегодня, а завтра мы либо совсем покончим с ним, либо заставим его быть шёлковым.
Господин доктор Тейэби ногтем сорвал бандероль с одной из лежавших на столе колод американских карт, вынул пачку из футляра, снял папиросную бумагу и начал тасовать карты. Пока господин Манучехр Доулатдуст ходил по комнатам, охотясь за влиятельными политическими деятелями, оставшаяся наедине с собой йездекая знаменитость обдумывала свои дела: как задобрить нового председателя центральной избирательной комиссии; как расположить к себе его подругу, молодую женщину, мечтающую об автомобиле, дорогом манто и поездке в Америку, чтобы легче было использовать мужа; как лучше прибрать к своим рукам Сируса Фаразджуя, о котором столько говорили и мечтали все женщины Тегерана; как справиться с этим скользким министром внутренних дел и разрешить трудности, связанные с выборами в Тегеране; как, наконец, построить работу нового состава меджлиса.
Люди, никогда не испытывавшие столь большой ответственности, не могут представить себе, какая тяжесть лежит на слабых плечах величайшего политического деятеля Ирана, господина доктора Тейэби. И один бог знает, сколько крови он пролил и сколько ещё прольёт, в какие переделки попадал и в какие ещё попадёт!
В остальных четырёх комнатах к этому времени уже собрались видные политические деятели Ирана, их жёны и взрослые дочери, разодетые в самые изысканные и дорогие туалеты. Женщины щеголяли друг перед другом своими дорогими платьями, маникюром, помадой, духами. Они расхаживали по комнатам, сверкая драгоценными камнями и золотом, украшавшими их обнажённые шеи и плечи. О чём только не говорили между собой гости, насыщая лестью и обманом и без того душную атмосферу, пропитанную запахом нефти! А в это время в соседней комнате величайший пройдоха Ирана, погруженный в глубокие размышления, продолжал тасовать неигранную колоду карт.
Среди гостей было немало таких, кто с нетерпением ждал его появления, мечтал встретиться с ним. Уже несколько известных деятелей спрашивали господина Манучехра Доулатдуста, где же господин доктор. Тех, кого нужно было свести с доктором, хозяин дома направлял в кабинет, другим отвечал, что только минуту назад видел доктора здесь, но где он сейчас, не знает.
Премьер-министр буквально влетел в кабинет. Среднего роста, седой, с постным выражением лица, за которым скрывались хитрость и лукавство, он мелкими шажками подошёл к доктору. Тот встал и, положив карты на стол, сказал:
— Алейком-ас-салям, как ваше благословенное здоровье?
— Слава богу, прекрасно, благодарю вас. На банкете, где нас так тепло принимают, среди друзей не может быть плохо.
Вскоре в просторном кабинете господина Манучехра Доулатдуста собрался весь цвет Иранского государства и народа. Четыре официанта из клуба «Иран», нанятые в помощь Рамазану Али, Омм-ол-Банин и Мах Солтан, разносили на подносах вина и закуски.
В гостиной гудели голоса. Генералы, ставшие министрами и депутатами, и новоявленные сановники, вроде Джавала Аммамеи, Кейфарбаша и генерала Меджази, подбоченившись, стояли у стен с бокалами виски в руках и сигарами во рту, решая мировые проблемы. Вокруг министров сгрудились депутаты.
Премьер-министр не стоял на месте. Он появлялся то в одном конце гостиной, то в другом, переходил из комнаты в комнату, словно стремясь помешать разговорам. Неосведомлённые новички могли принять его за армянина — торговца драгоценностями с Лалезара, за еврея-галантерейщика с проспекта Стамбули, за торговца свининой с проспекта Надери или за одного из писцов, что сидят у бань на Моншади. Он походил на кого угодно, но только не на первого министра страны с большой историей и древней культурой.
Всякий мало-мальски разбирающийся в психологии людей, глядя на премьер-министра, мог легко заметить, что этот несчастный человек чувствует себя здесь, в обстановке лжи и лицемерия, обмана и предательства, как бы не в своей тарелке.
Но что ему было делать? Не прийти сюда значило бы подвергнуться упрёкам со стороны этой группы. А ведь он лучше всех знает их низменные, подлые душонки. Войдя в дом, он сразу понял истинное назначение этого сборища — такой аферист, как Манучехр Доулатдуст, зря не устроит приёма, не бросит на ветер столько денег. Ишь, когда около него оказывается кто-нибудь из сильных мира сего, он от радости весь дрожит, а если чей-нибудь незнакомый взгляд остановится на его бесцветном, жёлтом и угрюмом лице, он быстро отворачивается, стараясь избежать чужих глаз.
Занятый этими размышлениями, премьер-министо вдруг заметил, что ему грозит неприятность более значительная, чем все предыдущие. К нему приближался человек, во всей фигуре и даже в походке которого так и сквозило лицемерие и ложь. Человек протянул ему руку.
Высокого роста, с лысой головой, тонким носом и длинным подбородком, господин Сеид Малал Ахтаргяр Шемирани являлся воплощением законченной тупости Этот самый свежий гостинец из Европы, последний образец марионетки, прибыл на тегеранский базар три года назад.
В своё время он прислуживал обанкротившейся тегеранской аристократии, собирал объедки с её стола. Занимался он и тем, что, приходя на званые обеды и аристократические вечера, изводил противников правительства, доводя намеченную жертву до припадка и заслуживая этим благодарность и поощрение своих хозяев. Когда последняя его жертва скончалась от паралича сердца, их святейшество совершенно неожиданно, ни с кем не попрощавшись, без копейки денег в кармане отправился в Европу для пополнения своих научных, а возможно, и практических знаний. Но, едва прибыв в Европу, он покорил богатую вдову и вступил с ней в брак. Хозяйничавший в то время в Бельгии Гитлер питал особую симпатию к мусульманам, поэтому он не тронул нашего несчастного астролога, предоставив ему возможность мучиться со своей бельгийской вдовой. Когда война кончилась, щёголь господин Сеид Малал Ахтаргяр в костюме, сшитом по последней моде, ярком галстуке, чисто выбритый и напомаженный. появился в Тегеране. На нём уже не было ни туго закрученной чёрной чалмы, ни длинного серого кафтана, ни чёрного с отливом неджефского аба, не осталось и следа от его редкой бородки.
Так как между астрологией — с одной стороны, и почтой, телеграфом и телефоном — с другой, оказывается, существует и будет существовать таинственная и неразрывная связь, то, прибыв в Тегеран, наш почтенный господин сразу направился на площадь Сепах в здание почты, телеграфа и телефона и занял там кресло министра.
С того же дня этот отросток святого родословного древа стал непременным членом справедливого сообщества, товарищем по «пещере» этого царства ангелов. Сие милейшее создание и сейчас отличается тем, что изводит всех. Он замучил даже Алака Бедани и доктора Тейэби, которые вынуждены были отступить перед его наглостью.
Раньше при создании кабинета господин Сеид старался получить министерский портфель и был на седьмом небе от счастья. Если положение осложнялось, он соглашался и на министра без портфеля. Но с некоторых пор этот астролог снова загорелся страстью к Европе и настойчиво добивается назначения посланником в Бельгию, в Брюссель. Уже порядочное время это вносит трудности в политические дела Ирана. Каждому новому премьер-министру и министру иностранных дел суют эту кандидатуру. Даже такие кровные враги в политике, как Сеид Ананати и Кавам-ос-Салтане, оба покровительствуют ему.
И вот его превосходительство господин Сеид Малал Ахтаргяр Шемирани, так мечтающий о Европе, стоит перед премьер-министром и дерзко просит его о назначении. А премьер-министр только бессвязно бормочет обычные пустые слова: «Слушаю, повинуюсь, пожалуйста, завтра позвоните мне по телефону…», моргает глазами и умоляюще поглядывает на Джавала Аммамеи, о чём-то горячо спорящего с начальником главного управления полиции.
Наконец министр без портфеля понял странные знаки, которые подавал ему премьер-министр, и, пыхтя и расталкивая гостей, поспешил ему на помощь. Премьер-министр не обманулся в своих расчётах, ибо недаром говорят: «Шакала лесов Мазандерана может одолеть лишь пёс Ма— зандерана». Он одобрительно улыбнулся и, обращаясь к своему спасителю, сказал: «Простите, господин Аммамеи, нет ли у вас сигареты?»
Бедный Сеид вынужден был отложить разговор о поездке в Брюссель до следующего, более благоприятного случая. Он пробился через толпу гостей и направился в соседнюю комнату, где возле печки устроился доктор Тейэби, совершая закулисные сделки со своими апостолами. Здесь, в этой схватке из-за состава нового кабинета, Сеид решил услужить йездскому святоше, чтобы, заслужив от него благодарность, завтра обратиться к нему с просьбой.
Вдруг зазвякали аксельбанты генерала Зармади. Это заставило встрепенуться оживлённо беседовавших премьер— министра и министра без портфеля. Его превосходительство корпусной генерал подошёл к ним, сверкая лысиной едва прикрытой редкой прядью напомаженных волос, переброшенных справа налево, играя бронзовыми наконечниками своих аксельбантов и заложив палец между блестящими пуговицами мундира. С такой же надменностью, с какой он держался в Луристане при расправе с населением, он подал руку премьер-министру, затем министру без портфеля. Осведомившись о здоровье и наговорив кучу стандартных любезностей, он сказал:
— Горбан, сделайте, пожалуйста, порицание или что вы там сочтёте нужным доктору Адбару, министру внутренних дел.
— Разве он нерадив в работе?
— Да, вот уже двадцать дней я бьюсь с ним и не могу уладить своё дело.
— Но ваше превосходительство всегда сами потворствовали ему.
— Верно, горбан, но это было давно, теперь он во мне, кажется, больше не нуждается.
— Право, я думаю, что и на том свете он будет нуждаться в помощи и содействии вашего превосходительства.
— На том свете мне до него не будет никакого дела. Я хочу, чтобы он не забывался на этом свете, и прошу вас помочь мне.
— Просьба вашего превосходительства, очевидно, связана с выборами?
— Вы же знаете, что мы, военные, не вмешиваемся в политику, её мы отдаём вам…
— Должно быть, вашему превосходительству хочется видеть одного из своих сыновей или зятя депутатом?
— Пока нет, но, если они изъявят желание, ничего более не придумав, я доложу вам. А сейчас речь идёт об избрании депутатом нашего старого и искреннего друга, о котором я забочусь много лет.
— Вы изволите говорить об Алаке Бедани?
— Горбан, вы очень догадливы.
— Против его избрания никто и не возражает. Пока он жив, будет избираться от Мелайера.
— Вот видите, а господин Адбар финтит.
— Избирательный участок Мелайера не входит в его зону.
— Это верно, но он говорит, что последнее время к Алаку Бедани нехорошо относится двор.
— Разве? Не слышал! Однако эти затруднения легче всего устранить вам самим.
— Но ведь то, что говорит господин доктор Адбар, — ложь.
— Я прожил век, но, клянусь, не могу понять, когда эти господа говорят правду и когда лгут.
— Во всяком случае, я не думаю, что это правда.
— Но, пожалуй, и не совсем ложь. Вы ведь знаете, как этот почтенный Бедани в бюджетной комиссии юлил, когда мы предложили утвердить новые ассигнования.
— Да, я его потом побранил за это по телефону, но не следует придавать значения случайности. Он уважаемый депутат, и, если и ошибся раз, это не так уж страшно; ни в газеты, ни в сообщения иностранных корреспондентов ничего не попало.
— Об этом, горбан, судить не мне.
— Так вот что, ваше превосходительство господин премьер-министр, в соседней комнате меня ждут военные атташе посольства Америки, Англии и Турции играть в покер. Вам самим придётся доложить кому следует о нашем разговоре, так как дело это гражданское, а я человек военный. Когда всё будет улажено, дайте распоряжение министру внутренних дел держать себя в рамках, а не то ему будет худо. Сорок лет дружбы связывают меня с этим уважаемым, умным и милейшим человеком, Алаком Бедани, подобного которому не сыскать в целом мире, и я не потерплю фокусов господина доктора Адбара, хотя он и министр внутренних дел. Вот так!
Резкое и решительное заявление его превосходительства корпусного генерала Зармади как ушат холодной воды обрушилось на головы его превосходительства премьер— министра и господина министра без портфеля.
Его превосходительство корпусной генерал Зармади, твёрдым шагом пересекая большую гостиную, чтобы занять своё место за покерным столом, столкнулся посередине гостиной с Сиру сом Фаразджуем и Видой Доулатдуст, дочерью хозяина дома, которые, тесно прижавшись друг к другу, самозабвенно танцевали под знаменитой люстрой новое модное танго.
В последние годы, всякий раз когда его превосходительство становился военным министром, он пользовался информацией второго отдела штаба армии и получал чрезвычайно ценные сведения об интимных отношениях между девушками и молодыми людьми, принадлежавшими к известным тегеранским фамилиям. Когда же его назначали министром внутренних дел, эти сведения он получал через весьма уважаемое сыскное отделение. Теперь его превосходительство генерал Зармади стал поистине первоклассным, специалистом по вопросам семейных отношений и, чтобы иметь возможность пользоваться этими весьма ценными сведениями, его включают в большинство кабинетов.
Хотя его превосходительство является самым безграмотным из безграмотнейших офицеров шахиншахской армии, он стал таким специалистом в этой области, что даже знает такое слово, как «gigolo»[75], но только по старинной «литературной» традиции иранской военщины он произносит его неправильно.
Кто — кто, а его превосходительство корпусной генерал Зармади лучше всех знает, что хилая, бледная Вида, с редкими курчавыми волосами, худыми плечами и руками, густо заросшими волосами, с усиками, которые она с большим трудом пытается скрыть под пудрой, на глазах у своих уважаемых родителей — господина Манучехра Доулатдуста и мадам Нахид, ханум Доулатдуст, — каждый день выкидывает тысячи всяких фокусов.
Наиболее характерной чертой этих барышень, этих представителей молодого поколения и будущих государственных деятелей Ирана, является то, что ещё в юности, подобно своим родителям, они всюду, где только возможно, завязывают знакомства, чтобы в трудную минуту использовать эти связи в своих интересах. По мнению этих уважаемых и благородных девушек, впрочем, как и по мнению их отцов и матерей, наиболее правильным и эффективным является всё то, что базируется на лжи. И любовь, считают они, бывает истинной и сердечной только тогда, когда она основана на лжи. Если же человек в раннем детстве и в юношеские годы не постигнет искусства лицемерить и лгать, он не сможет впоследствии чувствовать себя уверенным на политическом базаре в шахиншахской столице Ирана.
Вот почему его превосходительство лучше других знает, где эта тщедушная пустышка Вида — настолько непривленательная, неживая, что она кажется картонной, обделывает свои делишки, где она капитулировала и заложила своё тело. Его превосходительству уже неоднократно докладывали, что Вида, в школьной форме, с белым передником, с книжками под мышкой, как будто она собралась идти в школу, садилась на проспекте Шаха или Шах-Реза в такси с худым молодым человеком с закрученными усиками, которого она недавно успела завлечь в свои сети, и они направлялись в Мангаль-Пехлеви[76] или к речке Кередж. Если его превосходительство хорошенько подумает, он, безусловно, сможет перечесть по пальцам все похождения этой уважаемой девушки.
Надо отдать справедливость, на официальных приёмах Вида всегда появляется только с господином Сирусом Фаразджуем, так же как её мать — исключительно с матерью Сируса; в тех же случаях, когда на приёмах бывает отец Виды, то и он в свою очередь появляется в обществе только с отцом Сируса.
В этот вечер узкое, цвета меди, крепдешиновое платье Виды, плотно облегавшее её худое тело, и тонкие шёлковые кружева, которые едва прикрывали чёрные соски её маленьких грудей, больше, чем обычно, привлекли к себе внимание его превосходительства корпусного генерала Зармади.
Эти девушки из аристократических семей обладают особым искусством завладевать на великосветских вечерах сердцами верующего и неверующего, правоверного и христианина, старика и юноши. С удивительной находчивостью они умеют так подчеркнуть едва заметные красивые линии своей фигуры, придать ей такой возбуждающий чувственность вид, что зачастую им удаётся ввести в заблуждение даже мужчин, видавших женщин куда более красивых и лучше сложенных.
Его превосходительство с большим искусством скрывает свои шестьдесят с лишним лет под окрашенными хной волосами, которые он перебрасывает, подобно мосту, через лысину с одной половины головы на другую. Одно из удивительных явлений природы состоит в том, что чем больше мужчины предаются распутной жизни, тем позже они стареют. Создаётся впечатление, будто только умственная работа и ночные бдения над книгами ослабляют силы человека и являются врагами молодости. Если же не так, то почему эти легкомысленные распутники с каждым днём полнеют, расцветают и старость, впрочем, так же как стыд и совесть, избегают их? Ведь не случайно при виде девятнадцатилетних девушек, одетых в плотно облегающие фигуру платья возбуждающего чувственность цвета, его превосходительство, привыкший в течение долгих лет твёрдой поступью шагать по земле своими обутыми в лакированные сапоги ногами и подавать грубым голосом команду, всё ещё чувствует в коленях некоторую слабость.
Вида была ростом ровно на шесть сантиметров ниже Сируса, поэтому, когда во время танца она положила руку ему на плечо, широкая пройма её платья, как бы соединившись с декольте, придала особенно пикантный вид округлостям её маленьких загорелых грудей, касавшихся медно-красного крепдешина нового бального платья.
Его превосходительство, который за пятьдесят лет привык выискивать пикантные картинки, немедленно подметил этот дар природы и глазами знатока стал наблюдать за Видой. Вида и Сирус почувствовали на себе пристальный взгляд нового поклонника и, как видно, сговорившись, продолжали танцевать, стараясь не удаляться от корпусного генерала дальше чем на десять шагов.
Генерал поправлял свой пробор, подкручивал накрашенные хной усы и время от времени покашливал сухим глубоким кашлем, стремясь привлечь к себе внимание танцующей пары.
Он нагло рассматривал несчастную Виду, тысячу раз пронизывал её взглядом от колен и до подбородка и набрасывал про себя план действий. В этих делах его превосходительство имеет колоссальный опыт. Вот уже несколько лет, как закон об обязательной воинской повинности является источником дополнительных благ для такого рода превосходительств и их непосредственных помощников и даже для лиц, стоящих значительно ниже их на служебной лестнице. Каждый из них по-своему наслаждается этими благами. Порой они совершенно открыто берут взятки и выдают свидетельства об освобождении от военной службы. Иногда они призывают в армию шестидесятилетнего старика вместо двадцатилетнего юноши и обирают его;
Если же они узнают, что подлежащий призыву имеет красивую жену, невесту или сестру, то делают так, чтобы она лично явилась на приём к его превосходительству просить помочь несчастному призывнику. Первым делом его превосходительство начинает расписывать перед бедняжкой нерушимость всех писаных и неписаных законов и постановлений, касающихся военнообязанного, с ходатайством по делу которого она явилась. Затем, после долгих хождений, слёз, целования сапог, клятв, ловли подола френча или пальто, что в свою очередь даёт возможность его превосходительству и непосредственно подчинённым ему лицам лишний раз полюбоваться красотой и прелестями просительниц, оказывается, что единственный выход из создавшегося положения — это свидание с его превосходительством. И вот после двух-трёх часов, проведённых бедняжкой на интимном свидании, несчастному призывнику удаётся обойти законы и постановления, которые до этого были столь незыблемы.
Сейчас в гостиной господина Манучехра Доулатдуста медно-красное, плотно облегающее тело платье Виды и то, что было прикрыто им, в мыслях его превосходительства слились воедино со сведениями о прошлом Виды, которыми он располагал. И под шум джазового оркестра, освещённого сиянием исторической люстры господина Доулатдуста, среди яств, которыми его превосходительство только что наполнил свою утробу, в голове этого славного воина созрел план.
На прошлой неделе, на семейном празднике у господина Бадпуза, к его превосходительству подошла госпожа Махин Фаразджуй и, по привычке жеманничая, сказала ему, что, как ей стало известно из конфиденциальных источников, в ближайшее время имя Сируса будет включено в списки призывников. Госпожа Махин Фаразджуй просила у его превосходительства совета, как можно добиться освобождения Сируса от призыва в армию, ибо из средней школы он уже отчислен и, следовательно, школа в этом помочь не может. Тогда его превосходительство обещал госпоже Фаразджуй, что лично даст указание относительно Сируса районному воинскому начальнику, однако, увидев на сегодняшнем вечере соблазнительную фигурку Виды, он изменил своё решение.
Он пришёл, к этому выводу как раз в тот момент, когда Вида и Сирус в последний раз промелькнули перед его полными нетерпения глазами. Его превосходительство решил не принимать никаких мер для освобождения от военной службы этого маменькиного сынка, бездельника Сируса. Пусть барчука забреют в солдаты, а когда он пробудет две-три недельки в казарме, эта самая Вида, которая не одного молодого человека подводила к самому источнику и возвращала обратно, не дав утолить жажду, Вида, которая сегодня с гордостью и без малейшего чувства смущения демонстрирует перед всеми свои прелести, но никому не даёт дотронуться до них, проливая слёзы и разрывая в клочья одежду, будет просить его за Сируса. Вот тогда-то его превосходительство не отвергнет её мольбы.
От этой мысли в глазах его превосходительства появился какой-то особый блеск. Он ещё раз подкрутил усы, поправил волосы на голове, сухо кашлянул, взялся за бронзовый наконечник аксельбанта и направился в соседнюю комнату, где его ожидали военные атташе дружественных держав. В этот вечер его превосходительство, сжигаемый страстью к Виде, в ожидании осуществления намеченного им плана проиграл военным атташе дружественных держав тысячу семьсот туманов наличными. Для того чтобы компенсировать эту неудачу, он завтра же накинет по одному туману на арендную плату во всех своих домах, находящихся на проспекте Юсеф-абад.
В тот самый момент, когда его превосходительство корпусной генерал Зармади прикупал карты и сдавал литые жетоны, стук которых был слышен даже в двух соседних комнатах, когда каждый из гостей был занят своим делом и готовил новые козни и интриги, советник американского посольства по делам иранских племён усиленно старался избавиться от господина Дельбана, весьма уважаемого депутата парламента и редактора уникальной, необыкновенно иллюстрированной, этической, литературной, религиозной и социальной газеты «Шемиране Мосаввар», а также директора зрелищного предприятия «Шемиран», поистине заслуживающего посещения. Но, увы, старания его были бесплодны. Это порождение тегеранской политики было настолько избалованным, капризным и навязчивым существом, что какому-то советнику посольства заокеанской страны при всей его наглости и опытности не так-то легко было от него отделаться.
Господин редактор в синем полосатом костюме «круа— не», с пёстрым галстуком в красную и ярко-зелёную полоску, с чёрными напомаженными и прилизанными волосами, стоял против господина советника и своим нудным, слащавым голосом, которым он, казалось, всегда назойливо старался влезть в душу каждого, вёл бесконечный и бессмысленный разговор.
Мистер Духр понимал, что его собеседник слишком уважаем и слишком близок к сильным мира сего, чтобы от него можно было отделаться, не обеспечив ему по крайней мере часовую аудиенцию у мистера Дугласа, известного американского альпиниста, который ежегодно приезжает в Иран для совершения восхождений на вершины Демавенда, Арарата, Сеханда, Савалана, а иногда даже и Бахтиярских гор, но до сих пор не поднялся ещё никуда, кроме вершин лестниц тегеранских дворцов. Но вся беда заключалась в том, что мистер Дуглас сам лично обратился в те места, куда он должен был обратиться, и сговорился на своём красноречивом английском языке с теми, для сговора с которыми он приехал, и поэтому не нуждался в посреднике.
Мистеру Духру было известно, что этот симпатичный юноша с красивыми глазами и бровями, являющийся в настоящее время наилучшей отмычкой к дневным и ночным замкам Тегерана, с того самого дня, как он начал свою карьеру в Исфахане с должности курьера в учреждении, которым он теперь руководит, всегда был любимчиком какого-нибудь влиятельного лица и самым способным его учеником в политических делах. Мистер Духр был прекрасно осведомлён, что этот молодой человек — самый бесстрашный и самый наглый воротила во всех делах, будь то сцена театра, трибуна парламента или какая— либо другая арена, куда не имеют доступа даже ближайшие друзья самого пророка. Однако мистер Духр опасался, что мистер Дуглас больше не нуждается в посреднике. Если теперь прибегнуть к помощи посредников, они, чего доброго, ещё расстроят всё дело или противная сторона, решив, что мистер Дуглас посылкой посредника хочет увильнуть от сделки, сама откажется от неё. Поэтому и коммерческая и политическая целесообразность диктуют, чтобы он не попадался в эту ловушку. Однако мистер Духр боялся, что, несмотря на врождённое и благоприобретённое умение лгать, он не сможет соврать так, чтобы его словам поверил этот уважаемый депутат меджлиса, который на протяжении многих лет на театральной сцене, на страницах газеты, в меджлисе и в интимном кругу друзей сам ловко обманывает других.
Короче, ему ничего не оставалось, кроме как продолжать этот бесконечный нудный разговор о позавчерашней речи господина депутата меджлиса, о его статье в одном из последних номеров газеты, о премьере спектакля, где господин депутат исполняет роль карманщика, и ждать, пока господь бог не пошлёт ему избавителя или же ему самому не удастся мимикой и жестами привлечь внимание кого-либо из сотни гостей, находящихся в гостиной, и тот, проявив политическое чутьё, избавит его от этого, всеобщего любимчика.
Наконец появился проблеск надежды. Этот ниспосланный небесами проблеск пока ещё маячил где-то вдали. Господин доктор Али Акбар Дипломаси — всемирно известный учёный, специалист по педагогике, единственный человек, который смог на этом воровском базаре обманывать американцев руками англичан и англичан руками американцев, — вдруг вырос перед его глазами, словно гриб из-под земли. Этот уважаемый господин приближался к ним с другого конца гостиной плечом к плечу с доктором Музани, крупнейшим учёным современности — специалистом по вопросам культуры и бессменным депутатом меджлиса от города Махаллата. Доктор Музани шёл медленно, понурив голову, напоминая собой финиковую пальму, поникшую от тяжести плодов, или человека, ещё сохранившего остатки совести. Господин Али Акбар Дипломаси, склонившись к уху уважаемого представителя народа, развивал ему последний, научно и технически разработанный план протаскивания нового законопроекта через меджлис.
Мистер Духр сразу понял, что никто, кроме этого философа, который столько повидал на своём веку, побывал во всех частях света, ездил и в Европу и в Америку, прочитал даже несколько книг и выдержал тысячу испытаний в различных делах, требующих большой ловкости, а также стал благодаря своему знатному имени одним из ведущих политических деятелей, не избавит его от цепких лап господина редактора. Конечно же, только господин доктор Али Акбар Дипломаси, этот, с позволения сказать, и учёный, и литератор, и артист, разбирается во всех областях политики, журналистики и театра, в том, о чём сейчас болтает уважаемый редактор.
Да и кому же, как не ему, доктору Дипломаси, знать, что такое журнальная статья, театр и хорошо произнесённая речь? Разве в этих вопросах понимает что-нибудь косноязычный доктор Тейэби, или бестолковый Алак Бедани, или неотёсанный Джавал Аммамеи, которому непрерывное курение и болтовня о высоких материях не дают возможности заниматься каким-либо другим делом?
Как только эти два доктора-политикана приблизились к мистеру Духру, он на своём весьма оригинальном персидском говоре, изобретённом покойным доктором Журденом, который в течение пятидесяти лет произносил на нём проповеди в церкви евангелистов, обратился к господину ректору университета и сказал:
— Кашподин доктор, фи шитали штатью кашподина редактора в журнале «Шемиране Мосаввар»?
— Какую статью вы изволите иметь в виду?
— Штатью «За штальным занавешом».
— Ну, конечно! Разве найдётся хоть один человек, который бы её не прочитал?
— Какофо мнение фашего префошходительштва?
— О, это в самом деле шедевр!
— Расфе фы ф академии наук не предлошили предштавить её к премии? Не думаете ли фы, что кашподин доштоин того, чтобы ему пришфоили зфание почётного доктора литературы?
Тут господин доктор Али Акбар Дипломаси со свойственным ему коварством, благодаря которому он всегда одним выстрелом убивал сразу двух зайцев и даже во время шутки стремился уколоть и живого и мёртвого, весь мир и всё человечество, не удержался и с лицемерной улыбкой, как бы шутя, сказал:
— Нам нет необходимости делать это. Он может, как и другие, в особенности некоторые его коллеги журналисты, которые именуют себя докторами, сам назваться доктором. Ведь он же им ни в чём не уступает.
— Ей-боху, я не иранец, но от фсех иранцев я шлышал, што они полушают ишклюшительное нашлаждение от чтения этой штатьи.
Господин Дельбан, уважаемый депутат от города Хал— хала, редактор журнала «Шемиране Мосаввар» и директор зрелищного предприятия «Шемираи», прищурив глаза, сказал:
— Помилуйте, мистер Духр.
— Нет, не подумайте, што это комплимент, я гофорю истинную прафду. Фы знаете, мы, американцы, никогда не лжём.
Господин доктор Али Акбар Дипломаси снова с коварной улыбкой сказал:
— Помилуй бог.
Господин доктор Музани не желал ударить лицом в грязь. Считая, что у него нет оснований хранить молчание в присутствии какого-то ректора университета и какого-то уважаемого депутата парламента, журналиста и актёра, а также какого-то советника посольства заатлантической державы, он тоже вмешался в разговор:
— В особенности в серьёзных вопросах, как, например, эта необычайно важная статья, которую господин Дельбан напечатал в журнале «Шемиране Мосаввар».
Едва уста уважаемого депутата от Махаллата произнесли последние слова, как его ноги, прочно удерживавшие грузное тело, подкосились, и, если бы все три его собеседника сразу не подхватили его под руки, почтенный нос господина депутата коснулся бы разостланного на полу ковра господина Доулатдуста, приобретённого им по цене двести туманов за метр.
Уважаемый депутат не был повинен в этом инциденте. Он стоял спиной к танцующим и не видел, как хозяйка дома ханум Доулатдуст, с наслаждением покачиваясь в ритме танца в объятиях Хушанга Сарджуи-заде, налетела на него всей мощью своей огромной туши.
Разве можно в том, что господин депутат потерял равновесие, обвинить ханум Доулатдуст? Во-первых, всякий, кто в пятьдесят лет, да ещё с такой фигурой, учится танцевать, безусловно, не может научиться этому лучше нашей дорогой Нахид, а во-вторых, проклятый Хушанг очень хотел в присутствии нескольких сот человек уважаемых гостей, военных и штатских, политических и неполитических воротил, государственных и негосударственных служащих, национальных и ненациональных деятелей продемонстрировать свою привязанность к звезде и царице красоты сегодняшнего бала, к хозяйке дома, имя которой не сходило с уст гостей, показать свою интимную близость с ней. Худой и тщедушный, он прилагал все усилия к тому, чтобы вращать в танце эту необыкновенно моложавую, прекрасно сложенную и очень красивую женщину, и упустил из виду, что у его дамы может закружиться голова и, когда они приблизятся к самым стройным и твёрдо стоящим на ногах, к самым солидным депутатам иранского народа, она может нечаянно толкнуть их. Итак, если бы мистер Духр, высокопоставленный представитель американского посольства, вместе с депутатом, журналистом и достойным артистом, а также с ректором университета, доктором педагогики, не подхватили вовремя под руки этот тяжелейший столп иранского конституционализма, он растянулся бы на полу, а это означало бы грандиозный скандал. Но не успели они отпустить руки уважаемого депутата, как вновь произошло столкновение. Дивизионный генерал Меджази, весьма благовоспитанный, скромный и доблестный офицер иранской армии, с которого спала спесь после его последней поездки в Лондон и который в связи с этим согласился танцевать с мадам Норвежи, супругой начальника главного управления пропаганды, в вихре танца с военной бесцеремонностью столкнул покрытую крепдешином спину сасанидской принцессы, рождённой в Норвегии, с согбенной под грузом учёности спиной ректора университета.
На этот раз уважаемый депутат от Махаллата был вынужден поспешить на выручку своему начальнику, и, как и в меджлисе, где он неоднократно, словно щитом, закрывал его своей грудью, здесь, на балу, он взял на себя ту же миссию.
Генерал Меджази ещё никогда в жизни не попадал в такой сложный переплёт. Этот самый красивый и пронырливый офицер иранской армии, сумевший обвести вокруг пальца даже наиболее опытных своих коллег, офицер, который может не только вызвать змею из норы, но и заставить её влезть обратно в нору да ещё прочитать вслед ей фатеху[77] из корана, уже давно таит в сердце особую печаль. Со дня возвращения из Лондона он не раз ломал себе голову, почему господин в очках, супруг мадам Норвежи, пользуется у сильных мира сего по сравнению с ним, генералом Меджази, большим покровительством. Прежде, пока ему не пришлось столкнуться с этим бывшим гитлеровцем и теперешним демократом, самым любимым и приближённым к ним человеком он считал себя, теперь же, когда этот ловкий и расторопный господин снова появился на горизонте и ловко опередил самых опытных дельцов, оставив далеко позади себя и его превосходительство, у бедного дивизионного генерала нет иного выхода, как любым способом раскрыть секрет успеха этого выскочки и самому применить его тактику. Его наставники, у которых он учился многие годы, всегда говорили ему, что к людям, в которых ты нуждаешься, надо относиться очень предупредительно но, как только нужда миновала, можно не обращать на них никакого внимания и даже сделать вид, что незнаком с ними. Исходя из этого принципа, его превосходительство улучил удобный момент и решил протанцевать с мадам Норвежи, супруг которой, вероятно, будет назначен премьер-министром. Он надеялся, что ему удастся во время танца усыпить бдительность мадам и выудить у неё секрет успеха её бесцеремонного, наглого супруга. Лучше всего повести дело так, чтобы мадам начала разговор сама, а он бы своими ответами расположил её к себе и затем выведал у неё всё, что его интересует. Однако он упустил из виду, что уважаемая мадам Норвежи — воспитанница той самой школы, в которой получил воспитание её дорогой муж, и если во время учёбы она упустила что-то, то он за двадцать лет совместной жизни устранил эти дефекты в её образовании. Его превосходительство не знал, что его южные друзья — англичане, несмотря на всё доверие, которое они, возможно, к нему питали, всё-таки где-то в тайниках души не доверяют ему и боятся, что он кое-что от них утаил. А зря. Как бы там ни было, но господин гитлеровец не является своим человеком среди военных и не знает, какие удивительные планы начертаны в отношении Ирана в заокеанской стране. Его превосходительство дивизионный генерал, конечно же, больше в курсе дела. И будет совсем неплохо, если эта красивая дама потанцует с ним и прижмёт свою грудь к богатырской груди знаменитого полководца. Пусть она склонит свои светлые волосы к его мужественному, очень мужественному лбу, и, как только ему удастся пробить брешь в её сердце, он специальным пинцетом начнёт вытягивать из этого нежного, мягкого, как воск, и жгучего, как огонь, сердца накопленные там тайны.
Облачённые в шелка телеса мадам Норвежи прикоснулись к тонкой, как волос, пояснице ректора университета как раз в тот момент, когда она задавала дивизионному генералу наиболее интересующий её вопрос:
— Неужели вы думаете, что этот план будет иметь решающее значение?
— Конечно, мадам. Совершенно очевидно, что мы не можем вести войну открыто, честно и мужественно выйти на поле сражения.
— А как же вы поступите?
— Очень просто. Мы займём позиции на перевалах, на извилинах дорог, в горных проходах, пошлём туда преданных солдат с пулемётами и гранатами, — этим нас американцы обеспечили — дадим им приказ держаться до последней капли крови, а сами тем временем подумаем, как выйти из создавшегося положения.
— Но ведь вы сами прекрасно понимаете, ваше превосходительство, что при современных средствах ведения войны это бессмысленное дело. Теперешние войны — не такие, как были десять-пятнадцать лет назад, когда оборона горных перевалов и дорог имела значение. Разве могут солдаты противостоять танкам, самолётам и другой технике?
— Да, ханум, вы правы, но, как я вам уже сказал, ни мы, ни наши американские друзья не намереваемся вести настоящую войну. Мы просто хотим как можно дольше задержать продвижение противника — день, час, даже минута для нас очень важны.
— Но, милый генерал, в чём же провинились эти несчастные юноши, которых вы собираетесь так безжалостно погубить?
— А что нам жизнь этих юношей, мадам! Нам надо лишь выиграть время, чтобы собрать свои пожитки, погрузить их в южном порту на пароход и уехать на край света.
— Ах вот как! Так почему же вы не уезжаете сейчас?
— Во-первых, потому, что война ещё не началась и, может быть, бог даст, никогда не начнётся, а во-вторых, у нас пока нет оснований отказываться от той жизни, которую мы здесь ведём, и покидать дорогую, милую нашему сердцу страну, благами которой мы пользуемся.
— Хорошо, милый генерал, но неужели вы думаете, что ваш противник настолько глуп и неопытен, что даст вам возможность собрать свои пожитки и спокойно направиться в Америку?
— Друзья нам обещали спасти всё, чем мы располагаем.
— Мне жаль вас, вы так наивны и простодушны. Если вы ещё не знаете этих американцев, то мы их очень хорошо узнали. Уверяю вас, случись что-нибудь — и их посол, члены посольства и советники, все они со своими чемоданами и собаками тайком сядут на самолёты и пустятся наутёк. Только после их благополучного прибытия в. пункт назначения об этом сообщит американское радио. Если вы выскажете своё недовольство, они, возможно, даже выразят вам сожаление, но скорее всего свалят всю вину на вас самих и скажут: «Они нас продали и лишили нас возможности их защищать».
Когда мадам произнесла эти слова, оркестр умолк. Мадам сняла свою руку с плеча дивизионного генерала, достала из белой замшевой сумочки платок, непринуждённо вытерла с лица пот и удалилась от его превосходительства, не обращая больше на него никакого внимания, как будто она не танцевала и даже незнакома с ним.
Его превосходительство очнулся только тогда, когда уяснил себе, что его обвели вокруг пальца. Эта кокетливая дама, несмотря на его опытность, ловко выудила у него всё, что ей было нужно, не сказав ему ни одного лишнего слова. Она даже не дала ему возможности задать ей интересующий его вопрос. Теперь его превосходительство знал наверняка, что, если сегодня он ещё сто раз подойдёт к этой даме, пригласит её танцевать и захочет возобновить с ней беседу, она будет изворачиваться, но в ловушку не попадёт и, как уж, выскользнет из его рук. Теперь-то он понял, в чём заключается превосходство над ним господи на гитлеровца в очках, ставшего ныне демократом. Уж если даже его жена так опытна в делах, можно представить себе, каков её воспитатель. И его превосходительство в душе поклялся богом пока остерегаться этого господина гитлеровца, но когда-нибудь и самому достигнуть его высокого мастерства.
Да благословит господь Фарибарза Доулатдуста, сына хозяина дома, что в этот момент он вышел из соседней комнаты и, рассекая ряды гостей, стремительно подошёл к его превосходительству дивизионному генералу.
— Горбан! Можно вас на два слова?
Его превосходительство, высоко подняв голову, сухо ответил:
— Прошу вас, пожалуйста, я к вашим услугам.
— Наш Хушанг, который известен вам…
— О каком Хушанге вы изволите говорить?
— О Хужанге Сарджуи-заде, секретаре мамаши.
— А! Об этом юноше, который сейчас прошёл мимо нас с бокалами вина на подносе?
— Да, горбан.
— Он производит впечатление неплохого парня. Он что, близкий родственник ханум?
— Нет, он секретарь мамаши.
— Да что вы? Разве ханум неграмотна?
— Нет, она грамотная, но она не успевает управляться со всеми делами. Ведь вы, ваше превосходительство, прекрасно знаете, сколько у неё всяких забот.
— Ну, в этом я не сомневаюсь. Судя по тому, кто приглашён на сегодняшний вечер, можно заключить, что в этом городе с вами не ведёт знакомства только Хасриз Ширази.
— Горбан, я хотел, вам сказать, что мамаша очень привязана к этому Хушангу.
— Да, я тоже что-то слышал по этому поводу.
— Так вот, мы все просим ваше превосходительство уделить ему немного внимания.
— А что, разве он призывник?
— Нет, горбан, он тут попал в небольшую передрягу…
— Где?
— В двух-трёх местах. Во-первых, у него судимость по министерству юстиции. Он совершил с одним человеком сделку, а тот заявил, будто Хушанг получил от него какой-то товар якобы для благотворительного общества и продал этот товар. Теперь его осудили на три года.
— Ну, ладно, это уладить не так уж сложно. Такое может случиться с каждым из нас. Пусть он подаст кассационную жалобу, я сам поручу судье, прокурору, министру юстиции или заместителю министра, чтобы они отменили решение суда.
— Горбан, всё это мы уже сделали. Но разве можно что-нибудь вбить в головы голодных ахундов! Они упёрлись на своём и требуют, чтобы этот невинный младенец был посажен в тюрьму. Ну, скажите ради бога, разве можно допустить что-либо подобное? Поверьте моему слову, если это случится, то по крайней мере сто женщин из лучших тегеранских фамилий покончат жизнь самоубийством. И первой, я уверен, примет опиум моя мамаша.
— Ну, хорошо, что же вы хотите, чтобы я сделал?
— Горбан, дайте указание, чтобы приказ о его аресте не приводили в исполнение.
— Как же это возможно? Журналисты и несколько бессовестных депутатов, которые засели в меджлисе, не дадут мне покоя. Они же ославят меня.
— С журналистами мы сами управимся. Мамаша отложила для этой цели свой выигрыш от покера — она играла у господина Бадпуза. Пока что двести-триста туманов из этой суммы мы распределили между газетами «Гиямат», «Машхаре Кобра», «Чомаге Такфир», «Занджире Асарат» и еженедельным журналом «Джаханнам Дарре».
— Отлично, отлично, продолжайте в том же духе.
— Помимо этого, я прошу вас лично не обойти бедного Хушанга своей милостью.
— Что же я должен сделать?
— Прикажите, чтобы сейчас повременили с его арестом.
— Да, но это же не зависит от меня. Я могу сказать, а органы юстиции со мной не согласятся.
— Вы дайте указания тому агенту, который придёт по поручению органов юстиции.
— Но ведь на это нужно иметь законные основания.
— Какие законные основания могут быть сильнее, чем болезнь?
— Милый мой, неужели этот симпатичный юноша, который разносит сейчас здесь коньяк и виски, болен?
— О, почему ваше превосходительство так недоброжелательны по отношению к нему? Этот юноша болен, и сейчас у него в кармане лежит официальная справка об этом за подписью министра здравоохранения. Её только полчаса назад мамаша получила у господина министра.
— Вот это очень важный документ. Не говоря уже обо мне, если бы его увидел даже сам Анушираван Справедливый[78], то и он вынужден был бы признать его.
— Очень вам благодарен. Теперь у меня к вам вторая просьба.
— Пожалуйста.
— На Хушанга завели ещё одно дело: утверждают, якобы он с несколькими иностранцами занимался фотографированием и выведыванием каких-то сведений в районах расположения воинских частей. Клянусь вашей благословенной жизнью, все эти обвинения совершенно необоснованны. К таким делам этот юноша абсолютно непричастен. Его так осаждают девушки, что ему некогда причесаться, а когда у него выпадает свободная минутка, мамаша затаскивает его в спальню, запирает дверь и они по четыре часа, а иногда и до самого утра сидят за книгами и расчётами. И вы не представляете себе, как этот несчастный юноша, словно камыш от кальяна, худеет и желтеет от бессонных ночей, проведённых за сложением и вычитанием. Где уж ему найти время ходить с американцами по горам и оврагам! К тому же он не знает ни одного слова по-английски.
— Да, но это же не довод. Кроме того, начальником второго управления штаба армии назначили какого-то нового человека и, когда он разберётся во всех делах, будет слишком поздно. Я же считаю нецелесообразным для себя впутываться в это.
— Но ведь вы сами прекрасно знаете, ваше превосходительство, что американцы в пашей стране не нуждаются в гидах и посредниках, в особенности в вопросах, касающихся военных тайн. Всё это и так находится в их руках.
— Господин Фарибарз-хан, я прошу вас не позволять себе дерзости в отношении высших властей. Такие заявления недостойны ни меня, ни вас. Не наше дело обсуждать вопросы, затрагивающие высшие интересы страны. Нашей десятитысячелетней независимости угрожает опасность, и наш долг — всячески защитить и сохранить отечество. А эти господа полны доброй воли.
— Ну, конечно, конечно, против этого я не возражаю, я только хотел, чтобы вы спасли бедного юношу от грозящих ему неприятностей.
— Какие неприятности? Разве это неприятности?!
— С тех пор как стало известно об аресте, он не имеет покоя ни днём, ни ночью.
Тут его превосходительство дивизионный генерал Меджази широко расставил ноги и разразился безумным хохотом.
— Ну и ну, господин Фарибарз-хан, вы что, хотите обмануть ребёнка? Я и вы — мы оба прекрасно знаем, что если будет доказано, что он занимался шпионажем через две-три недели наш милый друг обскачет всех нас. Наше несчастье именно в том и состоит, что мы не являемся официальными шпионами, иначе наши дела были бы значительно лучше, чем теперь. Очень хорошо, что вы мне сказали, с кем он ходил. Теперь нам легко удастся замять эту историю. От моего имени передайте ему: пусть он попросит тех людей, с которыми ходил в горы, чтобы они активно вмешались в его дело. С такими связями, как у него, не он нуждается в нас с вами, а скорее мы с вами будем нуждаться в нём.
— Теперь у меня к вам третья просьба.
— Пожалуйста, я всей душой готов служить вам.
— Несколько дней назад наш несчастный Хушанг шёл следом за девушкой, которая возвращалась из школы, и так проводил её до дома. У двери дома отец девушки, какой-то неотёсанный дикарь, полагая, видимо, что всё ещё продолжается эпоха феодализма и бесправия, схватив палку, налетел на этого тщедушного, хилого юношу, которого достаточно схватить за нос, чтобы он отдал богу душу, и отдубасил его.
— Странно, что такие дикари всё ещё встречаются в стране шахиншаха.
— Да, горбан, этот грубый мужлан не оставил у бедного юноши ни одного целого ребра.
— Я официально выражаю вам соболезнование от имени главного управления полиции. Если вы разрешите, я сейчас же скажу одному из депутатов, сторонников правительства, чтобы в четверг на заседании меджлиса он сделал по этому поводу запрос правительству.
— Это мы уже сделали сами. Господин Алак Бедани взял эту миссию на себя. У нас к вашему превосходительству просьба другого порядка…
— Пожалуйста, пожалуйста, я с большим удовольствием…
— Прикажите начальнику полицейского участка, чтобы он на несколько часов арестовал отца той девушки. Во-первых, этот мужлан позволил себе учинить дебош в общественном месте, а во-вторых, он грубо обругал благовоспитанного молодого человека, знающего иностранные языки, известного всему дипломатическому корпусу Тегерана, молодого человека, который по. крайней мере десять рад играл в бридж с самим господином английским послом и несколько раз фотографировал его с теннисистами и игроками в пинг-понг с проспектов Шах-Реза и Дербенд, и эти фотографии были помещены на первых страницах газет; в-третьих, сам факт, что этот дикарь пустил в ход кулаки, пинал несчастного ногами, бил палкой, несомненно, является признаком его преступности. Необходимо призвать хулигана к порядку.
— Хорошо. Я дам указание, чтобы на него завели дело по обвинению в оскорблении должностного лица при исполнении служебных обязанностей.
— Вот это будет превосходно. Кстати, я упустил из виду одну деталь: пожалуйста, прикажите записать в протокол, что этот хулиган обругал площадной бранью постового полицейского номер 48596. И ещё матушка поручила мне передать вам, что дело вашей сестры улажено. Председатель суда дал слово потребовать у её мужа развода, а также обещал принять во внимание свидетельские показания, подтверждающие, что он подарил вашей сестре дом и что дарственная запись съедена термитами.
— Я очень благодарен вашей матушке, я был уверен, что она не преминет оказать любезность людям, так расположенным к ней.
Сказав это, его превосходительство дивизионный генерал, опьянённый успехом, засунул указательный палец между второй и третьей пуговицами мундира, на уровне орденских планок, символов благодарности разных государств, и неспеша направился в кабинет хозяина дома, которого с особым рвением атаковали гости.
Мадам Нахид Доулатдуст на этот раз не пожалела денег для приёма гостей. Всё было ею предусмотрено. Огромный овальный стол и несколько небольших столов, взятые напрокат из бара «Мина» на проспекте Шах-Реза, были установлены в гостиной. За ними на небольшом столике рядом с бокалами и рюмками стояли тридцать-сорок бутылок со спиртными напитками, начиная с разных сортов водки и кончая самыми изысканными винами, виски и джином. Мадам Нахид Доулатдуст сегодня даже великодушно оставила Хушанга, приказав ему встречать своих высоких гостей.
Накинув на шею тесьму от белого, не первой свежести фартука и повязав его на талии, Омм-ол-Банин с затёртым кухонным полотенцем на плече проворно мыла в тазике с грязной, бурого цвета водой бокалы, из которых, по её выражению, гости пили змеиный яд. Она доставала бокалы из тазика, быстро вытирала их грязным полотенцем и подавала Хушангу Сарджуи-заде.
Мехри Борунпарвар стояла в углу гостиной под безвкусной олеографией, вставленной в выцветшую заграничную рамку с запылённым стеклом, на которой были грубо намалёваны персики и гроздь винограда.
Господин Джавал Аммамеи, с рюмкой виски в руке и сигаретой в зубах, то и дело пускал дым прямо в лицо несчастной Мехри и при этом был уверен, что он любезно ухаживает за ней. Говорил он высокопарно и вместе с тем позволял себе грубость, бахвальство и ложь, слова произносил как-то по-особому, без конца, иногда совсем не к месту вставлял французские словечки. Он говорил ей:
— Хотя вы и не особенно красивы, но ваше кокетри мне очень нравится, и я готов купить вам кадо[79].
— Вы очень любезны, господин Аммамеи, но давайте пока воздержимся от этого.
— Нет, нет, мадам, в самое ближайшее время истекает срок полномочий междлиса, и я на некоторое время поеду в Лавасан. Когда же урны с бюллетенями привезут в Тегеран, я несколько дней, до открытия меджлиса и утверждения моего мандата, буду свободен и готов наслаждаться вашими прелестями. Другого амюземан[80] я не имею.
— Вот так кавалер, что б ты скорее провалился в могилу!
— Ну чем же я плохо ухаживаю, мадам? На французском языке это называется флиртом.
— Да будут посыпаны пеплом ваши головы. Вы, европейцы, думаете, что таким способом можно завладеть сердцем женщины?
— Не будьте так нелюбезны, ханум. Я вчера получил от вашего супруга письмо из Шираза. Он просит перевести его в финансовое управление Тебриза. Я дал ему положительный ответ и хотел сегодня вечером, переговорив с министром финансов, уладить его дело и сообщить вам радостную весть.
Услышав это, Мехри изменила тон.
— Я очень благодарна вам за любезность. Но ведь, как говорится, красавицы дают тысячу обещаний и ни одного из них не выполняют.
Господин Джавал Аммамеи раскатисто рассмеялся, потом два раза затянулся сигаретой, допил виски, откашлялся, выпятил грудь и с кривой улыбкой, которая появлялась на его губах раз в сто лет, приблизил к чёрным крашеным волосам Мехри своё раскрасневшееся лицо и лысую голову — на ней торчали лишь несколько волосков, тщательно перекинутых с одной стороны головы на другую, — и, бесцеремонно положив свои руки на талию Мехри, игриво сказал:
— Да, ханум, ведь неспроста ваш незаконнорождённый супруг Таги Борунпарвар является сейчас начальником финансового управления такой важной провинции, как родина Саади. Если бы вы знали, какую дружбу вёл со мной этот щенок, когда мы учились в школе!
— Почему вы думаете, что я не знаю? Он мне рассказывал об этом.
— Да упокоит господь душу покойного имама. В те времена, когда мы жили в доме умершего Рокн-од-Доуле возле водоразборной колонки Ноуруз-хана, покойный имам читал там проповеди. В первые десять дней ашура, когда мы приглашали проповедника, Таги постоянно слонялся поблизости. Вечером, как только проповедь кончалась и женщины начинали расходиться, я и Таги пускались за ними.
— Да проклянёт вас господь, разве подобные собрания подходящее место для любовных интрижек?
— Ну, полно, неужели вы забыли, что Таги познакомился с вами как раз там?
— Господи, пусть у него отсохнет язык! Ах ты осёл! Моя надежда, что ты хоть когда-нибудь станешь человеком, так и не сбылась. Ну, можно ли заводить такие разговоры при посторонних?
— Да падёт прах на мою голову, я совсем забыл, что ваша дочь Хаида здесь и наблюдает за нами.
— Это как раз не так важно. Когда она с Фарибарзом, то, если даже на неё обрушится потолок, она этого не заметит.
— Итак, теперь, когда мы уладили дела Таги, у вас есть ещё какие-нибудь претензии? Может, мы ещё должны вам дать кое-что наличными?
Мадам Мехри Борунпарвар призадумалась. Эта Хаида, чтоб ей провалиться, с каждым днём транжирит всё больше денег, а ведь счастье начальников финансовых управлений переменчиво: прослужив два-три месяца в каком-нибудь городе, они попадают в затруднительное положение. Один раз им удаётся обобрать в своей округе всех, одного за другим, словно бусинки чёток, но после этого они уже не имеют никаких доходов и им приходится добиваться перевода куда-нибудь на новое место, где можно было бы таким же способом снова набить свою мошну. И, пока этот грубый и наглый осёл пользуется влиянием в государственном аппарате, пока он единственный человек, который может обеспечить Таги доходное местечко, стоит ли пренебрегать им, несмотря на отвращение, которое она к нему питает? На толстых губах Мехри-ханум появилась деланная улыбка. Она взяла руки господина депутата меджлиса и уважаемого министра, которые покоились на её талии, в свои, сложила бантиком губы, прищурила глаза и с каким-то верблюжьим кокетством склонила свою голову к его расплывшемуся, изъеденному оспой, самодовольному лицу.
— Ах, милый мой мешок[81], ты ведь всё знаешь. Господь бог свидетель, я уже давно тоскую по твоей ласке, по твоим нежным словам, которые обжигают сердце.
— Да мне и Таги писал, чтобы в его отсутствие я развлекал тебя и не давал тебе тосковать.
— Какой он нежный, любящий супруг! Это не муж, а драгоценный камень, у него ума и такта хватит на весь мир.
— Конечно, он выше всяких похвал. Его можно сравнить только с луной. Да и как не любить человека, у которого такая прелестная жена, как вы!
Мехри снова прищурила глаза и сложила бантиком губы, крепче сжала своими пухлыми пальцами руки уважаемого депутата меджлиса, бросила на него ещё более томный взгляд и приблизила своё лицо к лицу депутата.
— Милый мой мешок, ты же знаешь, я несчастная женщина. Другие женщины разбалтывают свои тайны, я же мучаюсь и терплю молча. Я не хочу клясться жизнью Хаиды, но клянусь тебе жизнью Фарибарза Доулатдуста, который для меня дороже зеницы ока, что сердце моё замирает от твоих ласковых слов.
Депутат меджлиса и уважаемый министр напыжился, напустил на себя ещё большую важность и, самодовольно рассмеявшись, сказал:
— Ну, вот видишь, дрянь ты этакая, наконец мы друг друга поняли. Завтра вечером приготовишь для меня индейку пожирнее и чтобы там никакие Хаиды-Маиды и Фарибарзы-Марибарзы нам не мешали. Я хочу наплевать на все дела и немножко развлечься. Ты поняла, дорогое моё сокровище? А что касается Таги, я сейчас же всё улажу.
Господин уважаемый депутат меджлиса и министр круто повернулся и, словно огнедышащий дракон, храпя, подошёл к высокому столу, стоявшему перед баром, у которого с рюмкой в руке, облокотясь на край стола, стоял господин министр финансов, поглощённый беседой с Махин Фаразджуй.
Махин особенно выделялась в этой компании. Она была ещё более лживой, чем все остальные, и в этом обществе, где все лгали друг другу и каждый старался обмануть другого, было наглядно видно, каким большим уважением пользуется человек, подобный Махин, который может дать своим партнёрам много очков вперёд.
Махин была единственным человеком, который умел держать в руках всех министров конца эпохи диктатуры[82] и всей «эпохи демократии». С того момента, как эта женщина появилась на политической арене и впервые добилась своего, и до сегодняшнего дня в каждом деле чувствовалась её рука. Только политические слепцы, погрязшие в корысти и алчности, казалось, надели на глаза толстые шоры и не видели её подлинного лица.
В этот вечер Махин была одета в чёрную юбку из тафты и белую, с мелкими цветами, парчовую блузку без рукавов и с декольте. Густые чёрные волосы Махин спускались на спину, и те, кто был посвящён в её тайны, знали, что ими она искусно прикрывает следы от кровососных банок. Она опустила на лоб ровно подрезанную чолку, ибо слыхала, что Жанна д’Арк носила такую же, и считала, что эта причёска придаёт человеку невинный и целомудренный вид.
Любимый муж Махин, который обошёл уже все министерства и некоторое время даже украшал своей персоной министерство здравоохранения и министерство сельского хозяйства, за последнее время успел уже сменить около дюжины постов начальников главных управлений министерства финансов Ирана. В тот день, когда господин Али Фаразджуй прибыл из захолустной провинции в Тегеран, его звали просто Сафаром Али. Мать его тогда поступила прислугой в дом одного из продавцов каламкаров 1 в караван-сарае Амира, а сына своего пристроила там же мальчиком на побегушках.
Слепой купец Хаджи Али Ахмед славился на базаре тем, что торговал только исфаханскими каламкарами[83] и гязью[84]. И это в то время, когда все его коллеги богатели на торговле другими товарами! Главным источником доходов Али Ахмеда была торговля гязью, каждая коробка которой обходилась ему в пять кранов, а он продавал её за пять кранов и десять шаев. Он был таким поклонником всего старинного, что только один во всём Тегеране продолжал торговать синим и зелёным холстом, и сельские ахунды, которые всё ещё носили эту райскую одежду, если им нужно было купить холст, направлялись прямо в его магазин.
У хаджи было очень много внуков от сыновей и дочерей, и дом его был похож на курятник, полный цыплят — малых и больших, белых и чёрных, серых и коричневых. Сафар Али сразу же подружился с внуками купца и порой, когда тем удавалось стащить что-нибудь у своего деда, он сплавлял краденое. Вскоре он и сам стал воровать и на этой почве установил тесный контакт с самым бесчестным из внуков хаджи.
Сафару Али повезло; этот внук хаджи, которого звали Ага Хосейн Фариад-Хах, довольно успешно поднимался по служебной лестнице и был то уполномоченным министерства, то заместителем министра и даже председателем одного из созывов меджлиса. В те времена, когда он пользовался наибольшим влиянием и был одним из столпов новой монархии, посвящённых во все секреты государства, он всюду, словно слепого котёнка, таскал за собой своего старого товарища и соучастника по воровским делишкам Сафара Али. Он и назначил Сафара Али, бывшего тогда начальником отделения почты на базаре, на пост начальника главного управления министерства путей сообщения, так как тогда оно было самым захудалым министерством в государстве, и это назначение было делом несложным.
С тех пор Сафар Али, выходец из захолустной провинции, пошёл в гору. Кое-как он научился грамоте у домашнего учителя внуков хаджи и, выдумав себе вычурную подпись, с трудом, словно курица лапой, подписывал деловые бумаги. Все документы, выдававшиеся с припиской «с подлинным верно», подписывались им.
У Сафара Али была двоюродная сестра, которая родилась в той же самой захолустной провинции на два-три месяца позже его, и её покойный отец с особой гордостью назвал её Хаджар-хатун[85]. Хаджар, пухленькая, бледная девушка, в двенадцать лет была слишком опытна во всех явных и тайных вопросах любви и напоминала женщину, успевшую десять раз побывать замужем. Её мать после смерти первого мужа сменила трёх или четырёх мужей к наконец попала в цель, став официальной прачкой улицы Ала-од-Доуле, на которой в те времена жили все иностранцы.
Да упокоит господь душу бельгийца мосье Декеркера, начальника главного таможенного управления Ирана. Этот безграмотный, толстопузый человек был страшным обжорой, пьяницей и неряхой. Он каждый вечер опрокидывал на скатерть то тарелку супу, то бокал вина или чашку кофе, а если ему приходилось иногда бывать на банкетах в посольстве, то после этого надо было стирать и его простыню. Не было дня, чтобы он не посылал за матерью Хаджар-хатун. Поэтому её дела шли хорошо. Она поднакопила деньжонок и купила для Хаджар-хатун золотое и агатовое кольца и серьги.
Когда она изредка брала с собой в дом мосье Декеркера Хаджар-хатун, чтобы девочка сливала воду из лохани или принесла бы воды для самовара, у мосье Декеркера при виде этой пухленькой, смуглой деревенской девушки начинало трепетать сердце. Этот иностранец так мало встречал в жизни смуглых женщин, что был от неё без ума.
Хаджар-хатун много повидала на своём веку, и поймать её в ловушку было не так-то просто! Стоило мосье Декеркеру приблизиться к ней, как она сразу закрывала лицо чадор-намазом[86]. Она хихикала и всеми силами старалась завладеть сердцем этого толстого, безобразного иностранца.
Возбуждённый мосье не оставался в долгу. Иногда он давал ей ассигнации, иногда — мелкую монету или дарил какую-нибудь безделушку, чтобы под предлогом, будто он хочет положить их ей в карман, хоть немного приоткрыть чадор-намаз и увидеть густые брови, большие чёрные глаза, длинные ресницы, пухлые губки, подбородок и щёчки, которые скорее напоминали персики, и даже полюбоваться своими жадными, навыкате, глазами, выпуклостями только начинающей формироваться груди.
Постепенно Хаджар-хатун и её мать стали на ноги. И тут неожиданно Хаджар забеременела. Мать и дочь уцепились за мосье Декеркера, утверждая, что виновником является он. Несчастному бельгийцу не оставалось ничего другого, как откупиться от них. Он прекрасно помнил, как лет пятнадцать назад мосье Нёс, первый начальник главного таможенного управления и, даже больше того, министр таможен, почт и телеграфа, тоже бельгиец, был обвинён англичанами, ненавидевшими его за содействие русским, в оскорблении ислама. Вся вина его заключалась в том, что во время бала-маскарада он сфотографировался в чалме. Сыграв с Несом такую шутку, англичане пустили его по миру. На этот раз они могли бы точно так же подшутить над мосье Декеркером, преемником Неса. И мосье Декеркер был вынужден, не чувствуя за собой никакой вины, принять всё на себя и заплатить Хаджар-хатун и её матери солидный куш, лишь бы они молчали. Само собой разумеется, после этого случая он запретил им стирать бельё у него в доме.
Ребёнка, который родился у Хаджар-хатун, они уничтожили и стали думать, как бы полонить Сафара Али.
В наше время мужчины выбирают себе жён не за их целомудрие, а за их капитал, и что плохого, если чья-либо жена забеременеет от бельгийца мосье Декеркера, начальника главного таможенного управления Ирана? К тому же у женщины, которая имеет деньги и может содействовать быстрому продвижению мужа по служебной лестнице, не спрашивают, где она была вчера, а где не была. У неё спрашивают: каким капиталом ты обладаешь?
Этот самый вопрос задал и Сафар Али-хан. К тому же мосье Декеркер обещал, если Хаджар-хатун скоро выдадут замуж, порекомендовать её мужа своему соотечественнику мосье Молитеру, начальнику главного почтового управления, с тем чтобы тот назначил его на какой-нибудь пост. Тогда сам муж, заинтересованный в должности, заставит жену отказаться от дальнейших претензий к Декеркеру. Так Сафар Али-хан стал начальником почтового отделения на базаре. Вскоре этот расторопный молодой человек, который к тому времени уже располагал солидным капиталом, стал начальником ревизионного отдела опиумной монополии и умудрялся с каждой контрабандной трубки опиума и с каждого золотника сока опиумного мака получать кое-что в свою пользу. Так он значительно округлил свой капитал. Тогда он стал называть себя Али Фаразджуем и зарегистрировал это имя в книге актов гражданского состояния, а имя его дорогой супруги теперь было Махин Фаразджуй. В те дни господь бог наградил их сыном, которому, как символ благоденствия и счастья, они дали имя Сирус.
Люди, знающие Махин, эту ловкую авантюристку, даже не подозревают, сквозь какой огонь, воды и медные трубы прошла она, да и откуда она вообще появилась. Но если бы они и знали, путём каких махинаций удалось ей в молодости вырвать у мосье Декеркера деньги и ценности, они, пожалуй, и не удивились бы, ибо на этом суматошном, сумасшедшем базаре она ухитряется обирать самых бывалых политических воротил Тегерана и обманывать даже самое судьбу.
В этот вечер ханум Махин одержала ещё одну победу. Муж её вскоре должен был стать заместителем министра. Самый лёгкий и верный путь к достижению этой цели, решила она, — привести с собой на вечер в дом Нахид Доулатдуст, где будет полно мужчин, всегда готовых пофлиртовать, несколько молодых женщин, которые связаны с людьми, занимающими ответственные посты. Их присутствие принесёт пользу и гостям, и хозяевам дома, и, главное, самой Махин. Вот почему в этот вечер Махинханум была в центре всеобщего внимания. Даже мистер Духр не отходил от неё ни на шаг.
Махин с трудом отделалась от мистера Духра под предлогом, будто у неё очень важное дело к министру финансов, и занялась своими комбинациями. Стараясь любым способом привлечь внимание господина министра к своему мужу и министерству, в котором он должен стать заместителем министра, она в то же время следила в оба за молодой дамой, по имени Гити-ханум Азиз, которую окружала целая толпа самых осторожных людей из государственного аппарата.
Временами она взглядом издали указывала на Гити-ханум, как бы давая этим понять находящимся вблизи и в отдалении от неё гостям, что она находится с этой молодой женщиной в более близких отношениях, чем можно было предположить до сегодняшнего вечера, и что именно она явилась причиной её присутствия среди гостей.
Что касается самой Гити-ханум, то, хотя она и не была беспомощной и до сих пор прекрасно справлялась со своими делами сама, на сегодняшнем банкете она, по-видимому, устала от этой надоедливой толпы, которая не оставляла её в покое и требовала не только внимания к себе, но и улыбок. По её беспомощным, молящим о сострадании взглядам, которые она бросала в сторону Махин Фаразджуй, было ясно, что она молча взывает к ней: «О великодушная, избавь меня от этих нахальных мужчин!»
Мистер Духр развязно подошёл к Гити-ханум, взяв себе в наперсники господина Ага Хосейна Боланд Бала, носившего громкое прозвище Высочайший. Этот господин, которого повсюду восхваляли и возвеличивали, как бы в подтверждение поговорки «Не бывать плешивому кудрявым», был ростом всего лишь один метр и четыре сантиметра. Он несколько лет защищал высшие интересы Ирана в стране, расположенной по ту сторону океана, и только недавно вернулся из этой ответственной, исторической для Ирана, командировки.
Другими словами, там он предлагал американцам использовать территорию Ирана для осуществления тех целей, которые один аллах ведает, к чему приведут. Его красноречие на английском языке пока привело лишь к тому, что американцы в виде компенсации надавали ему ложных обещаний.
Сей политический, в полном смысле этого слова, как его понимают европейцы, деятель, несмотря на свои шестьдесят с лишним лет, подобно ребёнку, который только-только начинает разговаривать, получает от каждого произносимого им слова такое огромное удовольствие, что не приведи господь мусульманину видеть и неверному слышать. Но особое удовольствие он получает, когда говорит на английском языке, и одной из удивительных особенностей, вложенных в него природой, является то, что всё услышанное на персидском языке он принимает с большими колебаниями и недоверием, но если то же самое сказать ему по-английски, он таращит свои глаза, с таким раболепием выслушивает и так благодарит собеседника, даже если тот говорит какую-нибудь благоглупость, что трудно передать.
Мистер Духр скромно и почтительно стоял возле стены, неподалёку от молодой дамы, и время от времени старался ввернуть в разговор реплику и показать свой исключительный ум, способности и знания, присущие уроженцам заокеанской страны. Что же касается дамы, то она, зная, что стоит ка этом базаре мистер Духр, какими делами он занимается и что может сделать, была не прочь завлечь и его в свои сети, но, к сожалению, в данный момент её больше интересовал другой, а именно его превосходительство господин Хосейн Боланд Бала.
Сидя в когда-то мягком, а теперь с вылезшими пружинами кресле господина Манучехра Доулатдуста, положив на колени квадратную, сплетённую из золотых колечек сумочку, она держала между пальцами американскую сигарету и, время от времени поднося её к тонким накрашенным губам, с надменным видом выпускала изо рта струйку дыма. Не желая молчать в присутствии представителя правительства могущественного государства, она обратилась к господину Хосейну Боланд Бала.
— Сегодня погода немного улучшилась.
— Да неужели?
— До полудня было тепло, светило солнце…
— Да что вы говорите?
— Я думаю, что теперь зиме уже пришёл конец.
— Не может этого быть!
— Вы сегодня изволили прийти один, ваше превосходительство?
— Да, горбан.
— А мадам разве не с вами?
— Нет, горбан.
— Почему?
— Да как вам сказать? Я сам удивляюсь, почему она не приехала.
— Замечательно, вы всегда всему удивляетесь.
— Неужели?
— Может быть, мадам сегодня нездорова?
— Я не буду удивлён, если она нездорова.
— Разве, когда вы шли сюда, её не было дома?
— Нет, почему, она была дома.
— Так что же случилось, что она с вами не пришла?
— Как вам сказать? Я сам удивляюсь, почему она не пришла.
Тут наконец терпение дамы лопнуло. Тем не менее она сдержала негодование и лишь сочла за лучшее переменить собеседника. Обернувшись к мистеру Духру, она сказала:
— Мистер Духр, вы в Америке тоже встречались с господином Боланд Бала или же познакомились с ним только здесь?
— Нет, я удостаивался чести видеться с ним и в Америке. Мне было необходимо посоветоваться с ним о делах, которые мне предстояли в Иране.
— А что, в Америке он тоже постоянно был в состоянии изумления?
Здесь господин Боланд Бала не удержался и решил пошутить:
— Ханум, я был в состоянии изумления даже тогда, когда находился в чреве матери.
На этот раз ханум тоже не осталась в долгу:
— Неужели?
— Да, ханум, и в этом нет ничего удивительного.
— Как же так? Это должно быть удивительно даже для вас самого.
— Конечно, ханум, я тоже удивлялся этому раньше, но потом привык.
Видя, что беседа приняла такую форму, мистер Духр понял, что участие в ней не сулит ему ни малейшей пользы и что в этот исторический день, на этом чрезвычайно важном банкете, где собрались все руководители государства и армии, где можно провести время с гораздо большей выгодой для себя, он просто тратит время на пустые разговоры. Он поставил свой бокал с виски, который держал в руке, на круглый стол, стоявший рядом, и направился в другую комнату, но в дверях совершенно неожиданно ему преградила путь широкоплечая, толстая женщина. Он хотел протиснуться мимо неё, однако дама была настолько полной, что загородила собой весь дверной проём. Рассмеявшись каким-то неприятным смехом, она сказала:
— Ну, что вы, мистер Духр, неужели вы думаете, вам удастся так легко вырваться из моих рук. Я уже два часа ищу вас, обливаясь потом, бегаю из одной комнаты в другую.
— Напрасно вы себя беспокоите, закон, о котором мы говорили, ещё не принят. Но заверяю вас, как только это произойдёт, ни ваш зять, ни ваша невестка не будут нами забыты. Мы, американцы, очень пунктуальны в выполнении своих обещаний.
— Дай бог, чтобы ваша опека над нами была вечной.
Мистер Духр только было собрался ответить мадам, как вдруг грубый, резкий голос заставил его содрогнуться. Его превосходительство господин Аболь Хасан Эхтеладж, главный директор Национального банка Ирама, утомлённый и огорчённый плохой игрой в бридж его превосходительства господина Ахмада Модабера, министра сельского хозяйства, встав из-за стола, расстроил игру, наговорил министру сельского хозяйства всё, что пришло ему на язык, и теперь срывал свою злость на господине Манучехре Доулатдусте, хозяине дома и организаторе банкета, который понёс так много расходов и претерпел столько забот. Ещё никогда в жизни господин Доулатдуст не попадал в такой переплёт. Как он ни потирал руки, как ни склонял подобострастно голову, как ни отвешивал смущённо низкие поклоны, стараясь сгладить конфликт, — на сей раз всё было бесполезно. Господин главный директор Национального банка был настолько возбуждён, что все эти обычно хорошо действующие средства на сей раз не возымели никакого действия.
— Нет, господин Доулатдуст, так дальше продолжаться не может! Я сейчас же отсюда в вашем присутствии позвоню начальнику кредитного отдела и, если даже он спит в объятиях своей супруги, вытащу его к телефону и дам указания завтра же, с самого утра, закрыть вам кредит в банке. Ваши спекуляции препятствуют осуществлению наших планов. Если из всех ваших операций должны извлекать прибыль только вы сами, то спрашивается, для чего же существуем мы? Вы парализовали всю нашу политику. В этой стране мы не в состоянии осуществить ни одного мероприятия, без того чтобы не столкнуться с вами.
— Но подумайте, господин главный директор, стоит ли в такой ответственный момент, когда идут выборы, чинить нам препятствия?
— Денежная политика правительства не имеет никакого отношения к выборам.
— Господин директор, подумайте, что вы говорите! Конечно, вы имеете могущественную опору и никто не посмеет посягнуть на ваше положение, но знайте, если вопрос станет остро, мы тоже сможем предпринять решительные шаги.
— Ах вот как! Вы угрожаете мне революцией? Нет, господин Доулатдуст, нас не запугаете! Такие противники, как вы, нам не страшны. А чтобы вы поняли, что я не из трусливого десятка, немедленно покажите мне, где у вас телефон. У меня срочное дело, и мне некогда тут с вами разглагольствовать.
Взбешённый господин главный директор банка пересёк гостиную господина Манучехра Доулатдуста и, выйдя в вестибюль, увидел на площадке перед лестницей висящий на стене телефон, около которого стояла несчастная Омм-ол-Банин, в своём белом переднике и в платье, специально сшитом для сегодняшнего вечера. Его превосходительству господину главному директору банка показалось, что Омм-ол-Банин нарочно поставили, чтобы мешать уважаемым гостям разговаривать по телефону. Подойдя к ней, он схватил её за ворот и оттолкнул на середину вестибюля, затем быстро набрал номер телефона и сделал то, чего он не должен был делать. Разговаривая с начальником кредитного отдела банка и давая ему соответствующие инструкции, он сопровождал свой разговор выразительными жестами и потрясал кулаком.
Господин Доулатдуст в полной растерянности стоял неподалёку, напоминая вытащенную из воды мышь, и не знал, что ему делать с этим дорогим гостем, который всего лишь полчаса назад, наевшись до отвала за столом, расхваливал Нахид приготовленные ею кушанья. Как ни старался господин Доулатдуст, он никак не мог понять, что за странный способ обращения с хозяевами дома избрал его гость, уважаемый директор банка. Господин Доулатдуст вспомнил, что в последнее время господин главный директор банка в отличие от сегодняшнего вечера с исключительной любезностью выполнял малейшие прихоти как его самого, так и его хозяев на политическом базаре.
Наконец господин главный директор банка резко повесил трубку телефона и направился к гардеробу. Взяв свою шляпу и пальто, не дав даже Рамазану Али подать пальто, и не сказав ничего своей низкорослой и бесцветной супруге, которая в углу одной из комнат тихим голосом и нежными словами пыталась покорить сердце какого-то молодого американца, он быстро спустился по лестнице и вышел из дома. На улице он набросился на шофёра за то, что тот подал машину с небольшой задержкой, обругал его и, сорвав на нём гнев, плюхнулся на заднее сиденье машины Национального банка и удалился восвояси.
Закусив губу, потрясённый Манучехр наблюдал эту сцену, не зная, что ему думать и как поступить. Ещё никогда в жизни он не был так ошеломлён. Этот человек, который всегда умудрялся разрешать самые сложные дела в свою пользу, никогда не терял выдержки и хладнокровия и в трудную минуту всегда выходил сухим из воды, сейчас был совершенно беспомощен перед загадкой, заданной ему неожиданным и странным поведением главного директора банка. Он не знал, чем объяснить этот выпад со стороны господина Эхтеладжа — то ли указаниями, данными масонской ложей, то ли… Нет, вряд ли, там нет оснований быть недовольными им. Ведь только позавчера эти господа через Сеида Ананати, демагогия которого душила весь мир и который был способен в любой час, когда этого захотят господа, поднять огромный скандал во имя ислама, снова передали ему тысячу всяких мелких поручений, через неге же был достигнут сговор с политическими воротилами. А всего две недели назад они посылали его к Сеиду. И разве не с его помощью они тайно вручили этому благословенному Сеиду чек?
Господин Манучехр Доулатдуст долго стоял возле Омм-ол-Банин и Рамазана Али, не в силах прийти в себя. Наконец он принял какое-то решение и поспешно вернулся в гостиную. Там он увидел, что Сеид Ананати, стоя около окна, с увлечением разговаривает с господином премьер— министром. Господин Доулатдуст сразу понял, что, если он не прервёт их беседу, сам Сеид вряд ли скоро отстанет от премьер-министра и, вероятно, ещё долго будет торговаться с ним из-за лишних ста динаров[87]. Поэтому, пользуясь некоторыми сведениями из области психологии он решил, что едва ли найдётся более подходящий человек чем господин Джавал Аммамеи, который смог бы вырвать премьер-министра из лап Сеида, а самого Сеида предоставить в его распоряжение. Он быстро прошёл в соседнюю комнату и, обратившись к Джавалу Аммамеи, подвёл его к премьер-министру. Как только Джавал Аммамеи взял премьер-министра под руку и потащил его за собой, а Сеид оказался один, Манучехр подошёл к нему и жалобным тоном, с обидой в голосе стал рассказывать об инциденте.
— Неужели? Этого не может быть! Недаром ему уже тысячу раз советовали полечить свои мозги.
— Вы хотите сказать, что он ненормальный и не отвечает за свои поступки?
— Нет, здесь речь идёт не об ответственности, это связано с «подлым противоречием характера», который европейцы называют комплексом превосходства.
— Простите, горбан, что вы изволили сказать?
— Ничего, его поведение не имеет отношения к вам. В священном коране тоже имеется упоминание об этом.
— Упоминание о том, что господин Эхтеладж закрывает мне кредит?
— Нет, ага[88]. Почему вы отклоняетесь от темы разговора? Там делается намёк на подобных ему людей. Помните — «осёл нуждается в узде». Вообще-то, на мой взгляд, все правители этой страны страдают «мысленной похотливостью», которую я в своей известной книге «Национальные стихи» называю «мысленным онанизмом».
— Ах вот как. Теперь я понимаю, почему он, уезжая домой, оставил свою супругу здесь. Во всяком случае, мой дорогой, да паду я жертвой ваших предков, умоляю вас: предпримите что-нибудь, ведь дело даже не в том, что погибну я, — это не беда, — но расстроятся все планы по выборам и наши главные дела, которые мы собирались осуществить.
— Вы знаете, ага, ведь все обязанности уже распределены. На меня возложены только политические и военные дела; что же касается экономических и культурных, то ими занимается господин доктор Тейэби. Вы обратитесь к нему и попросите, чтобы он завтра утром посовещался по этому поводу где нужно.
Тут господин Доулатдуст заметил, что старший брат господина главного директора Национального банка, которого господин директор любит больше самого себя, в кабинете увлечён игрой в реми с четырьмя дамами, и подумал, что, прежде чем обращаться к постороннему для господина директора банка человеку, пожалуй, будет лучше, если он поговорит с членом его уважаемой фамилии. Он поспешно направился в соседнюю комнату, где в уголке Махин Фаразджуй со скучающим видом, глядя в зеркальце, пудрила лицо и подкрашивала губы. В тот момент, когда она, покончив с лицом, торопливо начала пудрить плечи и грудь, держа в одной руке сумочку, а в другой пушок, Манучехр схватил её за руку, потащил в кабинет и без всяких, церемоний посадил на место господина Голама Хосейна Эхтеладжа, знаменитого градоправителя города Тегерана, попросив её принять участие в игре, пока он завершит одно очень важное дело, которое он имеет к господину Эхтеладжу.
Затем он отвёл господина градоправителя в сторону и рассказал ему всё, что произошло, от начала до конца. Господин Эхтеладж пристально разглядывал из-под пенсне находившихся в комнате, а потому слушал рассказ Манучехра крайне невнимательно и лишь ради приличия время от времени покачивал головой. Наконец он сказал:
— Что же теперь вы хотите от меня?
— Я вас прошу пожурить вашего брата. С друзьями нужно обращаться лучше, чем это делает он.
— Во-первых, в нашей семье не принято, чтобы братья делали друг другу замечания. Каждый волен поступать так, как он считает нужным. Во-вторых, не в традициях нашей семьи дружить с кем-либо, ибо дружба — спутник нужды, а мы, слава богу, ни в ком и ни в чём не нуждаемся. В-третьих, нашим друзьям не следует обижаться на нас, так как дружба с нами — дело почётное и ради этого люди должны идти на жертвы.
— Вы правы, конечно, ваш покорный слуга принимает эту американскую философию на все сто процентов. Ещё в дни моей молодости мы держали в магазине одного приказчика, который тоже проповедовал её, но несчастный скончался в юные годы. Я сейчас запамятовал, как он это называл, но если немного подумаю, то вспомню… А, припоминаю… он, кажется, называл это прагматизмом. Да… точно… прагматизмом.
— Браво, господин Доулатдуст! Постепенно и вы набираетесь культуры!
— Горбан, что делать! Ситуация изменилась, и мне не хотелось бы, чтобы на этот раз мадам поехала в Америку без меня.
— Очень жаль, что мадам немного в летах, а не то я бы поехал с вами.
— Простите, но я хотел бы закончить разговор…
— При условии, если вы продлите на три месяца срок того векселя, о котором я с вами говорил позавчера по телефону…
— Хорошо, я согласен.
— А теперь, пожалуйста, продолжайте, я к вашим услугам,
— К сожалению, это произошло без вас. Сейчас ваш братец был крайне нелюбезен со мной. Вы же знаете, какие убытки я постоянно терплю от ваших векселей. Поэтому я считал себя вправе обратиться к нему с очень маленькой просьбой, а он наговорил мне кучу всяких неприятностей и, поссорившись, ушёл. Разве вы когда-нибудь видели, чтобы гость отказал в просьбе хозяину дома и покинул его дом?
— Милый, дорогой мой господин Доулатдуст, вы же коммерсант и должны всё понимать. Это вина не моего несчастного брата. Разве вы забыли, что в то время, когда мы, трое братьев, были ещё детьми, в Гиляне загубили нашего отца? Мы убежали из Гиляна в Тегеран. Кто тогда в этой суматохе позаботился о нас? Никто. Со всех сторон на нас посыпались тумаки и проклятия. Да упокоит господь душу американки миссис Кларк, которая с миссионерской целью приехала в Тегеран. Она была акушеркой и имела лечебницу в начале улицы Ала-од-Доуле. Миссис Кларк усыновила моего брата, воспитала его, обучила и вывела в люди. А теперь, сами посудите, может ли. ребёнок, который вырос в доме, где удовлетворялись все его капризы, ребёнок, который рос под надзором американской акушерки миссис Кларк, может ли он быть способен на какие-нибудь сделки? Во-первых, он недостаточно хорошо понимает персидский язык; во-вторых, он привык верить только тому, что ему скажут наши друзья. Кроме того, вы же знаете, что он воспитанник шахиншахского банка и работает там многие годы. Если в шахиншахском банке учитываются векселя, то это не коммерческие, а политические векселя, да и вообще-то говоря в экономиченском мире не существует неполитических векселей. Очевидно, он в эти дни почувствовал, что ваши позиции или ослабли, или имеют тенденцию к ослаблению, и, если теперь он вступит в какую-либо сделку с вами, он будет нести большую ответственность как по законам шариата, так и по гражданским законам. Так что, я очень прошу вас, в течение ближайших двух-трёх дней сделайте вид, будто ничего не произошло; пусть выяснится вопрос о составе кабинета, положение с выборами, и тогда будет видно, насколько тверда почва под вашими ногами. Если только всё кончится хорошо, я лично гарантирую вам, что ваши кредиты будут увеличены вшестеро, тогда давайте сколько вам угодно бронзовых[89] векселей, и, если только откажутся учесть ваш вексель хотя бы на сто динаров, я буду нести ответственность за этот отказ. А сегодня, на этом великолепном банкете, вам не следовало бы зря портить настроение ни себе, ни своим гостям, тем более что я выиграл в покер более трёх тысяч туманов. Пойдёмте лучше выпьем по хорошей рюмке водки за наши будущие успехи. Пропади пропадом этот мир! Такому человеку, как вы, проявляющему в жизни исключительную энергию, не стоит огорчаться из-за пустяков.
Тут господин Эхтеладж-старший, почтенный и славный градоправитель Тегерана, который от хозяина дома впервые услышал слово «прагматизм» и был обижен на него за это, взял господина Доулатдуста под руку и потащил к бару.
Господин Доулатдуст был очень взволнован и огорчён. Зловещая туча нависла над ним, но как бы там ни было, он хозяин дома и не должен отказываться выпить с таким уважаемым человеком, как господин Эхтеладж. Ему ничего не оставалось делать, как налить рюмку зубровки и, поднимая тост за здоровье гостя, сказать ему несколько комплиментов и постараться пока что. держать в руках этого члена уважаемой фамилии. А что дальше — там будет видно.
Едва выполнив свой долг, он быстро обежал все комнаты, но нигде не нашёл никаких следов доктора Тейэби этого мастера по разрешению трудных политических вопросов.
Поискав его всюду и расспросив о нём у близких и посторонних, он наконец направился в вестибюль узнать у Омм-ол-Банин, не ушёл ли доктор тайком домой. И тут он увидел, что доктор стоит у телефона и увлечённо с кем-то разговаривает. Сначала господина Доулатдуста это удивило. Он не представлял себе, как можно ночью, в такой сутолоке, когда даже собака не узнаёт своего хозяина, вести телефонные разговоры, но потом понял, что именно в таких условиях разговор по телефону наиболее удобен для различных сговоров. Во-первых, из-за шума никто не слышит голоса говорящего, а во-вторых, так как время позднее, в доме его собеседника все уже спят.
Несмотря на свою ловкость и хитрость, господин Доулатдуст до сих пор не догадался так поступать и только сегодня, благодаря своему гостю, уважаемому депутату от города Йезда, он научился этой уловке.
Как только господин Доулатдуст появился в вестибюле, господин Тейэби заметил его. Поняв, что продолжать разговор нельзя, он скомкал его и, обращаясь к невидимому собеседнику, сказал:
— Да, да, вы изволите говорить правду, суть вопроса заключается именно в этом, но, к сожалению, в данный момент у меня нет при себе памятных записок. Разрешите мне позвонить вам из дому утром.
Сказав это, он повесил трубку и с фальшивой улыбкой направился к хозяину дома. Тоном, неискренность которого была совершенно очевидна, он сказал:
— Сюда недавно приехал один из наших йездцев, друг моей юности. В своё время он прислал мне деньги, чтобы я купил для него кое-что. Я сделал глупость и позвонил ему. Хотел справиться о его здоровье, а он прицепился ко мне и стал требовать, чтобы я сейчас же, ночью, отчитался перед ним, куда я израсходовал деньги.
— Да, вашему покорному слуге тоже иногда и по ночам приходится заниматься делами. Кстати, я хотел посоветоваться с вами по одному важному вопросу. Если вы не против, пойдёмте в какой-нибудь укромный уголок и я вам всё доложу.
Уважаемый депутат согласился выслушать господина
Доулатдуста, но по его походке, по его молчанию и по всему виду можно было заключить, что он идёт неохотно, лишь из вежливости по отношению к хозяину дома. А если бы не это, то стоило ли сейчас, когда он уже поужинал, переговорил со всеми, с кем хотел переговорить, причинять себе ещё какие-то новые хлопоты? Наконец господин Доулатдуст привёл его в одну из комнат, где группа гостей играла в покер. Он счёл это место наиболее подходящим, так как гости были настолько увлечены перебранкой и спорами, что никто не мог помешать их разговору. В этой комнате вдоль стены были расставлены деревянные польские стулья с выцветшими сиденьями, вроде тех, которые можно видеть в третьеразрядных кафе и чайных. Взяв один из них, господин депутат от Йезда сел, а спутник его расположился рядом, низко склонился к нему и подробно доложил о своём конфликте с директором Национального банка. Казалось, что уважаемый депутат с раннего детства не видел ничего другого, кроме подобных поступков, так как он совершенно не удивился и очень спокойно сказал:
— Да, такие вещи случаются частенько.
— Но ведь, горбан, поймите, разве за три дня до опубликования положения о выборах, в этой суматохе, когда американцы шумят о том, что и русские располагают атомной бомбой, уместно так поступать?
— Да, но и не совсем неуместно. Этим они хотели вас проучить.
— А что я сделал? Разве я в чем-нибудь провинился? Разве я не выполнил какого-нибудь указания наших друзей?
— Помилуйте, господин Доулатдуст, мы ведь тоже кое-что соображаем. Неужели вы полагаете, что никто не разбирается в ваших комбинациях?
— Клянусь вашей жизнью, сколько я ни думаю, я ничего криминального припомнить не могу. Ни в политике, ни в торговых делах, ни скрытно, ни явно я не допустил никакой оплошности в исполнении своих обязанностей.
— Вы хотите знать правду? Я скажу вам её без обиняков: позавчера вечером в кино «Палас» демонстрировался фильм о параде советских физкультурников. Господин Фарибарз-хан и ханум Вида со своими сверстниками господином Хушангом-ханом, Сирусом-ханом, Хаидой-ханум, Шахин-ханум и другими юношами и девушками из лучших семей Тегерана поехали на своих автомобилях. которые известны всему городу, в кино, купили билеты в ложу, просидели там от начала и до конца сеанса, не проронив ни одного слова, а потом ещё очень долго аплодировали. Ну, скажите, пожалуйста, разве можно скрыть этот позор?
— Горбан, какой же это грех? Вы сами прекрасно знаете, молодым людям по восемнадцать-девятнадцать лет притом все они сами физкультурники. Разве просмотр фильма о спортсменах, да к тому же фильма, демонстрация которого разрешена полицейским управлением, является преступлением? Ведь этот фильм показывали даже во дворце.
— Да, всё это правильно, но наши друзья предъявляют особые требования к нам, к вам и вообще к избранным фамилиям, вот почему они дали указания господину Эхтеладжу немедленно закрыть вам кредиты.
— Ах вот в чём дело! Теперь я начинаю понимать… Да проклянёт господь Хушанга Сарджуи-заде! Во всех этих проделках повинен он. С того самого дня, как этот бледный, тщедушный юнец появился в нашем доме, я не могу спокойно выпить глотка воды.
— Ну, так избавьтесь от него, это же очень просто.
— Что вы, помилуйте, разве я могу сделать самостоятельно, без Нахид, хотя бы один шаг?
— Так кто у вас в доме мужчина, она или вы?
— Горбан, у вас нет красивой, прогрессивной, молодой жены, и вы не представляете себе, что вытворяют жёны с нашим братом.
— Во всяком случае, эти дела меня не касаются. Случилось то, что не должно было случиться, и теперь вам нужно серьёзно подумать, как загладить свою вину перед нашими друзьями.
— А каково мнение вашего превосходительства по этому поводу?
— Ей-богу, я ничего не могу вам посоветовать. Этот вопрос вы должны решить сами.
— Да, горбан, но ведь вы наш коллективный разум. Я понимаю, всё получилось очень плохо; наши друзья злопамятны, они сделают меня несчастным. Помогите мне найти выход.
— Лучше всего, если вы сами побеседуете с родителями этих юношей и девушек, договоритесь сослать их всех на некоторое время в Рамсар, Бабольсар или в какое-либо другое место. Одновременно дайте указание, чтобы в самых крикливых и падких на сенсации газетах, например в газете «Фарман» или в «Зарре-бин», это сообщение было преподнесено с большой помпой. Пусть они прямо так и напишут: «Так как неопытность и неосведомлённость этих желторотых юнцов угрожала высшим интересам страны, их родители приняли решение всех их отправить в ссылку».
— Это прекрасная мысль, но, умоляю вас, разрешите Хушангу Сарджуи-заде остаться здесь и не уезжать с ними.
— Нет, это невозможно, ведь он главный зачинщик и виновник этой истории.
— Но ведь, горбан, вы, ваше превосходительство, прекрасно знаете, что Нахид крайне в нём нуждается и не может отпустить его от себя.
— Наши друзья тоже знают об этом.
— Как же быть?
— Сделайте так, чтоб и госпожа Доулатдуст уехала с ними. Тогда шуму будет ещё больше и наши друзья будут вполне удовлетворены и скорее успокоятся.
— А если этого не случится, что мне делать тогда?
— Ну, тогда уже возложите это на меня. Сейчас я разыщу мадам и растолкую ей, что если она хочет получить валюту для приобретения манто, кадиллака и ещё чёрт знает для чего, ей придётся дать согласие уехать с этими юнцами.
В этот момент господин Манучехр Доулатдуст подобострастно схватил чёрные, пухлые руки господина доктора Тейэби; уважаемого депутата Ирана, потряс их и, поцеловав, сказал:
— Да продлит всевышний жизнь вашей дорогой и благословенной персоны! Я всегда поражался, как смог господь бог сосредоточить в вашей драгоценной особе столько ума и способностей!
7
— Вставай и убирайся отсюда вон, подлый авантюрист! Разве я не говорил тебе тысячу раз, чтобы ты не смел расстилать здесь свою вонючую постель! Вся тюрьма от неё провоняла!
Трудно сказать, горький ли смысл этих философских весьма любезно произнесённых слов, громкий ли, полный гнева и злобы, окрик или сильный удар, нанесённый острым коском сапога господина старшего надзирателя Рахима Дожхимана в больной бок, нарушил дремоту некогда знаменитого, но сейчас глубоко несчастного и обездоленного продавца мороженого, известного под именем Плешивый Аббас.
Некоторое время Аббас протирал свои серые глаза с длинными, загнутыми кверху ресницами, потом отбросил упавшую на лоб прядь редких волос, которые, подобно укропу, росли на его голове пучками и теперь стали настолько длинными, что спадали на глаза, взял свои ветхие гиве, которые он положил под голову вместо подушки, — на них всё ещё виднелись следы коричневой грязи квартала Сарчашме, несмотря на четыре месяца разлуки с ним, — сунул их под мышку и поднял изодранный в клочья гелим[90], служивший ему одеялом, который в результате нежного удара господина старшего надзирателя отлетел на десять шагов в сторону. Прежде чем убраться восвояси, несчастный Аббас полным покорности и обиды взглядом, который может быть только у таких людей, как Аббас, окинул с головы до ног старшего надзирателя Рахима Дожхимана и слабым, дрожащим голосом — так он говорил в детстве со своим жестоким отчимом, — склонив голову, чтобы не видеть, какое впечатление произведёт на старшего надзирателя тюрьмы его дерзость, со смелостью, которой он никогда в жизни себе не позволял, сказал:
— Но, ваше высокопревосходительство господин старший надзиратель, клянусь вашей жизнью, уже два дня мои кости ноют от холода; клянусь вам тем самым богом, которому вы поклоняетесь, клянусь вам и обоюдоострой саблей покровителя благочестивых, что я отказался от сегодняшнего обеда и отдал его надзирателю Рамазану, что я унижался перед ним и просил получить у вашего превосходительства разрешение полежать хотя бы полчаса на солнышке. Мне так хотелось согреть свои продрогшие кости! Сам господь бог тому свидетель — чтоб мне ослепнуть, если я говорю неправду! — Рамазан Али пришёл и сказал мне, что ваше превосходительство дали разрешение. Вот почему я прилёг здесь, но, если бы я знал, что бы не дали разрешения, разве я осмелился бы ослушаться? Я вас очень прошу, простите меня.
— Ах ты подлый авантюрист, ты уже докатился до того, что даёшь взятки надзирателю Рамазану Али!
— Горбан, ведь у меня не осталось ничего, что было бы достойно вас, кроме той чашки супа, которую я сегодня отдал Рамазану Али. Этот Рамазан — неплохой парень, он не такой алчный, как другие надзиратели, и его это вполне удовлетворило. Кроме того, он обещал мне обязательно получить разрешение от вас.
— Он надругался над могилой своего отца и над честью своей матери! Ты думаешь, что всякий осёл, который просит у меня разрешения, его получает? Впредь, если тебе захочется поваляться на солнце, ты эту чашку супа, сваренного из мяса твоих мёртвых предков, продашь кому-нибудь из заключённых, а деньги принесёшь в караульную в конце коридора. Ты понял, подлый авантюрист?
Аббас получил в дополнение несколько ударов плетью, которую старший надзиратель держал в руках. Впрочем, его шея, плечи и спина и раньше встречались с ней тысячу раз.
— Пошёл вон отсюда, ублюдок! Да поскорей убирайся прочь с моих глаз, я больше не хочу видеть твоей противной рожи и плешивой головы.
Опустив голову, не осмеливаясь даже прикрыться руками от ударов плети, еле волоча ноги, Аббас поплёлся в свою камеру, в этот бесплатный, полный всяческих благ и наслаждений отель шахиншахского правительства. Объятый тоской, с тысячью обид на сердце, которые он не решался выразить даже тяжёлым вздохом или стоном, Аббас тихонько открыл дверь камеры, которую тридцать два заключённых вот уже в течение четырёх месяцев считали первым и последним своим домом отдыха.
Приход Аббаса в камеру был настолько обычным делом, что никто даже не обернулся в его сторону. Никто не поинтересовался, где он был, что делал, зачем уходил и почему вернулся назад. Не успел он расстелить на голом, сыром и грязном полу камеры свой изодранный гелим, как в камеру от сильного пинка старшего надзирателя тюрьмы влетел какой-то сгорбленный человек с низко опущенной головой, из-под рваной шапки которого выбивались седые волосы.
Изнеженные, живущие в холе и достатке гости Иранского правительства поняли, что вновь проявилась щедрость государства и что на этот раз их компанию пополнил старик восьмидесяти с лишним лет.
Старик не закрыл за собой дверь камеры. Запах коридора ещё раз напомнил забывчивому обонянию сидевших в камере о тех благах, которые имеются в этом вечном раю. Донёсшийся до них аромат был полным букетом всякого рода запахов, существующих на свете: запаха угля, табачного дыма, запаха трубок кальяна, опиума, гашиша, запаха нефти, водки, вина, лука, чеснока, грязной одежды, запаха гнили, сырости, уборной и даже запаха горелой кожи, шерсти и войлока. Чтобы распознать все эти запахи, надо было бы изобрести специальный аппарат и создать специальную лабораторию.
Этот аромат существует как бы для того, чтобы каждый вновь прибывший в это хранилище несчастий, неудач, тоски, глубоких вздохов, жалоб и напрасных надежд знал, что любезное правительство собрало здесь капитал, состоящий из нищеты, беспомощности, болезней, унижений, презрения, бедствий, напастей и небытия, сделало его обеспечением своей милости, любви, сострадания и правосудия и хранит его для будущих поколений и дня страшного суда.
Многие из пророков говорили о преисподней, аде и огненной пытке. Разве они имели в виду не эти самые правительственные гостиницы? Возможно, что пророки видели такие темницы и то, с чем им пришлось познакомиться, они описали в своих книгах и обещали это грешных людям на том свете.
Старик пополз в угол. У него не было даже подстилки, которую другие принесли с собой, чтобы постелить на пол и, улёгшись на ней, отдать богу душу. Его рваная, расползающаяся по всем швам одежда еле прикрывала тело, большие пальцы ног торчали из носков его гиве. Он снял свои гиве, положил их на сырой пол и сел на них, словно на пуховую перину.
Высокий, стройный Рамазан, надзиратель этой камеры, которая была рассчитана на десять человек и в которой теперь, включая старика, помещалось тридцать четыре человека, приглашённых сюда пользоваться всеми её удобствами и благами, вошёл в камеру. Он бросил гневный взгляд на Плешивого Аббаса и прошёл прямо к старику, сидевшему у стены, штукатурка которой могла соперничать с грязными кирпичами порога камеры. В руках Рамазан держал бумажку, где фиолетовыми чернилами, почерком семилетнего ребёнка, с ошибками было написано: «Имя заключённого — Мохаммед Голи Йезди; срок заключения — 11 лет, 2 месяца и 10 дней; совершённое преступление — недобросовестное отношение к сданному ему на хранение имуществу».
Эта стена, оштукатуренная двадцать лет назад, сейчас, подобно большой туче, освещённой с одной стороны солнцем, имела различную окраску, от свинцово-серого цвета до коричневого и синего. Чем ниже, тем штукатурка становилась темнее. На ней чётко была заметна неровная линия на, уровне роста сидящего человека, образовавшаяся от прикосновения к ней грязных, вспотевших голов и спин тех, кто сидел у этой стены. Возможно, многие из них, испустив здесь дух, не оставили в мире никакой другой памяти о себе, кроме этой линии на стене.
Надзиратель Рамазан перевернул бумажку, смачно плюнул на неё, растёр кончиком пальца клей, которым ока была намазана, и приклеил бумажку как раз над этой грязной линией. Всё, что он делал, было для обитателей камеры настолько знакомым и обычным, что ни один из тридцати четырёх человек, присутствовавших на этом банкете, даже не посмотрел в его сторону. Каждый был погружён в свои мысли. Аббас потихоньку, с большой осторожностью, нежно трогал синяки, оставшиеся на его теле после ласк, оказанных ему с помощью плётки, без конца повторяя про себя очень трогательную, выразительную, разумную и полную философских нравоучений и морали фразу, сказанную ему его высокопревосходительством господином старшим надзирателем Рахимом Дожхиманом: «Вставай и убирайся отсюда вон, подлый авантюрист! Разве я не говорил тебе тысячу раз, чтобы ты не смел расстилать здесь свою вонючую постель! Вся тюрьма от неё провоняла!»
Он напевал шёпотом эти мудрые слова, будто читая молитву в мечети, делал всюду, где нужно, ударения, а, некоторые звуки произносил гортанно. Он старался насладиться каждым словом, не упустить ни одного из них, чтобы они не пропали зря и чтобы фольклор, созданный старшим надзирателем Рахимом Дожхиманом, не исчез бы с лица земли.
Удивительное дело, эту самую фразу: «Вставай и убирайся отсюда вон!» — он неоднократно слышал в детстве и от матери, когда она запускала свою руку за изюмом с жареным горохом в сундучок, стоявший в комнате возле стены. Как только она замечала, что он сидит в углу комнаты и следя за ней, видит то, чего он не должен видеть, она произносила эту самую фразу. Носком своего ботинка она точно так же, как господин старший надзиратель Рахим Дожхиман, но, правда, не так сильно, ударяла его в бок и выгоняла вон из комнаты, а затем вволю наедалась жареным горохом с изюмом, которые она покупала втайне от мужа и сына.
«Подлый авантюрист»… Аббас точно не знал значения слова «авантюрист». За последние два-три года он не раз слышал его от официальных чиновников шахиншахского правительства, а иногда даже и по радио. Он понял только одно: правительственные чиновники любого, кого они не могут заставить танцевать под свою дудку, называют авантюристом. Уже давно Плешивый Аббас думает, что же означает слово «авантюра». Что это за штука — авантюра? Если это что-то плохое, почему же тогда авантюристами сплошь и рядом называют никому не мешающих бедняков, этих босых и голых, покрытых грязью людей, одетых в лохмотья, с засаленными воротниками, людей, у которых из рваных гиве вылезают наружу пальцы и впалая голая грудь с выпирающими рёбрами зимой и летом открыта для дождя, ветра и палящих лучей солнца?.
Всю свою жизнь Аббас провёл среди этих одетых в лохмотья, но великодушных людей. Он бывал с ними в караван-сараях, в кофейнях, в автобусах, на поклонении святым мощам, в мечетях, на проповедях, на праздновании последнего дня Нового года, на иллюминациях и фейерверках, у сорока алтарей в ночи ашура, на похоронах безродных бедняков, в банях — и всюду он внимательно наблюдал их. Он не раз видел, как они проявляли большое мужество, щедрость, человеколюбие, снисходительность и доброту по отношению к людям, которые в чём-то зависели от них. Он встречал среди них людей, которые с глубоким сочувствием относились к беспомощным и обездоленным. Даже тысячной доли такого сочувствия не найдёшь у таких господ, как старший надзиратель Рахим Дожхиман, да и не только у Рахима Дожхимана, но и у людей, стоящих выше и даже значительно выше его. Да, «подлый авантюрист», да, сгорбленный, голый и босой старик, который всю свою жизнь провёл в бедности, голодал, работал как вол, но не протягивал своей руки за помощью ни ближним, ни чужим. Да, «подлый авантюрист», да, благороднейший иранец, рождённый в нищете и в нищете умерший, но не склонивший головы перед пришельцами, ты грудью встал против них, ты смотрел прямо в их преступные глаза, но не поддался им.
Да, «подлый авантюрист», да, беспризорный и бездомный ребёнок, ты перенёс ужасные муки голода, но не пошёл на воровство.
Ах, как хотелось Плешивому Аббасу, чтобы у него выросли крылья, чтобы он мог перелететь через высокие стены тюрьмы, холмы и дома северной части города, в которых живёт аристократия, и снова очутиться в узких и тёмных трущобах его южной части, там, где он продавал мороженое, где люди живут справедливо, где ничьи руки не обагрены кровью ближнего, где никто не страдает от богатства другого, туда, где у рубашек нет длинных подолов, но зато подолы ничем не запятнаны. Там он спустился бы и стал целовать руки всем этим «подлым авантюристам», там он склонился бы к их ногам и принёс бы им в жертву самое дорогое, что он имеет, — свою жизнь.
«Разве я не говорил тебе тысячу раз, чтобы ты не смел расстилать здесь свою вонючую постель!» Конечно, говорили, ваше превосходительство господин старший надзиратель, говорили и ещё не раз скажете. Каждый день, каждый вечер будете говорить, и не только вы, но и благородные офицеры, ваши начальники будут говорить, и просто генералы, и дивизионные генералы, и, бог даст, будет говорить даже сам верховный главнокомандующий вашей армии. Какая нам корысть от того, что мы будем стелить свою постель поперёк вашей дороги? Пусть сам господь не допустит, чтобы какой-нибудь несчастный сел у края вашей дороги, господин старший надзиратель. Не дай бог, чтобы он встретился с вами. Не дай бог, чтобы взоры какого-нибудь несчастного сироты скрестились бы с вашим взором. Какое вам, аристократам, дело до нас, даже если вы и встречаетесь с нами?
«Вся тюрьма от тебя провоняла». Конечно, никто против этого не возражает. Тюрьму для того и построили, чтобы она стала вашей извечной кормушкой. Тюрьму построили не для того, чтобы люди там спали, чтобы они оставались там живыми и дышали. Тюрьму построили для того, чтобы всякий, кто входит в неё сегодня, завтра был бы вынесен оттуда прямо на кладбище, а послезавтра его постель, ту самую постель, которая вам так мешает, когда мы её расстилаем на полу, вы взяли бы себе на спину и понесли на рынок старьёвщику.
Никто не знает, сколько пылких мыслей таилось в плешивой голове Аббаса. Иногда он начинал что-то бормотать себе под нос, петь религиозные гимны, и слёзы текли у него из глаз и орошали его колени. Он сжимал веки, закусывал верхнюю губу и ещё сильнее начинал качать головой. Его пение становилось всё громче и громче, изредка отдельные слова доносились до слуха окружающих.
Со стороны казалось, что этот плешивый пройдоха с голой грудью, который в течение целых десяти лет оказывал населению Сарчашме тысячи всяких услуг, этот беспечный плут, который не боялся даже самой судьбы, этот бедняк, которому и море было по колено, находится уже не на этом бренном свете.
Тридцать четыре человека сидели в этой камере размером четыре на четыре метра. Каждый из них был занят каким-нибудь делом: один сморкался и вытирал пальцы о стену, другой воровато оглядывался по сторонам и, как только замечал, что никто не обращает на него внимания, быстро совал в рот жевательную резинку «Адамси», которую он смаковал уже двадцать дней; третий тайком вытаскивал из-под овчинки, на которой сидел, свою грязную трубку, от глиняной прокопчённой головки которой не осталось и одной трети, осторожно запускал два пальца в кисет и, достав оттуда щепотку табаку, клал его в трубку, затем поднимал выпавший из печурки на пол уголёк и, закурив, быстро совал в рот обожжённые кончики пальцев; четвёртый каждые две-три минуты поднимался со своего места, брал грязный кумган[91] с отбитыми ручкой и носиком и спешил в угол; пятый, связав узлом концы засаленной до черноты белой нитки, вытянув ноги, просовывал нитку между пальцами и, взяв другой её конец в руки, обвивал поочерёдно пальцы ног и рук и так убивал время этой детской игрой; шестой, сидевший возле стены, развлекался тем, что то прислонялся спиной к стене, то отстранялся от неё; седьмой, расположившийся как раз посредине комнаты и лишённый возможности последовать примеру своего соседа, брал пальцами свою длинную бороду, запихивал её концы в рот и сжимал зубы, затем вытаскивал бороду изо рта и повторял всё сначала.
Издали, с другого конца коридора, доносились звуки радио. Какой-то глупец, прерываемый то и дело шумами в эфире, нёс несусветную чушь, призывая этих несчастных людей «добросовестно выполнять свои обязанности перед родиной», разглагольствуя «о честном выполнении министрами своих обязанностей» и повторяя бессмысленные речи министров в меджлисе и сенате. Наконец он дошёл до сообщения о том, что господин доктор Казаби, министр почт и телеграфа, в ответ на запрос в парламенте одного из сенаторов, подвергается ли цензуре почтовая корреспонденция, ответил: «Мы не подвергаем письма цензуре, мы их вскрываем лишь для того, чтобы проверить, нет ли там иностранной валюты».
Когда диктор произнёс эти слова, несколько человек в дальнем конце камеры вскочили со своих мест и, словно заранее сговорившись между собой, закричали: «Держи карман шире!» Часовой, который, стоя в углу камеры, наблюдал за заключёнными, нахмурил брови, стукнул о пол прикладом винтовки и гаркнул: «А ну, тихо, замолчите, подлые бездельники!» Затем, быстро высунув голову в дверь камеры, он крикнул: «Ваше благородие Абдуллахан, выключите радио, эти оборванцы недостойны слушать его!»
В камере снова воцарилась тишина, но тут до слуха заключённых донёсся новый звук, звук, которого до сих пор здесь никто не слышал. О природе его у каждого из заключённых было своё мнение. Один полагали, что где-то в углу скребётся мышь, грызёт доску, подмётку гиве, косточку или ещё что-нибудь; другие — что под осыпавшейся штукатуркой ослабли гвозди, которыми прибивали дранку, и дранки трутся друг о друга. Каждый думал по-своему.
Плешивый Аббас был смышлёнее других. Он стал всматриваться в ту сторону, откуда доносились звуки, и увидел, что старик, которого только что привели в этот земной рай, клюёт носом, но когда он внезапно выпрямляет голову, его искусственные зубы, которые от долголетнего употребления, видимо, истёрлись и расшатались, ударялись друг о друга и издавали этот сухой дребезжащий звук, вырывавшийся из его полуоткрытого рта.
Аббас пристально вгляделся в лицо старика.
Господи помилуй, до чего знакомо ему лицо этого человека! Где же он его видел?
Ему были знакомы не только подтянутый подбородок, впалые щёки, большие торчащие уши, приплюснутый нос, седые борода и усы старика, которые, наверное, два-три месяца назад были окрашены хной, но и вылинявшая, грязная шапка, некогда чёрная, а теперь отливавшая всеми цветами радуги, его клетчатый, обтрёпанный, из английского сукна китель и синие миткалёвые брюки с двумя большими латками на коленях, из которых одна была коричневая, а другая чёрная. Тонкие пальцы с опухшими суставами, которыми старик опирался о пол, чтобы не потерять во сне равновесия, — всё это Аббас видел, видел не раз, а сотни, тысячи, бог знает, сколько тысяч раз, будто бы он и этот старик были соседями, жившими стена в стену, друзьями, которые вместе ходили и в баню, и в сад, делились друг с другом своими горестями и самыми сокровенными тайнами или затевали жаркие споры.
Господи, да неужели это Мешхеди Мохаммед Голи Йезди — слуга господина Ахмада Бехина Йезди, дорогого друга, доверенного лица и сотрудника уважаемого господина доктора Тейэби, известного депутата меджлиса? Нет, это невероятно! Разве может Мешхеди Мохаммед Голи попасть в такое место? Разве могут привести сюда и поместить вместе со всеми этими оборванцами слугу влиятельного человека, имеющего столько связей и знакомств? Ведь неприкосновенна даже каждая вошь господина доктора Тейэби, не говоря уже о его слуге, который поливал воду ему на руки, открывал ему двери дома, постоянно ожидал за дверью его прихода и ухода, вводил его в дом и провожал его из дому.
Нет, конечно, это невозможно! Но вместе с тем нельзя сказать, что это не он. Положим, в лице можно ошибиться, но одежда! Ей-богу, это те самые брюки, в которых ходил Мешхеди Мохаммед Голи, когда Аббас ещё жил на свободе в квартале Сарчашме и продавал своё мороженое и мужчинам, и женщинам, и взрослым, и детям. Это тот самый пиджак, который Аббас видел на старике на протяжении целых десяти лет. Сам Мешхеди Мохаммед Голи частенько рассказывал ему, что этот пиджак был привезён в подарок его господину одним из членов свиты после первой поездки Мозаффар-од-Дин-шаха[92] в Европу. Ну да, конечно, это и есть Мешхеди Мохаммед Голи. Клянусь богом, клянусь всеми святыми, клянусь пророком — это он! Это тот самый Мешхеди Мохаммед Голи, добрый приятель нашего Аббаса, во все тайны которого Аббас был посвящён.
Этот сгорбленный старик, стоящий одной ногой в могиле, имеет любопытную способность везде и всюду быть помехой. И здесь, в этом доме, куда люди приходят собственными ногами, а уходят на чужих плечах, Плешивый Аббас должен будет каждую ночь и каждый день, хочет он того или нет, быть собеседником этого проклятого, уродливого йездского старика.
Господи помилуй, разве у него мало горя без этого? Здесь Аббас снова вспомнил свою покойную мать. Да упокоит господь её душу, стоило ей, когда в их дом, приходил кто-нибудь из соседок посудачить, пожаловаться на мужа, на детей, и чтобы не опозориться перед гостьей, насыпать горсточку семечек — дынных, тыквенных или подсолнечника — на выцветший подносик, как в этот самый момент проклятый Аббас появлялся словно из-под земли. Каждый раз, чтобы поставить мать в неловкое положение, он пускался на одну и ту же хитрость. «Мамочка, — спрашивал он, — у тебя не найдётся чего-нибудь поесть?» Он задавал этот вопрос для того, чтобы не получить хорошей затрещины, если он приблизится к подносику, рассчитывая, что мать, постеснявшись постороннего человека, даст ему немножко семечек.
Мать обычно бросала на него гневный взгляд, затем обращалась к гостю, как бы моля извинить её и посочувствовать ей, и цитировала слова какого-то поэта: «Не было в моей жизни ни одной минуты, которую я прожил бы спокойно!»
И сейчас, увидев этого йездского старика, Аббас невольно произнёс эти же самые слова: «Не было в моей жизни ни одной минуты, которую я прожил бы спокойно!»
Он вспомнил, что на протяжении целых двадцати лет— и в годы, когда он ещё не был женат, не имел детей и был в полном смысле слова холостым, и после, когда он женился на матери своих детей и завёл кое-какое хозяйство, каждый раз, когда в его лавку входила молоденькая девушка или полненькая, свеженькая замужняя женщина, или вдовушка, или молоденькая подёнщица, чтобы съесть порцию мороженого или тарелочку сладкого рисового киселя съесть спокойно, не торопясь, в ту же минуту словно из— под земли появлялся Мешхеди Мохаммед Голи Йезди приближённый слуга господина Ахмада Бехина Йезди! Под каким-нибудь предлогом он влезал в лавку, и было совершенно невозможно, выражаясь словами господина старшего надзирателя Рахима Дожхимана, заставить его убраться вон или, выражаясь словами гуляк, отшить его.
Но здесь, в тюрьме, не было ни супа, ни плова, здесь не раздавали халвы, сюда не приходили девушки и женщины. Здесь все двери, все входы и выходы находятся на запоре, и не всякий человек может явиться сюда в любой момент, когда ему этого захочется. Несомненно, этот старик явился сюда с какой-то подлой целью. Ведь всем жителям квартала известно, что господин уважаемый доктор Тейэби — депутат от города Йезда — на протяжении многих лет обучал своим подлым приёмам этого демона. Наверное, ему надо что-нибудь выведать или кого-то обмануть.
Плешивый Аббас страшно жалел, что его место в камере находится далеко от старика и он не может выяснить истинной причины его появления здесь, выпытать у него всё, заставить признаться. Он знал, что Мешхеди Мохаммед Голи имеет привычку каждый день глотать три шарика опиума. Если кто-нибудь даст ему два-три таких шарика, это лучше всяких денег раскроет его болтливый рот и развяжет ему язык и тогда всё, чему его обучил его хозяин, всё, что он узнал от своей святыни господина доктора Тейэби, он выложил бы Аббасу. Но как подойти к старику? В этой великолепной гостинице, принадлежащей шахиншахскому правительству Ирана, полной всяких удобств и благ, чистоты и порядка, всякий, кого приводят сюда, в этот рай, сразу же получает освободившийся уголок прежнего владельца, тело которого находится в это время в руках мойщика трупов. Над головой вновь прибывшего наклеивают клочок бумаги, и несчастный, пока он жив, не имеет права сдвинуться с этого места и лишь изредка, уплатив определённую сумму или сунув в руку какого-нибудь простофили, вроде длинного Рамазана, за душой у которого нет ничего, немного опиума, горсточку леденцов или пачку сигарет и надавав ему всяческих обещании, может получить разрешение растянуться где-нибудь на солнышке. Впрочем, вы сами видели, что чаще всего подобные дела кончаются скандалом: господин старший надзиратель Рахим Дожхиман подзатыльниками и пинками внезапно будит задремавшего было человека и водворяет несчастного на место. Как можно при таком положении дел допустить мысль, что Аббас, рискуя жизнью, осмелится хотя бы на один сантиметр приблизиться к этому никчёмному, грязному старику? Да разве можно так рисковать своей жизнью? Разве он подобрал свою жизнь на улице?
Аббас очень долго думал, как удалось Мохаммеду Голи проникнуть в тюрьму. С какой целью он сюда пришёл? Конечно же, он хочет что-нибудь выведать! Но разве это подходящее место для подобных дел?
Сам Аббас, с того дня как его посадили, больше не думал о том, из-за чего он здесь. Он до такой степени не думал об этом, что даже забыл, как сюда попал. Впрочем, что толку думать! Все, кто находится в этой тюрьме, — жертвы козней и интриг. Разве кто-нибудь из них в самом деле виновен? Разве кто-нибудь из них совершил кражу или другой бесчестный поступок или назвал шахского коня клячей? Просто на каждого состряпали дело, оклеветали и бросили в этот отель.
Люди, которым пока ещё не пришлось побывать в таких местах, не знают, для чего сюда приводят несчастных бедняков. А всё дело в том, что это учреждение имеет бюджет, кредиты, начальника, его заместителя, секретаря, младших сотрудников, канцелярию, архив, бухгалтерию, офицеров, старших надзирателей, надзирателей, уборщиц, поваров и тысячу других мелких сошек. И каждый из них хочет как-то устроить свою жизнь, у каждого есть свои расходы. Им нужны деньги, чтобы играть в карты, выпивать, производить потомство и радоваться его шалостям. А иные хотят построить дом, развести сад, купить обстановку, завести содержанку, поехать в Америку, приобрести для своей семьи крейслер или кадиллак, палантин из чернобурых лисиц и другие вещи.
Какой же великодушный человек захочет оплатить всё это? Если их привольное житьё не будет обеспечено, если они не смогут оплачивать чрезмерные расходы своих невесток и детей, этих молодых стиляг, кто же тогда будет возиться здесь с этими паршивыми калеками?
Вот почему это учреждение должно существовать. Что же касается заключённых, то нельзя же арестовывать воров, тем более что воры занимают в государственном аппарате очень высокие посты и имеют сильную руку и в других местах. Один вкушает палуде[93] с послом, другой — с посланником, третий — с советником, четвёртый — с первым секретарём посольства, а у кого нет подобных связей, тот дружит с телефонистом посольства.
Для того чтобы те, кто здесь властвует, могли полностью присваивать себе все деньги, отпускаемые на содержание заключённых, и, подобно муллам, распределять их между собой, чтобы они могли обирать всякого, кто попадёт к ним в руки, у них нет другого выхода, кроме как создавать дела на этих самых паршивых аббасов, на мешхеди мохаммедов голи.
Когда погожим днём какой-нибудь несчастный, ни в чём не повинный человек расположился в задней комнате своей лавчонки или когда он спокойно спит ночью в своей постели, эти люди вдруг сваливаются как снег на голову и на твоих глазах растаскивают всё твоё состояние, начиная от одеяла, стола, коптилки, шампура, треножника, жаровни и кончая браслетами и нижней юбкой твоей жены. А сам ты попадаешь в тюрьму и во весь объём своих лёгких дышишь целительным, ароматным воздухом тёмного застенка.
Когда же ты досыта насидишься в этом застенке, во мраке которого перед твоими глазами пройдут и твой покойный отец, и все семь поколений твоих предков, тебя вдруг хватают и тащат к прокурору, следователю, судье, к помощнику судьи и к тысячам других блюстителей порядка и правосудия. Выражаясь их языком, это означает, что они уже «закончили производством твоё дело». Они написали там всякую ложь, какая взбрела им в голову, а теперь ты можешь делать всё, что угодно твоей душе.
Тебя сажают на скамью подсудимых, и господин прокурор и судьи, одетые с головы до ног во всё чёрное и напоминающие своим видом стервятников, начинают «чинить правосудие». Они важничают, пыжатся, бормочут что-то себе под нос, делают какие-то записи, а потом все встают и один из них очень быстро, словно за ним гонится собака, читает какой-то длинный документ, и тебя снова тащат и бросают в тот же застенок на растерзание другим стервятникам.
Ты спрашиваешь! «Что случилось?» Тебе отвечают! «Ты осуждён на десять лет, десять недель, десять дней и десять ночей тюремного заключения». С этой минуты тебя называют «подлым авантюристом». Где бы ты ни появился, тебе говорят: вставай и убирайся отсюда вон. Повернёшься направо — «подлый авантюрист», повернёшься налево — то же самое. Если ты уснул, тебя пинают ногами и оскорбляют, не уснул — те же пинки и оскорбления. Всё это напоминает историю с подручным гладильщика: принесёт он утюг горячий — получает подзатыльник, принесёт холодный — опять подзатыльник, И никто не одёрнет гладильщика.
С тех пор как Аббас попал в эту яму, он старался не думать об этих вещах. Он постепенно забывал, кем он был, где он был, чем занимался и какое несчастье с ним стряслось. И вот появление здесь этого противного уродливого старика йездца снова пробудило в нём воспоминания, Снова Плешивый Аббас погрузился в размышления. Он вспомнил прошлое. Что ж, если у него тогда ничего и не было за душой, он всё же был свободен и кое-как сводил концы с концами. Он имел друзей, семью, лавочку, профессию, встречался с родственниками и знакомыми. А теперь он словно бродяга без рода и племени. Голый, раздетый, он настолько лишён всего, что во время сна одеялом ему служит только небосвод. Уже много дней ни жена, ни дети не приходили к нему на свидание, и он даже не знал, живы ли они.
А если они и придут, что он может сделать для них, чем поможет им? Ведь он уже больше ни на что не способен. Зачем он нужен им такой? Кто знает, когда он выберется из этого ада, и выберется ли сам, живым, или его вынесут другие?
Впрочем, этот старик Мешхеди Мохаммед Голи тоже уже ни на что не способен. Тогда зачем же его сюда привели? А вдруг он тоже ни в чём не виноват?
От этой мысли Аббас разрыдался. Ах, как легко у него стало на сердце! Ведь всё это время он даже плакать не мог. Пусть никто не сочувствует ему, но почему он не может посочувствовать другим? Пусть он не в силах помочь себе, но почему он не может помочь другим в их горе и облегчить их страдания?
Аббас попытался припомнить, как он попал в этот застенок. Да, это было за четыре дня до его ареста, до того дня, когда пришли за ним в его лавочку… Вечерело, начал моросить дождь. Потом он полил как из ведра. По опыту Аббас знал, что каждый раз, когда идёт сильный дождь и улицы покрываются грязью, на углу переулка останавливается автомобиль доктора Тейэби, и его толстая сгорбленная, словно пригнувшаяся от подзатыльника фигура появлялась в темноте. Воротник его пальто всегда был поднят. Низко над головой он держал зонтик, чтобы никто не увидел его лица и не смог узнать.
Едва доктор Тейэби доходил до дверей и не успевала ещё его нога коснуться первой ступеньки крыльца, как дверь открывалась. Войдя в дом, господин доктор закрывал зонтик и передавал его в. руки Мешхеди Мохаммеда Голи, верного слуги своего дорогого согражданина…
Здесь Аббас бросил взгляд в сторону старика йездца и увидел, что его голова на тонкой слабой шее, вылезающей из узких костлявых плеч, по-прежнему через определённые промежутки времени поочерёдно склоняется на все четыре стороны света.
Итак, Аббас вспомнил, что каждый раз во время таких сильных дождей, когда хороший хозяин и собаку не выгонит из дому, а волк не вылезет из своего логова, посетители господина доктора Тейэби один за другим выходили из шикарных автомобилей и, шлёпая по лужам, добирались до дверей дома Ахмада Бехина Йезди, а старик йездец осторожно и таинственно открывал им дверь и вновь закрывал её.
Аббас не был настолько глуп, чтобы не понимать, почему число этих очень непохожих друг на друга посетителей — армян и евреев, мусульман, гябров[94] и христиан, высоких и низких, толстых и худых, чёрных и белых — возрастает во время дождя. Аббас своей маленькой плешивой головой, своим куриным умишком, полученным в дар от бога, понимал, что в такое время движение на улицах становится менее оживлённым и к тому же, раз идёт дождь, можно поднять воротник пальто, обмотать голову кашне, опустить зонтик до самых плеч, и тогда любопытные, которые всюду суют свой нос и стремятся выведать всё, что делается вокруг них, не смогут узнать, кем является этот божий человек, куда и по какому делу он идёт.
Аббаса не зря называли Плешивым Аббасом, да и вообще господь-бог не зря сделал его плешивым. Я должен вам сказать, что люди, поражённые паршей, обладают своеобразным умом и природной проницательностью. Можно подумать, что, как только голова лишается волос, у человека прибавляется ума. Во всяком случае, этот Аббас, невзирая на свою плешивость, был способен давать уроки самому дьяволу и выманить змею из норы. Он знал лучше всех, что эти осенние и зимние проливные дожди посылаются господом богом лишь для того, чтобы его приближённые рабы, подобные господину доктору Тейэби, уважаемому депутату иранского народа, могли со спокойной душой и без помех обделывать свои делишки. Несмотря на то что Аббас был тёмным, неграмотным человеком, он благодаря своей природной смышлённости и ловкости прекрасно понимал, зачем являются сюда эти люди в дождливые вечера, и, хотя они поднимают воротники пальто, закрывают лицо кашне и прячутся под зонтиками, Аббас узнавал их и про себя разоблачал их тайные делишки.
Каждый из этих людей по нескольку раз, и ночью, и днём, в вечерней мгле и при утреннем свете, в сумерки, в полночь и в полдень, одним словом, в самое различное время дня и ночи, когда в переулке наступало затишье, проходил мимо Аббаса и укрывался в этом доме, где вершилось столько важных дел. Если Аббас даже не знал в лицо самих посетителей, то знал их обувь, их походку, узнавал их шаги, их манеру стучаться в дверь, знал даже запахи их духов и одеколона, различал цвет их автомобилей и знал их шофёров. Правда, ему были неизвестны ни их имена, ни их положение, ни их профессии, а иногда он даже не понимал их языка. И в то же время, когда Мешхеди Мохаммед Голи и Хава Солтан, несмотря на всю их смекалку, не могли разобраться в этом потоке людей, он знал, кто появляется здесь впервые, а кто — давнишний посетитель этой обители и покорный исполнитель воли доктора, посвящённый в его тайны.
В тот вечер в лавке Аббаса почти не было покупателей Единственный покупатель — старик носильщик, который за полчаса до того притащил мешок угля в дом, находившийся в конце переулка, а затем, ахая и охая, обливаясь потом и тяжело дыша, вошёл к Аббасу, взял тарелку киселя и усевшись в глубине лавочки, прильнув губами к краю тарелки, одним махом проглотил её содержимое. Само собой разумеется, всё, что делал носильщик, не было для Аббаса каким-то необычным зрелищем, поэтому Аббас, сидя на табуретке за прилавком, уставленным тарелками, заложив ногу на ногу и сдвинув набекрень шапку на своей плешивой голове, любовался небосводом и выглядывавшими из-за туч звёздами и думал о круглой, полной, упругой груди работницы из дома, расположенного напротив его лавочки, которая сегодня после полудня приходила в лавку Аббаса поесть киселя. Аббас вспоминал, как колышется под грязным шерстяным жакетом её грудь, и сердце его млело от истомы. Погруженный в эти мысли, он не сразу заметил, что в переулок въехали автомобили и из них один за другим выходят люди и направляются к заветной двери.
Как он ни всматривался в ботинки, калоши и брюки этих людей, он не мог их узнать. Нет, безусловно, никого из них он ещё не видел. Походка их была ему незнакома. К тому же сразу видно, что новые посетители не та, к расторопны, как прежние. Похоже, что они недостаточно хорошо ориентируются и не совсем точно знают дорогу. Выходя из машины, они озираются по сторонам, вглядываются в дома, стены, двери по обеим сторонам переулка, но, как только они замечают лавочку Аббаса и его плешины, которые виднеются из-под шапки, они успокаиваются, понимая, что прибыли по правильному адресу.
По всему было видно, что эта публика не принадлежит к числу старых клиентов и задушевных друзей господина доктора Тейэби, бессменного и незаменимого депутата от священного города Йезда. Видимо, у них только недавно появилась нужда в нём и сегодня впервые они явились сюда, для того чтобы поцеловать порог его дома и удостоиться чести быть принятыми этим средоточием всех полюсов политики.
Несмотря на свою плешивость, Аббас не сомневался, что господин доктор завлёк этих людей в свои сети в течение последних двух-трёх дней. Он обхватил руками свою плешивую голову — о, чтоб её скорее омыл мойщик трупов! — напряг всю свою память и пораскинул умишком. Внезапно он вскочил с табуретки, на которой сидел, молитвенно поднял голову, вперил свой взгляд в потолок и стал благодарить бога за то, что тот наградил его небольшим разумом, способностями и сообразительностью.
Он вспомнил, что только вчера или позавчера радиоприёмник в кофейне, расположенной на другой стороне переулка, снова орал на всю округу. Голос диктора, прерываемый паузами, словно он то и дело глотал слюну, торжественно объявлял, что мистер не то Догилас, не то Дугелас прибыл в Иран для совершения альпинистских восхождений.
Этот представитель Нового света, прибывший в Иран, для того чтобы взойти на вершины иранских гор и оттуда, с поднебесных высот, наблюдать за несчастными, обездоленными людьми, увидеть в домах женщин без чадор-намазов и насладиться их красотой, конечно, не может быть один. Он нуждается в подручных, главных надзирателях, сводниках и тому подобных типах. А может быть, посетители господина доктора Тейэби тоже его подручные?
Затем по радио передали, что этот мистер из Нового света, этот Догилас, или Дугелас, или что-то в этом роде, едва прибыв, уже обошёл определённый круг людей и, прежде чем начать восхождение на вершины, занимался чревоугодничеством на приёмах. Несомненно, он разослал своих слуг в разные стороны, чтобы они узнали, какая из горных вершин Ирана самая высокая, какая более полезна для здоровья, какая просто стоит того, чтобы человек провёл на ней денёк-другой, какая покрыта снегом, а какая — льдом.
Тут Аббас убедился, что его плешивая голова не настолько пуста, как думают его соседи, жена и дети. Правда, на его голове не растут волосы, но внутри неё паук не распустил своей паутины, и она не такая сухая и пустая, как тыква для, кальяна.
Аббас пристально всматривался в перекрёсток. Он заметил, что некоторые из этих новых посетителей при ходьбе с такой силой ставят ногу на землю, что грязь и брызги из-под их ботинок разлетаются на два-три метра и попадают на стены и двери домов. Аббасу и раньше приходилось видеть такую походку и даже самому некоторое время шагать, таким образом. Внимательно присматриваясь к прительцам и напрягая память, он вспомнил, что во времена покойного Реза-шаха, когда он, Аббас, выражаясь словами самого шаха, исполнял хедматвазифе[95], их учили ходить таким важным шагом и так же твёрдо ставить ногу на землю. Тут он сразу сообразил, что люди, идущие по переулку, безусловно, офицеры. Но это его тоже не удивило, ибо положение обязывает высокопоставленных господ заботиться о себе. Человек, который сел на самолёт и прилетел в Иран, чтобы совершить здесь восхождение в горы, безусловно, не какой-нибудь безродный бродяга, и правильно, что он остерегается, как бы на извилистой горной тропе или на перевале кто-нибудь внезапно не напал на него. Вот почему он привёз с собой нескольких офицеров. Пусть они оберегают его, и если даже они не совершат ничего героического, то по крайней мере могут вспугнуть возможных злоумышленников.
Несомненно, эти американские офицеры знают, что они находятся в Иране, что здесь существуют свои законы и что ка этой территории господствует ислам. Они, конечно, хотят познакомиться с нравами и обычаями этой страны, а наш господин доктор, если даже он ничего собой не представляет, всё же немного грамотный человек и он в какой-то мере может помочь им в этом. Ведь он ещё в начальной школе заучил элементарные положения шариата. Вот почему эти несчастные сиротинушки тайком приходят к нему и в зимнюю стужу, и в проливной дождь. И если, не дай бог, они — да оглохнет шайтан! — почернеют от холода в горах Ирана и ангел смерти во время бурана схватит их осла за ногу, они смогут правильно дать ответы на вопросы Накира и Мункера.
Тут Аббас провёл рукой по лбу, голове и шее, погладил брови, снова поднял взгляд к потолку и мысленно поблагодарил господа бога за то, что внутрь этой тыквы, которая называется головой Аббаса, он положил на хранение крупицу разума.
До позднего вечера, несмотря на проливной дождь, Аббас с увлечением наблюдал за этими необычными гостями.
В отличие от «лавки» господина доктора Тейэбив лавке Аббаса в тот вечер не было посетителей. Кому придёт в голову в такую ненастную погоду идти есть рисовый кисель?
Аббас был не в настроении. Идти домой и ругаться там с женой и детьми не хотелось, и он не знал, куда бы ему приткнуться. Он вспомнил, что уже давно не виделся со своими друзьями. Этот шалопай Иззат-Олла, который при встрече обычно выкладывает целую книгу всяких историй, вот уже два-три дня не наведывался к Аббасу. Может быть, с ним стряслась какая беда? Может, он попал в руки полиции? Он ведь всегда болтает о чём не следует.
Тут серые глаза Аббаса наполнились слезами и глубокий вздох вырвался из его груди. Он вспомнил о незабываемых днях, проведённых с этим Иззатом-Оллой! Сколько раз они ходили вместе на поклонение к святым местам!
Аббас ещё помнит, как у стены «башни молчания» гябров[96] он нагнулся, а Иззат-Олла влез ему на плечи и, вытянув шею, посмотрел, что делается за стеной. Затем они поменялись ролями и Аббас взобрался на плечи Иззата-Оллы. До сих пор, когда Аббас вспоминает о том, что он увидел, у него по телу начинают бегать мурашки.
К высоким стенам без единой двери, образующим большой круг, были прислонены трупы стариков и молодых, женщин и мужчин, обёрнутые в белые саваны. Взоры этих мертвецов, казалось, были устремлены на него, Аббаса. У одних не было глаз — их выклевали стервятники и вороны, у других были объедены лица и головы, и Аббасу померещилось, что их черепа, осклабившись, смеются над ним.
Другие трупы почернели под солнцем, их губы и щёки высохли, на чёрных лицах сверкали белые зубы.
На те трупы, которые ещё что-то сохранили на своих костях, стаями налетали птицы, валили их на землю и клевали. Повсюду слышались удары птичьих клювов о голые кости.
У некоторых трупов начинал распадаться скелет: у одних отвалился череп, у других — руки, у третьих — ноги. Женщин можно было распознать по разорванному на груди савану.
Видно, хищные птицы обладают немалым вкусом и когда они слетаются на этот пир, то сперва набрасываются на самые лакомые куски, а затем уже пожирают остальное.
Аббас, увидев эту картину, содрогнулся, но всё же, зажав пальцами нос, хотел ещё немного постоять на плечах Иззата-Оллы, чтобы лучше разглядеть всё, что происходит в башне. В это время стая крупных стервятников которая до его появления была занята дракой, завидев человека, бросилась к нему. Аббас в ужасе спрыгнул вниз, схватил Иззата-Оллу за руку, и они бегом спустились с холма.
С того дня каждый раз, когда Аббас страдал бессонницей или когда он съедал на ночь варёный рис, лапшу, кашу или ещё какую-нибудь тяжёлую пищу, его преследовали кошмары — ему снилась башня, полная костей, мяса и клочков от разодранных саванов. Весь мир представлялся теперь Аббасу не чем иным, как «башней молчания» гябров.
Если кто-нибудь из гябров на улице поскользнётся и упадёт, отдав богу душу, вокруг него сразу же собирается толпа и все начинают бить себя кулаком в грудь, вопить, плакать и жаловаться на бренность земного существования. Затем покойника поднимают и несут к «башне молчания». Здесь к стене приставляют лестницу, на плечах втаскивают покойника наверх, а потом опускают с другой стороны и подставляют ему под мышки два костыля, чтобы он не упал.
Убедившись, что покойник укреплён прочно, люди расходятся, а родственники тут же начинают делить его наследство. Каждый стремится захватить себе как можно больше из того, что имел этот несчастный. Сам же он остаётся один-одинёшенек в башне, с двумя костылями под мышками. Он стоит так до тех пор, пока у него не оторвётся нога и он не грохнется головой о землю или же пока с его скелета не свалится всё мясо.
Время от времени к башне приходят родственники, приставляют к стене лестницу и смотрят вниз. Если мясо полностью отделилось от скелета, они собирают кости и хоронят их где-нибудь.
Для того чтобы обрести вечный покой, тело несчастного должно подвергнуться страшным истязаниям. С того самого дня как труп спускают в «башню молчания» и до тех пор, пока птицы не раздерут на кусочки его тело, даже самые близкие родственники несчастного не считают его мёртвым и не имеют права похоронить.
Да, господин Плешивый Аббас, таков мир! А разве эта картина не отражает в какой-то степени нашу жизнь?
Те стервятники, которых ты видел в гябрской «башне молчания», являются прообразами этих самых аристократов, благородных людей, министров, директоров, депутатов и других властителей мира, которые на твоих глазах важно выходят из великолепных автомобилей разных цветов и проходят в «лавку» господина доктора Тейэби. В жизненной «башне молчания» они стремятся ухватить своими когтями и кровожадными клювами лучший кусок.
Несчастный, который попадается в лапы этих стервятников, не сможет избавиться от них, пока они до последнего кусочка не сдерут с его костей кожу, мышцы и сухожилия и не сожрут всё это тут же на месте или не снесут часть добычи своим друзьям, знакомым, подручным и соучастникам.
Эти питающиеся падалью стервятники, проходившие и днём и ночью перед лавчонкой Аббаса, были в его глазах настолько низкими и подлыми, что Аббас, самый ничтожный человек, до сегодняшнего дня ни разу не удостоил их даже прямым взглядом в лицо. Всякий раз, когда они проходили мимо его лавочки, он отворачивался, чтобы, не дай бог, глаза его не встретились с их глазами, чтобы снова не раскрылись раны его сердца, чтобы перед его взором снова не возникла та ужасная картина, которую он видел в «башне молчания» гябров.
О, если бы он не был занят своими покупателями, если бы не эта горсточка женщин и детишек, которые заходили поесть у него мороженое и рисовый кисель, если бы не бесконечные споры с Мешхеди Мохаммедом Голи и болтовня с Хавой Солтан, на нём, наверное, от этих переживаний уже давно сгнили бы семь саванов.
Однако ничто так не облегчало сердце Аббаса, как те полчаса, которые он проводил в чайной, расположенной недалеко от переулка Сарчамбак, беседуя с Иззатом-Оллой.
Каждый раз когда он замечал, что у господина доктора Тейэби в этот день больше посетителей, чем обычно, у него возникала острая потребность повидаться с Иззатом-Оллой. Человеку всегда радостно поглядеть в глаза своему другу, и, если он не будет иметь возможности видеться с ним, делиться с ним своими горестями, весь мир померкнет в его глазах. Ведь и Аббас, несмотря на свою плешивость и бедность, имеет сердце и тоже разбирается в том. что хорошо и что плохо, и к тому моменту, когда ему придётся покинуть бренную землю, он хочет понять, что же происходит вокруг него. Поэтому, когда он видит этих проходящих перед его лавкой аристократов, у которых и руки и одежда запачканы кровью, ему особенно хочется повидать Иззата-Оллу.
Ему хочется хотя бы полчаса посидеть с ним рядом на нарах чайной, выпить вместе по стаканчику чаю вприкуску, выкурить одну-две трубки его табака и раскурить на двоих одну ушнуйскую сигарету.
Посидев с Иззатом-Оллой каких-нибудь полчаса и побеседовав о всякой всячине, Аббас обретает полный душевный покой. Тогда он глубоко вздыхает, вытягивает на потёртом коврике босые ноги, снова надевает свои гиве, целует Иззата-Оллу и, измусолив ему щёки и подбородок, отправляется домой.
В ту ночь Аббас тоже направился в чайную, чтобы рассказать своему другу всё, что он видел за последние дни, в особенности во время сильного дождя, и снять со своей души этот тяжёлый груз. Иззат-Олла немного запаздывал. Аббас, сидя в кругу своих знакомых и сверстников, выпил два стакана чаю и уже начинал терять надежду на то, что Иззат-Олла придёт, как вдруг тот появился на пороге.
После традиционных поцелуев, к которым они привыкли с мальчишеских лет, Иззат-Олла поднялся на нары и сел. Сняв свои гиве, он скрестил по-турецки ноги и внимательно осмотрелся. Аббас сразу почувствовал, что у друга что-то неладно.
— Иззат, чтоб тебе не видеть добра, ты чего опять надулся? У тебя что-нибудь случилось?
— Нет, ничего. Но сегодня с самого утра у меня почему— то тяжело на душе.
— Ты что, поругался с кем-нибудь?
— Нет, как раз сегодня Хадиджа была более обходительной. чем всегда, и не бросалась на меня, как собака.
— Ну, так отчего же ты хандришь?
— Ей-богу, я и сам не могу понять. Ты знаешь, у меня это бывает — ни с того ни с сего вдруг начинаю киснуть.
— Да, но ведь ничего не бывает без причины. И плохое настроение тоже.
— Я и сам удивляюсь. В последнее время на меня частенько находит такая меланхолия, охватывает такая злоба, что в эти минуты мне не хочется никого видеть.
— Может, твой хозяин груб с тобой?
— К этому мне не привыкать. Он всегда грубый.
— Но, может, в последние дни всё-таки произошло что-нибудь неприятное?
Услышав эти слова, Иззат-Олла погрузился в раздумье.
— Мне кажется, ты прав, хотя я сам не могу разобраться в том, что произошло.
— Иззат, милый Иззат, человек ведь сделан не из камня. Есть вещи, которые он видит и вначале не задумывается над ними, а то и вообще забывает о них. Но то, что он видел, оставляет след в его душе. Исподволь оно завладевает его мыслями. Человек становится скрытным, начинает таиться от друзей. Может, и с тобой произошло что-то подобное?
— Да, ты, кажется, угадал. Я сам сначала как-то не задумывался над этим, а теперь, после твоих слов, вижу, что ты прав. Ну ладно, рассказывай, что там ещё задумали эти господа.
— Разве у них узнаешь! Судя по тому, что они зачастили в квартиру доктора Тейэби, видно, готовится что-то новое.
— То есть?
— С позавчерашнего дня и до сих пор к нему без конца приходят люди, звонят из американского посольства. И все разговоры вращаются вокруг нефти. Среди его посетителей появилось много новых, довольно-таки странных людей — какие-то толстяки в очках и с сигарами в зубах. Может, они замышляют что-нибудь против американцев?
— Нет, по-моему, дело обстоит как раз наоборот. Только позавчера вечером один из этих толстяков рассказывал об американцах, расхваливал их честность и благородство, их щедрость и умение дружить. У моего хозяина от радости сердце прямо таяло, и он без конца курил и пил виски.
— Что же теперь, по твоему мнению, должно случиться?
— А что ты ещё хочешь чтоб случилось? Все они из одной компании. Что может быть хуже той жизни, которой мы живём? Эх, братец, не думай об этом. Разве от этого что-нибудь изменится?
— Да, но хотелось бы по крайней мере умереть спокойно.
— А какая разница, кто из них нас съест — тот или этот? Да, милый мой Аббас, теперь я понимаю, что со мной творится. Как ты сказал, так оно и есть. Эти хождения, эти сговоры заставили меня глубоко задуматься. Как бы там ни было, но у каждого человека есть своя гордость и достоинство. Если хочешь знать правду, я не могу примириться с тем, что теперь, на склоне лет, мы попали в зависимость от каких-то американцев. Вот что гнетёт меня.
— А что, разве американцы — это плохо?
— Неужели ты забыл, какие безобразия творили они у нас в прошлом и позапрошлом годах? Как они привязывались ко всем красивым молоденьким девушкам и женщинам, забирали их с собой, совращали, а потом эти девушки бесследно исчезали.
— Ну хорошо, брат, а что тебе до этого? Они ведь нам не матери и не сёстры.
— Это правильно, но всё-таки нельзя допускать, чтобы женщину-мусульманку так позорно совращали с праведного пути.
— Да, но говорят, что у американцев очень много денег и они щедрее, чем англичане.
— Ну и что же из этого? Если бы они хотели растранжирить свои деньги, зачем им было приезжать сюда? Знай, они явились к нам потому, что зарятся на наши несчастные гроши. Э, брось ты забивать себе голову всякими пустяками. Вставай, пойдём немного прогуляемся…
Аббас вернулся домой поздно ночью. Несмотря на свою беспечность, несмотря на то, что он старался развеять тяжёлые мысли и тревогу Иззата-Оллы, сам он никак не мог заснуть. Ему трудно было разобраться в этих сложных, запутанных делах. Он был неграмотен, но всегда, когда школьники собирались вокруг его мороженицы и болтали о всяких делах, он невольно прислушивался к их разговорам. А случалось и так, что в хорошую погоду, когда кто-нибудь из клиентов доктора Тейэби в полдень или после обеда задерживался у него дольше обычного, его шофёру становилось скучно и он подходил к лавчонке Аббаса, садился и брал порцию мороженого. Обычно, если шофёр попадал сюда в первый или во второй раз, он молчал, но после трёх-четырёх посещений у него мало-помалу развязывался язык и он выбалтывал Аббасу кое-какие тайны.
От своих посетителей Аббас неоднократно слышал, что у политики нет ни отца, ни матери и что она никого не признаёт. Сначала Аббас даже думал, что политика — незаконнорождённый ребёнок или подкидыш. Затем он помял, что политика — это и есть та самая ложь, которую сочиняют сидящие там, на самом верху, люди и рассказывают друг другу.
В эту ночь в ушах Аббаса, словно похоронный звон, звучала фраза, которую он на протяжении своей жизни слышал много раз: «Политика не признаёт никого — ни отца, ни матери».
Аббас лежал в темноте и думал. Сердце его замирало, холодный пот покрывал всё тело, по спине пробегали мурашки, словно её обдувало холодным ветром, голова горела, Потом у него начали стыть руки и ноги, а в висках стучало, словно молотом.
В эту ночь Аббаса мучила бессонница. Мысли его порхали, словно воробышки в начале лета. Без всякой видимой причины ему вспоминались события, которые не имели никакого отношения ни к сегодняшнему, ни к завтрашнему дню и которые давно уже стёрлись в его памяти. Он почему-то вспомнил жену брата своего шурина, которая служила экономкой в доме одного из министров. Эта женщина вырастила четырёх, не то пятерых детей этого министра, поставила их на ноги, женила сыновей и выдала замуж дочерей. Она была посвящена во все дела и все тайны дома. Ей доверяли деньги. Если хозяин дома тайком сходился с какой-нибудь служанкой или приводил новую наложницу, она об этом знала. Она была посредницей в делах его сыновей и дочерей, она получала и передавала интимные письма хозяйки дома. Короче, она была хранилищем тайн всех членов семьи — от мала до велика. Все клялись её головой, и всё, чем они обладали, находилось в её руках.
В конце концов, после тридцати-сорока лет беззаветной службы в этом доме, её однажды нашли в постели посиневшей, с вылезшими из орбит глазами. На шее у неё была чёрная полоса, язык вывалился изо рта. С плачем и причитаниями вынесли её тело из дома и похоронили. На могиле её воздвигли кирпичный склеп.
Поговаривали, что старуха в последнее время стала бесноватой и по ночам на неё нападал домовой, который и удушил её. Но этот проклятый Иззат-Олла — чтоб ему остаться сиротой! — всегда что-нибудь придумает. Он даже сочиняет всякие небылицы про святых и про самого пророка. Так вот, Иззат-Олла, услышав эту историю от Аббаса, как будто догадался о чём-то, покачал головой и сказал: «Да стану я жертвой легковерных людей, если эту бедную старушку не задушили. А теперь говорят, что с ней расправился домовой».
Аббас спросил: «Иззат-Олла, почему ты так думаешь?»
«Моя бабушка тоже одно время была служанкой в одном аристократическом доме, — ответил Иззат-Олла, и у неё тоже к старости сработались некоторые винтики. Старуха стала болтливой и совсем не могла держать язык за зубами. Стоило ей сесть и завести с кем-нибудь разговор, как она выкладывала своим и чужим всё, что видела и слышала. Два или три раза хозяин и хозяйка, грубо отчитав её, приказали ей помалкивать. «Ты сперва пожуй свои слова, а потом проглоти, — сказали они, — а не то мы заставим тебя замолчать навеки».
Бабка моя не придала значения словам хозяев и продолжала вести себя довольно свободно. Однажды ночью, перед рассветом, она проснулась и заметила, что хозяин на цыпочках вошёл в её комнату. Внезапно навалившись на неё, он схватил её за горло и стал душить. Да упокоит господь душу бедной старушки, она была женщиной довольно хитрой и быстренько раскрыла рот, пустила слюну, похрипела немного, вытянула руки и ноги и прикинулась мёртвой.
Увидев это, хозяин дома решил, что ангел смерти пришёл на свидание к моей бабке, что с ней всё покончено. Он поднялся, ушёл к себе и сделал вид, что спит. А старуха, как только в доме всё затихло, накинула на голову чадор-намаз и босиком убежала в дом своего младшего сына».
Услышав эту историю, Аббас вначале не поверил Иззату и сказал: «Нет, Иззат, чтоб тебе умереть в молодые годы, ты хватил лишку. Разве разумный человек станет душить свою служанку, которая верно служила ему тридцать или сорок лет?» Тогда Иззат ему ответил: «Да подаст господь тебе немного ума, а мне немного денег. Разве ты не знаешь, что это племя не имеет ничего святого? Ты думаешь, они допустят, чтобы кто-нибудь разглашал их тайны? Политика этих людей именно в том и заключается, чтобы всякого, кто служит им и начинает постепенно разбираться в делах и секретах хозяина, послать в объятия праотцов, дабы на этом свете он не смог никому поведать хозяйских тайн. Не зря говорят, что политика не признаёт ни отца, ни матери».
В эту ночь подобные мысли не давали Аббасу уснуть. Он то и дело ворочался с боку на бок, обхватывал руками колени, садился, стискивал зубы, сжимал руками голову, но сон не шёл к нему.
Ещё никогда в жизни он не проводил такой ночи. Он не хотел думать, но мысли одна за другой лезли ему в голову, он не хотел ничего вспоминать, а на него нахлынули воспоминания. Не зная, как дождаться утра, он стал перебирать в памяти всё, что знал о святых, о пророке, прочитал все, какие только знал, молитвы. В — детстве мать учила его в таких случаях читать суру двести пятьдесят шестую из корана и дуть на себя. Он по крайней мере двадцать раз повторил этот стих, но легче ему не стало. Тогда он вспомнил, что его бабушка когда-то говорила ему, что если он встретится со змеёй или со скорпионом, то нужно сказать заклинание: «Шадчан, карния, карния, карни». Он сто раз прошептал это заклинание, изо всех сил дул на себя, но так и не уснул.
Странные мысли не давали ему покоя. Казалось, будто в его голове производят генеральную уборку, встряхивают его мозги и из них высыпается всё, что накопилось там за много лет.
Он вспомнил ещё один случай: в тот день, когда он рассказал историю старухи экономки этому самому Мешхеди Мохаммеду Голи, который теперь, сидя перед ним, качает во все стороны головой, будто бы расшатался винт, на котором она держится, тот ему сказал: «Да упокоит господь душу твоего отца, ты понятия не имеешь о жизни аристократов. Ты дитя современности, но, если бы тебе пришлось пожить в наши времена, тогда бы ты ещё не то увидел. Прежде, когда мы были молодыми, аристократы брали безусых и безбородых юнцов к себе и содержали— их. А когда у юнцов появлялись усы и борода и они уже больше не годились для тех дел, из-за которых их содержали, хозяева, чтобы удержать их в своём доме, выдавали за них замуж своих дочерей». Аббас тогда от удивления даже рот разинул. Наконец он сказал: «Мешхеди, а ты не выдумываешь?» Мешхеди Мохаммед Голи растерялся: «Юноша, чем же я на старости лет заслужил от тебя такие упрёки? Я тысячу раз своими собственными глазами наблюдал такой позор. Случалось даже, что, если такой человек умирал, жена его, не успев снять с себя траурной одежды, венчалась с этим мальчишкой и он становился официальным преемником хозяина, а спустя две-три недели ему передавались должность, богатство и даже чины покойного»…
Аббас всё ещё вертелся с боку на бок, читал про себя молитвы и дул на себя.
Наконец в соседнем дворе запели петухи, а вскоре и окна стали светлеть. Аббас облегчённо вздохнул, поднялся с постели, подошёл к водоёму, плеснул несколько пригоршней воды на лицо, зевнул, потянулся, дважды ударил себя кулаком в грудь, почесал затылок и, вернувшись в комнату, разбудил жену, чтобы она приготовила чай.
Нужно было идти в лавку, но он чувствовал такую слабость в коленях, что ноги просто не держали его. Он задумался: идти или не идти? Если не идти, как он тогда покроет расходы сегодняшнего дня? Он даже не знает почему, но когда он наконец решился пойти и стал поправлять задники своих гиве, ему захотелось крепко прижать к груди жену и детишек, расцеловать их и попросить не поминать его лихом. Он тоскливо оглядывал свою комнату, будто чувствовал, что уже не вернётся в этот дам и не увидит больше ни жены, ни детей.
Никто не может постичь этой тайны природы — почему человек иногда заранее предчувствует беду. Он не знает, что скрыто за завесой будущего, что ему уготовила судьба, ведь никто об этом не сообщает ему, но всё же он что-то предчувствует, будто опасность, несчастье, напасть, смерть, небытие имеют свои специфические запахи, которые за много фарсангов улавливаются несчастными и беззащитными людьми.
Говорят, что за час до землетрясения вороны начинают каркать, метаться и стремятся улететь подальше от опасного места. Когда опасность минует, они прилетают обратно.
Человек тоже иногда предчувствует опасность. На душе у него становится тяжело, и его охватывает какое-то смутное волнение. Сердце начинает колотиться сильнее, в висках гулко стучит кровь, голова горит, руки и ноги дрожат, и он не может сделать ни шагу.
Аббас не имел на этом свете почти ничего. Три-четыре десятка оббитых и потрескавшихся фаянсовых тарелок допотопных времён, десяток-полтора разноцветных — белых, зелёных, голубых и жёлтых — вазочек для мороженого, два подносика, стоявших на прилавке, на одном из которых он расставлял тарелки для рисового киселя, а на другом вазочки для мороженого; три-четыре десятка ложечек для киселя и мороженого, которые некогда были блестящими, а теперь пожелтели, словно зубы курильщика опиума; восемь расшатанных венских стульев, расставленных вдоль стены лавки; одна выцветшая набедренная повязка, которую он набрасывал на котёл для киселя или на мороженицу; одна кастрюля; один дуршлаг с длинной ручкой, который, так же как и видавший виды котёл, очень давно не был в мастерской лудильщика; одна мороженица, которую тоже лудили невесть когда, а теперь она, подобно бороде Хаджи Сафара Али — бакалейщика, державшего лавочку напротив, — когда он в течение двух месяцев не красит её хной, облезла и местами стала белой, а местами — красной; одна деревянная лопаточка, которая благодаря милости божьей до того места, до которого она погружается в молоко, была белой и чистой, а остальная её часть, соприкасавшаяся с руками Аббаса, настолько почернела от грязи, что, если бы её стали мыть даже тысячу раз, не смогли бы отмыть этой грязи, — вот и всё достояние Аббаса.
Человеку, всё богатство которого заключено в таком барахле, человеку, который, кроме этого, ничего на свете не имеет, бояться нечего. Разве есть на земле цвет темнее чёрного? Разве Аббас обладает имением, водой, землёй, домом и обстановкой, которые можно отобрать?
Всё это, конечно, правильно, но, случись что, кто же тогда будет кормить его жену и детей, кто позаботится о них? Кто поставит перед ними вечером, когда они соберутся поужинать, три сангяка[97] и сир халвы в зимнюю пору, две варёные свёклы весной и осенью, пять сиров винограда и один сир сыру или одну чашечку подслащённого уксуса летом?
Кто купит раз в году два-три платья из ситца или холста и грубую шерстяную одежду для детишек?
Конечно, такому человеку, как Аббас, не следовало обременять себя семьёй. Это было, конечно, опрометчиво с его стороны. Разве мышь, собираясь влезть в нору привязывает к своему хвосту веник? Но раз он совершил эту глупость, обзавёлся женой и детьми, он обязан кормить их. Ведь, что бы вы ни говорили, он тоже мужчина и у него есть и самолюбие и понятие о чести.
Нет, Аббас не должен так легко попасться в ловушку, не должен покориться несправедливости судьбы, не должен сидеть сложа руки, прикинувшись, будто он не замечает всех тех бедствий, которые для него уготованы.
С этими мыслями Аббас дошёл до двери своей лавчонки. Он достал из кармана ключ, нагнулся, протянул руку к латунному замку, перешедшему к нему в наследство от отца, вложил длинный тонкий ключ в узкую замочную скважину и четырежды повернул его. Полукруглая дужка замка открылась. Аббас толкнул дверь и вошёл в лавку. Затем он развёл огонь в очаге, чтобы сварить кисель, налил из кувшина в котёл молоко, которое он накануне вечером взял у молочника, принёс рисовой муки и сахару. Солнце уже показалось из-за крыши соседнего дома. Аббас торопился скорее сварить кисель. Дни стали холоднее, и люди, которые выходили из дому рано, не прочь были съесть тарелку горячего киселя.
Время от времени Аббас опускал в кипящий кисель свои пальцы, уже привыкшие к этому за много лет, затем вытаскивал их, совал в рот и пробовал, готово ли его варево, достаточно ли в нём сахару и рисовой муки. Вынув пальцы изо рта, он вытирал их о выцветшую набедренную повязку. Эту процедуру он повторил несколько раз и наконец, в последний раз засунув палец в котёл с киселём, он быстро отдёрнул руку, помахал ею в воздухе и попробовал кисель, налипший на палец. Затем он взял дуршлаг с длинной ручкой, лежавший на лотке с вазочками для мороженого, и налил в каждую из тарелочек по два дуршлага кипящего киселя. В этот момент неожиданно, без какой-либо видимой причины, сердце его снова тревожно забилось и его вновь охватило волнение.
Кто знает, почему человек, когда ему угрожает опасность или несчастье, беспричинно озирается по сторонам, будто хочет увидеть, с какой стороны настигнет его беда, через какую дверь просунет она свою голову, из-за какого угла появится.
Оглядываясь по сторонам, Аббас увидел, что дверь дома господина Ахмада Бехина йезди, благородного члена иранского суда, раскрылась и из-за неё показалась знакомая голова Мешхеди Мохаммеда Голи. Старик дошёл до угла, осмотрел улицу и, убедившись, что поблизости никого нет, вернулся к двери и сделал условный знак. Господин доктор Тейэби торопливо спустился по ступенькам, быстро выскочил в переулок, прошёл мимо лавки Аббаса и юркнул на заднее сиденье автомобиля, дожидавшегося его на углу. Шофёр закрыл за ним дверцу, взялся за руль, и автомобиль тронулся.
Когда на улице появлялась фигура этого депутата иранского народа, Аббас умышленно никогда не глядел на него и устремлял свой взор куда-нибудь в сторону. Делал он это не потому, что ему была противна физиономия человека, который, несмотря на свою неграмотность, прекрасно понимал., какие преступления и предательства он совершил, а потому, что Аббас слыхал, будто всякого, кто посмотрит в лицо таким людям, постигнет какое-нибудь несчастье.
С самого раннего детства его отец, мать и ахунд, который давал религиозные советы в мечети шаха, говорили ему, что если человек выходит ранним утром из дому и взгляд его падёт на ворону, на чёрную кошку, на рогатую корову, на короткошёрстого вьючного верблюда, на сову, слепую мышь или ещё на что-нибудь в этом роде, то не успеет он дожить и до вечера, как с ним стрясётся какая-нибудь беда. Если к тому же ему пересечёт дорогу гябр, еврей, армянин, погонщик верблюдов, палач или мясник, то бедняга, согласно шариату, должен уплатить мулле семьсот динаров, чтобы избежать дурных последствий этой встречи. Итак, каждый раз, когда в раннюю пору господин доктор Тейэби по знаку Мешхеди Мохаммеда Голи осторожно выходил из дому, Аббас, заметив издали его фигуру, отворачивался и смотрел в другую сторону, стараясь, чтобы его взгляд не упал на благородное лицо этого уважаемого господина. Стоит ли в такие дождливые дни, когда в торговле полный застои и он до заката солнца вряд ли продаст больше двух-трёх порций и с трудом выручит деньги, чтобы накормить детишек, из-за одного только взгляда рисковать семьюстами динаров своих кровных денег.
Вот почему Аббас обычно прикидывался, будто ничего не видит, и не глядел в сторону доктора Тейэби. Но на этот раз, в тревожном предчувствии какой-то беды озираясь по сторонам, он вдруг случайно посмотрел прямо ему в глаза. Гневный взгляд доктора Тейэби привёл беднягу в себя, и он сразу же понял, что совершил непоправимую ошибку. Но что толку в том, что он всё это понял: исправить ошибку было уже нельзя.
Как только посланец от жителей Йезда уселся в автомобиль, Аббас подумал, что несчастье постигнет его сегодня же и что наконец встреча с вороной, совой и подобными им существами у него произошла.
Когда человек чувствует приближение несчастья, им овладевает милосердие, уступчивость и особая щедрость. Аббас в этот день подавал каждому посетителю большую порцию киселя, чем обычно. Он не очень настаивал на немедленном получении денег. Если кто-нибудь просил его дать кисель в долг, он охотно делал это, а если кто уходил, совсем не уплатив ему, он прикидывался, что не заметил этого.
Мало кому известно, что среди бедных оборванцев, одеялом которым служит небесный свод, встречаются люди необыкновенно великодушные и благородные. Так как они не рекламируют своих высоких душевных качеств, не располагают радио, громкоговорителями, газетами и парламентскими трибунами, они не могут поведать людям, какие достоинства таятся в них, какими дарованиями и способностями наделил их бог. Эти люди в тяжёлые для других минуты могут с лёгкостью отдать ближнему последний кусок или по крайней мере хорошо обходиться с людьми и не обижать их. А ведь хорошее обхождение с бедными, несчастными людьми — это как бы резерв добрых дел, на случай если сам попадёшь в беду.
В тот день Аббас больше, чем когда-либо, проявлял эти данные ему богом и впитанные с молоком матери, присущие его классу качества. Он чувствовал, что сегодня должен совершить что-то особенное, чтобы все жители квартала были им довольеы, простили ему обиды, которые он, может быть, нанёс им в прошлом, не поминали его лихом, если они уже больше не увидят его, не посылали ему вслед проклятий, не тревожили бранными словами души— его усопших родителей и не поднимали из могилы его умерших предков. И, чтобы в тот день, когда он уйдёт из этого мира, при упоминании его имени они хотя бы говорили: «Да упокоит господь его душу». И если после него кто-нибудь в этой самой лавчонке начнёт торговать киселём и мороженым, то пусть люди, которые придут к нему в лавку, скажут про её прежнего владельца: «Блаженной памяти Аббас» — или: «Господи, упокой его душу, он был неплохим человеком, понятливым, знающим цену и людям, и дружбе. Он был человеком великодушным и честным, умел ценить добрососедские отношения, был приветлив и внимателен».
Не успел Аббас съесть толчёного мяса с хлебом, — остатки вчерашнего ужина, которые жена перед его уходом в лавку завернула в клетчатый ситцевый платок и положила ему в карман, — как увидел, что один из новых американских автомобилей, которые называют «джипами» и которые недавно вошли в моду, остановился на углу переулка.
Два противных урода полицейских в синих мундирах и мягких шляпах, которые им выдали два-три дня назад, выскочили из машины и направились прямо к его лавочке.
Аббас предчувствовал приход этих людей и поэтому, увидев их, не растерялся.
— Это ты Аббас, продавец мороженого?
— Да, ваше превосходительство, я ваш покорный слуга.
— Вставай, собери свои пожитки и пойдём.
— Может, вы изволите сказать, куда мы пойдём?
— Брось прикидываться дураком, сам прекрасно знаешь.
— Откуда мне знать, клянусь вам, я и в мыслях не имел ничего подобного.
— Имел или не имел — это нас не касается.
— Так что же прикажете мне делать?
— Ничего, вставай, выгони этих паршивцев из своей лавочки, закрой её и пойдём.
— Но, господин полицейский, ведь у меня семья, жена, дети, у меня есть платежи и невзысканные долги. Что же будет с ними? Что же будет с женой и детьми?
— Это нас не касается. Ты можешь иметь всё, что твоей душе угодно, и всё равно твою дальнейшую судьбу определит полицейское управление.
— Но что же я сделал плохого?
Это нас не касается. Если мы будем целый час отвечать на вопросы всякого, кого вызывают в полицию, мы не сможем арестовать за сутки более двух преступников
— Да разве я преступник?
— Мы ведь не сошли с ума, чтобы прийти сюда среди бела дня заводить с тобой споры, если бы ты не был преступником.
Ну, тогда пусть хотя бы эта бедняжка, которая только что начала есть свой кисель, съест ещё несколько ложек. Тогда и пойдём со спокойной душой.
— Попридержи язык, вонючий паршивец, не то тебя вместе с твоими покупателями скоро заберёт мойщик трупов. Какое нам дело до этой бабёнки? Пусть она выйдет из лавки, сядет у стены и слопает этот змеиный яд.
Несчастная женщина поспешно одёрнула свой выцветший, заплатанный чадор-намаз и, глубоко вздохнув, с шумом втянула ртом остатки киселя, пролив часть его на землю. Затем она встала, бросила деньги на лоток Аббаса и быстро исчезла за углом.
— Ну а теперь чего ты мешкаешь?
— О, господин полицейский, предложение, которое вы мне делаете, не такое уж заманчивое, чтобы человек сразу поднялся, запер свою лавку и последовал за вами туда, куда вашей душе будет угодно.
— Ну, знаешь ли, ты ведёшь себя слишком нахально. Мы пришли сюда не по своей воле. Приказ о твоём аресте был дан час назад, и с тех пор из меджлиса уже пять раз звонили и справлялись, арестован ты или нет.
— Но у меня нет родственников в меджлисе.
— Да упокоит господь душу твоего отца, при чём тут родственники? Одного господина доктора Тейэби достаточно на все семь поколений твоих предков.
Вот тут-то Аббас сообразил, в чём дело. Огромное несчастье поразило его, как удар молнии. Весь мир в его глазах потемнел. Ноги подкосились, голова закружилась, холодный пот покрыл всё его тело, и, чтобы не упасть, он опёрся о стену.
В этот момент он снова услышал:
— Ну, шевелись, не прикидывайся мертвецом. Собирай свои пожитки. Нам некогда нянчиться с тобой.
— Но, господин полицейский, клянусь господом, святыми, пророком, у меня так дрожат руки, что я не могу запереть лавку.
— Ну и чёрт с ней, с лавкой. Ведь не вымерли же все у вас в квартале, найдётся кто-нибудь, кто запрёт её за тебя и передаст ключ твоим наследникам.
— Вы не даёте мне возможности собрать моё добро даже теперь, пока я живой и голова моя ещё держится на плечах. Что же будет, когда я направлюсь в преисподнюю, кто тогда позаботится о моём добре? Вы или паши хозяева?
— Ну, нам некогда возиться с тобой. До вечера мы должны арестовать ещё человек тридцать-сорок. Вставай скорее и пошли.
Когда владеющие речью существа говорят повелительным тоном, несчастным людям не остаётся ничего другого, как повиноваться. Но порой язык бессловесных предметов бывает ещё более повелительным и не допускающим никаких возражений. Три удара прикладом винтовки, которые один за другим обрушились на Аббаса, были так красноречивы и так решительно отрезали всякие пути к колебанию и неподчинению, что Аббас не только отказался от своей лавчонки и того, что в ней находилось, но даже готов был отказаться вообще от всего, чем он обладал на белом свете.
Теперь, когда Аббас отведал эти первые нежные официальные прикосновения заботливой руки иранского правительства, он смог представить себе, какие возвышающие душу и услаждающие тело удовольствия ожидают его впереди. Возможно, что два полицейских, пришедших за ним, были предвестниками этого радужного будущего. Их, очевидно, прислали специально для того, чтобы они приоткрыли перед ним уголок завесы над тем обетованным раем, куда он должен был вступить.
Во всяком случае, решающим последствием этих трёх ударов прикладом было то, что Аббас быстренько обмотал вокруг головы свою выцветшую набедренную повязку, собрал с лотка горсточку медных монет, полученных у вчерашних и сегодняшних покупателей, боязливо сунул монеты в складку своего выцветшего пожелтевшего кушака, поправил задники своих гиве, глубоко, до самых бровей натянул шапку и, окинув тоскливым взором двери и стены своей лавчонки, вышел на улицу. Там он торопливо установил на место щиты, которыми закрывал лавку, достал из кармана свой знаменитый ключ, известный всем жителям квартала, запер лавку на замок, осмотрелся и тремя пальцами руки сделал короткий выразительный жест в сторону дома господина Ахмада Бехина йезди. Неожиданно дверь дома раскрылась и показалась голова Мешхеди Мохаммеда Голи. Аббас отдал ему ключ и, не б силах сказать ничего больше, только произнёс:
— Я вверяю своих детей твоему попечению. Скажите также Хаве Солтан, пусть она простит меня, если я её чем-нибудь обидел. И ты, дорогой Мешхеди, прости меня, если я вольно или невольно причинил тебе неприятность.
О, эти капли тёплой кристальной жидкости, которые называются слезами, кто знает, когда они появятся на глазах, какие чувства скрываются за ними! Впервые в жизни несколько таких капель скатились на белую, пожелтевшую бороду Мешхеди Мохаммеда Голи в тот момент, когда холодный и грязный ключ коснулся ладони его руки. Что же касается Аббаса, то его силой потащили дальше.
Аббас слыхал, что обычно всякого арестованного полицейские тащат, словно собаку, и, как они выражаются, «сдают в руки правосудия». Там его допрашивают, заставляя признаться в том, в чём он не виноват, устраивают всяческие ловушки, чтобы, выпытать у него какие-либо показания, затем толкуют эти показания по-своему, записывают в протокол допроса, обмакнув палец арестованного в чернила, прикладывают его в конце протокола и делают вид, что вырвали у него признание, тогда как несчастный арестованный даже понятия не имеет о тех преступлениях, которые ему приписываются.
Аббас тоже приготовился предстать перед такой чернильной душой, сидящей за ветхим столом на расшатанном стуле, под охраной двух часовых, которые стоят по обе стороны, и принять на себя всё, что они хотят ему приписать.
Когда Аббас вступил на территорию главного полицейского управления, в душе его ещё теплилась надежда, так как всё незнакомое и неизвестное всегда таит в себе какой-то проблеск надежды. Ему не терпелось узнать, чем всё кончится. Это чувство напоминало детскую любознательность, которая в какой-то степени сохраняется у каждого человека и в силу которой людей тянет даже к плохим и опасным делам. Так ребятишки играют с огнём или вытворяют ещё какую-нибудь шалость, потому что им интересно узнать, к чему приведёт их баловство.
Охваченный этим чувством, Аббас покорился своей судьбе. Он быстро спустился по тёмным сырым лестницам подвала, в который его привели. Там, в углу, возле стены, цвет которой невозможно было различить, он расстелил на сыром кирпичном полу свою набедренную повязку, подложил гиве под голову и решил поспать, так как ничего другого ему не оставалось делать. Ничто на свете так не успокаивает человека в моменты большого душевного волнения, как сон. Люди думают, что человек засыпает только тогда, когда на душе у него спокойно и ничто не тревожит его мыслей, но это неправильно. Порой, в состоянии крайнего волнения, когда человек совершенно не знает, что ждёт его впереди, когда нет никакой надежды на лучшее и когда даже думы о будущем причиняют ему страдания, лучше всего вообще перестать думать, и сон тогда является единственным способом избежать мучений, найти хоть какое-то забвение.
Первое впечатление, которое сложилось у Аббаса о «камере предварительного заключения», было таково: в этом земном раю и правительственном доме отдыха, куда власть имущие, казалось, обязались водворить каждого беззащитного бедняка и содержать его там по своему желанию несколько лет или даже до конца его жизни, царил особый дух зависти, злобы и ненависти. Люди, на обязанности которых лежит приём и забота о заключённых, прилагают все усилия к тому, чтобы не дать им ни одной минуты покоя. Можно подумать, будто они боятся, что, если оставить заключённого в покое хотя бы на одно мгновение, он может забыть, где находится.
Именно поэтому, не успел Аббас ещё и сомкнуть глаз, как сапог одного из старших надзирателей довольно чувствительно ткнул его в левый бок. Возможно, господин старший надзиратель специально хотел проверить, что будет, если недавно полученный им американский сапог соприкоснётся с боком несчастного иранца. Ведь в этой области пока ещё ни американские советники, ни иранские офицеры не имели достаточного опыта.
В тесном, тёмном и сыром подвале дни и ночи Аббаса проходили однообразно. Никто у него не спрашивал, что он здесь делает, и он в свою очередь никому не задавал подобных вопросов. Есть вещи, о которых люди или боятся спрашивать друг друга, или просто считают это бестактным. Каждый раз, когда в эту райскую обитель входил надзиратель или старший надзиратель, он умышленно не смотрел в сторону Аббаса, опасаясь, как бы ему не пришлось отвечать Аббасу на его вопрос. Да и вообще-то разве он мог что-нибудь ответить, разве от него что-нибудь зависело? Всё решали люди, стоящие значительно выше его. Даже более того: пожалуй, и от них мало что зависело. На вопрос Аббаса могли ответить только те, кто находится по ту сторону океана. А значит, этот вопрос должен быть задан не на персидском языке. Правда, этот Плешивый Аббас, продавец мороженого и рисового киселя, не был такой важной персоной, он не имел ни звания, ни состояния, ни такого социального и политического положения, чтобы там, в самых высших сферах, подумали о нём и позаботились о его дальнейшей судьбе. Возможно, что по ту сторону океана никто даже и понятия не имеет о том, что на свете существует какой-то Аббас, плешивый человек с душой и разумом, с глазами, которые видят, ушами, которые слышат, сердцем, которое бьётся, что у него есть жена и дети, у которых имеется рот, желудок, и что им надо есть и надо одеваться. Конечно, никто там, за океаном, не думал о нём, даже не произносил его имени. Но там были, разработаны принципы, был составлен план и пущена в действие машина, и теперь, если даже сотни тысяч, миллионы подобных Аббасу, высоких и низких, женщин и мужчин, молодых и старых, белых и чёрных, попавшие в соответствии с этим планом в общий котёл, сгорали бы в нём или задыхались и слепли от дыма горевшего под ним огня, всё равно репутация создателей этого плана останется незапятнанной.
Спустя три месяца в один прекрасный день чаша терпения этого ничтожного, Плешивого Аббаса, который даже не имел права задавать вопросы или интересоваться своей судьбой, наконец переполнилась. От этой мертвенной тишины и полного неведения, что делается на белом свете, терпение Аббаса лопнуло. Он решил, что, как только в камере появится старший надзиратель, чтобы учинить расправу над его товарищами по несчастью, он, если даже это будет стоить ему жизни, спросит у него о своей дальнейшей судьбе. Он так и сделал. Когда старший надзиратель явился в камеру, чтобы обобрать заключённых, Плешивый Аббас с благоразумной предосторожностью, дрожащим голосом задал ему вопрос:
— Господин начальник, что же будет с моим делом?
— С каким делом? Разве у тебя есть какие-нибудь дела?
— Как долго я ещё буду сидеть здесь?
— Просто удивительно, стоит дать таким, как ты, хоть немного поблажек, как вы готовы уже на голову сесть! Разве тебе надоела такая спокойная жизнь? Ты здесь круглые сутки только ешь и спишь и ты же ещё недоволен?
— Но, господин начальник, ведь у меня семья, жена, дети, у меня есть ремесло и работа, кое-кому я должен, кое-кто должен мне…
— А что мне до того, что у тебя ремесло и работа! Разве я поручился, что ты не попадёшь в ад?
— Да, но я же пришёл сюда не по собственной воле, меня пригнали ударами прикладов.
— А ты хотел, чтобы тебя встречали здесь конфетами и кричали: «Добро пожаловать»? Ты, может, даже рассчитывал, что за тобой пришлют шикарную машину?
— Раз уж вы меня сюда привели, так не откажите в любезности сказать, сколько я пробуду здесь.
— Сколько ты пробудешь здесь? Столько, сколько всё, — до тех пор, пока не смиришься, подлый мошенник!
— Но где же тогда суд, прокурор и правосудие, о которых так много говорят?
— А какое они имеют к тебе отношение? Они существуют для людей, которые хотят взыскать с кого-нибудь причитающиеся им деньги, получить обратно своё имущество, добиться от жён отказа от претензий, которые те предъявляют им, и скорее избавиться от самих жён, а из— за такого голодранца, как ты, никто не будет созывать судебного заседания. Ах ты, несчастное, бессловесное животное, кто же тебя будет судить? Разве прокурор, судьи и следователи шахиншахского правительства сидят без дела и у них есть время возиться с тобой? Ты разве не слыхал, что законодательная власть страны пользуется большим уважением, независимостью и никому не подчиняется?
— Да, но неужели я не могу узнать о том. что меня ждёт?
— Что тебя ждёт? Всё очень просто. Ты подданным шахиншахского правительства Ирана, ты Плешивый Аббас, продающий мороженое на перекрёстке у источника.
Ну, что тебе ещё надо? Уж не хочешь ли ты получить от меня оставшееся тебе в наследство от отца имущество?
— Так что же, нас так и не будут судить?
— Ну, если тебя одолевает такой зуд, мы не возражаем. Даст бог, в ближайшие дни твоя участь будет решена.
На основе большого и разностороннего опыта, приобретённого Аббасом за время его пребывания в тюрьме, он пришёл к выводу, что аппарат шахиншахского правительства, подобно учредителям некоторых религий, скорее осуществляет свои обещания относительно ада, мучений и страданий, чем обещания о рае и существующих там благах. Здесь, в тюрьме, тоже очень быстро выполнили своё обещание. Спустя три дня после разговора Аббаса со старшим надзирателем двое часовых с винтовками на плече вывели его по лестнице из этого проклятого подвала на улицу. Дрожа от страха и волнения, Аббас прошёл Баге-мелли, проспект Хайяма, поднялся по лестнице Дворца правосудия, прошёл извилистые коридоры. Наконец его остановили перед дверью одной из комнат. Здесь он очень долго сидел на корточках в ожидании. Посетители нескончаемым потоком входили и выходили из комнаты. Под охраной часовых туда приводили арестованных мужчин и женщин, а спустя некоторое время их выводили обратно, сгорбившихся от побоев. Наконец Аббас дождался осуществления своей мечты, подошла его очередь. Наконец-то его тоже официально признали подданным шахиншахского правительства. Его ввели в комнату, разрешили сесть и разъяснили ему смысл слова «правосудие», дали ему распробовать это яство, которого он до тех пор никогда в жизни не пробовал. Даже теперь, когда прошло уже много времени, он каждый день и каждую ночь продолжает ощущать во рту его вкус.
Стоит только ему тёмной ночью или среди бела дня сомкнуть веки, как перед ним возникает та комната, в которой он сидел против следователя. Казалось, будто он случайно попал в рай и никак не может забыть этого прекрасного видения. Комната следователя во всех её деталях в тысячный раз всплывает в его воображении.
Открыв дверь, Аббас попал в небольшой коридорчик, в конце которого имелась ещё одна дверь, ведущая в Другую каморку. В этой каморке за столом сидели два человека. Возле того, который был с левой стороны, стояли два расшатанных стула с облезшей краской, а в другом конце комнатки, возле деревянного шкафчика, выкрашенного под орех, сидела на корточках старушка, закутанная в чадор-намаз.
На краю стола, с одной и с другой стороны, лежало около пятидесяти дел в картонных папках, сложенных в стопку и раздувшихся от бумаг. С каждой папки списали три ленточки — голубая, белая и красная, а из папок высовывались края белых и уже пожелтевших листов бумаги, напоминавшие рубашку с обтрёпанным подолом.
Когда Аббас вошёл, толстый, невысокого роста человек, с густыми чёрными усами, сидел, склонившись над бумагами, за столом. Ои, словно печная труба, дымил сигаретой и писал что-то красно-синим цветным карандашом. Полицейский № 4832, вошедший в комнату вместе с Аббасом, щёлкнув каблуками, громко поздоровался с этим человеком и хриплым голосом, по которому можно было определить, что он просрочил время приёма очередной порции опиума, сказал:
— Горбан, продавец мороженого Аббас из квартала Сарчашме доставлен.
Мужчина поднял голову, бросил на полицейского гневный взгляд, который, казалось, говорил: «Ах ты бездельник, как не вовремя ты влез сюда! Разве ты не можешь убраться отсюда вон?» Затем он указал Аббасу рукой на стул, стоящий возле него, и снова углубился в свои бумаги. Одному аллаху известно, сколько часов пришлось несчастному Аббасу сидеть тут в ожидании допроса. Полицейский стоя начал дремать и, чтобы не свалиться посередине комнаты, открыл дверь и вышел в коридор.
Прошло довольно много времени, прежде чем господин следователь, посмотрев на часы, сказал сидевшему против него секретарю:
— Господин Реджаи, на сегодня рабочий день окончен, скажите полицейскому, пусть он отведёт обратно в тюрьму этого человека, а завтра утром снова приведёт его сюда.
Четыре дня несчастного Аббаса приводили к началу рабочего дня к следователю и к концу уводили обратно в тюрьму. Ежедневно два часа он ожидал, стоя в коридоре, и два часа сидел в комнате следователя на том же самом допотопном стуле. Наконец на пятый день господин следователь начал свой язвительный допрос. Он спрашивал, сколько лет Аббас держит лавочку в квартале Сарчашме против дома господина Ахмада Бехина, знает ли Аббас, чем занимается господин Бехин, откуда он родом, с кем общается, бывает ли в этом доме ещё кто-нибудь кроме господина Бехина, кем является каждый, кто приходит туда, знает ли Аббас имена этих людей, их профессии, где они родились, на каком языке говорят, знаком ли Аббас с их шофёрами, знает ли, кто чаще других посещает этот дом?
Аббасу задали около трёхсот подобных вопросов, на которые он добросовестно отвечал, а господин следователь покачивал головой, выражая тем самым своё беспокойство и внутреннее волнение. С каждой минутой он становился всё мрачнее. У него был вид человека, раскрывшего большое дело. Время от времени он задумывался и снова приступал к допросу.
После полуторачасового допроса следователь спросил у Аббаса, знает ли он Мешхеди Мохаммеда Голи и Хаву Солтан, часто ли они приходят к нему в лавку, что там делают, что едят, что говорят, с кем ещё в квартале он знаком, кто его друзья и приятели, каково их материальное положение, с кем они делятся своими горестями и печалями, насколько они болтливы и о чём они говорят в минуты откровения.
Эти вопросы тоже в свою очередь длились целый час.
Наконец следователь перешёл к другой теме и спросил:
— Что ты видел за последние три-четыре дня? Что ты делал? Видел ли ты, кто приходил в тот дом, кто уходил, сколько было посетителей, как они выглядели, какого были роста, какого цвета была их одежда, автомобили и как были одеты их шофёры?
Следователь задавал эти вопросы и очень быстро заносил всё в протокол. Одному аллаху известно, как он записывал ответы Аббаса, ведь его же никто не проверял. Конечно же, он записывал в протокол всё, что было угодно его душе. Разве у этих людей есть совесть и стыд.
Когда следователь закончил допрос, он раскрыл красную жестяную коробочку с какими-то знаками на крышке и чёрной подушечкой внутри, взял правую руку Абаса и, прижав его палец к подушечке, приложил его в конце каждого листа протокола допроса. Затем он обратился к полицейскому:
— Отведи этого обвиняемого в тюрьму, скажи начальнику, чтобы он сегодня подержал его в доме предварительного заключения, а завтра я дам распоряжение об аресте и вы перешлёте его в тюрьму Гасре Каджар. Понял?
— Да, слушаюсь, горбан!
Итак, теперь Аббас знает, за что он арестован, знает, кто дал указание о его аресте. Он знает, что там, в высших ссрерах, как об этом говорил следователь и как он неоднократно слыхал от надзирателей и старших надзирателей, относятся к нему с подозрением. Он знает, что он пытался «потрясти основы государства», знает, что он «посвящён в тайны высших интересов правительства», понял, что содержание лавочки против клетки льва или около осиного гнезда — дело опасное.
Теперь одному богу известно, сколько дней, сколько ночей и сколько месяцев перед его глазами встают то эта самая лавчонка, в которой он продавал мороженое, то дом господина Ахмада Бехина Йезди, знаменитого судьи шахиншахского правительства, то те старые и молодые аристократы — иранцы и иностранцы, мусульмане и неверные, которые приходили в этот дом и которых он видел.
Один за другим он вспоминает вопросы господина следователя, которые тот задавал ему в узкой комнате у ветхого стола. Перед, его глазами скачут в диком танце картонные папки дел, набитые бумагами.
Стоит ему сомкнуть веки, как в его памяти всплывают образы людей, которых он встречал в своей жизни. И как он ни старается разглядеть на их лицах хотя бы крупицу милосердия, сострадания, сочувствия, он не находит их — ни один из них не уступает другому в чёрствости и бездушии. И кажется ему, будто кто-то всё время нашёптывает ему: «Жёлтая собака — родной брат шакалу», «Рыжий чёрт ничем не уступает синему чёрту».
Иногда, когда перед Аббасом раскрываются тюремные двери и он выходит во двор, до его слуха доносятся гудки автомобилей, быстро мчащихся над тюрьмой Гаер по Шамиранской дороге. Эти гудки причиняют ему невыразимую боль: он знает, что все мучения, выпавшие на его долю, — дело рук владельцев этих роскошных, разноцветных автомобилей, людей, противные рожи которых он много раз видел и которые так часто проходили мимо него.
О, как ему хотелось ещё хоть раз вернуться в свою лавчонку, посидеть за своими лотками! Но теперь, если бы он увидел кого-нибудь из этих господ проходящим мимо его лавки, он накинулся бы на него, схватил бы его за грудки и, вцепившись в глотку, отправил бы к праотцам. Он отомстил бы им за себя, за жену, за детей, за друзей и знакомых, за своих покупателей, за своих сограждан, за простых людей, за всех несчастных и обездоленных людей этого города и страны. Он отомстил бы им даже за Мешхеди Мохаммеда Голи и за Хаву Солтан.
Думая об этом, Аббас осматривал тюремную камеру и теснившихся в ней заключённых. Охваченный жгучим горем, скорбно покачивая головой, он вместе с ними переживал их несчастье, сочувствовал им, и на глаза его навёртывались слёзы. Делая вид, будто он вытирает со лба пот, он украдкой вытирал глаза и смахивал на землю тяжёлые, горькие слёзы.
За долгие дни и ночи, проведённые им вместе с этими несчастными людьми, он многое узнал и к его жизненному опыту прибавилось немало ценного.
Единственным развлечением узников, когда надзиратели оставляют их в покое и они остаются одни, являются рассказы о своих злоключениях.
История каждого вызывает большое сострадание. Почти все эти люди — жертвы низких и грязных интриг влиятельных и могущественных преступников, стоящих у кормила государственного аппарата.
Теперь уже Аббас хорошо знает, что этот гнусный, грязный аппарат является более гнусным, продажным и грязным, чем любой вертеп.
Он лучше всех знает, как негодяи, сидящие там, замешанные в самых мерзких делах, связанные круговой порукой, с потрясающим бесстыдством защищают друг друга, смотрят сквозь пальцы на преступления своих коллег, покрывают их кражи и позорнейшие дела. Он знает, какими способами они убирают со своего пути всякого, кто не хочет помогать им или становится поперёк дороги, как они уничтожают тех, кто может, по их мнению, принести им хотя бы малейший вред, как они бросают в тюрьму всех, кто начинает разбираться в их делах или узнаёт, подобно Аббасу, что-нибудь об их тайнах, и осуждают несчастных на пожизненное заключение. Он знает, что и судья, и прокурор, и защитник, и следователь, и надзиратель, и старший надзиратель, и министр, и депутат, и придворный, и все остальные, кто стоит у кормила государства, работают рука об руку с этими подлыми людьми.
Все, кто, как черви, копошатся в этой тюрьме — несчастные жертвы кого-нибудь из этих профессиональных преступников. Подобно тому как люди стараются избежать чумы и холеры, им надо избегать этих гнусных мерзавцев, иначе их постигнет такая же участь, как и Аббаса.
Когда эта мысль пришла в голову Аббасу, он ещё раз окинул взором сидящих вокруг него заключённых. Он внимательно всматривался в их лица, вспоминал историю каждого, печально вздыхал, и снова на глаза его навёртывались слёзы. Он тайком сжимал кулаки. Как ему хотелось встретить здесь сейчас хотя бы одного из них, чтобы он мог собственными руками размозжить ему череп!
Аббас знал, что, если даже ему не удастся отомстить за себя этим негодяям, лишённым совести и чести, всё равно наступит день, когда за него отомстят другие, всё равно, как бы долго ни пришлось ждать, когда-нибудь его сын, внук или правнук отомстят за него и в конце концов десница божественного возмездия покарает их.
И всё же Аббасу очень хотелось отомстить самому, покарать их своими руками. Но что толку в том, что ему хотелось? Теперь он знает, что этих преступников слишком много по сравнению с теми, кто мог бы взять на себя смелость выступить против них. Эта смертоносная болезнь слишком серьёзна, чтобы кто-нибудь мог ликвидировать её. Наступит ли такой день, думал Аббас, когда он увидит, что эти предатели получили по заслугам?
Да, этот день наступит, и наступит скоро. Он не может быть далёким, этот день, ибо сама природа не может мириться с такими людьми, сама судьба не сможет дать им никакой отсрочки. Волна народного гнева прорвётся наконец, и все их дворцы, их великолепные виллы будут смыты ею с лица земли вместе со своими хозяевами. Но какое в этом утешение Аббасу, если его тогда уже не будет, возможно, в живых? Да, обидно умереть и не увидеть этот день!
Постепенно голова Аббаса начинала тяжелеть, веки смыкались, он склонял свою голову к грязной, засаленной стене и перед его глазами всплывала картина другого мира — мира грёз и мечтаний.
Но не успевал ещё сон полностью овладеть им, как снова случалось какое-нибудь происшествие — либо он сам становился объектом внимания и любезности надзирателя или старшего надзирателя и вынужден был вскакивать с места, либо его сон прерывали попрёки, брань или тумаки, адресованные другому несчастному узнику, и он вновь возвращался в этот мир, мир мучений, пыток, гнёта и несправедливости.
Как ни старался, Аббас не мог смириться со своей участью. Он знал, что ему никогда уже не выйти из этой камеры на волю на собственных ногах, знал, что, как и других, его отсюда понесут прямо на Аб-амбаре Касем-хан или на какое-нибудь другое кладбище, и он говорил себе: «Если уж тебе суждено оставаться здесь до тех пор, пока в твоём теле теплится жизнь, тебе следует забыть про честь и мужество, следует сделать вид, что у тебя нет никаких человеческих достоинств. И не нужно зря терзать себя так, что белый свет становится тебе не мил».
И он не раз заставлял себя прикидываться дурачком, забывать, что некогда, и у него была другая жизнь, что он был на свободе, пользовался всеми её благами.
Прошло уже столько времени, а он не имеет никаких известий о своих близких, будто всех их уничтожил страшный самум или унесла чума или холера, будто всё то, что сохранилось в его памяти, никогда в действительности не существовало, а было лишь сном.
Ему очень хотелось забыть всё, но забыть он не мог. Эта плешивая голова — чтоб её скорее унёс мойщик трупов! — не давала ему покоя. Под несколькими спутанными волосинками в его голове таилось что-то такое, что постоянно его тревожило, волновало, не давало ему покоя ни во сне ни наяву, ни днём ни ночью. И чем дальше, тем всё больше он тосковал о свободе.
В такие минуты он принимался рассматривать остальных заключённых. Аббас пытался убедить себя, что они ещё более несчастные и беспомощные, чем он, и от этого на душе у него становилось немного легче.
Когда сюда привели Мешхеди Мохаммеда Голи, бас нашёл в нём лучший образец, для сопоставления. Он сравнивал себя с этим несчастным, сгорбленным стариком, который прожил очень тяжёлую жизнь.
Семь или восемь лет, сидя в своей лавочке на перекрёстке в квартале Сарчашме, напротив дома господина Ахмада Бехина, он наблюдал жизнь этого старика. Он был осведомлён о каждом дне и каждой ночи его жизни. За день он встречался с ним не один раз, подолгу беседовал о том о сём. Аббас лучше всех знал, с какой преданностью этот сгорбленный старик, одной ногой уже стоящий в могиле, дни, недели, месяцы, годы, — всю свою жизнь служил той несправедливой системе, жертвой которой в конце концов он стал сам.
Мешхеди Мохаммед Голи несколько раз рассказывал ему историю своей жизни, начиная с тех дней, когда он был мальчиком на побегушках в доме отца господина Ахмада Бехина Р1езди и нянчил самого господина Ахмада Бехина, гулял с ним, и кончая тем временем, когда он вместе со своим господином приехал в Тегеран и они создали этот дом, полный греха, грязных дел и преступлений.
Несмотря на глупость, сквозившую в каждом движении и проглядывавшую в каждой черте этого одетого в лохмотья старика с крашеными волосами и сгорбленной спиной, — глупость, которую этот невежественный и паршивый Аббас прекрасно уяснил себе своим маленьким умишком, он оказывал ему большое уважение за его благодарность к хлебу-соли, за верность семейным и земляческим традициям, которые были у пего в крови и которые так ослепили его, что он, прекрасно видя преступления своих почтенных земляков, прикидывался, будто ничего не замечает. Аббас радовался, что этот старик йездец, несмотря на свою бестолковость, всё же обладает таким благородством и бес, властвующий над его авантюристами хозяевами, не совратил его с праведного пути.
Аббас ещё раз окинул взором старика с головы до ног. Тонкая шея Мохаммеда Голи гнулась под тяжестью головы, густо поросшей на висках окрашенными хной волосами, выбивавшимися из-под его знаменитой шапки. Сон немощных стариков, стоящих на пороге смерти, как бы подготавливает их к переселению в мир небытия. Похоже, что во сне они готовятся к смерти, поэтому и сон их бывает тяжелее, чем сон молодых.
И Аббас не смог удержаться, чтобы не проявить максимум почтения и уважения к этому старику, и сравнил его с господином Ахмадом Бехином Йезди, благородным служителем иранской Фемиды, и с господином доктором Тейэби, уважаемым депутатом меджлиса от города Йезда.
Он пришёл к выводу, что господа, вроде доктора Тей-эби, несмотря на то что они занимают в обществе высокое положение, не стоят даже собаки Мешхеди Мохаммеда Голи. Ведь старик хотя и глуп, но он всегда был беспредельно верен и предан хозяевам, и сейчас, когда в последние дни его бессмысленного и бесплодного пребывания на этом свете несчастному предстоит перенести столько мучений, он тем не менее не отрёкся от своего долга. Возможно, этот мужественный, но глупый старик когда-нибудь, как и Плешивый Аббас, тоже поймёт, за что он страдает и кто является виновником его несчастий. Может быть, и он своим жалким умишком догадается, что политика господина доктора Тейэби, политика иранского правительства изменилась, что она всегда, словно маятник. качается из стороны в сторону и ищет прибежища то у одного, то у другого порога. Поэтому-то доктору Тейэби и его приспешникам пришлось теперь сменить своих старых агентов и слуг и принести их в жертву новой политике.
Воспитанный человек за обедом каждое следующее блюдо ест чистой ложкой или чистыми ножом и вилкой, из чистой тарелки. В политической жизни происходит нечто подобное. Как только курс политики меняется, должны быть сменены и старые агенты. Ведь государственные мужи не дают обета братства своим агентам и поэтому не обязаны до конца быть верными им.
Вообще-то политика не признаёт никакой верности. Верность и честность присущи людям невежественным, беспомощным, не разбирающимся в жизни.
Аббас не раз слыхал от своих друзей, приятелей, знакомых, родственников и соседей, что тайна успеха политики великих европейских держав, а в особенности Англии, заключается в том, что она всегда была вероломной и ей незнакомы такие понятия, как честность и верность.
Английские политиканы цинично говорят, что, как только из апельсина выжат сок, его надо выбросить. Другими словами, если человек уже использован и в нём нет больше нужды, его надо отстранить от дел, поставить на нём крест, а ещё лучше совсем удалить с глаз долой, чтобы он днём и ночью не преследовал вас и не напоминал бы постоянно о своих прошлых заслугах.
В этом огромном государственном аппарате даже самые выдающиеся, самые заслуженные, самые высокопоставленные лица приносятся в жертву с неимоверной быстротой, и о них забывают так быстро, будто они вовсе и не существовали. Чтобы добиться своей цели, политические деятели обычно не брезгуют никакими средствами. Взять, например, известного полковника Лоуренса. После того как он поднял восстание арабов против гурок и стал руководителем этого движения, у него возникли разногласия с государственным аппаратом, и, как только он захотел напомнить хозяевам о своих прошлых заслугах, его прямо о центре столицы, средь бела дня, когда он ехал на мотоцикле, без всяких церемоний отправили к праотцам. Над его ближайшим сотрудником и другом Малеком Фейсалом, который, достигнув кое-какой власти, начал держаться слишком высокомерно, тоже была учинена расправа в одной из гостиниц Женевы. Сын его Малёк Гази, знавший, как погиб его отец, намеревался возбудить расследование и поднять скандал, но, едучи в своей машине, налетел на большой скорости на столб линии электропередачи и, не успев даже ахнуть, попал на тот свет.
История величия Англии полна странных катастроф. Там политические деятели не останавливаются даже перед огромными расходами, лишь бы уничтожить неугодного им агента.
Англичане хотели сплавить на тот свет лорда Китчнера и, чтобы ему не было скучно отправиться в этот путь одному, потопили океанский пароход, на котором плыл лорд, со всеми пассажирами и командой. Точно так же они поступили с Сикорским: подстроив катастрофу самолёта, отправили его на небеса, а заодно с ним и нескольких высокопоставленных офицеров британской армии.
Аббасу частенько приходилось слышать то от одного, то от другого бедняка в войлочной шляпе рассказы о разных событиях из истории Ирана. Однажды, когда после вступления войск союзников в Иран в 1941 году снова стали поговаривать о восстановлении в Иране власти каджарской династии, наследный каджарский принц Мохаммед Хосейн Мирза совершенно неожиданно скончался от разрыва сердца в такси на одном из лондонских проспектов. В другой раз, когда из Иоганесбурга поступило сообщение о смерти шаха, один болтливый юнец, по имени Машаллах, мальчик на побегушках в доме, расположенном в конце переулка, и постоянный посетитель Аббаса, со слов своего хозяина, школьного ахунда, говорил будто Реза-шах собирался написать книгу воспоминаний и, когда те, кому следует, догадались, что он может разгласить кое-что и лучше, если это «кое-что» он унесёт с собой на тот свет, ему приказали: умри от разрыва сердца. И поскольку шах был человеком исполнительным, то в полночь, — чтобы никто не видел — он так и поступил.
Однажды этот проклятый Машаллах, этот самый болтливый бездомный бродяга, рассказывал, что какая-то девушка забеременела от одного очень высокопоставленного человека и, как её ни принуждали сделать аборт, она не соглашалась, думая, что совершила очень выгодную сделку и получила драгоценность, которая спрятана в таком надёжном месте, что ничья рука не сможет её достать, пока она сама не вынесет её на белый свет и не добьётся с её помощью лучшей жизни. Но как-то один из дивизионных генералов, потомок благочестивого монаха, ранним утром явился к ней и, всадив ей в самое сердце малюсенькую пулю, при помощи этой маленькой гарантии любви и признательности отправил её в райские сады, чтобы там, в полном единении с потомком высокопоставленного лица, вдали от соперниц, второй жены мужа, свекрови и золовки, она могла вести вечную и спокойную жизнь.
Теперь Аббас, от скуки вспоминая и сопоставляя все эти истории, делал выводы своей плешивой головой. Чем больше он думал, тем яснее становилась картина. Иногда он смыкал веки и припоминал черты уродливого лица господина Ахмада Бехина и его любезного хозяина господина доктора Тейэби, которому господин Ахмад Бехин подчинялся беспрекословно, и чувство невыразимого отвращения к этим людям охватывало его. Он припоминал одного за другим тех высокопоставленных лиц — министров, депутатов меджлиса, политических деятелей, которые, как он не раз видел, тайком входили в ту заветную дверь и так же тайком выходили из неё. А после посещения этого дома они быстро двигались вверх по служебной и общественной лестнице. Он пытался представить себе этих людей, и каждая следующая физиономия, которая возникала перед его мысленным взором, была ещё отвратительней, преступней и гнусней, чем предыдущая.
Когда он занимался этим своеобразным вызовом духов, его худое, измождённое лицо искажалось от ненависти и отвращения. Плечи его начинали дрожать, как у человека, на глазах у которого зверски убили тысячи людей. Голова его горела, кружилась, колени подкашивались, и он невольно прислонялся к стене тюремной камеры. Он затыкал пальцами уши, чтобы ничего не слышать, обхватив руками голову, с силой сжимал виски, стараясь хотя бы немного утихомирить боль от этой тяжёлой пытки.
Посидев так немного, он раскрывал глаза, словно слепой, оглядывал камеру пустыми, потухшими глазами, стискивал зубы и до крови кусал губы. Казалось, если бы он мог, он удушил бы всех мучителей своими слабеющими день ото дня руками. Он сжимал бы им горло пальцами до тех пор, пока они не избавили бы этот мир от позора своего существования.
На этот раз, снова мысленно отомстив за себя, Аббас раскрыл глаза, облегчённо вздохнул и, бросив взгляд в сторону Мешхеди Мохаммеда Голи, который, по-прежнему покачивая головой, видел во сне потусторонний мир, вдруг почувствовал к нему большое уважение. Этот старик, который до сих пор казался несчастным, беспомощным глупцом, теперь стал представляться ему великодушным, честным и благородным человеком.
Как бы там ни было, но руки его по крайней мере не обагрены кровью. Он вышел из этой грязной и преступной клоаки незапятнанным и чистым и таким же чистым и незапятнанным уйдёт из тюрьмы на кладбище.
А разве заточение его в тюрьму не является лучшим доказательством того, что они не считали его своим сообщником? Подумав об этом, Аббас снова осмотрел камеру. На худых, мертвенно-бледных лицах заключённых лежала печать мучений. Выражаясь словами Аббаса, мясной покров на них растаял и из-под кожи выпирали кости. Вены на их худых шеях настолько вздулись, что даже издали было заметно, как пульсирует в них кровь. Аббас стал пристально разглядывать эти чёрные, словно закопчённые лица и в каждом находил следы наивной простоты, печали и обиды за незаслуженные мучения.
Он понимал, что все эти несчастные заключённые — жертвы кровожадной, не знающей ничего святого правящей клики, что они в той или иной степени явились помехой к удовлетворению низких страстей или к осуществлению подлых замыслов кого-либо из этой клики, за что и брошены сюда.
Ах, как ему хотелось дожить до того дня, когда рука возмездия схватит за шиворот этих преступников, о чёрных делах которых Аббас знает лучше всех, и приведёт их, опозоренных и униженных, сюда, в эту самую камеру, которую они построили для других, посадит их вдоль грязных сырых стен на истёртые, вымазанные грязью и нечистотами кирпичи, а вместо каждого вновь приведённого заберёт отсюда одного из этих несчастных, безвестных и беззащитных людей и водворит их в устремлённые к небу дворцы, в великолепные аристократические особняки проспекта Шах-Реза и так отомстит этой преступной клике за века угнетения обездоленных сыновей Ирана!
Ах, если Аббас доживёт до этого дня, с какой радостью и торжеством выйдет он из тюрьмы! Он готов был отказаться от жизни, души, сердца, религии и веры, жены и детей, он отдал бы всё, чем он обладает, лишь бы такой день наступил.
О, как он будет радостен, этот день отмщения, день, когда разверзнутся небеса и живительная сила мужественных людей станет десницей божественного возмездия!
Для того чтобы продлить созерцание радостной картины, которую Аббас мысленно нарисовал себе, и ещё больше насладиться этим зрелищем, Аббас сомкнул веки. Слёзы одна за другой скатывались с его усталых век на щёки. Он, тихо покачивая головой, чуть слышно напевал какую-то мелодию, и со стороны казалось, что он находится в потустороннем мире, мире счастья и радости.
Но не успел он понаслаждаться этим безвозмездно ниспосланным ему небесами зрелищем и несколько минут, как сильный удар по голове вернул его в этот мир. Он открыл глаза, и перед его взором предстала любезная, чисто выбритая физиономия старшего надзирателя Рахима Дожхимана, который снова явился осведомиться о его самочувствии и выразить ему соболезнование по поводу его несчастий.
— Подвинься же, подлый авантюрист!
Следом за господином старшим надзирателем Рахимом Дожхиманом в камеру вошёл сгорбленный, одетый в лохмотья, немощный старик. Видно было, что бедняга немало пережил на своём веку. Господин старший надзиратель Рахим Дожхиман с особым вниманием, которое он обычно уделяет новичкам, хотел освободить для него место в этом вертепе.
Посмотрев на старика, Аббас увидел на его тонкой, морщинистой шее ремень, доходивший ему до груди, — грязный, засаленный и от длительного употребления потерявший свой первоначальный цвет. К концам ремня был прикреплён небольшой ящичек. Аббас и раньше встречал этих бедняков торговцев, одетых в лохмотья, и знал, что в их ящичках хранится несколько пачек ушнуйских сигарет, с десяток коробок спичек, немного американской жевательной резинки «Адамс», леденцов, дешёвого шоколада, несколько пар шнурков для ботинок, нитки, дамские сигареты, иголки, несколько коробок простых и английских булавок. В общем, в ящичке было на три-четыре тумана всякой всячины, которую лоточники с утра и до поздней ночи, в жару и в холод, в туман, в дождь и под палящими лучами солнца таскали на шее по всему городу, чтобы, продав свой товар, заработать два-три тумана па пропитание себе и своей семье.
Теперь, накопив за несколько месяцев пребывания в тюрьме довольно большой опыт, Аббас прекрасно знал, что всякий раз, когда господин старший надзиратель Рахим Дожхиман приводит в камеру нового заключённого, он нарочно прикидывается раздражённым, начинает стегать плетью по голове и плечам первого попавшегося ему под руку арестанта, демонстрируя этим новичку своё могущество и всю неограниченную полноту власти, которой он здесь обладает. И всё это для того, чтобы новый заключённый сделал для себя соответствующие выводы и, если у него есть деньги, папиросы, табак или ещё что-нибудь, передал их этому всемогущему властелину тюремных камер.
Не успел Аббас подвинуться и освободить рядом с собой место для старика, как господин старший надзиратель Рахим Дожхиман схватился за ремень ящичка, который висел на шее старика, и, сильно дёрнув, оборвал его. На шее старика осталась красная полоса. Господин старший надзиратель подхватил ящичек и сказал:
— Подлый авантюрист! Здесь тебе не место для торговли, это не тротуар на проспекте, где ты можешь расположиться с такими же, как ты, проходимцами и рассказывать всякие глупости о правительстве и высших властях страны, предъявлять им какие-то претензии и вообще вести разговоры о вещах, не доступных твоему ничтожному уму!
8
— А когда изволит пожаловать господин доктор?
— Они, очевидно, сейчас будут.
— Да, но скоро ли наступит это «сейчас»! Я уже битый час сижу здесь, а вы все говорите «сейчас, сейчас». Ведь мы же договорились с доктором по телефону.
— По какому номеру — 73–78 или 88–08?
— По номеру 73–78.
— Ну, этот телефон — для обычных пациентов.
— А разве доктор делит пациентов на обычных и необычных?
— Да, господин доктор сообщил своим близким друзьям, посольству и высшим властям номер телефона 88–08, для того чтобы в случае надобности они могли легко дозвониться ему. И, если вызывают по этому телефону, господин доктор знает, что звонит кто-то из привилегированных пациентов, кого он должен принять срочно. И мы не виноваты в том, что у доктора такой порядок.
— Да, но ведь я тоже не виновата. Откуда мы могли знать, что даже в таких делах есть какие-то тайны.
— Господин доктор сейчас играет в бридж. К нему недавно приехали друзья из Америки, и сегодня они вместе обедали, а теперь после обеда он и мадам сели с гостями за карточный стол, и не думаю, чтобы они скоро закончили игру.
— Вот так так!
— Тут и удивляться нечему. Если пациент хочет попасть к врачу, побывавшему в Америке, он должен мириться со всем. Да и вообще он вас примет только в том случае, если не позвонят из посольства. Ведь у господина американского посла может быть к нему какое-нибудь срочное дело.
— Разве он не мог сказать нам об этом, когда мы говорили с ним по телефону и просили его принять нас? Ведь тогда мы могли бы иначе распланировать день.
— Ну, меня это не касается, можете высказывать свои претензии ему самому.
— А разве к телефону подходил не он?
— Нет, он. Кроме него, никто не имеет права подходить к телефону. К тому же разговоры бывают такие, что если даже мы и возьмём трубку, то всё равно ничего не поймём.
— Так если он сам подходил к телефону, почему он не сказал, что ему сейчас некогда и он не может принять нас?
— Что значит некогда? У него всегда достаточно времени для того, чтобы заставлять людей бесполезно ждать,
— Но, милый мой, разве можно в приёмной врача ждать больше часа?
— Да упокоит господь душу вашего отца, мы в этом доме видали больных, которые с утра до полудня или с полудня до полуночи с нетерпением ожидали врача и не осмеливались даже пикнуть. Вы ведь, слава богу, люди грамотные, разве вы не слыхали поговорки: «Хочешь иметь павлина, не говори, что путь в Индию очень труден».
— Ну а если господин доктор вообще не пожелает оторваться от игры, что же тогда прикажете мне делать?
— Ну, что ж делать, придёте в какой-нибудь другой день.
Как только эти слова сорвались с уст слуги господина доктора Раванкаха Фаседа, известного врача, «специалиста по женским и девичьим болезням», сердце несчастной неудачницы Виды, дочери господина Манучехра Доулатдуста и ханум Нахид Доулатдуст, той самой выращенной в холе и неге Виды, всех прелестей которой не видели ни солнце, ни луна, оборвалось, У неё был такой вид, будто на неё обрушился потолок.
Что же ей делать, куда ей деваться, если вдруг этот безобразный доктор сегодня не пожелает оторваться от игры в бридж?
Час назад с сердцем, полным надежды, совершенно уверенная в благополучном исходе своего дела, она вышла из чёрного восьмицилиндрового кадиллака последнего выпуска, который, свернув с проспекта Пехлеви налево в сторону западного проспекта Тахте Джамшид и миновав вход в отдел информации пакистанского посольства, остановился перед вторым от угла домом. Когда Али Эхсан, шофёр господина Манучехра Доулатдуста, захлопнул дверцу машины и развалился на сиденье, несчастная Вида вошла в подъезд четырёхэтажного, окрашенного в кремовый цвет дома господина доктора Раванкаха Фаседа и поднялась по восьми цементным ступеням.
Вчера вечером, в порыве страсти, Сирус Фаразджуй — чтоб ему подохнуть в молодые годы! — сделал то, чего он не должен был так скоро делать.
Под влиянием джина, вермута, коньяка, виски и всякой другой дряни, которыми её спаивал Сирус, уговаривая: «Ну, выпей ради меня» — или: «Если ты не выпьешь, я покончу счёты с жизнью», Вида потеряла контроль над собой. В её памяти запечатлелась лишь острая боль и неведомое ей дотоле чувство наслаждения.
Проснувшись в восемь часов утра, медленно раскрыв глаза и протяжно зевая, Вида некоторое время не могла понять, где она и что она здесь делает. Она даже не заметила, что на той же кровати, слева от неё, глубоким сном спит Сирус. Лёжа на правом боку, она некоторое время рассматривала стены, выцветшие тюлевые занавески, висевшие над её головой, красивый хорасанский ковёр, разостланный на полу, полированную тумбочку орехового дерева, стоявшую возле кровати, ночник в форме птичьей лапы с картонным абажуром, и, чем больше она всматривалась в эти предметы, тем больше казались они ей чужими и незнакомыми.
Наконец Вида заметила, что возле стены против кровати, на которой она лежит, стоит ореховый трельяж того же гарнитура, что и кровать с тумбочкой. Между ящиками трельяжа, на уровне сантиметров десяти от пола, в большом зеркале отражалась и кровать, и Вида.
Вида была очень удивлена, увидев в нём своё загорелое худое тело, маленькие груди и волосатые щиколотки обнажённых ног. Осмотревшись, она заметила, что её комбинация, бюстгальтер, трусики, резинки от чулок и чулки в беспорядке валяются на ковре около кровати. Она ужаснулась и невольно протянула руку за простынёй, сбившейся в ноги, чтобы прикрыть свою наготу даже от собственного взора. Простыня, зацепившись за что-то, не натягивалась, и, когда Вида обернулась, она увидела своего дорогого Сируса. Укутавшись в простыню и подтянув колени к животу, он лежал на левом боку и спокойно и ровно дышал. Сон его был настолько глубок, что казалось, он не проснётся ещё несколько лет.
Все события вчерашнего дня и вечера всплыли в памяти Виды.
Вчера она поехала на машине с Сирусом в кино «Диана». Ласкающая прохлада летнего вечера на крыше кино, близость Сируса, знающего тысячи всяких сальных и несальных анекдотов, переданных ему по наследству от семи поколений его предков, возбуждающие, сладострастные сцены американского фильма и в особенности фривольные танцы голливудских актрис в купальных костюмах под разноцветными брызгами фонтана сблизили её с Сирусом ещё больше, чем это было до сих пор. Постепенно они перестали смотреть картину. Они сидели в самой задней ложе, их никто не видел, и это давало им свободу целоваться и прижиматься друг к другу.
В состоянии любовного опьянения они вышли из кино. Сирусу даже не пришлось настаивать. Как только он предложил поехать в «Дербепд», Вида сейчас же согласилась.
Они поужинали в темноте в конце балкона, выходящего на запад, на первом этаже гостиницы. Такого подходящего случая у Сируса ещё не было, и он, воспользовавшись им, стал настойчиво, бокал за бокалом поить Виду вермутом, джином, коньяком и виски. Вида в свою очередь после двух лет обещаний и хитрой игры с огнём вряд ли могла рассчитывать, что ей ещё когда-нибудь удастся на два-три часа остаться наедине с Сирусом. Она надеялась, что может быть именно сегодня ночью ей удастся увлечь его настолько, что он пообещает ей то кольцо, которое она видела на Лалезаре в витрине ювелирного магазина.
Однако джин и коньяк заставили её забыть этот план, так же как и тысячу других планов. Около полуночи они встали из-за стола. Она помнила только, что Сирус взял её под руку, помог подняться по лестнице гостиницы и торопливо провёл в номер.
Несчастная Вида и раньше не раз приходила в эту самую гостиницу, с этим самым Сирусом — чтоб ему умереть в молодые годы! Возможно даже, они бывали и в этой комнате, однако тогда Вида неуклонно придерживалась той тактики, которую предначертала ей мать и о которой та напоминала ей каждую неделю. Следуя этой тактике, Виде всегда удавалось ловко выйти сухой из воды. Она приводила сюда несчастного Сируса, жаждущего её объятий, и уводила его отсюда так и не утолившим жажды.
Её мать, та самая госпожа Нахид Доулатдуст, которую все уважаемые дамы Тегерана признавали авторитетом в таких делах, человеком, прошедшим огонь, воду и медные трубы, постоянно твердила ей, что умная и расторопная девушка ни в коем случае не должна продать себя дёшево. Она говорила: «Милочка, я не говорю не проводи весело время, не жив» в своё удовольствие, не пользуйся своей молодостью, но только пойми одно: до тех пор пока мужчина не исполнит всех желаний женщины до самого малейшего, она не должна соглашаться исполнить его последнего желания».
Правда, эта философия матери не совсем устраивала Виду, она всегда мечтала перешагнуть и через последнюю преграду, но каждый раз всё-таки сдерживала себя. С большим трудом она одолевала свои страсти и ради удовлетворения других желаний старалась не забывать наставлений своей многоопытной матери.
Да и к тому же Вида ещё окончательно не решила, стоит ли отдавать себя этому бледному, худощавому дылде Сирусу. Ей хотелось испытать ещё десять-пятнадцать других юношей, хотелось, как Сируса, поводить их за нос, довести до самого источника и, не дав утолить жажды, отправить обратно, а попутно основательно обобрать. Разве те молодые люди, которые ухаживали за Видой, не проделывали подобных фокусов с другими девушками? Разве Сирус, который, если его ткнуть пальцем, отдаст богу душу, не — поступил так же с Шахин Саргардания, её близкой подругой и одноклассницей? Разве Хушанг Сарджуи-заде не проделывает того же с матерью Виды? Разве её брат Фарибарз не следует этому принципу в своих отношениях с Хаидой Борунпарвар и с Шахин Саргардания одновременно?
Разве в той среде, в которой появилась на свет и живёт Вида, мужчины и женщины днём и ночью не заняты такой куплей-продажей? Разве все замужние женщины и девушки, ещё не вышедшие замуж, женатые и холостые мужчины, с которыми Вида встречалась и в своём доме, и в других домах, разве все, кого Вида знала ещё с тех пор, как стала отличать правую сторону от левой, с кем она сталкивалась на протяжении всей своей жизни в аристократических домах, поступают друг с другом как-нибудь иначе?
Конечно же, в номере гостиницы «Дербенд» в эту летнюю ночь Вида, имея возможность извлечь тысячу всяких выгод из того, чем она обладала, не должна была так легко поддаться на обман, так дёшево продать себя и позволить Сирусу — чтоб ему умереть молодым! получить от неё всё, что ему хотелось.
Но теперь уже поздно сожалеть. То, что не должно было произойти с такой лёгкостью и с такой быстротой, произошло. Вот почему Вида гневно отстранилась от Сируса и спрыгнула с злополучной кровати. Она была настолько огорчена происшедшим, что не обратила никакого внимания на свои худые, полуобвисшие груди, которые она так любила поглаживать перед зеркалом.
Вида быстро натянула трусики, пристегнула к поясу нейлоновые чулки, надела свой знаменитый голубой бюстгальтер, белую шёлковую комбинацию, натянула поверх всего этого белое шёлковое со светлыми голубыми горошинами платье, надела туфли, подняла с пола лежавшую на ковре белую из змеиной кожи сумку и торопливо, миновав коридор гостиницы, спустилась вниз по лестнице.
Всё это время Сирус Фаразджуй, герой вчерашней ночи, был погружён в глубокий, сладкий сон.
На площади Дербенд несчастная Вида наняла машину до Тегерана и направилась прямо к своей дорогой и любимой мамаше. Мать её не была обеспокоена тем, что со вчерашнего вечера и до самого утра не видела дочери, и не стала её ни о чём расспрашивать. И, если бы мутные, слипающиеся глаза, спутанные волосы Виды и запах, шедший у неё изо рта, не навели её на подозрение, любящая мать, возможно, и вовсе не спросила бы дочь, где она была и чем занималась накануне.
Мадам Нахид Доулатдуст сидела в это время в бюстгальтере и трико на своей кровати, а её интимный и сердечный друг, вечный властелин её сердца, господин секретарь Хушанг Сарджуи-заде, стоя перед зеркалом, завязывал свой американский галстук. Как только Нахид заметила, что дочь чем-то взволнована, она выпроводила из комнаты своего секретаря под предлогом, что ему необходимо навести порядок в гараже и получить отчёт у шофёра, предварительно предупредив его:
— Хуши-джан, скажи Али Эхсану, пусть он подаст машину к подъезду. Возможно, у меня появятся срочные дела.
Как только Хушанг закрыл за собой дверь спальни, Нахид спокойным тоном, в котором не чувствовалось даже намёка на укор, сказала:
— Ну, теперь рассуждать уже поздно. Ты просто даром отдалась этому мальчишке. Я даже не спрашиваю у тебя, откуда ты сейчас пришла, я и сама вижу, что наконец Сирус — чтоб ему подавиться куском хлеба! — добился своего. А жаль, мне хотелось найти для тебя более приличного мужа.
— А разве это может помешать?
— Нет, ничему это не помешает, но ты ведь знаешь что у современных юношей на устах запоров нет, и, кто знает, может, чтобы похвастаться, Сирус начнёт болтать об этом.
— Ну что ж, пускай болтает сколько его душе угодно что мне до того?
— Вообще-то, конечно, ничего. Такое может случиться с любой женщиной. Разве Мехри, мать Сируса, эта самая пропащая женщина, не стала женой господина Таги Борунпарвара, начальника одного из главных управлений министерства финансов именно потому, что она выкинула с ним такой же фортель?
— Так что же я теперь должна делать, мамочка, как ты думаешь?
— Ничего, ступай к телефону, набери номер 73–78 и попроси господина доктора Раванкаха Фаседа принять тебя сегодня же.
— Как же мне объяснить ему, для чего я прошу записать меня на приём?
— Как только он услышит женский голос, он сам всё поймёт. Ведь он специалист именно по этим «болезням». Скажи, что ты нуждаешься в срочной операции, он догадается, что тебе нужно. Да смилуется господь над душами усопших родителей тех, кто побывал в Америке! Иногда человек так нуждается в их помощи! Если бы они не возвращались из Америки обратно на родину, каким бы несчастьем это было для нас! Очень жаль, что некоторые из этих совершенно необходимых нам людей питают такое отвращение к своей стране, что подали заявление о переходе в американское подданство, и недалёк тот день, когда они покинут нас. Кто знает, какие беды стрясутся с нами после их отъезда! Ну, не теряй времени зря, поднимайся и скорее звони доктору.
Как ни старались Вида и её мать добиться по телефону приёма у господина доктора Раванкаха Фаседа, известного врача, «специалиста по женским и девичьим болезням», о котором все знали, что он в будущем составе кабинета министров получит портфель министра здравоохранения, как они ни настаивали, ссылаясь на протекцию господина Манучехра Доулатдуста, всех высокопоставленных лиц, министров, депутатов, известных корреспондентов, уважаемый доктор не соглашался принять их. Он сказал, что ещё позавчера вечером дал слово господину послу обсудить с ним конфиденциально один очень важный вопрос, ответа на который сегодня до полудня ожидает Вашингтон. А в полдень он должен пригласить на обед и партию в бридж своих коллег, приехавших из Америки, и раньше семи часов вечера никого принять не сможет, пусть это будет даже самый неотложный случай. Потом, правда, господин доктор снизошёл к этой «несчастной больной» и посоветовал ей немедленно наполнить ванну холодной водой и сидеть в ней до семи часов вечера, даже пищу принимать, не вылезая из воды.
В ванне Вида провела целый день. В три часа дня её мать вошла в ванную комнату и сообщила, что к ней пришёл Сирус.
— Тебе нужно было бы надавать ему по шее и выставить вон — чтоб его скорее вымыл мойщик трупов! Я больше не хочу видеть его бабью физиономию.
— Удивительно бестолковая ты девчонка, Вида. Что значит «вытолкать его вон»? Если даже у него лопнут глаза, всё равно он должен сам нести расходы по этому делу. Пусть он только попробует увильнуть, я ему покажу, где раки зимуют. Он должен встретиться с одним из ассистентов доктора и договориться с ним относительно стоимости операции.
— Милая мамочка, не дай бог мне хоть на один миг остаться без тебя! Ты такая умная и дальновидная женщина! Как папе повезло, что он женился именно на тебе. Ей-богу, если б я думала даже сто лет, я никогда не догадалась бы так отомстить Сирусу.
— Во всяком случае, — чтоб он ослеп! — он должен договориться с одним из ассистентов доктора относительно гонорара, найти где ему угодно деньги, прийти сюда к половине седьмого и вместе с тобой поехать к доктору. Возможно, у доктора будет к нему какое-нибудь дело, поэтому я поручу Али Эхсану проследить, чтобы он не улизнул из машины. Он будет сидеть в машине, пока не кончится операция, и, только когда рассчитается с доктором, может убираться ко всем чертям.
В соответствии с этим разумным планом Вида направилась на квартиру к доктору Раванкаху Фаседу. Когда она подъехала к его четырёхэтажному дому и увидела, что ставни окон первого этажа, облицованного чёрным мрамором, и остальных трёх этажей, отделанных светлым цементом, закрыты, а во внутренних помещениях дома темно как в покойницкой, у неё оборвалось сердце. Нерешительно поднялась она по восьми цементным ступенькам. Подойдя к одной из дверей, она увидела табличку, на которой на английском языке было написано: «М. Д. Джахан С. Салех», а над дверями других комнат такими же буквами и тоже на английском языке было написано что-то другое. Сомнения и колебания её возросли, ей показалось, что она ошиблась и что это или гостиница, или казарма, или же одно из американских учреждений. Однако слуга, сидевший на стуле в конце коридора, подтвердил, что она не ошиблась: квартира доктора Раванкаха Фаседа находится именно здесь.
Час с четвертью, проведённые Видой в приёмной доктора Раванкаха Фаседа, а бедняжкой Сирусом в машине кадиллак, принадлежащей господину Манучехру Доулат-дусту, показались им вечностью.
То, что господин доктор, который по телефону так настойчиво требовал, чтобы она просидела в ванне, наполненной холодной водой, до встречи с ним, теперь сам заставляет её ожидать в приёмной больше часа, удивляло и страшило Виду.
Когда слуга доктора в ответ на её возмущение хладнокровно заявил: «Ну, что ж делать, придёте в какой-нибудь другой день», сердце несчастной девушки оборвалось или, как говорит Мах Солтан, любимая прислуга её матери, «оборвались связки её сердца». Но что она могла предпринять? У неё не было иного выхода, кроме как набраться терпения и сидеть в этой приёмной, окна которой, выходившие на улицу, плотно прикрывали ставни в комнате, где темнота, как в тюремной камере, будет царить до тех пор, пока наконец не появится сам господин доктор Раванках Фасед.
Несчастный Сирус в таком же мрачном ожидании сидел на заднем сиденье автомобиля, стоявшего перед домом господина доктора, и все мысли его были сосредоточены на одном: когда же его позовут и какую сумму он должен будет уплатить доктору за его труды?…
Когда утром Сирус проснулся и увидел, что Виды и след простыл, он быстро оделся, сорвал с кровати простыню, завернул её в газету и поспешил в город. Первым делом он купил в магазине новую простыню и, вернувшись в «Дербеид», постелил её на кровать. Вызвав коридорного, он потребовал у него счёт. За номер ему пришлось заплатить пятьдесят два тумана и восемь кранов, пять туманов он дал коридорному на чай. Потом он взял завёрнутую в газету простыню, сел в машину и снова поехал в город.
У поворота к тюрьме Гасре Каджар он остановил машину, осмотрелся и, увидев, что никого на дороге нет и никто его не видит, осторожно бросил свёрток в речку возле шоссе, быстро нёсшую свои мутные, пенистые воды. Затем он немного постоял, поглядел на течение воды и на быстро удалявшуюся в волнах реки память о его первой ночи, проведённой с Видой. Когда он убедился, что река унесёт эту память далеко, он сел в машину и отправился в город.
Самые подлые, самые мерзкие люди, которые всячески стараются не поддаваться лирическому настроению, иногда невольно впадают в лирику, и на какой-то миг к ним приходит поэтическое вдохновение. Так и Сирус, сидя за рулём автомобиля, вспоминал свою дорогую Виду, ту самую Виду, которая столько раз сидела рядом с ним в этой машине и которая вчера ночью в порыве искреннего чувства отдала ему самое ценное, что у неё было, разрешила ему насладиться любовью.
Здесь его лирическое настроение достигло апогея. Он вспомнил, как несколько минут назад грязные, пенистые воды речки, протекающей возле шоссе, подхватив память об этой любви, унесли её с собой. Он вспомнил, что в детстве его кормилица, глупая болтливая старуха Шах— рияри, неизвестно для чего рассказала ему, что в благородных семьях, где дорожат фамильной честью, хранят простыню, на которой спали молодые в первую брачную ночь. А Сирус сегодня вверил это доказательство чести бурным волнам речки, чтобы они понесли его по свету и оповестили о нём всех жителей мира.
Преисполненный этим чувством, гордо подняв голову, Сирус остановил машину у подъезда дома господина Манучехра Доулатдуста, вошёл в подъезд и, выйдя оттуда спустя полчаса, поехал к себе домой. Спокойно и просто, как о каком-нибудь совершенно незначительном событии» рассказал он о происшедшем своей матери. Махин Фаразджуй выслушала сообщение сына тоже очень спокойно, словно речь шла с покупке ботинок или шапки.
Когда Сирус поведал матери, что Нахид, мать Виды весьма недвусмысленно сказала ему: «Чтоб тебе ослепнуть, расходы по этому делу должен нести ты», в глазах несчастной Махин промелькнул тревожный огонёк. Правда, недавно господин Али Фаразджуй, начальник одного из главных управлений министерства финансов, провёл крупную операцию по экспорту через Ирак с несколькими членами торговой палаты, во главе которых стоит господин Абд-ол-Хосейн Бадпуз, крупной партии ячменя и получил за это довольно приличное вознаграждение. Но ведь расходы по дому велики, да и, кроме того, с какой стати Сирус — чтоб ему свернуть себе шею! — будет транжирить то, что господин Али Фаразджуй добывает на старости лет с таким трудом, всеми правдами и неправдами, всеми тайными и явными путями. То этому паршивцу нужен автомобиль, то деньги, чтобы ходить с девушками играть в пинг-понг или заниматься верховой ездой и кутежами, а теперь он должен платить за операцию этой долговязой, тщедушной Виды, чтоб ей подохнуть!
Как бы там ни было, но Сирус, доведя свою дорогую мать до белого каления, выудил у неё некоторую сумму из тех честным путём заработанных денег, которые накануне ночью его благородный отец осторожно извлёк в углу спальни из жёлтого заграничного портфеля и вручил своей дражайшей супруге. Несколько тысяч туманов пришлось отдать этому «бесталанному дылде», как в тот день назвала его мать. Но надо признаться, только человек, окончательно потерявший, подобно ханум Махин Фаразджуй, способность мыслить, мог назвать так этого расторопного и смышлёного парня, который, словно пламя, зажёг сердца сотен дочерей командармов, дивизионных генералов, министров, депутатов и первостатейных газетных корреспонтов Тегерана.
Уложив в портфель полученные от матери деньги, Сирус торопливо вышел из дому. Спешил он по двум причинам. Во-первых, он боялся опоздать к ассистенту господина доктора Раванкаха Фаседа, ибо тогда угроза матери Виды могла бы быть претворена в жизнь и он больше никогда не увидел бы Виду, и, во-вторых, он боялся, что его мать, раскаявшись в своём поступке, как это уже неоднократно бывало по отношению к отцу, заберёт обратно часть денег
И тогда ему придётся доставать их где-нибудь в другом месте. Чтобы найти наиболее влиятельного ассистента господина доктора, он решил обратиться к человеку, который уже много раз прибегал к помощи доктора и лучше всех знает, кто из ассистентов пользуется сейчас у доктора большим доверием. Во всей столице наилучшими знатоками в этой области были Хаида-ханум, любимая дочка господина Таги Борунпарвара, нынешнего уважаемого начальника финансового управления провинции Фарс, и мадам Мехри Борунпарвар, самая красивая, самая хитрая и самая опытная женщина столицы, всегда умеющая влезть в душу нужного ей человека. Ханум Мехри Борунпарвар не только сама обладает многолетним опытом, но в силу близости и дружбы, существующей между ней и очень высокопоставленными дамами страны и даже дамами, стоящими ещё выше, она всегда бывает в курсе всех подобных событий и никто лучше её не знает, как вернее обделать такое дельце. Вековой опыт в этих делах, искусство и ловкость, которые всегда сосредоточивались в руках иранской аристократии, — всё это полностью и совершенно даром досталось ей, и теперь она делится хранимыми её памятью богатейшими знаниями и опытом с другими.
К этому опыту, который ханум Мехри Борунпарвар получила в наследство и сама довольно успешно усовершенствовала, её дочь Хаида сделала целый ряд дополнений, и поэтому ныне она, несмотря на свою молодость, гораздо опытнее самых прожжённых старух этого племени, даже опытнее госпожи Рогийе Асвад-ол-Эйн, которая даст многим сто очков вперёд.
Эта самая Хайда, с её ничем не примечательной внешностью и всеми другими весьма средними качествами, несмотря на свой ограниченный ум, несмотря на то, что даже вид её свидетельствует о бездарности, является хранилищем векового опыта дворцовых и аристократических кругов в деле любовных интриг, гаерства и особого кокетства, присущего этой категории женщин. Если бы когда-нибудь эта никчёмная Хайда захотела поведать миру всё, что накопилось в её памяти, она могла бы написать много книг об искусстве обмана, о том, как завлекать в свои сети, обирать мужчин, опустошать их карманы, и эти книги были бы куда увлекательнее знаменитой книги «Камасутра» — индийской «Книги любви». Хаида уже не раз попадала в такое положение, в какое попала сегодня несчастная Вида не раз прибегала к операции и не раз обращалась к ассистентам господина доктора Раванкаха Фаседа, и поэтому она лучше всех знала, где найти этих людей, сколько им нужно заплатить и какое влияние имел каждый из них на доктора.
Когда Сирус дошёл до дверей великолепного дома господина Таги Борунпарвара и справился о Хаиде-ханум, слуга сказал, что её нет дома. Сирус ещё в детстве заметил, что, когда посторонние люди, приходя в их дом, справлялись у слуг, дома ли его мать, те, как это принято в аристократических домах Тегерана, заявляли: «Ханум уехала». Он также заметил, что ассигнация в пять или десять туманов, вложенная в руку слуги, возвращала хозяйку домой. Даже больше того, самый приближённый, самый верный слуга дома, получив соответствующую мзду, провожал пришельца прямо в спальню госпожи. Теперь Сирус тоже вытянул из пачки денег, которые только что ему удалось получить у матери, десятитумановую ассигнацию, и слуга, взяв её, поспешно удалился, а спустя несколько минут вернулся и с подобострастной вежливостью провёл господина Сируса к дверям спальни Хаиды-ханум.
Не успел Сирус постучать в дверь, как она открылась и из спальни показались кручёные усики господина Фарибарза Доулатдуста,
Неудачливый юноша ещё был занят приведением в порядок своего туалета. Столкнувшись с Сирусом, он, как всегда, тепло с ним поздоровался, вежливо справился о его здоровье, о здоровье Виды-ханум и Шахин-ханум. Сирус не моргнув глазом ответил, что Шахин-ханум великолепно себя чувствует, хотя не был уверен, что сегодняшнюю ночь она не провела с этим самым злосчастным Фарибарзом. После обычного обмена любезностями юноши расстались.
Когда Сирус вошёл в комнату Хаиды, она, обнажённая до пояса, всё ещё стояла перед зеркалом и расчёсывала свои чёрные, как у негритянки, кудри, которые выдавали её подлинное происхождение.
Сирус прекрасно знал, что наилучший способ расположить к себе таких девиц, как Хаида, это держать её я с ними фамильярно, что и делают мужчины столицы Ирана. Поэтому он тихонько подошёл сзади к Хаиде и поцеловал её в загорелое грубое плечо. Хаида, сделав вид, будто не видела его в зеркале, обернулась:
— Ах ты несчастный, чтоб тебе не видеть добра ты опять за своё? Если я увижу Виду или Шахин, я им скажу, чтобы они задали тебе трёпку.
— Да паду я жертвой твоей луноподобной красоты, не сердись на меня и не строй планов мести.
«Мы такие несчастные, падшие,
Зачем замахиваться на нас саблей».
— Пах-пах, да светятся наши глаза, смотрите-ка, до чего дошло дело. С раннего утра, ещё до завтрака на тебя нашло поэтическое вдохновение. Ну, ты не знаешь, как поживает моя душечка Вида?
Лучшего повода поведать любезной Хаиде о событиях вчерашней ночи и объяснить ей цель своего прихода нельзя было придумать. Когда Сирус кончил свой рассказ, Хаида, которая, стоя перед зеркалом, брила безопасной бритвой «Жиллет» волосы под мышками и припудривала их, с наивной простотой небесного ангела сказала:
— Ах, чтоб тебе подохнуть в молодые годы! Зачем же ты споил несчастную девочку? Почему ты не дал ей насладиться своей молодостью? Вы, мужчины, действительно, кроме своей подлой персоны, ни о ком другом не думаете, и, если, случается, вы хотите доставить какой-нибудь несчастной девушке удовольствие, вы её спаиваете, чтоб она не могла даже почувствовать его.
После этого выпада Сирус понял, что единственный путь к примирению — это вторично поцеловать смуглое, грубое плечо Хаиды. Каждый раз, когда кто-либо из знакомых юношей рассказывал Хаиде подобную историю, она, зная, чего от неё хотят, давала адрес одного из ассистентов господина доктора Раванкаха Фаседа. На этот раз она также без всякого жеманства решила помочь Сирусу.
— Милый Сирус, тебе и в самом деле везёт. Если в твои руки попадается любовница, она оказывается Видой, сладкой, как сахар, и прекрасной, как луна. Теперь, когда с тобой стряслась такая история, господин доктор Раванках Фасед буквально на этих днях нашёл нового превосходного ассистента, который обделает для тебя это дельце и быстрее и дешевле, чем другие.
— Да, действительно мне везёт!
— К тому же, мой милый, недавно господин доктор Раванках Фасед по настоянию посольства был избран деканом медицинского факультета. И вот, для того чтобы и в будущем при избрании его на эту должность не возникало каких-либо препятствий, он назначил четырёх врачей заведующими лечебными отделениями больниц и профессорами медицинского факультета, хотя ни один из них не имеет никаких оснований на профессорское звание. Только благодаря господину доктору они заняли профессорские кафедры и теперь на будущих выборах будут, конечно, голосовать за него. Самый подлый из этих четверых — господин доктор Мехди Атеш, заведующий лечебным отделением больницы Рази.
— Да не может быть! Так вот, оказывается, почему он теперь даже не отвечает на приветствие.
— Ну да, конечно, ведь вдобавок ко всему он ещё сын ахунда — он тюркского происхождения — и получил воспитание среди ахундов.
— Недавно он заработал от нашего любимого премьер-министра две звонкие пощёчины, которые явились вкладом в его наследственную и благоприобретённую гордость.
— Во всяком случае, этот доктор Мехди Атеш, который, будем надеяться, в. скором времени с помощью того же посольства станет министром просвещения, ныне яв— ляется компаньоном, задушевным другом и ассистентом господина доктора Раванкаха Фаседа.
— Да благословит его господь!
— Поэтому-то он и имеет такое большое влияние на господина доктора. Ему легче, чем кому-либо другому, договориться с ним, да и заплатить можно будет дешевле.
— В самом деле нам повезло. Милая Хаида, клянусь богом, ты просто сокровище, ты всегда в курсе всех событий, даже знаешь о маклерских операциях какого-то вшивого ахунда.
— Лучше прибереги своё красноречие для этого ахунда, доктора Мехди Атеша. Он очень любит, когда ему говорят комплименты. Ты можешь пойти к нему или в больницу, или на квартиру. Он живёт за площадью Фирдоуси, в тупике направо. Я думаю, будет лучше, если ты пойдёшь к нему домой, хотя бы потому, что он иногда месяцами не заглядывает в больницу. Он заходит туда только для того, чтобы вырвать у главного бухгалтера деньги, поживиться у поваров да взять какое-нибудь лекарство.
— Разве, не дай бог, он и на руку нечист?
— Да упокоит господь души твоих близких! Неужели ты думаешь, что эта публика добивается директорских и других высоких постов для того, чтобы служить народу? Если бы это было так, они не занимались бы всякими махинациями и не связывались бы с посольствами. Ну, возьми хотя бы этого самого доктора Раванкаха Фаседа. Как только он стал деканом медицинского факультета, он поднял на ноги весь Тегеран, добиваясь, чтобы бухгалтерию больницы отделили от бухгалтерии факультета. Зачем ему нужно это? Только для того, чтобы иметь возможность совершать побольше комбинаций со снабженцами больницы, урезывать себе кое-что из продовольственного пайка, предназначенного для больных, а их кормить вместо цыплят воронами, получать в больнице лекарства для больных и продавать их на базаре в три-четыре раза дороже.
— Да неужели это может быть? Милая Хаида, клянусь тебе, мы с тобой бесталанные глупцы. Мы цепляемся за юбки наших мамаш и стараемся обирать их, не ведая даже, что существует огромный мир и обширный стол, уставленный даровыми яствами.
— Ничего, не печалься, в один прекрасный день мы с тобой сядем и вместе подумаем, как нам разделить с господами врачами и деканами факультетов их прибыли. А пока имей в виду, что будет лучше, если ты пойдёшь к нему домой, ибо, когда он в больнице, он так задаётся, что торговаться с ним становится трудно. Дома же он бездельничает — ведь домашняя клиентура невелика, поэтому там договориться с ним бывает гораздо легче.
— Милая Хаида, ты в этих делах человек опытный, скажи, как мне лучше заговорить с ним о гонораре?
— Если хочешь знать правду, совершать сделки с такими, как этот доктор, куда легче, чем с любым лавочником. Они не нуждаются ни в каких церемониях, у них сердце тает при виде денег, и все их мысли день и ночь сосредоточены на том, как бы потуже набить карманы и уехать в Америку. Каждый из них ворует в десяти местах: в больнице, банке, плановых организациях, государственных и благотворительных обществах, в муниципалитете, во втором управлении штаба армии — всюду они имеют свою долю, а сверх того ещё получают кое-что от посольств. Деньги — это их идол. Едва услышав звон денег, они сгибаются в три погибели, и с них моментально спадает вся спесь. Они готовы и унижаться, и выслуживаться, готовы лизать пятки любому, у кого есть деньги. Иногда становится просто жаль этих холуёв, которые, между прочим, имеют на руках дипломы. Поверь, ни один подхалим не вызывает такого отвращения, как они. Когда даёшь им деньги, хочется вдобавок надавать им ещё таких затрещин, чтобы перед их глазами встал бы образ их подлых предков. Ей-богу, никто не сумел раскусить всю эту публику лучше, чем Размар. Когда он давал им хоть один грош, он всегда сопровождал эту подачку пощёчинами.
Ну, ладно, милая Хаида, большое тебе спасибо за твои разумные советы. Я обязательно ими воспользуюсь. А теперь разреши мне оставить тебя. Нужно выручать из беды несчастную Виду.
Господин Сирус Фаразджуй в третий раз поцеловал голое плечо Хаиды и вышел из комнаты.
Второй час ожидания Виды-ханум в приёмной господина доктора Раванкаха Фаседа подходил к концу. Бедный слуга доктора от стыда не осмеливался подойти к приёмной. Вида уже в сотый раз перелистала разложенные на столе яркие и бессодержательные американские журналы, в сотый раз с большим вниманием разглядела цветные фотографии, и в её душе в сотый раз возникло желание посмотреть всё это своими глазами совсем близко, ближе, чем приёмную господина доктора Раванкаха Фаседа, «специалиста по женским и девичьим болезням», побывавшего в Америке.
Единственное, что вызывало у Виды отвращение в этих журналах, были яркие цветные тарелки, полные различных блюд, разноцветные сандвичи, которые, как правило, заполняют страницы такого рода американской прессы. Если бы Вида была в хорошем настроении, возможно, ей захотелось бы есть, но от усталости и напряжения, в котором сегодня весь день находились её нервы, у неё совсем не было аппетита. Мало того, при виде красивых блюд и сандвичей её просто тошнило. Ох, как ей хотелось, чтобы господин доктор сейчас появился перед ней! Свернув трубкой один из этих толстых журналов, она стала бы так колотить его по башке, что выбила бы ему все мозги!
С самого раннего утра, с того момента, когда по телефону они договорились с доктором о приёме, и до настоящей минуты, и в холодной ванне там, дома, и в этой голой, тёмной и одинокой комнате она чувствовала себя несчастной. Бесконечное ожидание в приёмной знаменитого хирурга, весьма уважаемого декана медицинского факультета, было для неё тяжелее смерти, и только тут она по-настоящему поняла, какое несчастье принёс ей этот проклятый Сирус.
Иногда раненый в первый момент не чувствует ни боли, ни глубины своей раны, и только потом кто-нибудь объяснит ему, какая беда с ним приключилась. Пока Вида не прождала двух часов в приёмной доктора, она не знала, какое страшное преступление по отношению к ней совершил Сирус. Терпение этой несчастной девушки, одиноко сидевшей в мрачной приёмной доктора, печальной и подавленной, утратившей всё своё достояние, иссякло, и теперь ожидание стало для неё хуже самой мучительной пытки. Единственный выход, который казался ей наилучшим в её положении, — пригрозить доктору, что она заплатит ему за операцию меньше. На людей алчных такая угроза действует лучше всего.
Она встала, открыла дверь, вышла в коридор, ведущий в квартиру доктора, и, нарочно громко стуча каблуками своих парижских туфель по цементному полу, чтобы поднять как можно больше шуму, направилась к слуге доктора. Нарушив его дремоту, она встала против него и прислушалась, чтобы определить, куда ей идти дальше. Убедившись, что голоса мужчин и женщин, оживлённо говорящих на английском языке, доносятся из-за двери, расположенной по правую руку, она подошла к этой двери и очень сердитым и громким голосом закричала, обращаясь к слуге:
— Передай господину доктору, если черев пять минут он не выйдет ко мне, я обращусь к другому врачу.
Эти слова оказали магическое действие. Не успела Вида вернуться в приёмную, как кто-то с силой хлопнул дверью и послышался низкий голос мужчины, всем своим видом показывающего, что он торопится и что у себя дома он может быть очень груб и неприличен.
— Эй, ты, болван! Поди-ка сюда и открой ставни, пусть комната немного проветрится. Тут же задохнуться можно!
— Господин доктор, ведь вы же сами запретили открывать ставни до тех пор, пока вы не распорядитесь.
— Да, но ведь клиенты бывают разные, болван. Распоряжение касалось иностранцев, чтобы с улицы их никто не видел, а уважаемая госпожа, говорящая по-персидски, совершенно в этом не нуждается.
Слуга поспешно открыл ставни. Как только свет проник в комнату, взгляд Виды упал на доктора Раванкаха Фаседа, которого она вместе с его американской супругой тысячи раз видела на официальных приёмах и аристократических банкетах. Сегодня доктор особенно принарядился для своих американских гостей. На нём был свинцового цвета американский костюм, жёлтые с белым туфли в дырочках и галстук свекольного цвета с большим жёлто-белым цветком посередине. Конечно же, господин доктор привёз этот галстук из Америки в память о последней своей поездке в этот обетованный рай.
Американские очки без оправы, круглое расплывшееся лицо, на котором даже с помощью тысячи подзорных труб никто не смог бы обнаружить ни малейших признаков интеллекта, доброты и честности, громоздка фигура, огромный живот — всё это говорило о том, что господин доктор никогда не утруждает себя никакими размышлениями и самым большим делом, которым он обременял себя в этом мире, было поедание добра, приобретённого нечестным путём. Его жирные руки, короткие толстые пальцы, коротко остриженные ногти, толстые ноги с очень высоким подъёмом свидетельствовали, что этот уважаемый барчук попал на профессорскую кафедру прямо из хлева, а докторский диплом, который он получил, был доказательством того, что выдавший его старался как можно скорее избавиться от этого чучела.
Ещё раз окинув взором с головы до ног доктора, Вида невольно сказала про себя: «Этот человек и в самом деле только о том и мечтает, как бы занять пост министра. Вряд ли на эту должность можно было бы найти какого-нибудь другого, более подходящего осла».
Господин доктор Раванках Фасед приблизился к несчастной Виде.
— Ну, мадам, поздравляю вас! Как это случилось, что вы вспомнили обо мне? За всё время, что мы занимаемся врачебной практикой, мы имели счастье видеть всех первоклассных дам нашего города, кроме вас!
Виде хотелось закатить ему звонкую пощёчину. Он говорил так, будто «первоклассные дамы» были обязаны систематически раз в неделю приходить к господину док— тору, будто этот никчёмный человек всех считает своими должниками.
С трудом подавив это желание, Вида сухим тоном, который был хуже, чем тысяча бранных слов, сказала:
— Что же, прикажете мне огорчаться из-за этого, господин доктор? Мы ещё не дошли до такого состояния, какого вам хотелось бы, но если с божьей помощью счастье улыбнётся нам, мы станем более частыми вашими пациентами.
— Ну ладно. Так чем же я могу вам служить сегодня?
— Вам уже об этом говорили по телефону, и вы назначили час приёма.
— Прошу прощения. Видите ли, я проиграл в бридж восемьдесят долларов и поэтому немножко рассеян.
Бедная Вида подумала, что доктор настолько рассеян, что вспомнил про свой последний проигрыш в Америке, забыв, что сейчас он находится в Тегеране.
— Простите, господин доктор, но вы находитесь в своём доме на проспекте Тахте Джамшид.
Доктор глупо рассмеялся:
— Ха-ха-ха! Да, ханум, но с американскими друзьями мы играем в карты не на риалы, а на доллары.
— Ах вот как!
— Если выигрываем — переводим деньги в Америку, а если проигрываем, то, дай бог здоровья нашим пациенткам, они этот проигрыш компенсируют.
Чтобы доказать Виде свою исключительность, господин доктор отечески погладил двумя пальцами её грудь, посмеиваясь громким отрывистым смехом.
— Ну, Вида-ханум, как поживают ваши уважаемые родители?
Несчастная Вида поняла, что, если она немедленно не оборвёт этого человека, расспросы о здоровье будут длиться без конца и ей не дождаться момента, когда доктор наконец приступит к делу, ради которого она пришла. Поэтому она сочла нужным перевести разговор на интересующую её тему:
— Господин доктор, может быть, я разденусь и вы осмотрите меня?
Доктор окинул взором неприглядную фигуру Виды. Прежде всего ему бросились в глаза её брови, лицо, худая шея, выступающий кадык, опущенные плечи, маленькие груди, тонкая талия, тощие икры ног, и он, словно мясник оценивающий взглядом барана, прежде чем купить его, сделал соответствующую оценку Виды и с полным безразличием сказал:
— Нет, не надо, не торопитесь, у вас ещё достаточно времени.
Затем, указав рукой на операционный стол, стоявший под лампой и накрытый белой простынёй, небрежным тоном добавил:
— Впрочем, пока вы будете раздеваться, мы можем с вами обо всём договориться.
— О чём же мы должны договориться?
— О плате за операцию.
— Но ведь мы уже договорились.
— С кем?
— С господином доктором Мехди Атешем, заведующим лечебным отделением больницы Рази.
— С каким доктором?
— С вашим ассистентом, доктором Мехди Атешем.
— А, понятно. Та договорённость, которая у меня с ним имеется, касается бедняков и тех несчастных, которые обращаются в его больницу, но не девушек из аристократических семей.
— Но господин доктор нам сказал, что он уполномочен вами договариваться о стоимости операции и расходах на лечение.
— Ханум, я ведь вам уже говорил, что вас это не касается. Вы, слава богу, обладаете состоянием, иностранной валютой, можете платить девизами[98]. Господин Эхтеладж, директор Национального банка, поддерживает вашу семью, она располагает тысячью различных кредитов, и у вас, конечно, нет никаких оснований платить тот пониженный гонорар, который доктор Мехди Атеш уполномочен устанавливать от моего имени для бедняков, обращающихся в лечебницу.
— Значит, вы не принимаете тех условий, о которых мы с ним договорились, и надо договариваться лично с вами?
— Ну конечно же. А о чём вы договорились с ним?
— Сирус должен заплатить тридцать тысяч туманов вам и три тысячи маклерских самому доктору Мехди Атешу.
— Ну, с этими тремя тысячами риалов вы можете распрощаться.
— То есть как это?
— Доктор Мехди Атеш не такой человек, чтобы вернуть обратно деньги даже в случае, если сделка не состоится. Он ведь сын ахунда. Деньги, данные по обету, принадлежат молящемуся!
— Ну, хорошо, так какие же условия ставите вы?
— Во-первых, вы заплатите мне только валютой, а во-вторых, повторяю, что та сумма гонорара, о которой вы договорились с господином доктором Атешем, не относится к пациентам вашего класса.
— Разве в медицине тоже существует классовое различие?
— Конечно! Вы же не сядете в автомобиль, который стоит десять тысяч туманов, не купите дом за пятьдесят тысяч туманов и не наденете пальто за две тысячи туманов. Как же вы можете согласиться на операцию, которая стоит всего тридцать тысяч туманов! Ведь это оскорбительно для вас! Если даже вы сами пойдёте на такое унижение, то я, как патриот, не могу допустить, чтобы дети аристократов шахиншахского государства делали операцию за тридцать тысяч туманов, тем более первую операцию.
— Как, а разве эту операцию можно делать во второй и в третий раз?
— Конечно. Мы, американские хирурги, выполняем её с таким искусством, что, если необходимость в ней возникнет ещё десять раз, мы снова сделаем её. К тому же сейчас мы практикуем накладку швов нейлоновыми нитками.
Вида с облегчением вздохнула. На душе у неё стало спокойно, все тревоги, терзавшие её до сих пор, исчезли. Она даже пожалела, что так поздно узнала столь интересные подробности, и решила, что, сколько бы ни стоила операция, врачи действительно заслуживают этих денег. Ну а она не потерпит от этого никакого ущерба, она вытянет у молодых людей в несколько раз больше того, что придётся платить врачу. Она сразу стала очень любезной:
Я очень вам признательна, господин доктор, что вы так оберегаете моё достоинство. Скажите, пожалуйста, какую сумму я буду должна вам?
— Так как я питаю особое расположение к вашей семье и много раз пользовался вашим гостеприимством я возьму с вас тысячу двести долларов.
— Тысячу двести долларов?!
— Да, ханум, поверьте, даже в самой Америке эта операция стоит двести долларов. Это государственная такса.
— Но здесь ведь не Америка, господин доктор, и у нас не всегда имеются в наличии доллары.
— Ну что мне вам сказать? Я уже давно не делал операций за риалы. Во-первых, моя супруга — американка, двое моих детей — американские подданные, я сам тоже подал прошение о принятии меня в американское подданство и в будущем году получу разрешение. И, кроме того, только сумасшедшие держат свои капиталы в этой смутной стране. Те доллары, которые вы сегодня соизволите дать мне, я завтра же утром телеграфом переведу в Америку.
— Да, но ни у меня, ни у Сируса, который сидит в машине у подъезда вашего дома, нет с собой долларов.
— Ну, это уж не моя вина. Между прочим, до того как приступить к операции, я должен получить согласие Сируса Фаразджуя.
— Что вы хотите этим сказать?
— Я хочу этим сказать, что, если ваш молодой человек, который допустил такую оплошность, или, как говорят в народе, совершил это преступление, не заплатит мне за молчание, я не буду делать операции.
— Господин доктор, я, ей-богу, совершенно теряю разум. Я просто не могу понять вас.
— А тут и понимать нечего. Я говорю, что господин Сирус-хан должен заплатить мне за молчание. Почему же за операцию нужно платить, а за молчание нет?
Вида проявила удивительное самообладание, не закатив звонкую пощёчину по жирной, бесстыжей физиономии господина доктора, побывавшего в Америке и боготворившего доллары, доктора, жена и дети которого являются американскими подданными и который сам в ближайшем будущем удостоится этой великой чести. Но, увы, она не могла этого сделать, она сама пришла в этот разбойничий вертеп, и вынуждена терпеть любую грубость и наглость этого господина. Усилием воли подавив своё желание. Вида сказала:
— Ну, хорошо, вы изволили сказать, что я должна заплатить тысячу двести долларов, а сколько вы хотите получить от Сируса?
— Из уважения к вам ему я тоже сделаю скидку. С него я возьму триста долларов.
Вида мысленно произнесла: «Какой подлец, какой подлец! О, если бы ты хоть раз попал в мои руки, я бы вытянула из тебя все жилы. Погоди, будет и на моей улице праздник!» и совершенно подавленная, словно побитая собака, медленно, нерешительным шагом вышла из приёмной доктора Раванкаха Фаседа.
Сирус коротал эти два с половиной часа, растянувшись на заднем сиденье автомобиля. Если бы его дружки узнали, что этот прекрасный юноша, один из выдающихся представителей золотой молодёжи шахиншахской столицы, который мог бы за это время совершить большие дела, не совершил их только из-за бессмысленного ожидания в машине, они не только посочувствовали бы его злоключениям, но и послали бы тысячу проклятий в адрес медицины, которая считает себя спасительницей человеческих жизней.
Спустя несколько минут Вида и Сирус вместе вернулись в приёмную доктора Раванкаха Фаседа. Доктор в душе ликовал. Сегодня он совершил очень выгодную сделку. Днями и ночами на протяжении всех двенадцати месяцев в году он был занят только комбинациями, но не часто мог похвастаться подобной удачей.
Обычно те, кто обращался к нему, не располагали наличными долларами. Несколько раз ему давали чеки, не обеспеченные покрытием, и он с колоссальными трудностями взыскивал по ним деньги. Некоторые пациенты, пользуясь либо своей властью, либо властью двора, меджлиса, главного полицейского управления или совета министров, заставляли его делать операцию бесплатно или же, расплачиваясь, надували несчастного и беспомощного доктора. Поэтому господин доктор, как только в его руки попадали папенькины и маменькины детки, вроде Виды и Сируса, обирал их без всякого зазрения совести. Получая от таких операций колоссальное удовольствие, он торопился содрать со своих пациентов как можно больше, пока они не успели стать министрами, депутатами, сенаторами и не начали бы пользоваться его услугами бесплатно.
Как только Сирус появился в приёмной, доктор, идя навстречу ему, по привычке, усвоенной в Америке, потирая руки, начал громко говорить ему комплименты и выражать благодарность за то, что он, Сирус, из всех коллег доктора избрал именно его и доверил ему свою дорогую, нежную возлюбленную.
Во время разговора он несколько раз справлялся о здоровье дорогих родителей Сируса, напомнил о своей давнишней дружбе и даже отдалённых родственных связях с его семьёй, вспомнил, что в детстве, когда он жил по соседству с отцом Сируса, они неоднократно играли на улице в чижика и в орехи.
Пока господин доктор Раванках Фасед разглагольствовал об этих пустяках, сердце Виды разрывалось от негодования. В нетерпении она переступала с ноги на ногу, не в силах дождаться, когда же наконец кончится эта лживая болтовня. Наконец она дала волю обуревавшему её гневу и резко, с раздражением сказала:
— Ну, довольно, ради бога довольно, моё терпение лопнуло. Милый Сирус, заплати столько, сколько доктор хочет, и избавь меня от этого палача.
Доктор громко и глупо рассмеялся и грубо сказал:
— Да полно вам, мадам, вы сейчас сами изволите убедиться, что я совсем не палач. Я даже в самой Америке славился этими операциями. В той больнице, где мы работали, нам приходилось делать их по четыреста-пятьсот в течение дня, и мой знаменитый учитель господин профессор Роберт всегда поручал операции мне, а когда я кончал, внимательно осматривал мою работу и горячо пожимал мне руку. Итак, господин Сирус-хан, прошу вас, сядьте, пожалуйста, за стол и выпишите чек.
Когда Сирус в соседней комнате сел выписывать чек, а господин доктор в белом фартуке, стоя перед умывальником, принялся мыть руки мылом и чистить свои ногти щёточкой, Вида почувствовала, что наконец наступил решающий момент. Показав рукой на операционный стол, стоявший на середине комнаты, она спросила.
— Господин доктор, разрешите?
— Да, ханум, пожалуйста, прошу вас.
Быстро, словно желая поскорее избавиться от этого неотёсанного мужлана, Вида сняла туфли, чулки, платье, комбинацию, положила всё это на стул. Когда на ней оставались только бюстгальтер и трусики, она проговорила:
— Господин доктор, я готова.
Доктор обернулся, посмотрел на неё и сказал:
— Ханум, снимите всё.
Заметив, что Вида колеблется, доктор указал на Сируса и ещё более грубым, чем прежде, тоном добавил:
— Да полноте, ханум, ведь господин Сирус-хан близкий вам человек, от него таиться нечего, а что касается меня, то я врач и вы не должны меня стесняться.
Через минуту Вида лежала на операционном столе доктора Раванкаха Фаседа. Она пристально смотрела в потолок, а Сирус, написав чек, поднялся и, облокотившись о край стола, стал исподлобья смотреть на Виду.
На следующий день, в среду, в половине одиннадцатого утра в кабинете декана литературного факультета собрался совет университета.
Господин доктор Раванках Фасед накануне вечером положил в карман кругленькую сумму, ещё раз показав своё врачебное искусство. После операции он плотно поужинал и заснул.
В девять часов, когда он ещё ворочался с боку на бок в кровати, мадам, войдя в спальню, на своём красноречивом английском языке с американским акцентом напомнила ему, что он уже опоздал в больницу.
— Ерунда, больные подождут, я сегодня чувствую себя более утомлённым, чем обычно.
— Но ведь, друг мой, оттуда звонили уже три раза.
— Скажи, чтобы телефон переключили сюда.
Господин доктор взял телефонную трубку и, обругав площадной бранью того, кто был на другом конце провода, сказал:
— Если они не могут подождать, чтоб им ослепнуть, пусть убираются ко всем чертям! Я ведь не получаю денег от университета за осмотр больных. У меня и помимо больницы дел по горло. Да, я забыл, но сегодня я вообще не могу никого принимать, я сейчас должен ехать в посольство, а потом у меня заседание университетского совета. Больные пусть придут послезавтра.
Судя по всему, его собеседник всё еще продолжал настаивать. Доктор, потеряв терпение, закричал:
— Не суйтесь не в своё дело, это вас не касается. Больные мои, и я сам знаю, что с ними делать. Скажите, пусть все они придут послезавтра.
Господин доктор встал с постели, быстро побрился, оделся, позавтракал, вызвал из гаража машину и, по своему обыкновению заехав в посольство, на некоторое время уединился с господином послом. И вот теперь он готов приступить к своим важным научным делам и принять участие в заседании совета университета.
Один за другим одиннадцать деканов одиннадцати факультетов — да увеличит господь их число! — среди которых был и сам ректор университета, одиннадцать заместителей деканов, двадцать два представителя от одиннадцати факультетов, учёный секретарь и заместитель ректора университета вошли в комнату, расположились вокруг длинного стола, за которым раз в неделю решались судьбы наук и литературы Ирана и всего мира и разрешалось много технических трудностей, мешающих упрочению и развитию науки.
Господин ректор университета сидел на председательском месте, те, кто некогда был министром или может когда-нибудь стать им, кто был депутатом или сенатором или собирается стать ими, расположились по обе стороны стола вблизи от ректора, а остальные, представители заштатных факультетов: ветеринарного, сельскохозяйственного, технологического — мелюзга, из которой редко кто-нибудь попадает на пост министра, становится депутатом, сенатором, видным журналистом или политическим деятелем, уселись поодаль. В комнату с подносом в руках вошёл слуга Сеид-ага и обнёс всех присутствующих чаем. Учёные выпили чай, немного оживились и вышли из того полусонного, полупьяного состояния, в котором обычно находятся по утрам подобные знаменитые учёные и которые по этой причине даже не являются на лекции.
На этом важном научном заседании, где бок о бок сидели крупнейшие светила науки, по непреложному закону мироздания, в соответствии с которым или красота совершенно не воспринимает науки или же с появлением науки исчезает красота, собрались кривые и горбатые страшилища с уродливыми лицами как бы для того, чтобы демонстрировать свои странные гримасы и ужимки.
Господин доктор Раванках Фасед, даже здесь выделявшийся своим нахальством, больше всех говорил, шумел, важничал и, будучи самым невежественным, больше других стремился показать свои знания, ибо на этом учёном заседании все старались обсуждать вопросы, в которых они не разбирались, и говорить о неизвестных им вещах, а известные замалчивать.
Господин инженер Мехди Батенган, уважаемый декан технологического факультета, автор двух известных книг, одной об «очищении ислама» и другой о «философии отступления», которые он написал с точки зрения своей науки, именуемой «термодинамика» и имеющей тесную связь с этими двумя важными проблемами, произнёс: «О боже, о внук божий[99], о достойнейший, о набожный и воздерживающийся от запретного». Его небольшая чёрная борода, его лицемерный вид невольно наводили на мысль о лживых монахах, которые описываются в произведениях многих известных иранских писателей от Омара Хайяма до Хафиза. Всякий человек при виде этих слащавых физиономий, более сладких, чем сахар, и более желанных, чем финики, невольно должен был взять в руки чётки и, перебирая их, без конца повторять: «Господи, благослови наилучшие свои создания».
Сегодняшнее заседание университета должно было быть особенно торжественным, и поэтому с начала рабочего дня телефонисты секретариата университета столицы и одиннадцати его факультетов от имени ректора университета сообщали деканам факультетов, их заместителям и представителям факультетов, чтобы они обязательно присутствовали на этом заседании, где будут обсуждаться чрезвычайно важные вопросы.
Когда все эти крупнейшие учёные страны — и неверный, и христианин, и мусульманин, и бородатый, и безбородый, и доктор, и инженер, и побывавший в Америке, и побывавший в Европе, и тот, кто был министром, и кто не был им, и тот, кто был депутатом, и тот, кто депутатом не был, кто был сенатором и кто не был сенатором, богатый и бедный, а если хотите точнее, и мышь, и бык, и тигр, и заяц — расположились вокруг стола, покрытого зелёным сукном, и с причмокиванием стали посасывать свои сигареты и пускать в воздух клубы дыма господин доктор Забани, весьма уважаемый учёный секретарь университета, начал читать протокол предыдущего заседания совета университета. Господин доктор Ярдан Голи, представитель факультета литературы и известный профессор обществоведения, в силу того что он был ростом выше всех, а голова его была более пустой, чем у других, начал шуметь первым и, стуча концом карандаша по столу, попросил слова.
Когда этому известному философу дали слово, он исподлобья окинул всех присутствующих гневным взглядом. В наибольшее смятение этот взгляд привёл господина доктора Асаи, декана сельскохозяйственного факультета, и господина доктора Пирмамаи, заместителя декана ветеринарного факультета, то есть официальных сеятеля ячменя и ветеринара шахиншахского правительства. Убедившись по испуганному выражению лиц присутствующих, что его проницательные, полные глубокого смысла философские высказывания произвели своё действие, и предвкушая эффект, который произведут мысли, ещё не высказанные, доктор Ярдан Голи, пустив в ход всё своё красноречие, заявил следующее:
— Господин доктор, дорогой коллега и верный друг моего детства и юношества! При всём расположении, которое я к вам питаю, и несмотря на то, что мы с вами совместно изучали науки в Иране и в Европе, несмотря на то что вы в течение четырёх лет были директором литературного института в Тебризе и по меньшей мере — простите, я с вами и вообще со всеми говорю без обиняков десять лет являетесь профессором истории, вы до сих пор не научились вести протоколы заседаний такого высокого, имеющего мировое значение научного учреждения. Те презрительные выражения, которые существуют в персидском языке, — о них лучше меня осведомлены мои дорогие коллеги, представители литературного факультета, должны употребляться в научных центрах уместно, и нужно, чтобы здесь не допускалось ни излишеств, ни скупости. В этом протоколе вы ограничились словами «авантюристы» и «распущенная партия»[100], но, так как официальном инстанцией, утверждающей этот документ, является совет университета, членами которого мы все имеем честь быть, я предлагаю уважаемому совету университета сегодня официально постановить, чтобы в протоколе до и после этих двух слов было вписано ещё по десять-двенадцать оскорбительных эпитетов, которые выражали бы наше презрение к этой партии.
Господин ректор университета спросил:
— Господа, согласны ли вы с этим важным предложением нашего уважаемого коллеги господина доктора Яр— дана Голи Казаби, который, я надеюсь, вскоре в качестве министра почт и телеграфа и министра внутренних дел войдёт в состав одного из национальных кабинетов.
Все сорок пять голов закивали в знак одобрения. Даже господин инженер Дарманчи, представитель факультета сельского хозяйства, который не имел никаких надежд занять пост министра, стать депутатом, или сенатором, или даже заместителем начальника главного управления, поддержал это предложение. Таким образом, было решено отразить его в протоколе заседания с указанием, что автором этого предложения является господин доктор Ярдан Голи Казаби, уважаемый представитель литературного факультета, и что принято оно единогласно. Более того, было решено разрешить секретарю и даже машинистке, если они найдут, что в протоколе употреблены недостаточно бранные эпитеты, при перепечатке протокола заменять их более резкими. Когда голосование было закончено, господин ректор университета с довольным выражением лица издали обменялся любезной улыбкой с господином Ярданом Голи Казаби.
После утверждения этого предложения, ценного в научном, литературном, общественном, политическом и экономическом отношениях, которое полностью соответствовало состоянию тех двухсот-трёхсот наук, которые преподавались в университете, собравшиеся перешли к обсуждению повестки дня.
Вначале господин доктор Раванках Фасед от имени медицинского факультета предложил, чтобы университет пригласил для чтения очень важных лекций американского судью и известного альпиниста мистера Дугласа, прибывшего в Иран для восхождения на две вершины Арарата, которые древние географы называли Харе и Хурис.
Несчастный господин Сеид Мохаммед Эскат, представитель богословского факультета, единственный из присутствующих не удостоенный чести быть посвящённым в тайны политической жизни, и на этот раз спросил невпопад-
— Разве юриспруденция и альпинизм имеют какое-нибудь отношение к кафедрам медицинского факультета, что господин доктор выдвигает такое предложение?
Господин ректор университета сейчас же прервал его:
— Убедительно прошу не отвлекаться от повестки дня! Что касается вопроса, то, разумеется, поскольку в судах расследуются дела и врачей, и больных, юриспруденция имеет прямое отношение к медицине. С другой стороны, на вершинах таких гор, как Арарат, много снега, а он очень похож на химические вещества белого цвета, применяемые в медицине, как, например, хинин, аспирин, камфора и сотни других лекарств, а также на сахарную пудру и соль. Кроме того, для сохранения вакцин, сывороток для прививок оспы и в особенности пенициллина, стрептомицина и прочих лекарств, которые должны храниться в леднике, снег и лёд употребляются в большей мере, чем что-либо другое, поэтому предложения господина доктора Раванкаха Фаседа, уважаемого декана медицинского факультета, совершенно уместны и он вправе обратиться к совету с этой просьбой.
Господин доктор Оуратгяр, полномочный представитель литературного факультета, совершенно разнузданный господин, тоном, которым он говорил все шестьдесят лет своей жизни, с тех самых дней, когда в Ширазе, ещё мальчишкой, играл в камушки, и до сегодняшнего дня, когда он является профессором, непререкаемым авторитетом самой основной политической кафедры факультета и преподаёт рыбий и птичий языки, тоном, по которому ещё никто до сих пор не мог понять, любезности или дерзости говорит профессор, получив слово и, с силой стукнув кулаком по столу, сказал:
— Дорогой наш друг, уважаемый и учёный коллега, чтоб его поскорее забрал мойщик трупов! — человек очень разумный и благородный. Он врач высокой квалификации, и всюду, где бы вы ни произнесли слова «господин доктор Раванках Фасед», всё, в том числе и он сам, начинают благословлять его. Однако недостаток господина доктора заключается в том, что его разумом распоряжается господин американский посол. Больше я ничего сказать не имею, умный человек ограничивается намёком.
Господин доктор Раванках Фасед в ответ на это изволил сказать:
— В соответствии с постановлением нашего совета принятым три недели назад, употребление на заседаниях какого-либо иностранного языка, кроме английского, запрещено. Поэтому я прошу уважаемого профессора последнюю фразу, которую они произнесли не то на арабском, не то на сирийском, не то на каком-то ещё другом языке, перевести на персидский язык.
Господин доктор Сеид Али Шамгах, представитель юридического факультета, профессор с мрачным лицом, свидетельствовавшим о том, что он страдает несварением желудка, расправил свои нахмуренные брови, вновь их сдвинул, образовав при этом на лбу три морщины, надул вены на шее, отшатнулся от доктора Раванкаха Фаседа и с подчёркнутым изумлением сказал:
— Странное дело, оказывается, господин декан медицинского факультета не читал даже «Калилу и Димну», если он не может отличить арабского языка от сирийского.
— Простите, что вы изволили сказать?
— Я сказал, что вы не читали «Калилу и Димну».
— А разве мне обязательно читать «Калилу и Димну»?
— Я хотел сказать, что вы, вероятно, даже в средней школе толком не изучили персидский язык.
— Именно этим я и горжусь. Мы, американцы, своё образование получили в Соединённых Штатах.
— А почему же вы тогда не остались там?
— Вот это уже вас не касается. Нас прислали сюда для дел значительно более важных, чем те, которые доступны вашему уму. Через некоторое время мы вам доложим, почему мы там не остались.
— Но, уважаемый господин доктор, я хочу сказать, что, если человек стал деканом факультета Иранского университета, он должен знать язык Ирана.
— Мы, крупные врачи, побывавшие в Америке, стоим выше этого. Зачем нам знать персидский язык, собственно зачем он нам нужен? Жена моя — американка, дети мои-американцы. Вы ещё должны благодарить меня за то, что я разговариваю здесь с вами по-персидски. Если бы всё было так, как хочется мне и господину доктору Грейди, мы даже и здесь не стали бы говорить на этом языке.
Из угла комнаты господин доктор Мехди Атеш, любезный коллега господина доктора Раванкаха Фаседа и второй учёный представитель медицинского факультета, даже не попросив слова, крикнул с места:
— Браво, браво! Я сегодня же доложу наверху о высоких чувствах моего дорогого коллеги и доведу это до сведения наших друзей, находящихся по ту сторону Атлантического океана.
Господин ректор университета, обменявшись, как и раньше, удовлетворённой улыбкой с господином Раванкахом Фаседом, сказал:
— По-видимому, господа члены совета не имеют ничего больше сказать по этому поводу. Предложение господина доктора Раванкаха Фаседа утверждается.
Все присутствующие единодушно выразили своё согласие. Разумеется, разрешение этой сложной и запутанной проблемы успокоило господина ректора университета. Ему и раньше не раз удавалась добиваться успеха, но больше всего он будет гордиться сегодняшним днём, гордиться своим искусством вести заседание, кичиться тем, что одним ловким манёвром ему удалось добиться утверждения советом университета трёх важных вопросов: во-первых, что всякий человек, приехавший из Америки, если даже он и не имеет никакого отношения к университету, с помощью снега и льда может быть привлечён в университет. А если гору Арарат можно считать частью медицинского факультета, то почему пушки, танки и пулемёты нельзя считать составной частью философии и богословия, тем более что пушки, танки и пулемёты транспортабельны и могут быть переброшены с одного конца света на другой, иногда — в Корею, а иногда — в Турцию и Иран.
Во-вторых, ему ловко удалось добиться решения совета по такому важному вопросу, как вопрос о том, обязательно ли знание персидского языка для известных учёных этой страны. Чёрт с ними, с мелюзгой, с ними можно и не считаться, но ведущие учёные, например врачи, прибывшие из Америки, и в особенности те, у которых жёны и дети американские подданные, могут знать всё, что им угодно, за исключением персидского языка. Он особенно гордился этим решением потому, что крупнейшие учёные в области медицины, права, математики, естествознания, педагогики, философии, истории, географии, литературы, археологии, иностранных языков, физики и химии, биологии и языкознания, обществоведения и экономических наук, мусульманской юриспруденции, мистики и суфизма, инженерных и горнорудных наук, машиноведения, электротехники, мостостроения, дорожного строительства, архитектуры, добычи нефти, геологии, зоологии, сельского хозяйства ветеринарии и даже изящных искусств, — все утвердили это решение, и теперь даже господин доктор Мехр Али Оуратгяр, несмотря на всё своё красноречие и настойчивость, которой он обладает, и известный сенатор господин Сарн-ол-Аман Горизанпар не посмеют даже пикнуть.
Третий вопрос, который непосредственно вытекает из предыдущих и был утверждён этими виднейшими учёными, состоял в том, что каждый раз, когда господин доктор Грейди и уважаемый его заместитель сочтут нужным, они могут выступать на совете университета только на своём родном языке. Господин ректор больше всего был доволен утверждением этого решения потому, что таким образом он мог заткнуть рты группе капризных, болтливых, нахальных и слишком много мнящих о себе лиц, которые на каждом заседании отнимают много времени. Теперь незнание английского языка заставит их помалкивать.
После этой выдающейся победы господин доктор Забани, учёный секретарь, зачитал письмо руководства литературного факультета о его согласии командировать на год в Америку для повышения квалификации господина доктора Мехди Джавали, профессора педагогики.
Как только господин учёный секретарь произнёс имя господина доктора Мехди Джавали, господин доктор Раванках Фасед стукнул кулаком по столу, покрытому зелёным сукном. От удивления у господина учёного секретаря чуть было глаза не вылезли из орбит. «Странное дело, — подумал он, — эти господа, побывавшие в Америке, действительно слишком нахальны! Я полагал, что хоть между собой они дружны и не суют друг другу палки в колёса. Ведь этот несчастный тоже принадлежит к их компании и он тоже хочет съездить в эту обетованную страну, куда они собираются отправить всех своих. А может, доктор Мехди Джавали начал это дело, не получив разрешения господина доктора Грейди, и господин посол дал указание сорвать принятие этого решения?» Когда письмо было прочитано, он спросил:
— Господин доктор, вы хотели что-то сказать?
— Да, я против.
Сердца всех побывавших в Америке и особенно собирающихся туда поехать оборвались. Все их мечты рушились, ибо их прошениям о принятии в американское подданство, которые они держали в боковых карманах у самого сердца, было суждено там и остаться, а долларам, которые они перевели в Америку, — лежать в бездействии. Они возлагали на эту поездку большие надежды, строили грандиозные планы, и вот всё это совершенно неожиданно рухнуло.
Господин ректор университета едва собрался с мыслями. «Может быть, доктор Раванках Фасед не расслышал фамилию того, о ком шла речь?» Поэтому он сказал:
— Ведь это ходатайство касается господина доктора Мехди Джавали.
— Да, да, я знаю, поэтому-то я и возражаю.
На этот раз глаза всех и даже глаза лакея Сеида-аги, который в третий раз убирал со стола чашки, буквально выскочили на лоб. Ректор университета, который прекрасно разбирался в политике, так как имел специальную подготовку и сам был одним из основателей этой новой дисциплины, к тому же человек, от природы не лишённый сообразительности, сразу понял, что тут есть веские доводы и лучше, если он не будет ставить точку над «i». Исходя из этого, он сказал:
— Может, вы изволите сообщить нам доводы, по которым вы возражаете?
— Нет, сейчас я ничего говорить не буду, а предлагаю перенести обсуждение этого вопроса на следующее заседание совета.
Все поняли, что причиной такого странного предложения являются интриги, обычные среди профессоров университета, где сам господин ректор — наиболее тренированный и ловкий интриган.
Пока разбирались второстепенные вопросы, господин доктор Раванках Фасед взял блокнот, лежавший на столе, и почерком восьмилетнего ребёнка или даже скорее девяностолетней старухи на одном из листков написал с множеством орфографических ошибок следующее: «Я приготовил некоторую сумму честным путём заработанных денег, для того чтобы переслать их госпоже, которая находится там, на покрытие расходов, связанных с похоронами её двоюродной сестры, а также на свадьбу её племянника, и, если господин доктор обещает доставить эту сумму по назначению, я на будущем заседании совета соглашусь с его просьбой. Убедительно прошу вас передать ему это конфиденциально».
Господин председатель, с исключительным вниманием прочитав эту записку, весь расцвёл. Он облегчённо вздохнул и покорно кивнул головой, как бы говоря: «Слушаюсь». Сложив записку, он хотел положить её себе в карман, но господин доктор Раванках Фасед, потянувшись через тела четырёх своих высокочтимых коллег, выхватил её из рук уважаемого председателя и порвал.
Господин учёный секретарь доложил последний вопрос сегодняшней повестки дня — просьбу студента сектора иностранных языков литературного факультета, господина Саада-Олла Эсфендияри Бахтиярн. Просьба была удовлетворена. Вкратце она сводилась к следующему: господин Саад-Олла Эсфендияри Бахтиярн, который три года просидел на первом курсе по семейным обстоятельствам, а также в связи с тем, что вынужден был срочно выехать в Европу и по возвращении оттуда стать депутатом меджлиса от города Корда, просил перевести его на второй курс.
Когда заявление было зачитано, среди членов совета поднялась суматоха. Они стали стучать карандашами о стол, поднимать вверх руки, требуя слова. Господин председатель растерялся. Со всех сторон раздавались возгласы протеста: «Это невозможно!»; «Если это будет стоить нам даже головы, мы не согласимся!»; «Нельзя, в конце концов, выставлять университет на посмешище. Получается, что всякий, кто сюда поступает, пусть он хоть ослепнет, а должен учиться!»; «То, что совет факультета литературы, не разобравшись в деле и не взвесив всех обстоятельств, согласился с этим заявлением, — вообще оскорбление совета университета!»
Больше всех шумел господин инженер Мехди Батенган. Господин доктор Мехр Али Оуратгяр защищал решение совета факультета. Господин доктор Ярдан Голи, второй представитель литературного факультета, приводил философские и социальные доводы, основанные на традициях и разуме. Господин председатель всё это терпел, злорадно усмехался и с ловкостью старого волка предоставил членам совета полную свободу высказать всё, что у них на душе.
Когда все выговорились, господин председатель улыбнулся своей обычной плутовской улыбкой и, окинув присутствующих взглядом, как бы сожалея о их глупости и неразумности, сказал:
— Всё, что изволили сказать господа, правильно. Этот юноша до сих пор не имел права на то, что он просит. Дважды его заявления поступали в совет университета и дважды были отклонены советом. Но теперь он приобрёл это право.
Глаза всех уважаемых учёных снова вылезли на лоб. Десять-двенадцать человек сразу спросили:
— Каким же образом?
— Ведь он состоит в близком родстве с знаменитой фамилией Эсфендияри Бахтияри, которые, как вам всем известно, в ближайшем будущем породнятся с людьми, занимающими самые высокие посты.
Гром аплодисментов присутствующих был настолько силён, что Сеид-ага растерянно вбежал в комнату, а студенты, которые находились в саду под окнами комнаты, где заседал совет университета, поднялись на цыпочки и с любопытством стали заглядывать в окна.
Господин Мохандес Мехди Батенган, который особенно рьяно выступал против, остыл очень быстро. Безусловно, это результат того, что он автор книги «Очищение ислама», в которой разъяснил философию второго пришествия с точки зрения термодинамики. Кроме того, он с некоторых пор был занят написанием чрезвычайно важной книги, цель которой — добиться запрещения молодёжи вмешиваться в политику. Скоро эта книга с божьей помощью увидит свет.
Со всех сторон стали просить слова, и каждый говорил всё, что мог, о достоинствах таких студентов, как Саад-Олла Эсфендияри Бахтияри. Господин доктор Мехр Али Оуратгяр, который от семи своих предшествующих поколений воспринял науку угодничества и подхалимства и в этой области прошёл школу устно и письменно, на двух языках — на языке прозы и на языке поэзии, первым начал стучать кончиком карандаша о стол и, получив слово, сказал:
— Я убеждён, что университеты должны гордиться подобной честью, и, если эта честь не становится нашим уделом, мы обязаны искать её и добиваться любой ценой. Следовательно, если счастье приплыло к нам в руки само и не было необходимости тащить его насильно, тем лучше для нас.
Когда очередь дошла до господина доктора Ярдана Голи Казаби, он по своей привычке вытянул шею, поправил очки и, как бы собираясь с мыслями, провёл ругой по своему высокому лбу. Он посмотрел из-под очков на висевшие на стене против него часы и, убедившись что свою историческую речь он начал ровно в двенадцать часов и восемь минут этого знаменательного дня, сказал:
— Да, уважаемый мои коллеги знают, что я больше всех стремился разоблачить те незаслуженные выпады, которые делались в адрес нашего факультета, и, базируясь на логике, традиции, науке и технике, доказать, что всё, что говорилось по этому поводу, — абсолютная ложь и абсолют лжи. За стенами университета нас упрекают, будто наш факультет является гнездом разогнанных партий, я — да будут прокляты все они со дня страшного суда! — прошу уважаемых коллег громко произнести «салават» во славу милости божьей!
Едва присутствующие произнесли громко «салават», едва замолк голос господина доктора Раванкаха Фаседа, как господин доктор Ярдан Голи Казаби откашлялся, снова напыжился, наморщил лоб и продолжал свою речь:
— Да, моя цель заключается в том, чтобы присутствующие здесь уважаемые господа обратили внимание на это чрезвычайно важное обстоятельство и чтобы нападки наших внеуниверситетских противников и наших внутриуниверситетских недругов были ликвидированы любой ценой. Наилучший способ для достижения этой цели — по мере наших сил и возможностей привлекать в этот священный храм науки и просвещения членов уважаемых семей столпов отечества, аристократии, а не ремесленников и другой подлый люд. — Здесь он ещё больше напыжился. — Да, горбан, господин ректор университета, господа учёные коллеги, вы даже не подозреваете, какую важную роль сыграет в нашей будущей политической жизни тот голос, который вы сейчас подадите за этого благородного юношу, происходящего из аристократической семьи. Господа! Это немалая честь — содействовать юноше, который в недалёком будущем станет членом самой высокой и благородной в стране семьи.
Господин доктор Асаи, декан сельскохозяйственного факультета, торопливо поднялся с места и стоя сказал:
— Разрешите мне тотчас же позвонить на наш факультет, чтобы завтра утром, к приходу этого юноши подготовили великолепный букет цветов.
Все присутствующие встретили это предложение возгласами: «Конечно!» «Браво! Браво!» «Брависсимо!» Единственным человек, который не проявлял особого энтузиазма, не тряс бородой, не хлопал в ладоши и не топал ногами, был господин Сари-ол-Аман Горизанпар, декан богословского факультета и профессор факультета литературы. Он из-под очков рассматривал своих коллег, сидевших вокруг стола, и тихо шептал: «На всё воля божья, всё от бога». Молчание его объяснялось совсем не тем, что он не был согласен с этим решением. Просто он был совершенно потрясён. С того времени, как он, выражаясь его собственными словами, «прорвался в сенаторы», была установлена практика, что все небольшие дела, которые выносились на совет университета, поручались ему. Но на сей раз ему не только не поручили доложить уважаемому собранию этот вопрос, но даже не ввели его в курс дела и поэтому он не знал, голосовать ему за или против. В конце концов, после долгих размышлений и изучения выражения лиц присутствующих он решил, что и ему надо что-то сказать, ибо его молчание может быть истолковано против него. Но, с другой стороны, выступить тоже надо с умом. Он всегда в своих научных выступлениях старался говорить в пользу и наших и ваших. И вот, когда слово «высшая инстанция» последний раз сорвалось с уст выступавшего, уважаемый декан богословского факультета счёл момент наиболее подходящим и немедленно сказал:
— Пока что этот юноша не входит в число «самых высоких и благородных», и правильнее сказать о нём, что он принадлежит к людям, желающим войти в этот круг, ибо величие философское имеет две категории — количественную и относительную. Того человека, который находится в количественной степени величия, по арабской терминологии называют «великим», того же, который находится в стадии относительного величия, следует называть «желающим подняться до величия». Если господа помнят, титул «желающий подняться до величия», который носили фатемидские халифы[101] Египта, появился потому, что они имели относительное величие, а не количественное. си— этому сейчас, когда разбирается просьба юноши, который ещё находится в состоянии желания достигнуть величия, но пока ещё не достиг его, — а требование чего-либо арабы относят к десятой породе глагола, означающей желание совершить что-нибудь для себя, — его надо называть «желающим достичь величия». Исходя из этих соображении, ваш покорный слуга так и предлагает пока именовать его! С божьей помощью, как только эта благословенная, счастливая свадьба состоится, он тоже, безусловно, войдёт в круг избраннейших и будет возвеличен. О боже! Заклинаю тебя именем пророков и достойных святых, ниспосылай и мне почаще райских гурий и высокопоставленных женщин.
Когда обсуждение этого вопроса закончилось, господин ректор университета изволили сказать:
— Ну, ладно, больше вопросов в сегодняшней повестке дня нет. Сеид-ага, принеси чаю.
9
В начале весны канарейки господина Сируса Фаразджуя, обитавшие в шести больших и маленьких клетках, развешанных на балконе, подняли суматоху. Сирус был любимцем и отца, и матери, и всех слуг отцовского дома, и поэтому все они были уверены, что волнение жёлтеньких пташек есть не что иное, как выражение болезненной тоски, которую они испытывают по своему любимому Сирусу, хотя такие люди, как Сирус, не чувствуют красоты пробуждающейся природы. Цветение ветвей, благоухание бутона, пение птиц, — из всего они стараются извлечь выгоду для себя.
Хотели того господин Али Фаразджуй и его дорогая супруга ханум Махин Фаразджуй или нет, но нынешняя весна была особенно бурной. В этот день, день десятого фарвардина[102], цветники господина Али Фаразджуя, счастливейшего человека шахиншахской столицы, были полны чудесных фиалок и нарциссов. Вишнёвые, черешневые и абрикосовые деревья, доставленные сюда из лучшего сада Тегерана, с которых мадам Махин Фаразджуй собственноручно смахивала пылинки и внимательно следила, чтобы садовник Барат Али хорошо поливал их, были усыпаны белыми цветами. Вьюнки, перевесившись через стену, протянули свои усики на улицу и к соседним домам, и казалось, что они приносят оттуда благоприятные вести для господина Али Фаразджуя и помогают ему в политических делах.
Махин-ханум с ловкостью и изяществом, покорявшим все политические круги столицы, набрав в цветниках полную охапку белых и фиолетовых ирисов, словно златокрылая фея или, если хотите, словно бабочка, порхнула к себе наверх и расставила цветы в четырёх комнатах, которые уже были подготовлены к приёму самых почётных людей Тегерана. Её дорогой супруг господин Али Фаразджуй, свежий, чисто выбритый, в прекрасно сшитом коричневом костюме в красную полоску, который недавно был прислан ему одним приятелем Сируса из Америки, с великолепным галстуком на шее, тоже полученным оттуда же, с которым он немало повозился перед зеркалом, стремясь сделать узел как можно меньше и плотнее, сейчас с большим вниманием раскладывал на ломберных столиках, расставленных в дальней комнате, пачки сигарет «Кэмел» и «Честерфилд» и колоды американских нейлоновых карт. Каждый раз, проходя мимо зеркал, стоявших на каминах, он поднимался на носки, вытягивал шею и разглядывал своё холёное лицо. Это занятие доставляло ему огромное удовольствие.
Вот уже три или четыре дня как господин Али Фаразджуй ходит совершенно опьянённый успехом. Прошло только десять дней как он, выражаясь языком плутов, «вылез из ящика» или, выражаясь его собственными словами, стал депутатом иранского народа, обладающего шеститысячелетней историей. Как же ему не ликовать? Господин Фаразджуй лучше, чем кто-либо другой, знает, как ловко умеет он натравливать друг на друга своих противников, с какой проворностью взобрался он по ступеням служебной лестницы в министерстве финансов и достиг поста начальника главного управления. Он лучше всех знает, каким образом он умудрился прикарманить содержимое касс финансовых органов Сеистана и в Тегеране по-братски разделил деньги с покойным Хаджи Йамином-ол-Мольком, тогдашним министром финансов. Он лучше всех знает, как в своё время, воспользовавшись о становкой, он спрятал в матрацы, одеяла и подушки ассигнации, находившиеся в кассе хамаданского финансового управления, а потом представил дело так, будто эти ценности были разграблены.
Если никто другой об этом не знает, то он, во всяком случае, прекрасно помнит, с какой ловкостью он влез в партию «радикалов», организованную Давером, как вместе с ним перешёл в министерство юстиции и в течение целых трёх лет был доверенным лицом министра, как он мастерски обделывал дела на судебных процессах в Мазандеране, Туникабуне, Савадкухе и повсюду в других местах. И все эти дела всегда кончались в пользу высших инстанций. Он прекрасно помнит, каким внушительным тоном читал он, обращаясь к председателям судов и судьям, выражения «на основании приказа», «они изволили приказать», «они изволили объявить».
Если никто этого не помнил, то сам он помнил прекрасно, как в те дни, когда требовали упразднения монархии и создания республики, в дни, когда парламент забрасывали телеграммами, он на правительственный счёт ездил из одного города в другой и появлялся то на собрании засевших в бест[103] слушателей военного училища, то в доме премьер-министра и таким образом привлекал к себе внимание сильных мира сего.
Если все уже забыли, то он помнит, как своими собственными руками; без чьей-либо помощи, превратил Сафара Али, мальчика на побегушках в доме слепого купца Хаджи Али Ахмеда, в господина Али Фаразджуя, бывшего начальника главного управления министерства финансов и теперешнего депутата национального собрания Ирана от города Саве.
Подлинным волшебником является тот человек, чары и колдовство которого оказываются действительными не только по отношению к нему самому, но и по отношению к другим. Господин Али Фаразджуй никогда также не забудет, как из Хаджар Хатун, бывшей прачки бельгийца мосье Декеркера, начальника главного таможенного управления Ирана, он создал эту нежную ханум Махин, при виде которой приходят в трепет сердца многих знатных мужчин двора, меджлиса и правительства.
Если хотите знать правду, то господин Али Фаразджуй должен был стать министром и депутатом меджлиса значительно раньше. Но что ему было делать? Ведь и тогдашний премьер-министр, и покойный Давер в течение нескольких лет были слишком заняты другими делами. Кроме того, он ещё в детстве, когда они играли на перекрёстке в чижика и в орехи, часто ссорился с будущим дивизионным генералом Мохаммедом-ханом Чаку, жёлтым, хилым мальчишкой, не раз задавал ему хорошие трёпки. И это огородное чучело, находясь у власти, на протяжении всего периода диктатуры не давало ему возможности подступиться к высшей политике шахиншахского правительства. Как ни старался господин Али Фаразджуй, несколько раз даже тайно подсылавший Махин к услугам генерала, ему так и не удалось сменить гнев, бушевавший в сердце его высокопревосходительства, на милость. В конце концов сама история отомстила за него. «Эпоха демократии» как будто была создана специально для того, чтобы господин Али Фаразджуй мог использовать эту смутную пору в своих интересах и добиться осуществления своей сокровенной мечты.
Конечно, работать в период «демократии» было значительно труднее. В эпоху двадцатилетней диктатуры человеку, если даже он не имел нигде никакой поддержки, достаточно было завоевать симпатии дворцового телефониста — и он уже был обеспечен. куском хлеба с маслом.
В «эпоху демократии», чтобы хоть как-нибудь свести концы с концами, человек должен был завязывать хорошие отношения со всеми, начиная от швейцаров посольств и кончая самым последним безродным и полуголодным газетчиком. Уверяю вас, господин Али Фаразджуй был достаточно тёртым калачом для того, чтобы в этой суматохе, подобно застрявшему в грязи ослу, не ожидать окрика погонщика. Он долгие годы был доверенным и самым приближённым человеком покойного Давера, и если не получил от своей матери врождённых качеств интригана, то, во всяком случае, приобрёл их у своего патрона. В первые же дни, как только он вступил в партию радикалов, покойный Давер сразу почувствовал, что он мастак устраивать партийные интриги.
Когда наступила «эпоха демократии», первым человеком, который сумел быстро основать партию, был этот самый господин Али Фаразджуй, нынешний депутат от города
Саве. Да ниспошлёт господь изобилие, до настоящего момента господин Али Фаразджуй основал тридцать шесть партий с различными названиями, и, как только он замечал, что народ раскусил его подлинные намерения, он моментально прикрывал свою лавочку и открывал новую, в другом месте, вывешивал крикливую вывеску, устанавливал в комнате несколько сломанных стульев, два-три ветхих стола, телефон, покупал веник и нанимал швейцара. Всё это обеспечивало ему хлеб насущный и дало возможность продвинуться по служебной лестнице до должности начальника главного управления министерства финансов.
Нельзя сказать, чтобы господин Ала Фаразджуй был неблагодарным. Он всегда поддерживал самые сердечные отношения с хозяевами прессы, которые ему покровительствовали. Вот и сегодня на этом пышном и великолепном банкете будут присутствовать тридцать толстых и худых, высоких и низких, старых и молодых журналистов, которые получили специальные приглашения.
В дни, когда эпоха диктатуры потерпела крах, многие были в растерянности и не знали, что им делать. Особенно это относится к людям, которые в течение долгих лет сотрудничали с полицейским управлением и привыкли к такому режиму. Однако господин Али Фаразджуй скорее всех сориентировался и уяснил свою задачу. Он немедленно объединил в своём квартале группу мало-мальски заметных людей и создал так называемое благотворительное общество для помощи беднякам, а фактически — общество для проведения всяческих комбинаций и сделок.
Господин Али Фаразджуй первый собрал несколько нахальных, бесстыжих молодых людей и подговорил их начать носить аба и чалмы, таким способом вновь подняв движение, уже однажды потерпевшее фиаско. Первой женщиной, которая вышла из дому на улицу, укутавшись в чадор-намаз, была Махин Фаразджуй — чтоб ей напороться за нож! — которую сейчас вы можете наблюдать на всех аристократических собраниях Тегерана размалёванной и расфуфыренной. В годы диктатуры, когда госпожу Махин Фаразджуй называли Хаджар-хатун и в регистрационных книгах пятого района имя её ещё не было записано как Махин Фаразджуй, а имя её мужа Сафара Али — как Али Фаразджуй, они иногда варили в большом котле, который Махин-ханум принесла из отчего дома в качестве приданого, то ли для того, чтобы привлечь к себе внимание жителей квартала, то ли по обету, данному богу, жёлтое шоле[104] и рассылали его чашками друзьям и знакомым. Но какой-нибудь нищий, почувствовав запах приготовленного шоле, мог разбиться в лепёшку и не получить от них даже ложечки.
Теперь опять наступило время достать этот пресловутый котёл, почистить его песком у бассейна и, поставив в кухне на огонь, приготовить то самое шоле, которого уже многие годы никто не видел, и, разлив его в чашечки и нарисовав на нём толчёной корицей месяц, звёзды и другие узоры, послать соседям. Но только на этот раз их соседями были вновь испечённые аристократы эпохи диктатуры, постепенно снова поднимавшие свои головы.
Спустя тридцать-сорок дней после прихода «демократии», когда новая власть постепенно набиралась сил и авторитета, повсюду стали возникать благотворительные общества, которые даже и ломаного гроша не дали беднякам, но быстро реорганизовывались в различные партии… Инициатива создания этих обществ принадлежала господ дину Али Фаразджую. Он первый организовал с участием нескольких начальников главных управлений, бывших министров и нескольких ахундов партию и тем самым подал пример другим. Программа этой партии была полным и фактическим отражением многолетнего опыта господина Али Фаразджуя на различных административных постах. В этой игре в партии больше всего Али Фаразджую помогало то, что он, слава богу, — тьфу-тьфу, как бы не сглазить, — имел личные связи с огромным количеством влиятельных людей столицы. Ведь он провёл свои юношеские годы среди столичной и провинциальной аристократии, некогда наклеивавшей на почтамте марки, затем служил в десяти-пятнадцати различных учреждениях, во время эпохи диктатуры долгое время был доверенным лицом министра юстиции, а потом вместе с покойным Давером перешёл из министерства юстиции в министерство финансов и довольно долго проработал там. Теперь всюду у него были знакомые, друзья, товарищи, компаньоны, единомышленники, которые понастроили себе дома по всему городу, начиная от привокзальных районов и до самых высот Тахте Джемшида и Сарабе Кереджа[105]. Однако господин Али Фаразджуй не был похож на тех нахальных, но легкомысленных и пустых людей, которые могли, сделав шаг вперёд, потом отступить на десять шагов назад, то есть, став однажды министром, просить после этого должность хотя бы начальника канцелярии министерства, на которую, кстати, его не хотели назначать. Он был мужчиной солидным, разумным и опытным. Каждый свой шаг он тщательно продумывал, чтобы потом не приходилось отступать. Он не торопился быстро пройти по политической и административной лестнице, чтобы не вызывать удивления и зависти окружающих, которые в этом случае постарались бы навредить ему, заставить его поскользнуться, а после в один прекрасный день выкинули бы его из игры. И ведь неспроста в Тегеране не было более прочного поста, чем тот, который занимал господин Али Фаразджуй. Люди приходили и уходили, многие, подобно струе фонтана, взвивались ввысь и друг за другом летели вниз, а он сидел за своим столом, словно гранитная скала, и никто не был в силах сдвинуть его с места. Все помнят, что даже сам Айрем, который вмешивался в чужие дела и обирал всех, не смог взять с господина Али Фаразджуя хотя бы соломинки или немного пошатнуть его положение.
В служебных и политических делах господин Али Фаразджуй придерживался особой тактики, суть которой не всякий мог разгадать. Он создал свою теорию и разработал тактику, которую, и то не до конца, усвоили из его соотечественников только два-три человека. То есть, если выражаться словами журналистов, они «принадлежали к его школе». Эта мудрая тактика предписывала: совершайте карьеру так, чтобы это не бросалось в глаза, не вызывало удивления и ненависти людей и чтобы занятие вами более высокого поста люди считали столь же законным, как получение наследства или какое-нибудь другое естественное дело.
Поэтому господин Али Фаразджуй старался дружить со всеми и с каждым имел какие-то, пусть хотя бы небольшие, дела. Он был вхож в любую партию, ладил и с евреями, и с гябрами, и с христианами, и с армянами, и с мусульманами. Сколько раз случалось, что, выйдя из дома ахунда, он шёл в дом аристократа. Любая вновь создаваемая партия первым своим членом зачисляла его и ему первому выдавала свой членский билет. Одновременно господь бог наделил его удивительным нюхом. Он быстрее, чем кто-либо другой, улавливал признаки слабости и возможность поражения партии, раньше всех чувствовал, что дальнейшее пребывание в этой партии бесполезно. Он первым, прикидываясь больным или ссылаясь на занятость, отрекался от своих уважаемых единомышленников и внезапно появлялся среди членов другой партии. Опытнейшие интриганы и политические мошенники Тегерана считали господина Али Фаразджуя наилучшим показателем повышения или падения акций политических партий, оживлённости или затишья политического рынка, положения различных политических деятелей и поэтому внимательно следили за тем, где он бывает и с кем общается. Как только они замечали, что господин Али Фаразджуй перестал посещать чей-нибудь дом, они сразу догадывались, что тут дела обстоят плохо. Господин Али Фаразджуй завязывал отношения с очень большим кругом лиц, знал сокровенные тайны почти всех людей, и все с ним очень считались. Каждый человек по крайней мере хоть— один раз попадал в зависимое от него положение. Единственным начальником отдела или начальником управления, который на протяжении всей истории Ирана сидел на занимаемой им должности, до тех пор пока не уходил с неё сам, является наш господин Али Фаразджуй.
Ещё одно дело приносило господину Фаразджую исключительную выгоду. Стоило где-нибудь возникнуть каким-либо разногласиям, как он становился посредником и, подыгрывая и нашим и вашим, получал куш от обеих сторон, каждую из них превращал в своего благожелателя. Порой, когда он задумывался, он видел, что в этой стране, где политическая обстановка постоянно меняется, в стране, которая с первых дней своей истории и до настоящего времени была объектом нападений со стороны различных западных и восточных держав, где никогда не было ничего устойчивого и никогда не оправдывались никакие расчёты и только случайные события, происшествия и превратности судьбы были основой жизни людей, человек не имел иного выхода, как быть сыном своего времени, уметь ладить со всеми, чтобы после смерти магометанин обмыл бы его водой святого источника, а индус предал его прах огню.
В последнее время господин Али Фаразджуй приводил ещё один довод, оправдывающий эту гибкую политику. Он постоянно повторял: «Гвоздя, вбитого крепче, чем гвоздь Реза-шаха, не существовало, однако ты видел, как его постепенно расшатали и вытащили из гнезда». Много раз ночью, оставшись один на один со своей дорогой Махин, он садился в углу спальни и делился с ней тайнами сердца: «Ты увидишь, в конце концов в этой стране всех выметут вон, кроме нас. Мы с тобой как галька на дне реки, Что бы ни случилось, мы останемся на месте, а песок унесут воды». Вот и сегодня на этот банкет, который господин Али Фаразджуй организовал для того, чтобы официально объявить всем ответственным и неответственным лицам Тегерана о своём депутатстве от провинции Саве, он пригласил лидеров всех партий, групп и даже руководителей профсоюзов и правительственных синдикатов.
Господин фаразджуй всё ещё был занят расстановкой пепельниц., а его дорогая Махин-ханум наливала воду в стоявшие на камине вазы для цветов, когда господин Джавал Аммамеи, очень уважаемый депутат от Тегерана, громко стуча ботинками и тяжело дыша, поднялся по лестнице и прямо в шляпе, с тростью, с чётками и папиросой, торчавшей в углу рта, словно внезапная смерть, вошёл в комнату. Махин была настолько увлечена своим делом, что не заметила почтенного депутата и бывшего министра без портфеля. Услышав его голос, она вскрикнула от неожиданности и, если бы её не поддержали толстые руки дорогого гостя, обхватившие её сзади и стиснувшие её дряблую грудь, растянулась бы на дорогом хорасанском ковре, за каждый зар которого было уплачено по восемьдесят туманов.
— Эх ты, нюня, опять испугалась. А ведь я тебе тысячу раз говорил, что терпеть не могу слабонервных женщин. Женщина должна быть отчаянной.
Грубые шутки господина бывшего министра без портфеля заставили Махин Фаразджуй расцвести. Она запустила руку под бюстгальтер, подтянула обвисшую грудь, поправила пояс крепдешинового платья, корсет, словом, привела в порядок свой туалет и, кокетничая и кривляясь, сказала:
— Очень признательны вам за то, что вы изволили пожаловать раньше всех.
— Только не принимай этого на свой счёт. У меня дело к господину Фаразджую. Вот кончу дела с ним, тогда рассчитаюсь и с тобой, дрянь ты этакая.
— Али в соседней комнате. Уж не хотите ли вы прочитать ему шёпотом суру ясин?[106]
— Ах ты подкидыш, опять язвишь по адресу почтенного человека! Смотри не очень-то распускайся, он теперь депутат народа и наш уважаемый коллега. Я для того и пришёл пораньше, чтобы пригласить его войти в нашу фракцию. Господин Фаразджуй! Господин Фаразджуй!
Громкий голос и неприличный тон господина Джава— па Аммамеи эхом отдались во всех четырёх комнатах и испугали хозяина дома. Он быстро поспешил на зов. Второпях он зацепился ногой за ковёр и грохнулся на пол, растянувшись у самого порога. Махин и бывший министр без портфеля бросились к нему на помощь, подняли, ощупали его голову, выясняя, не сильно ли он ушибся, стряхнули пыль с американского костюма и усадили на стул возле стены. Махин сочла целесообразным с первого же дня депутатства своего дорогого мужа не мешать ему в делах и удалилась, оставив этих двух известных политических деятелей с глазу на глаз.
Господин Али Фаразджуй обсуждал с известным лидером и бывшим министром без портфеля свои условия и обязательства. Он кивал головой и в который раз давал честное слово, что, пока жив, не отречётся от своих новых коллег. Но не успел он ещё до конца произнести слова последней клятвы, как они увидели господина доктора Тейэби, известного депутата от города Йезда. Господин Джавал Аммамеи, гордый только что заключённым сговором, указав собеседнику на доктора Тейэби, издали крикнул вошедшему:
— Эй, сводник! Ты что, пришёл обрабатывать нашего приятеля? На этот раз ты опоздал, нужно было пошевеливаться поживее, мы уже сговорились с ним.
Но бедняга господин Джавал Аммамеи совершенно упустил из виду, что господин Али Фаразджуй и впредь будет заключать подлые сделки со всеми, будет устанавливать сердечный контакт с любым человеком, который может быть ему хоть чем-нибудь полезен. Всем им он будет клясться в верности, и в конце концов ни один человек не будет в состоянии разобраться, к какой же группе принадлежит этот депутат иранского народа и в чью пользу он опустил свой баллотировочный шар в пресловутую китайскую вазу.
Как только господин доктор Тейэби издали увидел своего наглого противника, он понял, что может проиграть игру, и, решив извиниться за опоздание, сказал:
— Клянусь вашей дорогой головой, господин Фаразджуй, я был очень занят. Сегодня с утра я ездил по делам. Моя старая служанка, которая пеленала меня, когда я был ещё младенцем, йездская Хава Солтан, сегодня вошла ко мне в комнату, плача и рвя на себе волосы, и сказала, что сын её тётки Мешхеди Мохаммед Голи Йезди, который находился в тюрьме, вчера скончался от удара, а теперь из тюрьмы явился полицейский и требует, чтобы прислали кого-нибудь за его телом. Мне пришлось отложить все свои дела и в такой прекрасный праздничный весенний день заняться перевозкой трупа. Должен вам сообщить конфиденциально, что, как мне удалось выяснить, в последнее время в тюрьме стало настолько тесно, что пришлось прибегнуть «к чистке» и группу стариков арестантов, людей беспомощных и безродных, отправили на тот свет. Не так давно против дома одного из наших родственников держал лавочку паршивый мороженщик. Так его постигла та же участь. А мы допустили грубую ошибку: однажды взгляд наш упал на его жену и детишек, и мы пожалели их. Ну, и пришлось теперь возиться и с его трупом.
— Кстати, господин доктор, я слышал, что наш старый товарищ по министерству юстиции господин Ахмад Бехин, который последнее время находился в Йезде, на днях подарил свою жизнь вам[107].
— Этот Ахмад Бехин, господин Фаразджуй, оказался предателем. Вы знаете, что с некоторых пор я порвал с ним всякую связь и совершенно не касался его дел. Он ушёл в отставку, уехал в наш город и жил там со своей семьёй.
— Да, господин доктор, я слышал, что в отношении его вы сменили милость на гнев. Конечно, я не ручаюсь за достоверность, но люди поговаривают, что он знал такие вещи, что лучше было бы, чтобы он унёс их с собой в могилу.
— О, господин Фаразджуй, несмотря на всю благосклонность, которую я к вам питаю, вы тоже несправедливы ко мне. Разве такой несчастный и беспомощный человек, как я, способен сделать зло? Нет! Зачем мне вмешиваться в жизнь или смерть кого-либо? Наступил человеку срок, вот он и умер. Я здесь, а он уже там, в земле. У меня ведь в Йезде нет никого, кто мог бы расправиться с ним. Если его и убили, то это с ним свёл счёты кто-то другой.
— О да, господин доктор, я в своей жизни не видел человека более осторожного и более опытного, чем вы. Вы разрешите мне обратиться к вашему превосходительству за одним советом?
— Пожалуйста, я от всей души готов помочь вам. Теперь вы для нас свой человек и я не могу вам ни в чём отказать.
— У меня есть двоюродная сестра, старушка. Когда— то, сжалившись над ней, я сдуру вытащил её из грязи и привёл к себе в дом. Теперь я никак не могу отвязаться от неё, она никуда не хочет уходить и считает себя прямо-таки нашей компаньонкой. Но, так как в дни юности она была свидетелем наших несчастий и трудностей, какое бы мы положение ни занимали теперь, она ничего не хочет признавать. Она смотрит на нас, как будто мы всё ещё те бедные юнцы. Чтоб ей подохнуть! Она совершенно не понимает, что обстановка изменилась. Не скажете ли, ваше превосходительство, как нам избавиться от этого сувенира?
— Как вам сказать, это и очень лёгкое и вместе с тем чрезвычайно трудное дело. Прислушайтесь-ка к моему совету. В политике нельзя быть мягкосердечным, здесь нужно уметь поступиться и друзьями, и товарищами, и родственниками. Вообще люди, с которыми некоторое время находишься в слишком близких отношениях, впоследствии становятся опасными. Они бывают посвящены во все твои дела, знают, с кем ты общаешься, к кому ходишь. Поэтому-то время от времени, подобно тому как это делается в полицейском управлении, человек должен проводить чистку окружающих его людей. А пока новичок сумеет разобраться в ваших делах, вы некоторое время сможете жить спокойно и беззаботно.
— О, сколько философской мудрости в ваших словах. Вы даже не представляете, какую пользу приносит людям общение с вами, даже одно ваше присутствие. Каждая минута, проведённая возле вашего превосходительства, равна целой жизни. Да ниспошлёт господь бог вам долгую жизнь и удостоит вас…
Господин Али Фаразджуй не успел закончить свою льстивую тираду, так как заметил, что господин доктор Тейэби внимательно смотрит в соседнюю комнату. Он оборвал себя на полуслове, устремил взор туда же и увидел своего нового приятеля господина Хасила Алаки, который, гордо и величаво войдя в комнату, вдруг, словно лур[108], впервые попавший в город, в нерешительности остановился на середине, не зная, что ему делать дальше. Господин доктор Тейэби испуганно спросил:
— А этот откуда здесь взялся?
— Горбан, да ведь это же господин Хасил Алаки.
— Как, это тот самый Хасил Алаки, знаменитый специалист по расколам?
— Да, горбан.
Господин Фаразджуй встал, чтобы встретить важного гостя. Однако в этот момент его дражайшая супруга Махин-ханум подбежала к господину Хасилу Алаки, взяла его руку в свои и всеми известными ей средствами стала обхаживать дорогого гостя. Господин Фаразджуй облегчённо вздохнул и сел.
— Да благословит господь душу покойного отца Махин за то, что она выручила меня. Общение с этим уважаемым господином и очень полезно, и в то же время чрезвычайно опасно, и если хотите знать правду, то, пожалуй, вреда от него больше, чем пользы.
— Вы хотите сказать, что он ненадёжный человек?
— Конечно. Правда, для лиц, находящихся по ту сторону океана, он менее надёжен, чем для нас. Вы и сами изволили видеть, после нескольких лет сговоров и комбинаций с ними, как только он попал в Лондон, он сейчас же переметнулся к англичанам. И не успел вернуться обратно, как натворил дел здесь.
— Да-да, правильно. В наших политических кругах это самое опасное создание. То, на что мы не можем осмелиться, этот господин совершает с поразительной отвагой, и можно только удивляться, что у него ещё хватает совести появляться среди людей!
— Если вы помните, у него был один земляк, очень похожий на него. Так вот, этот земляк тоже вершил всякие дела и мог рассказать о вещах, которые просто потрясали людей. Но в конце концов он всё же получил по заслугам и однажды его избили среди бела дня.
— Вы изволите говорить о Сеиде Ахмаде Каджрави?
— Да, горбан, ведь эти двое и по наружности, и по характеру очень похожи друг на друга. Я слышал, как один из наших известных литераторов очень хорошо охарактеризовал их. Вам будет любопытно послушать. Он сказал, что вообще такие люди, а в особенности эти двое, постоянно видя, что они глупее, бездарнее и подлее других, что они ничего толком не умеют делать, что никто не поддаётся на их уловки, накопили в своей душе такую ненависть, такое желание отомстить людям, что теперь они и днём и ночью только и помышляют о том, чтобы крушить и портить всё, что попадается им на пути.
— Да, святая правда.
— Вы подумайте только, у этого человека при его внешности, куда бы он ни пошёл и что бы ни делал, всё не ладится. Даже самые последние вдовушки не хотят с ним разговаривать. Тот, второй, да упокоит господь его душу, женился на трёх или четырёх женщинах разных национальностей, но в конце концов, когда страсти улеглись, он совсем пал в их глазах и они стали награждать его подзатыльниками. Вот он с горя и ухватился за Хафиза, Толстого, Анатоля Франса и даже начал проповедовать новую религию.
— Да-да, вы это очень тонко подметили.
— Оба они совершенно бездарные люди. Вдобавок они очень нетерпеливы и, как только войдут в дверь, стремятся занять самые почётные места и претендуют быть советниками. Куда бы они ни посмотрели, они видят людей более разумных, более способных и более расторопных, у которых дела идут лучше, и они, как ни стараются, никак не могут догнать этих людей. Вот почему нм ничего не остаётся делать, как одному заниматься расколами, а другому проповедовать новую религию.
— Вы обратили внимание, что они то изобретают новый язык[109], то провозглашают новую философию? Можно подумать, что, если они будут следовать другим и подтвердят слова людей более разумных, чем они сами, это унизит их достоинство.
— Да, горбан, вашими устами глаголет истина. У нас есть один приятель, который повидал свет, много путешествовал и много читал. Он говорит, что, где бы в мире вы ни вошли в сумасшедший дом, все грамотные сумасшедшие или изобретают новую письменность, или придумывают новый язык.
— Не может быть! Это очень любопытно!.. Ну, так как вы думаете, сможем мы сговориться с этим удивительным существом?
— А вы знаете, что такие злобствующие и взбалмошный люди могут пригодиться нам значительно больше, чем кто-либо другой? Вы, несомненно, слышали, что на днях эти субъекты, объединившись с нашим приятелем из Кермана, создали новую партию, которая развила бурную деятельность. Она сейчас находится в центре внимания. Пока в этой партии не начался раскол и она не прекратила своего существования, надо её использовать.
— Что ж, это неплохо придумано.
— Да, вот поэтому-то я сегодня и пригласил его. Я хотел, чтобы он пришёл сюда, познакомился с нашими гостями. Тем временем мы его как следует окрутим.
— Я слыхал, что это ничтожество очень легко взять на пушку.
— Да, вы правильно информированы. А вообще-то в политических кругах вряд ли можно найти более нахального й более бесстыжего человека. С ним лучше не связываться. Бесполезно стараться ему что-нибудь объяснить: всё равно он ничего не будет слушать и толку от этого никакого не получится. Его сначала нужно обласкать, как избалованного, капризного ребёнка, а уж потом оседлать и ехать. Вот поэтому-то разрешите, я пойду к нему, а то, чего доброго, он ещё начнёт организовывать какой-нибудь раскол.
Господин Али Фаразджуй поспешно направился в соседнюю комнату.
Между тем руководители государства и народа один за другим входили в гостиную, приветствовали друг друга, горячо справлялись о здоровье, всячески стараясь скрыть под личиной внешней любезности своё лицемерие и подлость. Они рассказывали друг другу новости, и, так как накануне был четверг, некоторые вспоминали подробности своего выигрыша или проигрыша в покер или в реми и таким путём официально доводили этот факт до сведения правительства и народа. Более молодые говорили; о несколько ином весёлом времяпрепровождении. Солидные деятели информировали друг друга о политических встречах и беседах, которые они имели с иностранными представителями, о всяких закулисных сделках, покупке и продаже лицензий, о таможенных льготах, о контингентах товаров нынешнего и будущего года, спорили о повышении и понижении курса валюты. В этих беседах участвовала даже группа корпусных и дивизионных генералов, и они высказывали не только своё личное мнение и сообщали сведения, которыми располагали сами, но даже сведения, которыми располагали их жёны и дочери. И последние, надо отдать им справедливость, в этих вопросах были людьми глубоко осведомлёнными.
Сегодняшний разговор вращался в основном вокруг новых коммерческих операций. При участии некоторых из этих «самых уважаемых» и «весьма уважаемых» господ в Тегеран была доставлена группа красивых парижанок, умеющих с одного взгляда завладевать сердцем мужчины. Кроме того, вместе с парижанками было завезено большое количество модных дамских тканей. Организаторы этой операции надеялись, что они привлекут мужчин полюбоваться красавицами и, когда красавицы их обворожат, заставят этих глупцов купить ткани для своих жён и при этом как следует оберут их. Эта операция охватывала небольшой круг лиц, покупатели и продавцы занимали равное положение в обществе, поэтому, если кого-нибудь из них особенно надували, остальные должны были как— то компенсировать его убытки. Тем не менее торговля оставалась торговлей и её организаторы не задумывались над тем, к чему всё это может привести.
Это мероприятие удовлетворяло, как мужчин, так и женщин, потому что с красивыми парижанками приехали и дамские парикмахеры. Этой весьма ценной инициативой все были обязаны господину Эхтеладжу, уважаемому депутату от Гиляна и крупнейшему специалисту в общественных, экономических и даже любовных делах. Поэтому на сегодняшнем банкете все, словно мотыльки, летящие на свет, кружились вокруг Эхтеладжа и его красивой супруги-польки, которая, несмотря на свои шестьдесят лет, всё ещё кокетничала, как девушка. Смачно попыхивая сигаретой и бросая по сторонам томные взгляды, словно говоря: «Не тронь меня, а не то я умру», она снова и снова завладевала мужскими сердцами и безжалостно бросала их к своим ногам.
Вы знаете, что самые почтенные люди являются на банкеты позже всех и наиболее уважаемый и почётный гость тот, кого остальные гости — да перестанут видеть их глаза — ожидают на обед или ужин не меньше двух часов. Так и в этот день господин Сеид Ананати, господин Хосейн Боланд-Бала и господин Мохаммед Балароу приехали примерно на два часа позже других.
Забегали официанты, обслуживающие обычно официальные приёмы в министерстве иностранных дел и в клубе «Иран», приглашённые сегодня для обслуживания этого банкета… Гости заняли места за столом. Молодые женщины, как и всегда, уселись возле министров, депутатов и маститых журналистов. Всем, кто был на банкете, бросилось в глаза, что на нём не было наиболее видных политических деятелей Ирана. Вчера в шесть часов утра четырехмоторный самолёт общества «Эр-Франс» понёс на своих крыльях по направлению к Америке большую группу толстых и худых, светлых и тёмных, старых и молодых особ, лишив Тегеран его драгоценных камней самой чистой воды.
На аэродроме ханум Марьям Хераджсетан, одетая в три каракулевых сака — чёрный, серый и коричневый, — напяленных друг на друга, полчаса обливалась потом, с нетерпением ожидая свою дорогую младшую дочурку, чтобы надеть эти саки на неё, на случай если в Америке она увидит и пожелает приобрести что-нибудь интересное. Тогда можно будет реализовать эти саки.
Самой несчастной и недовольной в этой компании была Хаида Борунпарвар, так как, хотя Фарибарз Доулатдуст и был её попутчиком, эта несносная Шахин Саргардания тоже сумела всеми правдами и неправдами достать в долг денег и нахально приобрести билет на самолёт. Вида Доулатдуст и Сирус Фаразджуй летели этим же самолётом и, очень возможно, если бы они не явились, самолёт вряд ли покинул бы тегеранские землю и небо. Больше всех обращала на себя внимание в этом обществе госпожа Нахид Доулатдуст. Наконец-то ей удалось добиться того, что столько раз обещал ей муж, — покупки нового автомобиля кадиллак, манто и поездки в Америкуг Из пятисот человек, провожающих эту компанию, двести пятьдесят, безусловно, явились на аэродром для того, чтобы проститься с ней. И вот наконец-то ханум Нахид Доулатдуст везёт в Америку самые ценные товары Ирана, чтобы предложить их американцам. Конечно, она была не вполне уверена в своём дорогом Мануче и боялась, что в её отсутствие он опять начнёт ловеласничать, поэтому, чтобы не особенно печалиться во время поездки, она захватила с собой Хушанга Сарджуи-заде и дорогого Фарибарза.
А в доме господина Али Фаразджуя официанты в чёрных смокингах и белых перчатках сновали взад и вперёд, подавая уважаемым гостям блюда с пловом и разнообразнейшими вкусными приправами. Некоторые гости, как, например, министр господин Джавал Аммамеи, депутаты господин Гаем Магал и доктор Месвак-заде, бывший министр господин Сеид Ананати, придвинув свои тарелки, с жадностью набросились. на еду и настолько увлеклись ею, что совершенно не замечали колкостей господина доктора Каза-заде-е-Табага.
Господин Моалад, уважаемый представитель иранского народа от Фарса, умышленно сел между корпусным генералом Зармади и дивизионным генералом Меджази, так как у него была к их превосходительствам какая-то очень важная просьба. Но дивизионный генерал Меджази, пытаясь найти какое-нибудь средство избавиться от этого нахального политического попрошайки, поднялся и включил на полную мощность большой радиоприёмник, который стоял позади него.
Вначале послышался плачущий голос какого-то арабского певца, затем были проиграны две-три пластинки, а потом началась передача тегеранских последних известий. Сперва диктор басом сообщил иранскому народу несколько тревожных известий относительно вредителей сельского хозяйства, а затем торжественно-печальным тоном сказал: «В тот момент, когда государственное управление пропаганды шахиншахского правительства было занято составлением этих известий, европейские и американские радиостанции передали чрезвычайно печальное сообщение, которое мы в силу своих обязанностей вынуждены с великим сожалением довести до сведения наших слушателей. Это сообщение заключается в нижеследующем: четырехмоторный самолёт авиакомпании «Эр-Франс», который вчера в 6 часов 4 минуты и 7 секунд покинул тегеранский аэродром, высадив после полудня в Лондоне одну из своих пассажирок — барышню Ниру Хераджсетан с двенадцатью чемоданами и четырьмя великолепными иранскими каракулевыми саками, сегодня около девяти с половиной часов утра, в двенадцати минутах лёта до Нью-Йоркского аэродрома и статуи Свободы, в результате пробоины в бензопроводе мотора стал жертвой ужасного пожара. Все находившиеся в самолёте, включая лётчика, погибли. Управление пропаганды, к сожалению, пока не имеет сведений об именах уважаемых иранских пассажиров, но, так как все они были членами известных фамилий столицы, выражает своё глубокое соболезнование родственникам погибших по поводу этого печального события от своего имени, а также от имени правительства и народа Ирана».
Можно себе представить, какое впечатление произвело это сообщение на участников весёлого банкета. Махин Фаразджуй, сидевшая рядом с господином Мохаммедом Балароу и премьер-министром Ирана, вскрикнув, без чувств упала на пол. Да смилостивится господь над господином Манучехром Атбаром, который, моментально схватив графин с холодной водой и смочив салфетку, положил её на грудь несчастной. А муж Махин, плача, непрерывно твердил: «Господь бог ещё сильнее наказывает людей непослушных. Когда я ездил в Ирак, мелайерский дервиш мне говорил, что депутатство не моё дело. Я не послушался его, и вот теперь случилось несчастье».
В это время в другом углу комнаты в центре внимания были Мехри Борунпарвар и её супруг. Какие-то странные, комические звуки издавал господин Манучехр Доулатдуст. Если бы кто-нибудь мог заглянуть сейчас в его душу, он увидел бы, что бедный Манучехр считает это печальное событие наилучшим способом избавиться от бесконечных фокусов своей дорогой Нахид-джан. Но всё-таки, для приличия, он время от времени подавленным голосом повторял одну и ту же фразу: «О, мои дорогие жена и дети погибли, так и не достигнув этого рая».
Господин доктор Месвак-заде на следующий день поместил в своей газете большой и слезливый некролог. Одна философская фраза из этого некролога долгое время была на устах у людей: «Самая большая трагедия заключается в том, что группа лучших юношей нашей дорогой страны, происходивших из самых благороднейших фамилий, блиставших своей культурой, экономической и политической деятельностью, погибла в разъярённых волнах океана на полпути в рай, отдала свои души всевышнему и беспощадная смерть не дала им возможности достичь берега Нового света, куда они так страстно мечтали попасть, Нового света, который издали манил их своим гостеприимством. Бедным юношам не удалось увидеть его».
В течение сорока пяти дней траурными объявлениями о панихидах на седьмой и сороковой день и соболезнованиями были заполнены первые, вторые и последние страницы. Только одна паршивенькая тегеранская газетёнка заработала на этом деле восемьдесят тысяч риалов.
Тегеран
4 января 1951 года — 4 января 1953 года.