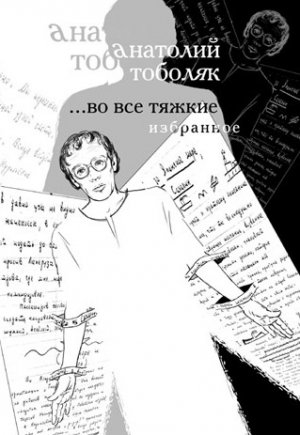
НЕОБХОДИМОЕ ПОЯСНЕНИЕ
Прошло уже больше года с того дня, когда в своем почтовом ящике я обнаружил извещение о пришедшей на мое имя бандероли. Я взглянул на адрес отправителя и страшно обрадовался. Бандероль пришла из города Ю., моего родного островного города, где я прожил почти восемнадцать лет и с которым вот уже десять с лишним лет разлучен. Я уехал оттуда сразу после окончания школы, поступив в Уральский политехнический институт, и, конечно, не предполагал, что покинул Ю. Навсегда. Но случилось так, что вскоре с острова на материк выехали мои родители, поменяв квартиру, и связи были таким образом прерваны. Правда, там остались мои школьные друзья, но я не охоч писать письма, да и они тоже. Последнее письмо от своего лучшего друга Андрея Кумирова (назову его так, как он сам называет себя в рукописи) я получил, помнится, в ту пору, когда защитил диплом и был распределен в один из таинственных, закодированных городов Урала. Так что в ответном письме успел таки сообщить ему свой нынешний адрес.
И вот это неожиданное извещение. Я немедленно отправился на почту, взволнованно гадая по дороге, кто бы мог вспомнить обо мне.
В отделении связи мне выдали бандероль — толстую рукопись, обёрнутую грубой бумагой. Взглянув на фамилию отправителя, я невольно заулыбался. Это был, конечно же, он, Андрей Кумиров, мой сосед по парте, обратный адрес, впрочем, меня удивил: Ю., главпочтамт, до востребования.
Дома я вскрыл бандероль. Почти сто страниц убористого текста, даже не отпечатанного на машинке. А сопроводительное письмо необычайно лапидарное: «Только для тебя. Привет. Андрей». Вечером я взялся читать эту рукопись. А уже под утро, пораженный и напуганный, заказал телефонный разговор с Ю. Я попросил вызвать через справочную тамошний Союз журналистов. Соединили неожиданно быстро, и отозвался женский голос:
— Але! Але! — закричал я. — Это Союз журналистов?
Приятный женский голос подтвердил, что я не ошибся.
— Послушайте, — взволнованно заговорил я. — Звоню вам издалека. — И объяснил, что мне крайне необходимо связаться с журналистом Кумировым Андреем Дмитриевичем. (Я назвал, конечно, его подлинную фамилию и имя.) Известен им такой?
— Еще как! — благожелательно, улыбчиво отвечала женщина из-за тридевяти земель. — Но, насколько мне известно, он уехал.
— Уехал? Куда? Надолго?
— По-моему, навсегда. Он разменял квартиру. Если не ошибаюсь, он теперь в Самаре.
— Вот как, — огорчился я. — А вы не знаете его самарского адреса?
— Боюсь, что он его никому не оставил. Он уехал очень скоропалительно.
Мне оставалось только поблагодарить ее. А рукопись запрятать в свой стол. Пока не пришла ей пора.
Ю. А.
Сегодня, 25 мая 1993 года, покупная цена доллара в коммерческих банках нашего города Тойохаро — 965 рублей, продажная — 990. Стоимость ваучера резко упала: перекупщики около ворот рынка дают за него всего-то три с половиной тысячи. Нынешние цены: хлебный батон — 93, булка белого — 42, черного — 30. Килограмм сливочного масла — 1725. Десяток яиц — 320. Бутылка кефира — 124. Банка консервированной говядины — 600. Лосося — 250. Микроволновая печь, блистающая белизной, 160000. Породистый щенок колли — 70000. Ну и так далее. Запомним и усвоим.
На торговых прилавках — магазинных и уличных — изобилие товаров. Одежда. Обувь. Алкоголь. Бижутерия. Американский шоколад. Корейская кукса. Китайская тушенка. Вьетнамские яблоки. Филиппинские апельсины. Местная красная икра. Экзотические соки в замысловатых пластиковых бутылках. Яркая пестрота упаковок и этикеток.
И отвратительная погода: дождь со снегом. Мутное, белесое небо — абсолютно нелетное. Сопки со стороны океана то появляются из снежной пелены, то вновь исчезают, как дурные сновидения. Моя соседка по кабинету, несравненная Радунская, включила электрообогреватель и дымит, дымит сигаретами в творческих потугах.
— Кумиров! — обращается она ко мне.
— Ну? — неохотно откликаюсь.
— Объясни мне все-таки внятно, что такое эксклюзивное интервью.
— За справку две сотни, — отвечаю я от своей пишущей машинки.
— Пошел ты!.. — кричит несравненная.
— Взаимно.
— Кстати, когда долг отдашь? — вспоминает она.
— Сказано, с зарплаты.
— Смотри не тяни. С первого числа цены опять подскочат.
— Ясно. Работай спокойно.
— Знаю я тебя, Кумиров!
— Что опять?
— Твои еще не вернулись с материка?
— Нет еще.
— А когда?
— А тебе какое дело?
— Нелюдь ты, Кумиров. Спросить нельзя.
— Дай сигарету, скажу.
— Черта с два!
Ладно, думаю я, обойдусь. Перетерплю. Внизу, на первом этаже нашего Дома печати есть коммерческий киоск. Но там лишь «Мальборо», «Кент», «Честерфильд» — элитные сигареты. Кумирову они сейчас не по карману. И позвонить сейчас в Новосибирск, где временно живут жена и дочь, я не могу. Минута телефонного разговора стоит…
Начинать эти записи надо не так. А как?
А вот так, например:
«Я, Кумиров Андрей Дмитриевич, родился 31 июля 1965 года в г. Тойохаро в семье служащих…»
— Кумиров, слушай!..
— Какого черта! Не даешь работать.
— Ты не работаешь, а в окно пялишься. Объясни мне, пожалуйста, почему ты не пригласишь меня в гости? — вдруг свирепо спрашивает Радунская.
— Зачем?
— Ты же один сейчас.
— Ну?
— И я одна.
— И что?
— Нас может быть двое, дурак! — кричит она.
— Не будь блядью, Радунская, — отвечаю я на это. Встаю и выхожу из кабинета, чтобы стрельнуть у кого-нибудь сигарету.
Из Дальневосточного университета меня выгнали за диссидентство. Это был 85-й год. Я позволил себе выпустить машинописный журнал, в котором…
Нет, не так.
Моя истинная жизнь, жизнь упорядоченная и содержательная, началась полтора года назад, когда на тойохарском горизонте появилась выпускница Уральского университета Ольга Малышева, маленькая, пышноволосая умница, которая…
Не так, не так.
— Кумиров, зверюга!
— Что опять?
— Во-первых, ты мог бы взять сигарету у меня, а не клянчить по кабинетам. Во-вторых, тебе звонили.
— Кто?
— Какой-то Яхнин из фирмы «Пента».
На миг мое сердце приостанавливается, пропуская два удара, а затем учащенно наверстывает упущенное.
— Что сказал? — кривлюсь я, как от боли.
— Попросил перезвонить. Вон телефон. Кто это?
— Яхнин из фирмы «Пента».
Радунская вскакивает из-за своего стола.
— Все! — кричит она. — Иду к редактору. Пусть переводит в другой кабинет, от тебя подальше.
— С Богом, — разрешаю я кривясь.
Яхнин из фирмы «Пента» вспомнил обо мне.
Я набираю номер медленно, внятно, как будто по слогам складываю трудное слово. Откликается женский голос.
— Генеральный директор у себя? — спрашиваю я. И предупреждаю ее вопросы: — Звонит Кумиров из редакции «Свободы».
— Минутку.
…никогда не состоял в партии. В комсомоле пребывал постольку-поскольку, годами не платя взносов.
А по сути подлинная Кумировская жизнь началась с Олиного тихого ночного признания:
— Андрей, я беременна.
И подступающего сна как не бывало. Я зажег настольную лампу и долго вглядывался в ее светлое лицо. Потом спросил:
— И что будем делать?
— Не знаю.
— Будешь рожать?
— Не знаю.
— Аборт?
— Ты думаешь, аборт?
— Выхода всего два, — помнится, сказал я.
…и точно в срок, вычисленный Олей на компьютере, закричало, возникнув из небытия, маленькое существо, названное нами Машей. Вот это и есть точка отсчета.
«Задержитесь до конца июля, если возможно. Финансовые проблемы еще не решил». Так я закончил последнее письмо Ольге, посланное в Новосибирск на сорок седьмой день после их отъезда.
А генеральный директор Яхнин вспомнил обо мне на пятьдесят девятый день после нашей с ним исторической встречи.
— Привет, Игорь. Звонил? — спрашиваю я, услышав в трубке его свежий голос.
— Так точно, Кумир. Решил, старичок, побеспокоить. Дата приближается, родной. Помнишь?
— Каждую минуту. Даже по ночам.
— Ну и?..
— Собирался сам позвонить и попросить отсрочки.
— Та-ак!
— При твоих миллионных сделках…
— Ну-ну?
— Несложно вроде подождать, — заканчиваю я.
— Так считаешь?
— А ты?
— Я считаю, старичок, что до моих миллионных сделок тебе, бля буду, дела нет. Это МОИ сделки. А долг ТВОЙ. Популярно объясняю?
— Да. Понял. Накинь еще двадцать процентов.
— Думаешь, потянешь?
— Постараюсь.
Наступила пауза. Яхнин прикидывал, надо ли добивать меня окончательно.
— Твои вернулись? — услышал я.
— Нет еще.
— Холостуешь, значит? Что ж ты, Андрюха, старичок, не заглянешь ко мне на блядки? Западло меня держишь? — спросил он меня своим свежим, веселым голосом.
— Я тебе говорил, что завязал с этим.
— А просто так зайти на рюмку кефира слабо?
— И с кефиром завязал.
— Молодец, Кумир. Стерильный. Значит, так. Я поблажек обычно не делаю. Такая метода. Тебе в виде исключения. Но не на месяц, а до пятнадцатого июня. Усек?
— Да.
— Будь здоров.
— Будь и ты.
И кладу трубку, тяжело, сдавленно дыша, с темнотой в глазах. Вот это и есть точка отсчета? Возможно.
В школе у него была кличка Молва. Кто-то из нашей компании придумал ее, она и привилась. Яхнин обладал редкой способностью знать все обо всех. Покуривая на крылечке школы, он вдруг сообщал как бы между прочим, что наш математик Фадей («Длинный») спутался с молодой практикантшей из пединститута, а его жена биологиня Вера Павловна («Сатана») узнала об этом. «Ждите событий», — пророчествовал Яхнин, и действительно, вскоре в учительской разыгралась безобразная сцена.
Молва-Яхнин, он был бесподобно талантлив в своей информированности. Но ни я, ни мои приятели, ни его дружки, да, наверно, и сам он не могли представить в то глухое, бесперспективное время начала восьмидесятых, что как раз этот дар Божий вкупе с веселой, нагловатой предприимчивостью вознесет его на коммерческие высоты…
А мог разве знать Кумиров А. Д., что наступит день, когда он отправится на поклон к своему однокашнику Яхнину по кличке Молва?
ФИРМА «ПЕНТА» ВОЗЬМЕТ НА СЕБЯ ВСЕ ВАШИ ЗАБОТЫ!
Я брел по утреннему, сумрачному Тойохаро. Мартовская оттепель. Третий медицинский тип погоды, неблагоприятный. Неприютные сопки не манили, как обычно, подняться на них и очутиться вне города. Там рыхлый снег, немота лиственниц, сонная одурь, какая-то предвесенняя болезненная полужизнь. Здесь снежная каша под ногами, дым котельных, панельные дома-двойняшки. Одно другого стоит, думал я. Одинаково безнадежно.
Возможно, сказывалась бессонная ночь. Маша плакала. Ее тонкий голос не смолкал. Ольге тоже не здоровилось, и я пытался помочь обеим женщинам, большой и маленькой: одну укачивал, расхаживая по комнате туда-сюда, другой мерил температуру и кормил лекарствами. К утру на час-другой забылся, а уже в восемь отправился к Яхнину, как было задумано накануне.
— Слушай, Кумиров, где ты бродишь? Тебе опять звонили, — гневио встречает меня Радунская.
— Ходил пожрать. А ты все еще здесь, любимая? Не перевелась в другое место? — бурчу я.
Радунская кидается ко мне с намерением то ли расцарапать, то ли укусить. Я перехватываю ее за руки. С полминуты мы молча смотрим друг на друга. Она порывисто дышит полуоткрытым ртом. У нее маленькие черные усики.
— Когда-нибудь я тебя убью, — говорит Радунская. — Пусти.
— Кто звонил?
— Почем мне знать! Сказал: из книжного издательства. Пусти!
— Отпускаю, но не бесись.
Такие у нас отношения с Викой Радунской. Странные, прямо сказать. Когда-нибудь она меня пришибет пепельницей. Или когда-нибудь мы все-таки попадем в одну постель.
Но неужели, наконец, что-то решилось в книжном издательстве?
Именно надежда на издательский аванс позволила мне назвать Яхнину шестизначную сумму.
— Сколько? Ась? — не поверил своим ушам хозяин. Нет, не так. Не так.
Сначала я позвонил его отцу, найдя телефонный номер в справочнике. Яхнин-старший — бывший крупный партийный функционер. Его железный, беспощадный голос, так часто, помнится, гремевший по радио и телевидению, был теперь старчески дребезжащ.
— Как, вы говорите, ваша фамилия? — переспросил он.
— Кумиров.
— Что-то я вас не припоминаю. А я школьных друзей Игорька всех помню, — продребезжал он.
— Я у вас в гостях не был, Иван Петрович («Бог миловал»).
— Ах вот как! А почему вы ему в офис не позвоните? Игорек сейчас в городе.
— Мы давно не виделись, Иван Петрович. Хочу сделать сюрприз, нагрянуть к нему внезапно.
— А, вон что. Понимаю, понимаю. Школьная дружба, оно, конечно… Ну, запишите.
И он продиктовал домашний адрес Яхнина-младшего, Молвы.
И вот по сумрачному мартовскому городу я прибрел к новой девятиэтажке, поставленной в лесистом еще месте около сопок. Третий этаж, 37-я квартира. Дверь, обитая черной кожей. Прежде чем позвонить, я успокоил дыхание и сердце. Ну, Молва. Встречай гостя.
И нажал кнопку звонка, который издал неделовую легкомысленную трель.
Я стоял так, чтобы быть хорошо видимым в «глазок». Вот, дескать, пришел некто безопасный, безобидный, без бандитских поползновений, некто Кумиров, которому можно и нужно открыть.
Никто не подходил к двери, и я второй раз, а затем третий вызвал легкомысленную птичью трель. И услышал шаги в квартире. Затем почувствовал взгляд через «глазок» и неуверенно заулыбался.
Защелкали замки — один, второй. Дверь распахнулась, и предо мной предстал высокий светловолосый блондин в голубой пижаме, с помятым после сна лицом.
— Мать-перемать! Кого вижу! — просипел Яхнин.
Обрадовался ли он? Не знаю. Но поразился несомненно. Да оно и понятно. Вдруг всплыл из глубины жизни открытый текст, написанный симпатическими чернилами, вдруг восстал из небытия некий покойник и произнес как живой:
— Здравствуй, Молва. Не ожидал?
Разумеется, он не ожидал. Явление Христа народу! Да еще в такую рань!
— Я думал, бизнесмены просыпаются засветло. Разве не так?
— Так, Кумиров, так. Если накануне не бухают всю ночь, — сиплым голосом отвечал хозяин. — Входи.
И ничтожнейший Кумиров вошел в просторную прихожую с высокими потолками, паркетным полом, светлыми и деревянными панелями.
— Раздевайся, — предложил Яхнин, закрывая входную дверь.
— Я ненадолго.
— У меня все раздеваются. Девки обычно догола, но тебе не обязательно.
— Ладно, — не стал я спорить. Стащил туфли, снял куртку и лыжную шапочку. — Куда?
— Пошли на кухню. В комнатах гости вповалку. — Яхнин в небесно-голубой своей пижаме вдруг смачно зевнул.
Перемены в нем произошли значительные. Заматерел мой однокашник. Но что-то осталось еще в нем от прежнего красавчика блондина. А много ли школьного — легкого и светлого — углядел Молва в своем давнем знакомом Кумирове? Так, блики… А вот новые черты времени — худобу и изможденность лица, морщины на лбу, жесткую складку губ — не мог, конечно, не заметить.
А ведь я когда-то котировался среди женского населения нашего класса — что было, то было. Как, впрочем, и красавчик Яхнин, вечный мой соперник. Но выступали мы в разных, так сказать, весовых категориях. Я уповал в своих поползновениях на интеллект, он — на физическое совершенство.
И вот набираю номер книжного издательства. Откликается знакомый голос редактора Перевалова: — Слушаю.
— Слушаешь? — переспрашиваю. — А сам сказать ничего не хочешь мне?
— Андрей, ты? Здравствуй.
— Здорово.
— А что голос такой мрачный? — сразу отмечает он.
— А с чего ему быть веселым?
— Да, погода ни к черту. А все-таки… Как смотришь насчет рыбалки в пятницу с ночевой? — жизнерадостно вопрошает.
— Ты ради этой хреновины мне звонил?
— Не только.
— А что еще.
— Есть разговор, Андрей. Конфиденциальный. Ты не мог бы заглянуть на часок?
— Мог бы.
— Когда?
— Хоть сейчас.
— Отлично. Жду.
— Погоди! А с книжкой этот конфиденциальный разговор как-то связан? — не удерживаюсь я от вопроса.
— Ну-у, косвенно да.
— Огорчаешь. Продолжаешь огорчать, — мрачнею я и чувствую, как едкая желчь подступает к горлу.
— Андрей! — зовет Перевалов, но я кладу трубку.
…потому что нынешние аборты чреваты, говорят, последствиями. Потому что всеобщая медицинская безграмотность. Потому что больничная нестерильность, говорят. Да потому что больно и мерзко, наконец, и происходит уничтожение чьей-то жизни, не умеющей еще сопротивляться даже криком. И разве не хочу я стать отцом, автором невиданного произведения?
— Будет трудно, — предупредил я Ольгу, свою маленькую, пышноволосую жену.
— Знаю, — вздохнула она.
— Я деньги добывать не умею, тебе известно.
— Ох, знаю.
— Помогать нам некому. За границей родственников нет.
— Все знаю, Андрюша.
Мы замолчали и молчали долго, лежа при свете ночника в нашей однокомнатной квартире, доставшейся мне как бы по наследству от родителей, когда они уехали на материк, произведя сложный размен трехкомнатной. Потом я, раскрепощенно воспрянув духом, сказал: — Хорошо, рожай! Но не вздумай, Христа ради, двойню! — И она счастливо накинулась на меня и благодатно, вот именно, благодатно подарила мне себя.
И, конечно, сбылось. После рождения Маши наступили тяжелые времена, небеса угрожающе придвинулись… Может быть, впервые за свои двадцать семь я задумался всерьез над такими социальными категориями, как бедность и богатство, нищета и изобилие, ясно и недвусмысленно ощутил власть денег.
Что нужно, казалось бы, крошечному существу, которое питается дармовым молоком матери? Но Машенька оказалась поистине ненасытной и уже в первые дни еще неосознанной жизни поглотила все материальные пособия, которые получила в своем НПО «Моргео» ее программистка мать… Этот источник иссяк, и лишь я, ничтожнейший газетчик, стал кормильцем семьи. Кормилец я, однако, был слабосильный при моих тогдашних десяти с чем-то тысячах ежемесячного дохода. Побочные гонорары в других изданиях? Да, я пытался… но много ли таких изданий в нашем Тойохаро? Иллюзорная прибавка к бюджету семьи… К тому же главную ставку я сделал на большой труд, на беллетристического первенца, который сжирал у меня и ночные часы, и часть рабочего времени. Никакого алкоголя, лишь дешевейшее курево. Никаких обновок. Минимальные потребности Ольги. Строжайший финансовый учет. И все же к исторической встрече с Яхниным я пришел с 15-тысячным долгом знакомым… и он лавинообразно нарастал. Вот тогда Ольга устало и скорбно сказала:
— Знаешь, я не могу так больше. Мы тебя, бедного, совсем загнали. Что, если мы уедем на время к маме? Ну, месяца на три-четыре. Я ей писала, спрашивала. Она согласна принять.
Что должен был ответить отец и муж Кумиров А. Д.? Только лишь признать разумность такого выхода.
Яхнин ничего о моих семейных делах не знал, но своим острым чутьем дельца сразу, наверно, уловил, что в воздухе пахнет деньгами.
Он замер на пороге кухни, озирая стол и раковину, заваленные грязной посудой с остатками еды.
— Бардак, — сказал он. — А?
Я пожал плечами: — Сносно. Бывает и хуже.
— Думаешь? Ой ли. А как насчет похмелки. Кумир? Ты как?
— Нет синдрома, Игорь. Давно не пью, — хмуро отвечал я.
— Брось! — не поверил он.
— В самом деле.
— А что такое? Завязал, что ли? Или болен? Видок у тебя, старичок, не того… Да ты садись! Кури. Сигареты вон. Или не куришь?
— Курю.
— А я, знаешь, старичок, поправлю здоровье, а? Не осудишь?
— Не осужу. Поправляй.
— Ну, молодец. А то есть моралисты… — скривился он и открыл большой, блистающий белизной холодильник. — Водочки, что ли, принять, как думаешь?
— Смотри сам.
— А не сильно будет с утра? Может, чего полегче. Пивко есть баночное китайское. Пойдет?
— Смотри сам, — повторил я и присел на табурет около широкого окна.
— Видишь, какой ты, — укорил меня Яхнин. — Даже не подскажешь старому приятелю. Я так, наверно, сделаю: совмещу.
И он достал из холодильника початую «Распутина» и баночку пива. Тут из глубины квартиры раздался слабый женский голос. Он звал:
«Игорек, Игорек!».
Яхнин широко заулыбался, показав белоснежные зубы.
— Слышишь, Кумир? Тоже страдалица. Погоди чуток, ладно? Я мигом. Он исчез вместе с бутылкой, а пришелец Кумиров огляделся в этой просторной кухне, блестевшей белыми стенами, и белыми шкафами, и белыми плитами — электрической и микроволновой. Кухня эта, несомненно, понравилась бы Ольге. Она распевала бы в ней по утрам, хлопоча над завтраком, чувствуя себя всякий раз празднично счастливой.
Так я хмуро подумал и закурил хозяйскую «Мальборо» из пачки на столе. Сразу же повело, как при головокружении, — бессонная ночь сказывалась.
Бессонных ночей выпало немало за последние месяцы. Маша родилась слабой и болезненной, ее тонкий нескончаемый плач надрывал душу, надрывал сердце, чудился мне даже в часы затишья. Ольга похудела, глаза у нее запали. Я научился сам пеленать дочь. Сидя на кухне над листами своей беллетристики, я вскакивал при первом писке девочки и спешил ей на помощь, и пеленал, и укачивал, и утешал. «Спи, — яростно шипел я на Ольгу, — без тебя обойдусь» — и вышагивал со спеленутым свертком на руках километр за километром по нашей комнатухе. А утром… Да, утром надо было спешить на ненавистную службу, продолжать газетную потогонку, ломать ночной образ мышления, стиль мышления, менять лексикон, внедряясь в крутые реалии жизни… между тем как не оставляли привычные бередящие мысли: как они там, дома?
…чтобы, в конце концов, очутиться в квартире бывшего однокашника и ждать на кухне, когда он ублажит незнакомую мне страдалицу.
Он отсутствовал минут десять и вернулся иным, чем ушел, — с пробужденными, повеселевшими глазами, красными пятнами на лбу. В руке дымилась сигарета.
— Здорово, Андрюха, — по-новому приветствовал он меня. — Хорошо получилось, старичок, что разбудил. А то продрых бы до полудня. Как ты меня нашел?
Я загасил сигарету в пепельнице, не курилось мне. Сглотнул едкую слюну.
— Через твоего отца. Позвонил ему.
— А! Понял. А то я вообще-то законспирирован. В офисе мой адрес не дают… Ну, из соображений госбезопасности, — заулыбался он. — Как живешь, родимый? Рассказывай.
«Старичок» — это знакомо со школы. А «родимый» — это уже на яхнинском новоязе. Меня передернуло.
— Родимый, говоришь? Пусть так. Хреново живу, Игорек. Есть проблемы. Вот пришел к тебе за помощью.
— Даже так?
— Да.
— А чего стряслось? — пыхнул он дымом и, сдвинув грязную посуду, присел боком на кухонный стол. Небесно-голубая пижама расстегнута на груди. Светлые волосы всклокочены. Он щурился против света.
— Мне деньги нужны, Игорь. Позарез и срочно. Причем крупная сумма. С отдачей через месяц, но лучше через два, — все сразу выложил я, и на лбу у меня выступила легкая испарина. Слабость, слабость!..
Яхнин, казалось, не слишком удивился. Лишь на миг прикрыл глаза, а затем взглянул с острым, непривычным любопытством.
— Та-ак! — протянул он. — В рулетку, что ли, продулся?
— В казино не бываю. Не по карману.
— Да? А я иногда наведываюсь. А что тогда? Бабы?
— Опять мимо, Молва. Ситуация семейная. У меня маленькая дочь. Жена, естественно, не работает. Хочу отправить их на время к теще. А билеты, сам знаешь, простым смертным сейчас не по зубам.
— Это ты-то простой смертный, Кумир? Ты! — перебивая, вскричал Яхнин. — Наша школьная звезда!
Я скривился, точно зуб вдруг заныл. Взял окурок из пепельницы и чиркнул спичкой.
— Брось, Молва. Школьные амбиции я давно пережил. Надежды на лучшее еще не утерял, но… Сейчас у меня финансовый криз. Иначе бы не пришел, — вдруг признался я.
— Знаю, знаю, старичок, что без нужды ты не пришел бы! — опять вскричал понятливый Яхнин. — А чем ты вообще-то занимаешься? Я мельком слышал, что в газетке пописываешь под псевдонимом. Так, что ли?
— Верно. В газетке пописываю под псевдонимом.
— Большое дело, Кумир. Пресса сейчас в силе. Мы сколько с тобой не виделись? С выпускного вечера, кажись?
— Вроде бы.
— Меня ведь здесь не было. Я в других краях обретался. В армии, старичок, послужил… да-а. Потом носило по стране. А ты, слышал, университет окончил?
— Нет. Недоучился.
— Ну, считай, что окончил. Обскакал меня. И жена, говоришь, есть? Видишь, ты какой! И здесь меня обошел. Я ведь, старичок, холостую. Кто такая?
— Не местная. Из Новосибирска.
— Тоже пописывает в газетке?
— Нет, программистка.
— Ух ты! Головастая, поди. И молоденькая?
— Не старая. Двадцать пять. Миловидная.
— Хват ты, Кумир! Всегда им был, с младых ногтей. Помнишь, как Тоньку Абрамову у меня увел на выпускном?
— Смутно.
— Увел, увел, умыкнул! — развеселился разогретый «Распутиным» Яхнин. — Ох, я тогда бесился. Зол был на тебя. Да мы вообще не слишком с тобой ладили, а, Кумир?
— С чего взял? — Я затянулся глубоко дымом. Я как-то смутно его видел, как в тумане.
— Ну как же! У вас своя компания. Элитная. Гальперин, Миронов, Корзун. Высокие материи: поэзия, космос, компьютеры. А мы больше насчет подворотен да спорта. Третий сорт, а?
— Брось. Может, и не стыковались иногда. Что из того? — тяжело проговорил я.
— Где они сейчас, твои кореша? В городе что-то не встречаю.
«Кореша»… «старичок»… Какой простецкий генеральный директор!
— Поразбросало, — отвечал я. И думал при этом: «Дрянь ты все-таки, Молва. Мучаешь. Сознательно».
— А твои предки? — продолжал он допытываться, весело скалясь.
— Хочешь спросить, не могут ли они мне помочь? Исключено. Они на материке. Побаливают. Сами нуждаются в помощи.
— Ага! Понял.
— Так что, Игорь? — напрямик спросил я, прерывая эти воспоминания.
— Что?
— Ссудишь мне денег? Повторяю, месяца на два. Заплачу проценты сообразно инфляции.
— Это само собой! — откликнулся он. — А сколько надо, Кумир? Ты сказал: крупную сумму. А что ты, старичок, понимаешь под крупной суммой? Лимон? Десять лимонов?
Я усмехнулся. Невесело так.
— Лимоны — это не из моего лексикона. Надо сто тысяч, чтобы выкрутиться.
— Сто штук? — поразился Яхнин. (Огромной или ничтожной показалась ему эта сумма?)
— Если сложно, то хотя бы половину. Остальное займу у других частями, если удастся.
И я замер в ожидании приговора. Сигарета погасла сама собой. Я думал: «Ну, давай, Молва, покажи себя. Вспомни старые обиды. Унизь. Нокаутируй. Твоя власть». — И смотрел, как Яхнин, соскользнув со стола, открывает холодильник, достает новую баночку, откупоривает ногтем колпачек и, закинув русобородое лицо, двигая кадыком, пьет китайское пивко.
…которое, кстати, я ни разу не пробовал, как и американское баночное, как знаменитое немецкое и прочие диковинные напитки, щедро предоставленные в уличных «комках». И поневоле я поразился, увидев на столе редактора Перевалова прекрасную красавицу «Ламбаду». Останавливаясь в дверях, я хмуро вопрошаю:
— Киряешь, что ли? Середь дня?
Он порывисто встает навстречу, высокий, сутулый, лысоватый уже, крепко жмет мне руку и тянет к приставному журнальному столику.
— Есть повод, Андрей. Садись. Попробуем, что за дрянь, — берет бутылку в руки.
— А что за повод?
— Сейчас все объясню. Садись, садись, — не терпится ему.
А Яхнин, со всхлипом передохнув, смахнул капли с русой бородки и проговорил каким-то странным, обморочным голосом:
— Слушай, Кумир, старичок. А ты просвети меня, недоумка, сколько ты зарабатываешь в своей конторе?
— Сколько я зарабатываю в своей конторе? — повторил я.
— Ну да.
— По-разному. В зависимости от гонорара. В среднем тысяч сорок.
— Сколько? Ась? — приложил ладонь к уху Яхнин, как глухой.
— Я же сказал. В среднем тысяч сорок.
— Не заливай!
— Не заливаю.
Яхнин, похоже, сильно разволновался.
— Но это же нищенство, Кумир! — закричал он. Моя секретарша, сучка такая, получает у меня вдвое больше, а дел у нее всего-то, что мурлыкать по телефону да кофе мне варить.
— Что ж, рад за нее. И за тебя. Не обижаешь сотрудниц.
— Спасибо. Польстил. А ты мне лучше скажи: как ты думаешь через два месяца рассчитаться со мной? Банк возьмешь? — весело спросил он.
В эту минуту мне вдруг захотелось ударить ногой между широко расставленных его ног, чтобы, застонав от боли, он повалился на пол. Но я не двинулся с места и лишь услужливо отвечал:
— Нет, банк брать не намерен. Есть другие перспективы. У меня договор с издательством. Обещают аванс. Вот на это я рассчитываю. На книжку.
— Ага! Книжка. Это уже кое-что. Я помню, ты в школе стихами баловался. Как же, помню! Девки млели. Они до стихов охочи. Ну, а честно, Кумир, почему ты именно ко мне обратился? Мы ведь годами не виделись, никаких контактов и вдруг…
— Твоя «Пента» на слуху. Говорят, процветаешь.
— Да? Кто говорит?
— Народ. — Я встал с табуретки, а Яхнин белозубо хохотнул.
— Народ… Хорошо сказал. А вообще-то я стараюсь жить тишком, без особой рекламы. Но, видать, просачивается. Постой, ты куда? — вскричал он.
— Пойду.
Из глубины квартиры женский голос опять позвал: «Игорек! Игорек!». Яхнин подшагнул к двери и гаркнул:
— Заткнись! Занят! — И вновь повернулся ко мне с каким-то озаренным лицом. — Слушай, старичок, а ты не хочешь пойти ко мне, а?
— В смысле? — провернул язык.
— Ну, в смысле поработать у меня. Зарплату положу хорошую, будь спок.
— А чем ты, собственно, занимаешься?
— А ты не в курсе?
— Нет.
— Даешь, Кумир! Идешь к человеку одалживаться и не разузнал, откуда у него башли. Какой же ты к хренам журналист!.. Ладно, ладно, не серчай, — подшагнул он ко мне и положил руку на плечо. Я отодвинулся, и он это заметил. — У меня, старичок, фирма многоотраслевая. В основном торгово-закупочная. Вот, скажем, на первый случай: раздобудь мне оптового покупателя на партию баночной икры. Три процента за посредничество. Сечешь?
Я рассмеялся, невесело, правда.
— Как ты это себе представляешь? Где я найду такого покупателя?
— А ты пошевели мозгой. Припомни знакомых. Сядь за телефон. Связи у тебя наверняка есть… ну, вот. Полтора доллара баночка. В экспортном исполнении. Сделка на миллионов десять, а?
— Нет, не возьмусь.
— А чего так?
— Не умею, Молва. Да и не хочу, честно говоря.
— Не хочешь получить триста штук? А говоришь, нужны башли.
— Не таким способом.
— А чем плох способ? — быстро спросил он. Уже не улыбался. С острым интересом разглядывал меня, как нечто диковинное.
— Яхнин, — сказал я тяжелым языком. — Оставь это. Я в коммерции профан. Бездарь. Ценности для тебя абсолютно не представляю. Мое дело в газетке пописывать, как ты выражаешься. Ни на что другое не годен, проверено, даже вагоны грузить. Есть еще моральные принципы, но это сейчас не важно. Скажи ясно: займешь или нет?
Он откликнулся сразу, горячо, искренне:
— О чем речь, Кумир! Конечно, нет.
И мы замолчали, глядя друг на друга. Такая вот старая детская игра: кто кого переглядит, кто первый моргнет.
А Перевалов набулькал по трети стакана из красивой бутылки и один пододвинул мне.
— Держи! Давай примем.
— Сначала скажи, что за повод.
— Эх, не терпится тебе! Ладно. — Он стал серьезным, этот лысоватый, сорокалетний уже человек. Поправил очки на носу, прищурился. — Дело в том, Андрей, что я отбываю на материк, в родной Воронеж. А тебе хочу предложить занять мое место. — И прищурился еще сильней, вглядываясь, как я прореагирую.
— Ясно, — первым нарушил я паузу. — Ну, что ж, Молва. Ничего нового. Ты не изменился за эти годы, все такой же.
— Да и ты, старичок, все такой же! — подхватил он мою мысль самым радостным голосом. Всегда был интеллектуалом высоколобым, таким и остался. Тебе дело предлагают. От души, по-приятельски. Через год тачку бы имел, счет в банке. Но тебе западло общаться с такими, как я. Думаешь, не вижу?
— Ума тебе не занимать, — похвалил я его. Дрожь какая-то начала меня бить. — Шел сюда как на голгофу. Ну, ладно! Продолжай свой бизнес. Глядишь, кто-нибудь прихлопнет тебя с твоими миллионами. Свои или чужие. — Я отстранил его и вышел в прихожую. Но тут же голос Яхнина догнал меня:
— Андрюха! Погоди!
«Андрюха». Это что-то новое. Я повернулся к нему. Он стоял в дверях кухни, широко, белозубо улыбаясь, русобородый, рослый красавец в небесно-голубой пижаме.
— Где твой школьный юмор, старичок, а? Порастерял, что ли, в жизненных передрягах? Я же пошутил, Андрюха. Пошутил я. Жестоко, конечно, но, сам понимаешь, мы ребята крутые… Шагай назад! Сейчас принесу твою капусту.
— Не надо. Обойдусь, — сказал кто-то моим голосом.
— Брось, не дури! Я купюрами подтираюсь, а тебе действительно надо, я же вижу. Где еще возьмешь! Ты же, старичок, не от мира сего. Таким, как ты, сейчас в пору вешаться. Подожди чуток. Я мигом! — И он прошагал мимо меня в одну из комнат, высокий, светловолосый, решительный хозяин этой жизни. А я, мгновенно вспотев, вернулся на кухню, да, вернулсся — сука, недоносок, падла безвольная.
— Бредишь ты, что ли? — спросил я Перевалрва. Меньше всего ожидал я такого разговора.
Но он не бредил. Он был рассудителен, трезв и серьезен. Это не розыгрыш. Его отъезд на материк — дело решенное. В Воронеже у него отец, который давно зовет его к себе. Жена тоже агитирует податься в те края. Квартиру здешнюю он уже приватизировал и намерен продать.
С работой в Воронеже все оговорено: будет заниматься памятниками культуры. А что касается моей кандидатуры на его должность редактора, то с директором издательства Неклессой была беседа. Он не возражает. Больше того, двумя руками «за». Журналистская репутация у меня хорошая, сам человек положительный, непьющий… ну, скажем так: малопьющий, ухмыльнулся Перевалов… примерный семьянин, а самое главное — автор, автор отличной повестухи. Следовательно, причастен к литературе, что дает мне моральное право занять вот это самое кресло, вот в этом самом кабинете.
— В деньгах ты, пожалуй, на первых порах не выиграешь, Андрей, это я сразу предупреждаю. Но! — Перевалов поднял палец. — Есть идея о коммерческом издательстве. Основные бумаги уже оформляются. Доведешь дело до конца и станешь един в двух лицах: директор собственного издательства и редактор этого. Чем не перспектива? — как-то беспокойно вопросил он.
— Бред, — сказал я и выпил сладковатую «Ламбаду».
— Почему бред? — прицепился ко мне Перевалов и опорожнил стакан.
— Ни с какими коммерческими структурами я не хочу связываться. Гиблое дело. Неспособен. А твое место… чем оно лучше моего?
— Здесь спокойней, интересней. Нет нашей ежедневной потогонки. Неклесса, ты знаешь, мужик покладистый, тебя ценит. Соглашайся, Андрей.
— А что с моей книжкой? Единственное, что меня сейчас волнует, это она. Я в долгах, как в шелках. Сижу, можно сказать, в долговой яме. Впору пуститься в бега.
— Вот-вот, о чем я толкую! — оживился лысоватый редактор. — Я о твоей книге и толкую.
— В смысле? Что-то прояснилось?
— Пока, увы, нет, — огорчился он, закуривая. — Этот спонсор, ну я тебе говорил, тянет резину. Вчера опять беседовал с ним. Говорит, что заключает крупный контракт. Если заключит, то обещает подкинуть пару миллионов. Без него мы, сам понимаешь, не потянем твой бестселлер. Но, честно говоря…
— Что?
— Надежды на него мало, Андрей. Что-то он крутит. Но! — опять вскинул Перевалов палец. — Сядешь в это кресло, и судьба твоей книги будет в твоих руках.
— Опять бредятина.
— Почему?
— Я не умею проталкивать сам себя. Мог бы давно понять. Эх! — вырвалось у меня как-то отчаянно.
— Погоди. Давай выпьем. Погоди.
— Неужели вы не можете хотя бы авансировать меня?
— Андрей, наивная душа, из каких средств? Мы же нищие сегодня. Тоже в долгах. На нас давят типографии. Смотри, что выпускаем, чтобы поправить дело! — Он схватил со стола верстку. — Видишь? Некто Поллак. «Все красавицы по ранжиру». Сексуально-детективный роман. Дикая пошлятина. Антилитература. А что делать?
— Вы вообще прогореть можете? — угрюмо спросил я.
— Можем. Не исключено, — честно признался Перевалов.
— И ты мне, отцу семейства, предлагаешь занять место с перспективой стать безработным?
— Погоди, погоди! — закричал он. — Ты утрируешь… погоди!
А Яхнин не заставил себя долго ждать, не стал наслаждаться моими мучениями… а мог бы! Он стремительно появился на кухне и стал по-деловому выкладывать на стол пачки в банковской упаковке, приговаривая:
— Вот, считай. Десять штук. Еще двадцать. Еще двадцать. Еще десять штук. Итого — сто. Хватит? Или еще подкинуть?
— Хватит. Дай бумагу, напишу расписку, — как-то смутно проговорил я.
— Кончай! Верю на слово, — отмахнулся Яхнин.
— Сколько процентов возьмешь за два месяца? — в той же темноте спрашиваю я.
— По минимуму. Двадцать. Устраивает?
— За каждый месяц по двадцать?
— Ну-у, старичок, столько ты не потянешь. Вернёшь сто двадцать штук. Отыграюсь на ком-нибудь другом.
— Ладно. Беру. Спасибо, Молва.
— Рад выручить, старичок. Все-таки мы бывшие однокашники. Но Тоньку Абрамову я тебе до сих пор не простил, — заулыбался он. — Трахнул ты ее на выпускном?
— Не помню.
— Брось! Трахнул, конечно. Ты хваткий был. А как сейчас?
— Завязал.
— Со спиртным завязал и с этим тоже? — подивился Яхнин. — А то смотри, можем заняться прямо сейчас. Там у меня две девицы ебкие. Позвони на свою сраную службу, наплети что-нибудь и оставайся, а?
— Нет, не могу. Дела… семья.
— Жаль, жаль! Все-таки, Кумир, ты не тот, что прежде. Нет в тебе старого запала. Эй! Куда ты их суешь? — закричал он, видя, что я рассовываю пачки по карманам куртки.
— Кейса, что ли, нет?
— Нет. Не обзавелся.
— Погоди, у меня валяется где-то старый. Потом вернешь. — И он опять стремительно исчез из кухни.
«Ну, Яхнин, думал я, спускаясь по лестнице с третьего этажа, поизмывался ты вволю. Молодец. Мир твоему дому».
Между тем редактор Перевалов разгорячился. «Ламбада», что ли, на него подействовала, как и на меня?
— Я сказал, Андрей, что мы можем прогореть, но это не значит, что обязательно прогорим, понимаешь! Есть и светлые моменты. Вот малый Совет обещает подбросить нам деньжат. Должники имеются. Книжки в производстве. А если ты доведешь до ума коммерческое издательство…
— Оставь, — безобразно скривился я. — Мне нужны деньги сейчас, немедленно. Хотя бы тысяч пятьдесят на первый случай. Пошарь по сусекам, Сергей.
— Андрюша, дорогой, — взмолился он. — Вот мой сейф. Проверь. Там деньгами не пахнет. Вот если продам свою квартиру, тогда… Но это еще не сегодня и не завтра. Сам, ей-богу, в долгах.
— А Неклесса, а бухгалтерия? — не отступал я безжалостно и настырно.
— Неклесса всем хорош, но мужик зажимистый. Личных денег в долг не дает принципиально, даже мне. Бухгалтерия только что оплатила аренду, телефоны, бумагу. Пуста.
— Что, выходит, мне в петлю пора, — мрачно и устало сказал я.
— Неужели так прижало?
— Да. Большой долг висит.
— Твои еще не вернулись?
— Куда им возвращаться? На пепелище? И на что лететь? Там, по крайней мере, сыты. А здесь…
— Давай выпьем, — поспешно сказал Перевалов, хватаясь за бутылку.
— Давай выпьем. Но это не решение проблемы.
Тогда Ольга открыла мне дверь и сразу кинулась на кухню, где у нее что-то подгорало. Я стащил туфли, куртку и прошагал следом за ней.
— Куда ты ходил, — спросила она от плиты, — в такую рань? Я думала, ты на работу пошел… нет?
Маленькая, пышноволосая, бледнолицая, в затрапезном домашнем халатике. Боль и жалость меня пронзили, но отвечал я бодрым голосом:
— За деньгами, представь, ходил. Гляди-ка, сколько притащил. — И, открыв яхнинский «дипломат», стал выкладывать на кухонный стол пачку за пачкой со старательной неспешностью.
Ольга взглянула краем глаза и обомлела. Рот приоткрылся, глаза застыли. Рука с ложкой перестала помешивать в кастрюле.
— Го-осподи… — прошептала она с каким-то ужасом. Я засмеялся: — Что, впечатляет?
— Господи… откуда столько?
— Здесь сто тысяч. Сто штук, как выражается мой кредитор.
— Господи… глазам не верю. Кто он?
— Некий коммерсант. Ты его не знаешь. Кончай варево. Садись. Считай. Планируй.
— Слушай… подожди.. — Она все еще не могла опомниться. — А как отдавать?
— Это не твоя забота. — Я подошел к ней и поцеловал в нежно пульсирующий висок. — Твоя забота, как их со смыслом потратить. Сумеешь?
Моя жена тряхнула головой, словно отгоняя одурь. Страшная радость вдруг промелькнула в ее глазах и на губах.
— Смеешься? — сильным голосом закричала она. — Сумею ли я? Да я их в пять минут могу спустить!
Я прикрыл ей рот ладонью.
— Тише, Машу разбудишь. Как она?
— Ничего, спокойная. Спит.
— А ты как? Температура как?
— Хорошая. Нормальная.
— Молодец. Умеешь выздоравливать. Чаю бы мне крепкого. Этот мой кредитор поиздевался от души. Подонок еще тот.
— И ты терпел, бедный?
— А что оставалось делать?
Она бросила ложку, кинулась ко мне и, крепко обняв, поцеловала в губы. «Люблю», — услышал я ее шепот.
Конечно, тут же заплакала дочь в комнате, словно мгновенно почувствовала, что мы на несколько секунд о ней забыли, оставили ее сиротой… Ольга рванулась было бежать, но я удержал ее со словами «я сам» и поспешил на этот тонкий, жалобный зов.
«Ламбада», женский, в общем-то, напиток, взяла свое и мне, растренированному, ударила в голову. Но это был не светлый удар, не воспарение, а тяжелое приземление в какой-то дикой глухомани.
— Что за жизнь, Сергей, — прохрипел я, — объясни мне? Можно так жить?
— Да уж, не говори! — откликнулся он с румянцем на впалых щеках. — У меня жена работает, дети, считай, взрослые, и то бедствуем. А тебе каково!
— Я представлял, что при коммуняках был полный мрак. Но теперь новый мрак, новая несвобода. Тогда давили обкомы, райкомы, цензура, а теперь сволочные деньги. Они, суки, не дают мне жить как могу и хочу, понимаешь? Денежная сучья диктатура, согласен?
— Все так, Андрей. Раньше получал свои сто сорок рэ и вроде хватало. Сейчас нужно рвать, манипулировать, что-то придумывать, чтобы выжить. А у меня коммерческие способности нулевые, как и у тебя. Я в эту систему не вписываюсь. Но…
— Что «но»? — вдруг вызверился я. — Хочешь сказать: свобода, бля, свобода? Верно, пишу что хочу. Но раньше меня бы не издали из идеологических соображений, а сейчас я целиком и полностью завишу от какого-то долбаного спонсора! Кто он такой?
— Молодой парень. Делец новой формации. Но в литературе, конечно, не тянет, — вздохнул Перевалов. Снял очки и, близоруко щурясь, стал протирать их платком.
— Вот и спрашивается: за что боролись? Меня из университета поперли за крамолу. Я и сейчас коммуняк ненавижу люто. Но и этих новоявленных нуворишей тоже! Они из иного измерения, а лезут мне в душу. Они духовную жизнь подмяли, не чувствуешь?
— Чувствую, конечно.
— И эти депутаты из парламента — тоже корыстные падлы!
— Согласен. Но…
— Понимаю, что хочешь сказать. Первый этап. Начало. Дальше будет легче. Но у меня маленькая девчонка. Я ее должен кормить сегодня, а не в светлом будущем. А для этого надо ссучиться, пуститься во все тяжкие. Не так?
— Да, выкручиваться надо, — опять вздохнул хозяин кабинета.
— У-у! — застонал я. — Растравил ты меня. Давай скинемся, возьмем еще. Хочу нажраться.
— Давай. Но давай без истерик, ладно? — помаргивая, отвечал редактор Перевалов.
Я вышел из издательства, направляясь в ближайший «комок».
И поспешно вошел в нашу спальню, где в кроватке плакала моя Маша.
— Ну, что ты? — склонился я над ней. — Что случилось, малышка?
И уже поднимал на руки, целуя в горячий лобик, и уже привычно, склонив к ней лицо и нежно что-то приговаривая, расхаживал туда-сюда по комнате между окном и дверью, мимо тахты и бельевого шкафа, по проверенному пути… Она затихла, опять доверчиво уснула. Я осторожно положил ее в кроватку и вернулся на кухню.
Ольга сидела за кухонным столом и тасовала, раскладывая по кучам купюры разного достоинства, словно раскладывала пасьянс. Губы ее шевелились.
— Это сюда… это сюда… — как в бреду, приговаривала она. Вскинула на меня глаза. — Ну что?
— Температурит еще. Я звонил из автомата в поликлинику. Врач к двенадцати придет.
— Ага. Хорошо. Сколько мы должны Савостиным?
— Пять.
— А Ершовым?
— Три вроде бы.
— А в редакции ты сколько должен?
— Об этом пока забудь. Сам отдам с получки. — Я повалился на табурет рядом с ней. — Ты сразу отложи на дорогу. Тридцать тысяч в один конец.
— Господи, такие деньги за билет… ужас какой-то! Чтоб он пропал, твой Ельцин! — вдруг вспылила Ольга.
— Не пори чушь. Не скули. Не будь бабкой-пенсионершей.
— Но это же грабеж!
— Подумай лучше, что себе купить из одежды. Теща меня не поймет, если приедешь полной оборванкой. Проклянет.
— Господи, а то она не знает, как мы живем! Мне ничего не нужно. А вот ты жутко обносился. Туфли совсем развалились.
— Не вздумай купить, — жестко сказал я. — Запрещаю. Развалятся окончательно, сплету лапти. Или в домашних шлепанцах буду ходить.
— Ох, Андрей, еще за квартиру надо заплатить, за свет. За три месяца.
— Заплачу. С зарплаты.
— Послушай… — Она жалобно сморщилась. — А может, нам все-таки не надо лететь?
Я сквозь зубы выругался.
— Какого черта! Опять! Мы же решили.
— А как ты тут будешь один? Я же там изведусь.
— Не изведешься. А я перебьюсь. Мне одному много не надо. Хлеб, заварка, курево. Все!
— Я ведь только ради Машеньки, ты понимаешь? Мама все-таки врач. И вообще…
— Что вообще?
— Я подумала… Ты только не сердись, ладно? Может быть, уговорить маму, чтобы она хотя бы год понянчилась с Машей? А я бы вернулась и… — Она не договорила под моим взглядом. Глаза ее вдруг оплыли слезами. Я поспешно притянул ее к себе и поцеловал в щеку.
— Помалкивала бы! Какая из тебя кукушка! Ты же без Маши дня не проживешь.
— Да… правда.
— Запрещаю об этом думать.
— Хорошо… больше не буду.
— Гони деньги на билет. Паспорт гони, — потребовал я.
— Как? — испугалась Ольга. — Ты сегодня хочешь купить?
— Да. На ближайшее число. А то не заметим, как промотаем.
Она глубоко вздохнула, подчиняясь, и опять взялась за свой денежный пасьянс, а я, пристроившись на углу стола, пил горячий чай с пряниками — и то ли он слишком горячий, то ли слишком крепкий… какие-то спазмы перехватывали горло. Не мог я смотреть на свою жену, на эту нищенку, внезапно, на краткий миг разбогатевшую. Ничтожеством себя ощущал. «Кумиров, — думал, — ничтожество, неужели не можешь обеспечить своим близким счастливую, спокойную, неунизительную жизнь?» И с ненавистью смотрел на хрустящие бумажки в руках Ольги, эти зримые символы благополучия и всевластия.
— Вот, — вздохнула она. — Это на билет.
— Давай еще на продукты, — очнулся я, словно из глубины всплыл на поверхность.
— Сколько?
— Почем я знаю, сколько! Ну, пару тыщ. Ну, три. Ну, четыре.
— Хлеба не забудь купить.
— А еще что?
— Ну, может быть, картошки. У нас кончилась. Масла нет. Луку. Молока.
— Яйца? — подсказал я. — Курицу-курву? Колбасу?
— Да, пожалуй. Позволим себе, да?
— И бутылку пива для главы семейства, — сказал я вставая.
— Конечно! Хоть две.
Я вышел из кухни чуть не со слезами на глазах — до того растравили, разволновали эти нищенские подсчеты…
В «комке» меня обслужили быстро, вежливо, на высоком уровне. Затем пошла черная гульба, давно позабытая, с приглашением приятелей из телерадиокомитета и забредших в издательство авторов.
— Кумиров, признайся, ты вчера крепко поддал? — проницательно спросила бесподобная Радунская на следующий день. Была она в какой-то новой кофточке, нарядная, как елочная игрушка.
— С чего взяла? — огрызнулся я.
— Думаешь, не видно? Не ходи по кабинетам, не дыши. А то нарвешься на шефа.
Какая заботливая, надо же! Может, в самом деле пригласить ее в гости, чего она упорно добивается? Но меня лишь передернуло от этой мысли. Никакого плотского вожделения… странно, очень странно. Импотенция, подумал я с кривой усмешкой, на почве авитаминоза и неврастении. Впору устраиваться на должность евнуха в какой-нибудь публичный дом.
И скрипнул зубами от какой-то тяжелой ненависти к себе. И опять взялся за правку статьи вице-губернатора господина Мизгирева. Мысли мои, наверно, зримо ползали по моему искаженному лицу, ибо приметливая Радунская сочувственно вздохнула:
— Тяжело тебе, бедняжке. Чаю, что ли, заварить?
— Завари. И затопи баньку по-белому.
«И займи тысяч семьдесят-сто, — додумал я. — Или раздобудь мне цикуты. Или цианистого калия, великолепного успокаивающего средства». А также:
«…желательно включить в состав конкурсных объектов семь открытых газонефтяных месторождений: Одоптинское, Пильтун-Астохское, Чайвинское, Аркутун-Дагинское, Луньское, Киринское, Венинское…»
И Кумировское, смутно подумал я. Кумировское тоже. Оно богато запасами адреналина, желчи, тоски… а если бурить поглубже, стародавние пласты, то, может быть, обнаружатся и природные драгметаллы, вроде золотишка доброты или алмазиков любви к ближнему… В былые годы, школьные и студенческие, тот Кумир был весьма компанейским малым, заводилой своего кружка, где смех и веселье не смолкали, хотя и был тот кружок объединен страшным по тем временам словом «нонконформизм», политизирован в высшей степени… но как же легко и безбоязненно летели на его свет девочки-комарики, девочки-пестрокрылые бабочки! А Кумир и его приятели радостно, конечно, раскрывали свои объятия, привечали всех. Золотые, безмятежные деньки в глухое, тупиковое время! Ау! где оно?
Сказал бы кто-нибудь тогда, что щедрый сеятель Кумиров, вольный стрелок, бесшабашный прожигатель своей единственной жизни, уже вскоре, не достигнув и тридцатилетия, сменит начисто свою сущность и оболочку, да разве бы я поверил? Никогда. Никогда не думал, что смогу стать таким семьянином, таким единолюбцем, таким беспокойным мужем и отцом. У нынешнего Кумирова даже сны стали исконно-посконно домашними, не воспаряющими, как прежде, в заземельные выси и веси. А кто виноват? Ты, чудо-жена. Ты, милая малышка.
— Вот, пей! — подносит мне, как официантка, чашку на блюдце нарядная Радунская. — Горячий, сладкий.
— Спасибо, Вика. Добрая ты все-таки.
— Иди ты!.. — отмахивается она, не веря ни в мою искренность, ни в мою благодарность.
Ладно, Бог ей судья. И мне тоже. И Бог судья вице-губернатору Мизгиреву, который, судя по его статье, предпочитает японскую компанию «Садеко» американскому консорциуму МММ. За его статьей, за этими машинописными страницами так и просвечивают большие деньги, огромные кипы зеленых купюр, миллионно размноженные Авраамы Линкольны… А мне бы хватило… сколько же? Да всего каких-нибудь — ха-ха! — полторы сотни этих самых долларов!.. Ох как поразился бы генеральный директор Яхнин, когда, войдя к нему в кабинет, именно в кабинет, я выложил бы перед ним эти драгоценные бумажки, зеленые, как бы пропитанные весенним, буйным хлорофиллом!
«Вот долг, Молва. С процентами. И не попадайся мне больше на дороге».
«А что так, Кумиров? — удивился бы он. — Чем не угодил?» «Кровопийца ты, Молва. Вообще, гад порядочный». «А-а, вот как ты заговорил! Эй, охраннички мои! Выкиньте эту падлу вон!»
Усмехаясь своим мыслям, я спрашиваю В. Радунскую:
— А закурить не найдешь для полного счастья?
Созрел то есть для первой похмельной сигареты. А сам купить хотя бы самых дешевых, хотя бы семидесятирублевых, смертоубийственный «Рейс», не в состоянии после вчерашнего кутежа… Я вдруг захохотал.
— Ты чего? — испугалась Радунская. Молодая, нарядная, блистательно намакияженная.
— Да так. Радуюсь жизни.
— Твои не прилетели?
— Вчера спрашивала. Нет.
— Слушай, Андрей, совсем забыла. Хочешь подработать?
— Каким образом? Продать партию икры?
— Какой икры! Чушь говоришь. Ты знаешь, что Малышко пишет стихи?
— Какой Малышко? Что за классик?
— Ну, не бесись! Малышко Лев Львович. Бывший зампред исполкома. Сейчас ведает внешнеэкономическими связями. Я у него вчера брала интервью.
— И он тебя изнасиловал в кабинете?
— Кумиров, хам, не хами. Ему шестьдесят с хвостиком.
— Старые функционеры нетленны. Тем более с хвостиком.
— Совсем обалдел! — кричит она. — Будешь слушать или нет?
— Говори, но внятно.
— Ну вот, слушай. Брала у него интервью.
И Радунская многословно излагает. Суть такова. Этот Малышко пишет давным-давно тайком стихи. И вот сейчас решил издать за свой счет сборник. Нашел какого-то издателя. Все обговорил. Но издатель хочет, ну, в порядке страховки, что ли, чтобы в сборнике было предисловие. Хвалебное желательно. Вот Малышко ищет человека, который бы это предисловие написал. Он заплатит, конечно. Он богатый. Понятно?
— Понятно. А чего ты сама не взялась?
— Я? А я понимаю что-нибудь в стихах? Я в них ни бум-бум.
— Зато в сексе специалистка.
— Заткнись!
— Сколько он заплатит?
— Не знаю, не спрашивала. Возьмешься?
— Звони. Отрекомендуй меня. Потом дашь трубку.
— Вот так бы и говорил! А то хамишь, совсем обнаглел. — Радунская взялась за телефон.
…А не я ли в студенческие годы был лихим прожигателем денег? Стипендии, конечно, не хватало, но отец, тогда еще не инфарктник, не инвалид, а большой начальник в рыбной промышленности, подкидывал ежемесячную субсидию — и сгорала она быстро, как в огнедышащей топке. В общежитии знали: Кумиров — богатенький, и тянулись чередой в нашу комнату, чтобы перехватить в долг. Эх, лихие были, гулдевые, кабацкие дни! Что-что, а жмотом я никогда не был и никогда не ценил, как некоторые экономы, бумажных красноликих Ильичей.
А теперь вот слушаю, как Радунская каким-то елейным голоском изливается по телефону.
— Нет, Лев Львович, он еще не член Союза писателей. Но у него книжка выходит. И в стихах прекрасно разбирается, и рецензии здорово пишет. Да вы сами поговорите с ним, пожалуйста! — и протягивает мне трубку, шепча: — Ну, говори. Да повежливей.
Я беру трубку, алекаю.
— Здравствуйте, — слышу густой начальственный голос. — Как вас зовут?
— Вообще-то Андрей.
— А по отчеству.
— Вообще-то Дмитриевич.
— Ну что, Андрей Дмитриевич, возьметесь прочитать мои опусы?
— В принципе да, — отвечаю. — А какой объем?
— Шестьдесят семь стихотворений и поэма.
— А как называется предполагаемая книжка?
— «Далекие причалы».
Делаю вид, что не разобрал.
— Как?
— «Далекие причалы», — основательно повторяет автор.
«Очень оригинально, — мелькает у меня мысль. — Почти «Бурный поток». А вслух говорю:
— Морская, значит, тематика?
— Да, я ведь в море ходил в свое время, — гудит бас. — Но там обо всем понемножку. И о любви тоже, — пускает августейший смешок.
— И о любви тоже? Это хорошо. Рукопись у вас?
— Рукопись в издательстве. Они торопят.
— А что за издательство?
— «Риф». Знаете такое?
— Не слыхал.
— Новое издательство, с перспективами. Запишите адрес, а я туда позвоню, вам выдадут.
— Ну что ж. Диктуйте. Только…
— Да?
— Хочу предупредить, что рецензист высокооплачиваемый.
— Это меня не пугает.
— А какой объем предисловия?
— Ерунда. Две-три странички на машинке.
— Это не ерунда, — поправляю я автора-начальника. — Словам должно быть тесно, а мыслям — просторно.
— Само собой! Я понимаю. Десять тысяч вас устроит? — в лоб спрашивает он.
— Пятнадцать звучит лучше, — отвечаю я. — А за двадцать получите конфетку.
И слышу густой смех.
— Ха-ха-ха! Сразу за горло берете.
— По-моему, цена божеская.
— Ладно, посмотрим! Надо еще почитать, что вы накропаете.
— И мне надо почитать, что вы накропали, — в тон отвечаю ему. — Не исключено, что запрошу вдвое.
«Сейчас пошлет на х…», — думаю, но стихотворец опять густо смеется.
— Молодец! Люблю деловых людей. Дня за три управитесь?
— Могу и за два. Но тогда доплата за скорость.
— Ха-ха-ха! Хватка у вас крепкая. Ну, валяйте! Дайте знать, когда будет готово, — завершает он разговор.
Я кладу трубку. Радунская смотрит на меня с каким-то восторженным испугом.
— Ну, ты даешь! Как ты с ним разговаривал!
— Как?
— Нагло.
— Думаешь? А хочешь частушку? Написана на Шикотане. Получше, наверно, чем его стихозы.
— Пошлость какая-нибудь?
— Нет, изыск. Звучит так. «Моя милка-шикотанка — дура, а не лечится. Говорит, что лесбиянка, а сама минетчица». Ну как?
Вместо того чтобы залепить мне оплеуху, Радунская, сверкнув глазами, выскакивает из-за стола и выбегает из кабинета. Наверняка, думаю я, помчалась к своей подружке в машбюро, чтобы процитировать ей этот поэтический шедевр.
Не так, не так! Я хотел бы… Чего бы ты хотел, мертвечина? Зачем вообще пишу? Для какого-такого читателя? Нет его и не будет. Но в квартире тягостная тишина и запустение, на душе мертвая зыбь, и эти страницы хотя бы на краткое время отвлекают. Не ходить же по комнате туда-сюда, не перебирать же Машины игрушки — тут поневоле зарыдаешь, — не пересматривать же мои и Ольгины фотографии — зверем завоешь… А немногочисленные мои приятели… У них семейные дела и заботы, им не до Кумирова. А пить не на что, и вообще боюсь впасть в страшный запой. А читать не могу — смысл ускользает и текст разобрать так же трудно, как по пеплу сгоревшей бумаги.
«Любимая! — напишу. — Уговори свою мать не выгонять тебя и малышку на улицу. (Такая, значит, шутка!) В издательстве пока глухо, но я обдумываю другие варианты. Всевышний, надо полагать, еще не махнул на нас рукой. Возможно, подкинет плодотворную идею (или чемоданчик с деньгами на улице). Снитесь вы мне, — напишу, — каждую ночь. Целую вас. И Клавдию Ильиничну могу поцеловать, если позволит».
Что-нибудь в этом роде напишу, а потом, перед сном, приму элениум или реланиум из домашней аптечки и, помучившись, уйду, как в темную бездонную воду, в сон тяжелый.
Отвратительные опусы Л. Малышко я прочитал на службе, не делая никаких пометок на полях. Издание за счет средств автора. Предполагаемый тираж 5 тысяч экземпляров. Господи, спаси и помилуй!
Пока я читал, Вика Радунская то и дело поглядывала на меня. Видимо, на моем лице было такое неприкрытое отвращение, что она, наконец не выдержав, закричала:
— Да что с тобой? Ты рвотное, что ли, принимаешь?
Я полноценно выматерился. Радунская ахнула. Открытый мат у нас все-таки был не принят.
— Извини, Вика. Но ты мне такое дерьмо подсунула.
— Я подсунула? Я? По-моему, ты сам согласился.
— А почему не сказала, что этот сучара заядлый сталинист?
— А мне откуда знать? Он сказал, что лирика…
— Ага, лирика. «Маразм крепчал» — вот что это такое. Дай закурить, Христа ради.
— Возьми. Но ведь хотят же напечатать.
— А им-то что! Он платит, они публикуют. Свобода слова, бля.
— Кумиров, что я слышу! Ты против свободы слова?
— Не будь дурой, Радунская. Я против дерьма. На такую блевотину нужна свирепая цензура. А в этом «Рифе» сидят деляги. На хрена им литература! Они башли считают.
— Ну, знаешь, у каждого все-таки свой вкус…
— Ох, помолчи! А то опять заматерюсь, — безобразно скривился я. Она и правда замолчала. Но лишь на минуту. А потом сострадально спросила, глядя, как я складываю страницы в папку:
— И что ты решил? Будешь писать?
— Сейчас, разбежался… Какой у него телефон?
— Только не хами ему, пожалуйста.
— Не обещаю.
Она назвала номер, и я, пока не остыл, сразу набрал его. Ответил сам автор без посредничества секретарши.
— Кумиров из редакции, — сказал я.
— А, вы! Приветствую. Очень рад, — прогудел голос. — Неужели уже готово?
— Рукопись прочитал.
— Прекрасно! Вот что значит газетчики. Оперативно работаете. Ну, что скажете? — спокойно, без малейшей тени волнения прогудел он.
— Что скажу? — переспросил я. — Моя цена сто тысяч.
На мгновение в трубке наступила тишина. Затем я услышал:
— Не понял. Шутите, что ли?
— Нет, не шучу. Предисловие к такому сборнику стоит сто тысяч, — жестко пояснил я.
— Опять была пауза и вдруг он отрывисто хохотнул:
— Это что ж… вы так высоко оцениваете мои стихи?
— Считайте, что так.
— Спасибо, спасибо. Польщен. Но сумма нереальная, дружище. За издание я заплатил ненамного больше.
— Это ваши проблемы.
— Как то есть? Вы серьезно, что ли? — посуровел голос.
— Вполне.
— Сто тысяч за пару страничек?
— Моя репутация стоит дороже.
— То есть, — рявкнул он.
— То есть рекламировать ваши стихи — это рисковать своей репутацией. Вам никто не говорил, что они графоманские? Да еще с явным политическим уклоном. — Я услышал, как тихонько ахнула Радунская.
На том конце провода этот Малышко угрожающе проговорил:
— Вот вы, значит, как считаете?
— А вы нет?
— Я с Пушкиным или Маяковским себя не равняю. И вообще к профессионалам не причисляю. Но я слышал добрые отзывы понимающих людей.
— Не верьте им. Лгут. Или ничего не смыслят. Я могу рискнуть, сделать вам паблисити. Но это почти уголовщина, за которую надо хорошо платить, понимаете?
Он взревел:
— Вы что, пьяны там?
— Трезв. Не на что пить.
— Кто вы, собственно, такой, что запрашиваете супергонорар? Рядовой журналист, начинающий писателишка. За двадцать тысяч мне любой профессионал из местного Союза…
— Вот и обращайтесь туда. Но я думаю, что вы уже обращались и получили отлуп.
— За сто тысяч я могу нанять пяток таких, как ты, щелкоперов! — заревел он.
— Ну, попытайся, валяй! — тоже перешел я на «ты» в страшной злобе.
— Стихи ему мои, видишь, не нравятся! А за сто тысяч, значит, можно и похвалить, продажная душа? Так получается?
— Ребенка надо кормить, жену! — заорал и я. — А то и за миллион не взялся бы!
— Ах ты, педераст нищий! — вдруг как-то совсем по-тюряжному рявкнул он. — Рукопись верни!
— В сортире ей место, сталинист долбаный! — взбесился и я, швыряя трубку. С ужасом и каким-то восторгом глядела Радунская, как я дрожащими руками закуриваю сигарету.
— Знаешь что, Андрей, — тихонько проговорила она. — Ты не спеши со своим долгом. Я подожду.
…какая благородная Радунская!
…какой мужественный Кумиров, отказавшийся от двадцати «штук» из принципиальных соображений!
…какая неприютность и нищета в июньской нашей природе! Непрерывные холодные дожди, слякоть, северный ветер. Тучи висят над самыми сопками. Где вы, милые, жизнестойкие одуванчики? Нет вас в этом сезоне, сгинули.
Сообразно сводкам погоды с их неблагоприятным медицинским типом, исключительно неблагоприятны новые цены на продукты. Булка дарницкого хлеба — 60, белого — 80, батон — 162, пакет молока — 98. Микроволновая печь, блистающая белизной… Ну и так далее.
Редакционные кредиторы, естественно, не терпят отсрочки, все, кроме благородной Радунской. В день зарплаты, совмещенной с гонораром, я обхожу их по списку и раздаю по мелочи — кому тысячу, кому полторы. Затем отправляюсь на главпочтамт и отправляю 20 тысяч некой Кумировой Ольге Михайловне. Не могу допустить, чтобы она жила исключительно на маминых харчах.
Затем трехминутный телефонный разговор.
— Ну, здравствуй. Как вы там?
— Андрюша, милый, здравствуй! Все хорошо. Как ты?
— Я в порядке. Веду праведный образ жизни. Много сплю, ем. Разжирел.
— Ну, перестань! Ну, правда?
— Все хорошо, Оля, кроме вечной проблемы. С книжкой пока глухо.
— А как же с тем большим долгом?
— Терпит, терпит. Потерпи и ты. Поживите еще там.
— Да, конечно… Но я измучилась. Так скучаю!
— А я, по-твоему, нет? Каждую ночь вижу тебя во сне и… это самое… поллюцирую.
— Сумасшедший! Что ты говоришь! Телефонистки…
— Плевать. Как Машенька?
— Знаешь, по-моему, ей здесь хорошо. Ездим в лес, загораем. Аппетит у нее хороший. Уплетает все подряд.
— Ну и отлично. Ради этого и ехали. А здесь дожди, холодрыга. Тепла еще не было.
— Бедный! В чем ты ходишь? Ты купил себе что-нибудь на ноги?
— Купил, купил, — вру я.
— Что?
— Ботфорты.
— Ну, перестань! Купил или нет?
— Купил, сказал. Суперкроссовки.
— Врешь. Слышу, что врешь.
— Не обижай, Кумирова. Когда я тебе врал? Лучше скажи: мать еще не гонит со двора?
— Не говори глупости! Но вообще-то, конечно, тесно. Брат женился.
— Да? И привел жену к вам?
— Ну да. Она студентка.
— Это плохо. Слушай! Выслал тебе немного деньжат. Скоро получишь.
— Зачем?! Зачем ты это делаешь! У нас здесь все есть. Я же тебе писала.
— Ладно, помалкивай. Купи что-нибудь Маше, себе. На двадцать тысяч не размахнешься.
— Нет, ты полоумный! Долгов сверх головы, а ты…
— Молчи, Кумирова. Кончаю разговор. Денег стоит. Давай целуй скорей.
— Андрюша, подожди… секунду! У тебя правда все хорошо?
— Повторяешься. Да, да!
— Ты правда соскучился и ждешь нас?
— Вою без вас.
— И никаких глупостей не делаешь?
— О чем ты? О любовницах? Ну, завел небольшой гарем. Тебе-то что? Люблю-то тебя, а не их.
— Дурачок. Милый. Любимый. Целую.
— Крепче целуй.
— Крепко целую.
— Машу поцелуй за меня. Забыла, поди, родителя… эх!
— Помнит, помнит. Вызывай нас скорей.
— Сразу, как распогодится, — обещаю я.
…и сообразно логике событий издатель Перевалов сообщает, что очередной потенциальный спонсор пошел на попятную. У него внезапные финансовые проблемы. Печально, Андрей, но не все еще потеряно. Кажется, появился новый вариант. Некий предприниматель, кореец Ю. заинтересовался и… Словом, не надо отчаиваться, понимаешь?
— Что ж тут не понять? Козе ясно, что жизнь, подлюга, состоит из ожиданий и надежд.
— Да, так получается. А насчет моего предложения не надумал?
— Менять шило на мыло? Нет.
— Жаль, жаль. Заглядывай.
…и сообразно логике событий мой шеф Доронин А. Я., мрачный мой недруг, отказывает в 50-тысячной ссуде. Он показывает мне финансовые документы. Он скорбит, что тираж газеты падает, что типографские расходы растут, а рекламодатели предпочитают наших конкурентов.
— А компенсацию за отпуск досрочно нельзя получить? — спрашиваю я, исподлобья глядя на него, но он лишь хмурится, пожимает плечами.
— Извини, Кумиров. Ничем не могу помочь. Очередникам задерживаем выплату. — И за этим отказом я угадываю его давнее желание вообще расстаться со мной, инородным, трудно управляемым сотрудником.
…и сообразно логике событий вдруг начисто отказывают обе конфорки домашней электроплиты, наглухо забивается раковина на кухне, безнадежно перегорает старый телевизор. Затем на перекрестке около Дома печати, когда я в забытьи выхожу на красный свет, меня сбивает японская «Тойота».
Согласно логике событий, следует ждать неприятных вестей с материка от родителей.
В эти дни пожилая машинистка входит в кабинет со словами: — Андрей Дмитриевич, как понять эти художества?
— В чем дело? — враждебно спрашиваю я, ибо не терплю эту старую грымзу-истеричку.
— Вот это, вот это! — гневно тычет она пальцем в мою рукопись. И я вижу, что на полях страниц то там, то тут нарисованы маленькие, очень маленькие гробики и могильные кресты. — Как это понять?
В самом деле, как это понять? Когда и почему, в каком забытьи возникли страшненькие ритуальные символы?
— Извините, — грубо говорю я и тут же затушевываю ручкой эти рисунки. — Ничего это не значит. Бредятина.
Она, злобно фыркнув, уходит, унося рукопись, в полной уверенности, что я таким способом намекал на желательность ее скорой кончины… а я сижу напуганный, с испариной на лбу. Так, думаю. Вот уже до чего дело дошло, Кумиров.
И 10 июля, в обеденный перерыв, когда редакция пустеет, звоню на квартиру Яхнину. Я не рассчитываю застать его дома в это время. Холостяк и богатей, Молва предпочитает, наверно, престижные рестораны вроде «Сеула»… но генеральный директор неожиданно откликается деловым голосом: — Слушаю. Яхнин.
— Ну вот, слушай, — без предисловий говорю я, — на сегодняшний день могу заплатить тебе лишь проценты от займа.
— Что-что? Кто это говорит?
— Некто Кумиров. Твой однокашник.
— Андрюха, ты! Здорово, старичок. Извини, сразу не признал. Так что говоришь?
— Говорю, что даже в международных расчетах, насколько мне известно, допускается выплата лишь процентов с отсрочкой основного долга. Так или нет?
— Кумир, старичок! Я поражен. Откуда такие познания?
— Иногда читаю газеты.
— Ну, молоток! Не ожидал от тебя. А говоришь, что бездарь в коммерции.
— Так оно и есть.
— Да, Кумир, кое в чем ты не шурупишь. Ты слышал, какой нынче банковский процент с кредита?
— Знаю, что большой.
— Да, старичок, да! Грабительский, как говорят в народе. А я тебе предоставил по-приятельски символический. Отсюда что?
— Что?
— А то, что я могу раздеть тебя догола, если захочу. Сделать тебя вечным своим галерником. И очень просто, старичок. Возьму твои жалкие копейки, дам отсрочку еще на месяц и закачу сто пятьдесят процентов с основной суммы. Соображаешь? — по-простецки вопрошает он.
— Соображаю.
— А зачем мне, Кумир, насиловать однокашника? Зачем, а? Поэтому ты уж поднапрягись и пятнадцатого в двенадцать ноль-ноль по местному, будь добр, выложи всю сумму целиком, ладно?
— Пятнадцатого вряд ли смогу, Молва, — глухо отвечаю я.
— Андрюха, старичок, не огорчай меня. Смоги. Не заставляй меня прибегать к помощи своих нукеров. Они ребята жестокие, неинтеллектуальные. Понимаешь?
— Понимаю, Молва. Но ты мне скажи: неужели тебе так крайне нужна эта сумма? Обанкротишься без нее?
— А вот это, извини, не твоего ума дело, старичок. Башли, конечно, смешные, но ты их верни. А там видно будет. Может, мы их совместно пропьем.
Неужели в ответ мой голос дрогнул, дал слабину, унизился до мольбы?
— Еще месяц, Молва, на таких же условиях, и я выкручусь.
— Нет, старичок, нет. Завязано. Через пять дней жду. Гульнем.
— Гад ты все-таки, Молва! — ненавистно вырывается у меня.
— А вот это, Кумир, ты зря. Обижаешь. Не люблю.
— Видит Бог, когда-нибудь тебя зарежут, Молва. Твои же коллеги.
Он залился молодым, здоровым смехом.
— Ох, старичок, развеселил! Знал бы ты, в каких переделках я побывал, тебе, гуманоиду, и не снилось! Правда, глоток никому не резал, но вертеться приходится, старичок, ох, приходится! В ломбарде был? — внезапно спросил он.
— На кой хрен мне там бывать?
— А там башли дают, старичок, ты разве не знаешь? Заложи свое золотишко.
— Какое золотишко?
— Ну, обручальные кольца, к примеру, то-се.
— Нет у нас в доме золота. И бриллиантов тоже.
— Ну-у, старичок, это ты уж совсем того… как твоя жена терпит такую жизнь? Гляди, можешь потерять ее… Продай что-нибудь из меблишки.
— Нет у нас меблишки. Тахта, стол, шкаф.
— Ну, телевизор, ну, видик. Что-нибудь есть у тебя… твою мать, писатель хренов! — разъяренно вдруг орет Яхнин.
— Ладно, падла, не трудись подсказывать! — ответно ору и я с красной мутью в глазах. — Получишь свои башли, сука, даже если детские игрушки придется продать, понял?
— Вот это разговор, — внезапно примерно произносит он. — Теперь узнаю старого кореша Кумира. А то разнылся, рассопливился, как девка при течке. Жду, родной, жду пятнадцатого, — собирается положить трубку.
— Эй! — окликаю я. — Погоди!
— Чего еще, старичок? Закругляйся. Спешу. Делишки.
— А если, скажем, так… — Я вдруг начал заикаться. — Если я… в порядке компенсации… устрою для тебя рекламную статью в газете? Расскажу, как ты взобрался на Олимп, какой ты талантливый коммерсант… как?
Яхнин некоторое время размышляет. Затем слышу его задумчивый голос:
— А ты, старичок, оказывается, можешь быть продажным. Нет, Кумир, исключено. Избегаю особой гласности, я тебе говорил. Принцип такой. Ты со мной незнаком. Я тебя не знаю. Никаких дел между нами нет. Все шито-крыто. Усек?
— Усек, Молва, усек, — внезапно обессилел я. И долго сижу потом, положив трубку, мертво глядя прямо перед собой, и по вискам текут струйки пота.
…и в субботний день, ранним утром, первым автобусом еду на «Семеновку», как называют у нас по фамилии градоначальника вольную барахолку. Я здесь еще ни разу не бывал, ибо что мне тут делать, в этом средоточии денежных страстей, в этом раю-аду частного предпринимательства, где множественные нули — вот такие: 00000 — 000000, как нимбы, светятся над головами продавцов и покупателей, — в этом жизненном пространстве, диком, бесконтрольном, с жаркой и яркой атмосферой наживы?.. И я поражен многолюдьем «Семеновки». Я поражен протяженностью ее торговых рядов. Под серым, облачным небом поражают меня разноцветье и изобилие товаров. Откуда, из какого мрака появились и размножились многоликие разноплеменные торговцы, из каких глубин света появились? В какую плодотворную ночь возник этот космический посев? Кто все это придумал и осуществил? Автора сюда! — надо бы крикнуть. Нобелевку надо присудить тому, кто породил эту «Семеновку»! А может, эшафота и гильотины заслуживает? Здесь правит вольная воля, свободомыслие, мной любимое, но почему я сам жалок и растерян на этом празднике? Я напуган. Страшно мне, жутковато. Озираюсь в густой толпе и никак не решусь вынуть из сумки свой ничтожный в сущности товар — подержанную портативную машинку «Омега». Никогда ничем не торговал — вот беда. Опыта нет. Стыдно мне — вот беда, хотя и понимаю, что в пределах «Семеновки» это чувство — атавизм, вроде аппендикса, — которое всеми здешними постояльцами успешно оперировано. Ну, давай, ты!.. — мысленно матерю себя и иду вдоль ряда, заставленного импортной супертехникой. Игровые компьютеры — китайские, японские, американские, видики, кассеты и диски…. Кумиров не разбирается в этих чудесах. Он человек каменного века, где в обиходе книга, и только книга, и еще журналы, и еще элементарная копеечная ручка, листы бумаги, ну и самое сложнейшее устройство — пишущая машинка. Но я прицениваюсь: почем это? а это почем? — и уже вскоре голова кружится от нулей, как от какой-то сильной наркотической одури. «Ну, давай, предлагай!» — матерю я себя. А как это реально сделать? Свободных мест в рядах нет, приткнуться негде. Не орать же громким голосом бывалого зазывалы: «А кому пишущая машинка? Почти новая! В полной исправности! Сама сочиняет, сама печатает, сама гонорар начисляет! Налетай — подешевело!»
Дышу я почему-то как астматик: тяжело, со свистом. Легкие мои не принимают, что ли, этот особый воздух толкучки, непривычно насыщенный то ли кислородом, то ли углекислым газом? Другая планета, Кумиров, другая. На такой ты еще не живал. Слабо тебе, Кумиров, тягаться с этими бравыми ребятами, которые смело и гордо носят на груди призывы «Куплю доллары!!», «Куплю иены!!», «Куплю ваучеры!!». Закрой глаза, Ольга, не гляди на своего родного мужа. И тебе, малышка, лучше сейчас не видеть своего отца, жалкого и ничтожного, нищего среди богатых, твоего верного ночного сказителя и колыбельщика. Такой не любви достоин, а презрения. Прав друг Яхнин, поблевывая при разговоре с однокашником. Надо быть полноценным кретином, Кумир… образцовым олигофреном, чтобы сейчас ходить в таких отрепьях, как ты, побираться, держать семью на голодном пайке — при нынешних-то возможностях, в пору всеобщего захлеба «лимонами», витающими в воздухе.
С этой мыслью я застываю перед молодым веселым торговцем, курящим длинную сигарету. Вероятно, лицо у меня искаженное. И он удивленно помаргивает:
— Чего, друг? Компьютер нужен?
— Нет.
— А чего надо?
— Ничего. Сам хочу продать.
— А что у тебя?
— Пишущая машинка. Импортная, подержанная. (Зачем сказал — подержанная, кретин?)
— А ну-ка, покажи, — по-деловому говорит он. И я расстегиваю сумку и под взглядом других продавцов-соседей вынимаю и ставлю на прилавок свое сокровище, свою единственную драгоценную подружку, с таким чувством, словно верную домашнюю собаку предаю.
Он снимает крышку, разглядывает, другие тоже.
— Старая, — сразу разочаровывается он.
— Надежная. Безотказная.
— Чья?
— Югославская.
— А паспорт на нее есть?
— Нет.
— И сколько просишь? — бьет он пальцем по клавише. В машинку предусмотрительно вставлен мной чистый лист.
Вот он вопрос, которого боюсь…
— А сколько дашь? — ожесточенно переспрашиваю.
— Да мне вообще-то не нужна. Кому надо, парни? — обращается к сотоварищам по ряду.
— Двадцать пять штук, — называю я трудную цифру.
— Ты смеешься, мужик. Вот компьютер игровой новый отдаю за тридцать.
— Ладно, — сразу сбавляю я цену. — Двадцать. (Кретин, кретин!)
— А она на ходу? — спрашивает джинсовый золотозубый кореец.
— Проверь, — сиплю я. — Работает, как часы. И, мучаясь, смотрю, как он неумело тюкает пальцем по клавишам, двигает кареткой, издевается, гад, над моей любимицей, насилует ее на моих глазах. И спрашивает ведь гад, как о живом существе, каковым она для меня и является.
— Сколько ей лет?
— Пять, — срывается у меня. (О придурок, придурок!) Надо было сказать: год-два. Ведь она хорошо еще выглядит, моя «Омегушка», на старушку не похожа… но придурок, независимо от меня, честно поправляется: — Чуть больше пяти.
У золотозубого корейца остро вспыхивают глаза.
— За пять штук возьму, — предлагает он.
— Красная цена, — дружно соглашаются с ним его коллеги, все в джинсе и коже.
— Ты мне бутылку еще за нее предложи, — злобно реагирую я.
— Гляди! Больше никто не даст. Это же утиль.
— Сам ты утиль, дружище.
— Ну, двигай дальше, походи, убедись, — бьет он в последний раз по клавише и закрывает крышку. И все сразу теряют интерес ко мне и моей «Омеге», точно мы на их глазах поблекли, померкли, выпали в осадок. И я слышу, кажется, заливистый смех Яхнина и его вскрики:
— Ну, старичок! Ну, Кумир! Ну, позабавил! Классно торгуешься! Родной! Быть тебе коммерсантом!
К его смеху дружно присоединяются за моей спиной эти деловые ребятишки, питомцы компьютерного века, в котором я почему-то чужак.
Ожесточаясь еще больше, я ношу свою родную «Омегу» по рядам, время от времени останавливаясь перед торговцами. Моя любимица никого не интересует, но иногда, как бы смеха ради, мне предлагают показать товар, а несколько раз даже прицениваются, но называют какие-то дико смехотворные суммы, видя во мне то ли богодула, то ли бича… Впрочем, одежонка моя — поношенная куртка, потертые джинсы, гнилые туфли — и моя, словно с перепоя, покореженная морда сами наводят на такой вывод. Через полчаса, через час мне чудится, что я уже примелькался всей барахолке, что на меня, переглядываясь и посмеиваясь, показывают пальцами: «Гляди-ка, этот-то писателишка, рванина, все ходит со своей машинкой…». Но я вроде бы уже потерял стыд и продолжаю со стиснутыми зубами свое кружение по рядам. Теперь я предлагаю сразу и другой свой, до времени скрываемый, товар — чайный сервиз на шесть персон, свадебный подарок родителей… «Да, Ольга, торгую свадебным подарком, а тебе, если продам, скажу, что я вдребезги поколотил эти чашечки и блюдца, будучи, мол, в белой горячке…».
На сервиз покупательницы из женского торгующего контингента сразу находятся, но и они подозревают во мне бича, тайком от жены (а так оно и есть!) обворовавшего дом, и предлагают жалкие тысчонки на похмелку. Яхнин, мой дружок, мой кореш, мой братан, уже устал хохотать, наблюдая из своего невидимого скрадка за моими манипуляциями. «Ой, Кумир, ой, не могу, ой, уморил, старичок!» Но я упрямо продолжаю зацикленное движение. Нули — вот такие: 00000 — 000000 плывут в моих глазах, как кольца дыма, выпускаемого неким всемогущим хозяином барахолки, толстопузым, как на давних карикатурах, в котелке, с золотой цепочкой на брюхе, с толстенной сигарой во рту… Так и мелькают вокруг купюры, так и шелестят, так и нашептывают нежно, что и мне, жалкому Кумирову, они готовы отдаться, лишь бы проявил я мужскую волю и силу духа.
Яхнин, братан, кореш, сучий потрох, зря ты гоготал над Кумировым. Я все-таки, видишь, расторговался и к полудню сбыл с рук и чайный сервиз, и «Омегу» — пускай по бросовым ценам, но как-никак приблизился, хоть и ненамного, к рубежу сто двадцать тысяч. И сейчас поеду по некоторым адресам, редко посещаемым, — дозанимать.
Адреса такие: улица Спортивная, переводчики супруги Лерман. Они богатенькие, супруги Лерман, но хрен, видимо, дадут, ибо жлобы. Улица Заречная, холостяк, художник Лебедев Григорий, этот даст, если подфартило с продажей очередного шедевра и если не успел пропить… Улица Невельского, старики Бородины, старые знакомые отца, — может, у них есть накопления… улица Ленина, журналист Курносов, собкор центральной газеты, но он, кажется, собирался приобрести машину… улица Мицуля, наконец, где живет старая любовь Кумирова, учителка Дина Чмыхало, она должна получить летние отпускные… Сажусь в переполненный автобус. Обессиленный, обессмысленный, с ноющим желудком (язву, что ли, нажил?), с табачным едким жжением во рту.
Воскресенье. В кои-то веки небо прояснилось и показалось сильное солнце. Тойохаровцы семьями тянутся в сопки. Это те, кто не имеет своей машины для выезда, пригородного земельного участка или дачи. С ними мне по дороге. На ногах старые походные ботинки. Старая штормовка, потрепанный бывалый рюкзачок за спиной. Неспешно поднимаюсь на Сопочную Каргу, без жены и ребенка, трагически одинокий среди многодумной зелени лиственниц и берез.
Не обижу малой птицы, ничтожнейшего мураша. Медвежьи дудки, гляди-ка, как вымахали в холода и слякоть. Гигантские лопухи. Папоротник орляк. Здесь идет своя, не городская жизнь, нам неведомая. Всегда она счастливо поражала, взбадривала молодого Кумирова. Все суетные заботы улетучивались вмиг. Но не как сейчас. Бреду без душевного подъема, хрипло дышу. Слабосильно обливаюсь потом. Несвобода! Ибо город не отступает, он вроде бы цепко держит за шиворот, и я даже слышу его угрозы: «Куда? куда? не убежишь, не-ет!» Палка в моей руке, как посох перехожего калеки. А что в рюкзаке? Там горбушка хлеба, банка минтая. А что светит впереди? Небо перевала? Да нет же, еще одна сопка, круче первой, а за ней еще одна, круче второй.
Я сижу на поваленном дереве. Курю. Стараюсь успокоиться, не паниковать. Все обойдется, твержу себе, не бесись. Не сегодня-завтра позвонит редактор Перевалов и возбужденно закричит в трубку: — Андрей, жми немедленно ко мне! Хорошие новости! Готовь сумку для денег! — И я помчусь. И примчусь в издательство. И здесь узнаю, что неведомый спонсор кореец Ю. перевел на счет издательства несколько полноценных миллионов. И тут же подпишу договор (по новым ценам). И получу несколько сотен тысяч аванса. И сгинет, развеется страшный морок, так? Да, наступит передышка, вот как сейчас на поваленном дереве… Ну и что дальше?
Надолго ли этот отдых? Моя дочь еще такая маленькая, а разве может стать книжка, даже если выйдет, многолетней поилицей и кормилицей?
Брежу, конечно. Мечтательная маниловщина, вот что это такое. Никакая книжка не спасет… да и не выйдет она никогда! Отсюда, с высоты, ясней, чем с равнины, видно, как темен мой горизонт, как беспросветен. Изо дня в день, из года в год суждено влачить и влачить за собой семью — на это ли уповал в недавней юности?
А вон там, между прочим, вот там, на востоке, за моей спиной, за просторным океаном привольно раскинулась Америка… А вон там, далеко на западе, куда смотрю, находится, говорят, Европа с ее Парижами и Гамбургами… А налево, на юге, Япония, где очень любят маленьких детей… И, может быть, там — на востоке, западе или юге — как раз и могут забрезжить для меня солнечные просветы? Моя попытка забыться в лесной тиши явно не удалась. Только душу растравил, погрузился в новую темень. И уже вскоре я спускаюсь вниз — точь-в-точь как эмигрант, покинувший свою страну и не прижившийся в другой, — возвращаюсь, словом.
В понедельник подсчитываю свои наличные деньги. Они скреплены резинкой, как у порядочного бухгалтера или как у старичка-пенсионера.
Часов в одиннадцать я звоню по служебному телефону Яхнина. Секретарша — «сучка такая», как именует ее генеральный директор, — отвечает каким-то постельным голосом, что Игорь Иванович еще не появлялся, но вскоре должен, видимо, прибыть. Что ему передать? Кто звонит?
— Моя фамилия Кумиров.
— Ка-ак?
— Кумиров, — повторяю я, и эта девица пробужденно смеется.
— Неужели бывают такие фамилии?
Надо бы тоже засмеяться, вступить в игровую беседу, но нет сил. И я лишь говорю: — У меня назначена встреча с Игорем Ивановичем. Я перезвоню.
— Хорошо. Пожалуйста.
Кладу трубку. Вошедшая в этот момент, как всегда блистательная, Радунская прямо с порога восклицает:
— Батюшки! Кумиров! Что с тобой?
— Что со мной?
— У тебя лицо такое… мрак. Заболел, что ли?
— Да, простыл… температурю, — хриплю я.
— А зачем вышел на работу?
— Потому что добросовестный.
— Дурачок, тебе в постель надо.
— С тобой, что ли?
— Кому ты такой нужен!
— Ну и не приставай. Сам знаю, что делать.
— Пожалуйста! Мне-то что! Умирай на рабочем месте. — Радунская, напевая, — она в отличном настроении, — достает зеркальце, губную помаду и принимается за обычные художества: расчесывает волосы, подкрашивается, становясь еще соблазнительней.
— Слушай, Андрей, а я была вчера в театре на закрытии сезона.
— Бедный театр.
— Главреж… представляешь, этот новенький, из Москвы… затащил меня на банкет. Я, дура, согласилась, а теперь не знаю, как быть. Писать, что они провалили сезон, как-то неудобно… Последняя премьера вообще лажа. Что делать, а?
Я плохо ее слышал.
— Придется, видимо, писать что-то нейтральное. Черт с ними! Жалко их. На спектакле было человек пятьдесят, и тех, видимо, силком загнали. Они вообще-то за счет коммерции живут. В фойе наставили игровых автоматов, киоски с барахлом… Никаких летних гастролей, представляешь! Ну, полная деградация. — Она бросила зеркальце и губную помаду в сумочку. Вдруг осененно воскликнула: — Да, Андрей! А я знаю, где ты был в субботу.
— Где я был в субботу?
— На барахолке, на «Семеновке»! И я знаю, что ты там делал.
— Что я там делал?
— Продавал пишущую машинку, вот! Тебя видела знаешь кто?.. ну, неважно! Продал? Бедный Кумирчик, до чего дошел! Торгуешь на барахолке!
— А ты уже оповестила всю редакцию?
— За кого ты меня принимаешь! — возмущенно выкрикивает она.
— Ладно, Вика, ладно… не сердись, — тяжело извиняюсь. И чтобы прервать разговор, принимаюсь стучать на машинке. Получается: ЯХНИНЯХНИНЯХНИНЯХНИНЯХНИН… две строчки бредового повтора. Тут же вынимаю лист из каретки, рву на мелкие клочки и выбрасываю в урну. Закуриваю — какую по счету?
— Дай огонька, — просит Радунская, подходя со своей сигаретой. — Господи! — поражается она. — Как у тебя руки дрожат! Пил вчера?
— Да.
Руки действительно дрожат. И скулы свело, как судорогой. И желудок воет. И глаза жжет, точно их присыпали табаком. Ночь была бессонная, а китайский спирт — не лучший напиток. Сегодня вряд ли придется спать.
— Шел бы ты домой, Андрей, — жалеет меня Радунская. Вдруг я хватаю ее за руку, притягиваю к себе.
— Ого! — удивляется Радунская. — Как понять?
— Пошли ко мне сегодня. Посмотришь, как живу, — вырывается у меня.
— Наконец-то. Соизволил пригласить.
— Пойдешь?
— Не сейчас же!
— Нет, после работы.
— И в каком качестве ты меня приглашаешь? Как медсестру?
— Как верного товарища, — изображаю я улыбку.
— Ох, нахал!
— Я, может быть, люблю тебя, Радунская, но сам того не осознаю.
— Ах нахалище! — ослепительно смеется она.
— Ну, наклонись, поцелую.
— Сам поднимись.
Она мне нужна сегодня ночью, ибо я боюсь сегодняшней одинокой ночи, концентрации всех предыдущих одиноких ночей, более страшной, чем все предыдущие. А вот от Радунской исходит какое-то доброе тепло, какая-то нежная жалость… Спасибо, Вика.
Высиживаю в редакции до пяти часов, с мутью в голове правя какую-то многословную статью, а едва Радунская куда-то выходит, опять звоню в фирму «Пента». Секретарша на месте, я сразу узнаю ее голосок.
— Опять беспокоит Кумиров. Могу поговорить с Игорем Ивановичем?
— А, это вы! — откликается. — Знаете, а его так и не было еще.
— И сегодня, вероятно, уже не будет?
— Да, пожалуй. Вообще-то странно. У него было намечено несколько важных встреч. В крайнем случае должен был предупредить.
— А если позвонить домой?
— Вы думаете, я не звонила?
— Но завтра-то он будет?
— Ну, надо полагать, объявится. А вы, собственно, по какому делу?
— По личному, — и заставляю себя игриво спросить: — А как вас зовут, девушка? У вас такой приятный голос.
— Юля. А вас?
— Меня — Андрей. Могу поспорить, что вы высокая красивая блондинка. Угадал?
— Мимо! — смеется она.
— Ну, тогда высокая красивая брюнетка. Вам 22 или 23. Вы не замужем. Любите шампанское. Все правильно?
— Ну более или менее, — опять смеется.
— Рад буду с вами познакомиться.
— Что ж… приходите. Интересно увидеть человека по фамилии Кумиров.
Разъединяемся. Положив трубку, я сижу неподвижно, глядя в окно на широкий проспект, по которому скользят машины. Опять моросит мелкий дождь, а по небу ползут нелетные сырые тучи. Неужели не видать уже никогда ясного голубого неба? Сегодняшнее спасение…
…сегодняшнее спасение — это Вика Радунская. Она осматривает мою убогую квартиру, переходя из комнаты на кухню, заглядывая даже в ванную, точь-в-точь как кошка, оценивающая новое жилье. Вздыхает, зябко ежится, опять горестно вздыхает.
— Ну, ладно, — говорю я. — Хватит тебе. Чего ты ждала от малоимущего? Садись за стол. Будем пировать.
Кумиров позволил себе сегодня шикарный ужин. Консервированный лосось, копченая сайра, колбаса, водка «Распутин», индийский чай, китайское сухое печенье. После первых рюмок темень, в которую погружен, слегка рассеивается, как при робком рассвете, а Вика Радунская, и без того бессмертно соблазнительная, вдруг обретает особый смех, особый горловой голос, ведьмаческий какой-то блеск глаз… Она уже пьяна, и я веду ее в нашу спальню и укладываю, подлюга, на святую нашу семейную кровать.
Еще два года назад полноценный, независимый Кумиров предложил бы этой неробкой девице богатый выбор постельных упражнений. А сейчас действую как будто с закрытыми глазами, подчиняясь стереотипам, не прося многого и давая лишь самое необходимое. Но нежно и бережно, неосознанно нежно и бережно — и она это, видимо, чувствует и благодарно, взахлеб целует. Потом лежим, отдыхая в темноте. Я прижимаюсь к Радунской, как ребенок, ни на секунду не отпускаю, и это ее по-новому поражает:
— Слушай, Кумиров, что с тобой? Может, ты и вправду меня любишь?
Не отвечаю. Еще крепче прижимаюсь.
— Я тебя совсем другим представляла в постели. Злым, агрессивным.
Молчу. Не отпускаю.
— Ты со всеми женщинами такой или только со мной?
Молчу. Льну к ней, как напуганное дитя к своей матери.
— Я думала, ты извращенный мальчуган, а ты… Ну, подожди. Ну, отпусти. Хочу закурить.
— Ты не уйдешь? — спрашиваю.
— А ты хочешь, чтобы я осталась до утра?
— Да.
— Господи, ничего не пойму, — недоумевает Радунская.
Она остается на всю ночь. Вскоре, утомленная, засыпает. А я лежу, глядя в темноту. Курю. Изредка встаю и выпиваю на кухне рюмку водки. Включаю настольную лампу и пробую читать. Но это безнадежно, ибо со страниц книги всплывает все, что угодно, кроме истинного смысла текста. Гашу свет. Сворачиваюсь клубком, сунув голову под мышку спящей Радунской, хочу стать нерожденным еще плодом без мыслей и чувств. Не знаю, когда приходит сон. А просыпаюсь с ужасом на душе, с тяжело тукающим сердцем.
За окном светло. Будильник показывает 10 часов. Радунской рядом нет. Нет и ее одежды. На журнальном столике записка: «Милый Кумирчик, спасибо за гостеприимство. До встречи на службе. Целую. Вика».
«Целую. Оля». — Так заканчивается письмо от жены, которое я нахожу в почтовом ящике. И второе письмо из Орла повторяет эхом: «Целую. Мама».
Сегодня, следовательно, шестнадцатое июня. Через полтора месяца мне исполнится двадцать девять лет. Дата незначительная, всенародного праздника по этому поводу не будет.
Дождя нет, но нет и солнца, покинувшего, кажется, навсегда наши края. И нет на газонах одуванчиков, тоже сгинувших, кажется, навсегда.
Из будки телефона-автомата я звоню в фирму «Пента». Она вроде бы стала моей судьбой, внезапно прорезавшейся новой линией на ладони. Но по моему голосу секретарша Юля вряд ли догадается о моих мыслях и чувствах. Ибо я говорю бодро и весело, как и полагается в первой половине дня.
— Ну что, Юля? Появился, наконец, ваш шеф?
— Вы представляете, — отвечает она, сразу узнавая меня, — все еще нет.
— И не звонил?
— И не звонил.
— А вы ему звонили?
— Конечно. Много раз. Но квартира молчит. Мы уже тут всерьез беспокоимся.
— А не мог он куда-нибудь внезапно уехать или улететь?
— Не поставив нас в известность? Что вы!
— Ну, тогда… тогда одно остается, — намекаю я.
— Что? Вы думаете, загулял?
— Насколько я знаю Игоря Ивановича, это не исключено.
— Конечно! Он не ангел, — смеется она. — Иногда бывает, что дает себе волю. Но в таких случаях он непременно звонит. Даже чаще, чем нужно, — опять смеется. — А что, у вас важное дело?
— Да как сказать… Я еще вчера должен был отдать ему небольшой должок. Не знаю, как и быть. Может, через вас передать?
— Ну, можно и через меня, но лучше, конечно… Подождите минуточку! — просит она и, не кладя трубку, разговаривает с кем-то. А затем снова мне: — Ну вот. Шофер только что вернулся с квартиры. Там никто не отвечает.
Небольшая пауза. Затем я говорю:
— Сделаем так, Юля. Под вечер еще перезвоню вам, хорошо?
— Ну, пожалуйста.
— А вы, Юля, сегодня так же неотразимы, как и вчера? — спрашиваю я. И она, конечно, заливисто смеется.
Я еду на службу, где получаю разнос от шефа, который засек мое крупное опоздание, а затем как компенсацию — свежий, душистый поцелуй свежей, сияющей Вики Радунской. Господь, ты все видишь: я не хотел ее соблазнять…
Ты видишь, Господь, как в этот же вечер, уже в нерабочие часы, бравые ребята из фирмы «Пента» взламывают дверь в квартиру Яхнина.
Я узнаю об этом в среду утром, позвонив из своего кабинета в приемную «Пенты». Нежный голосок секретарши Юли на этот раз неузнаваем. Он полон ужаса.
— Его убили!! — визжит она в ответ на мой вопрос, нашелся ли Игорь Иванович. Кричит так громко, что даже Радунская, невдалеке сидящая, слышит и мгновенно перестает печатать на машинке.
Я вскакиваю на ноги, потрясенный.
— Что-о? — кричу и я.
— Убили… убили прямо в квартире! — заходится в визге секретарша. Она, похоже, только что узнала об этой трагедии.
— Не может быть… — бормочу я и, по-видимому, сильно бледнею.
— Да, да!.. Он уже в морге! Ужас какой! — несется крик из глубины трубки, и трубка брошена.
Я кладу свою и опускаюсь на стул. Слепо шарю рукой по столу в поисках сигарет. Радунская испуганно смотрит на меня.
— Что такое? Кого убили, Андрей? — спрашивает она.
Не отвечая, я закуриваю и глубоко затягиваюсь дымом. Чтобы она не видела моего лица, встаю и подхожу к окну. Но Радунская тут как тут, трясет за плечо — такая настойчивая.
— Ну скажи, Андрей! Кого убили?
— Подожди… дай опомниться, — убираю я ее руку.
— Твой знакомый?
— Школьный приятель. Ты его не знаешь. Коммерсант, президент одной фирмы. Игорь Яхнин.
— Молодой?
(Это первое, конечно, что должна спросить женщина.)
— Сказал же, однокашник. Мой ровесник.
— Господи! За что же его? Наверно, деньги? Богатый, наверно?
— Не бедный, видимо, — выдавливаю я из себя слова, — фирма процветающая. И мой кредитор, кстати.
— Вот твари! — кричит Радунская. — Совсем распоясались, гады! Стрелять их всех надо без разбора, подонков! У него семья?
— Нет, холостой.
— И как убили?
— Не знаю. Говорят, в квартире.
— Вот пожалуйста: мой дом — моя крепость! Эта наша долбаная милиция…
Я ее плохо слышу. Так, долетают какие-то слова… «страшно жить…», «никто не застрахован…», «ходим под ножом…». Я вновь вижу лицо Яхнина-Молвы, каким запомнил: голубоглазое, в обрамлении светлой бородки, яркогубое… вновь слышу его смешок, его обращение «Андрюха, старичок…», «Андрюха, старичок, ты уж постарайся отдать…», и внезапным давним зрением вижу юного Молву, нагловатого красавчика, на школьном крыльце с сигаретой во рту… Я думаю, что теперь делать с долгом? Деньги вот они, в кармане, пачка, перетянутая резинкой. Я собрал все-таки необходимую сумму. Теперь, когда кредитора уже нет, кому они принадлежат?
И еще страшная, неуместная мысль мелькает: в какой газете появится некролог о смерти Яхнина? Неужели в нашей?
Некролог публикуется на следующий день в газете «Деловые люди». Верней, два некролога. «Группа товарищей» из фирмы «Пента» выражает глубокое соболезнование в связи с трагической смертью генерального директора Яхнина Игоря Ивановича. Общество ветеранов выражает глубокое соболезнование Яхнину Ивану Петровичу в связи со смертью его сына Игоря.
Я узнаю адрес фирмы и еду на автобусе туда. Солидный особнячок с несколькими вывесками на фасаде. Среди них — «Пента». Я поднимаюсь на второй этаж и открываю обитую кожей дверь приемной. Здесь накурено и пусто. А в распахнутом кабинете — наверное, Яхнина — стоит ко мне спиной, перебирая бумаги на столе, рослая девица в светлом костюме. Я негромко кашляю, и она порывисто оборачивается.
Молодое, смазливое, сильно накрашенное лицо. Это несомненно она, моя телефонная собеседница.
— Вам кого? — отрывисто спрашивает проплаканным, прокуренным голосом.
— Вас. Вы ведь Юля?
— Да. А вы?..
— Да, тот самый Кумиров. Я вам звонил.
— А! я сейчас… одну минуточку… подождите.
Я закуриваю и мельком бросаю взгляд на себя в большое зеркало. Выгляжу страшновато, как после перепоя и недосыпа.
Секретарша выходит из кабинета с какими-то бумагами. Она тоже выглядит страшновато. Недавние слезы не удалось скрыть усиленным макияжем.
— Вот видите, как… — беспомощно говорит она, останавливаясь напротив. — Нет уже Игоря Ивановича.
— Когда похороны, Юля?
— Завтра. В два часа.
— А откуда будут выносить?
— У него же здесь отец. Вот из отцовской квартиры.
— Это, по-моему, Спортивная улица? Раньше они там жили.
— Да, там. А вы с ним хорошо были знакомы?
— Мы вместе учились в школе, в одном классе.
— Даже так? Ну вот, видите… нет теперь у вас одноклассника, — глубоко вздыхает она. (Не ее ли утренний зов «Игорек! Игорек!» слышал я в то утро, когда занимал деньги на кухне у Яхнина?)
Я протягиваю ей сигареты, но она качает темноволосой головой: «Нет, спасибо. Накурилась до одури». Крупная, рослая, зрелая девица… «сучка такая». Прикрывает на миг глаза.
— А какие подробности, Юля? — угрюмо спрашиваю я.
В ответ глубокий вздох, словно она пробуждается ото сна.
— Как его убили? — переспрашивает. — Его застрелили. Из его же собственного пистолета. В спальне. Нет, в кабинете, кажется.
— Деньги, конечно?
— Что?
— Из-за денег, конечно, убили?
— Да, конечно. У него дома был сейф. Когда наши вошли, сейф был открыт и там ничего не было, кроме бумаг.
— А он хранил дома большие суммы?
— Ну, я не знаю точно… Вероятно. Дайте мне все-таки закурить, — она берет сигарету из пачки и прикуривает от моей спички.
— Ну и что говорит милиция?
— Что милиция! Не знаете вы нашу милицию, что ли? Суется, расспрашивает всех, а что толку теперь?
— Стрельба в доме. Неужели никто из соседей не слышал?
— А вы бывали у него в квартире?
— Бывал однажды.
— Ну вот, вы видели. Квартира огромная. Четыре комнаты. Ковры на всех стенах. Могли и не слышать. А может, их дома не было.
— Да, вполне возможно. А у него было много недругов?
— А как вы думаете?
— Я не знаю. Я к коммерции не причастен.
— Много, конечно, — жадно затягивается она дымом. — И предупреждали, и угрожали. Он же как-никак был миллионером.
— Миллионером?
— Ну, разумеется, — подтверждает она с внезапной горячностью. И вдруг трезво спрашивает: — А вы ему много должны?
— Как сказать… На мой взгляд, много. Сто тысяч плюс проценты. Я отправлял семью на материк, и понадобились деньги. Игорь не отказал.
— Он вообще редко кому отказывал. У чего должников, я знаю, полгорода. И что теперь думаете делать с этими деньгами? — Впервые внимательно разглядывает она меня, сразу оценивая, конечно, мою затрепанную одежку.
— А что вы мне посоветуете, Юля? Я так понял, он мне давал из личных денег, а не из казенных.
— Наверняка из личных. Казенных у него не хранилось.
— Ну вот. Значит, надо, видимо, вернуть его родственникам… как вы думаете? — устало ищу я совета.
— Да, конечно.
— Так я и сделаю. Я знаком с его отцом.
— На похороны придете?
— Приду.
— Ох, ужас! Что же такое творится? — стонет она, гася сигарету в пепельнице.
— Да, Юля, в плохой час мы с вами познакомились.
— И не говорите!
Из коридора в приемную протискиваются два парня в кожаных куртках. Они несут огромные венки. Я пропускаю их и выхожу на волю.
По сути, все мои школьные связи растеряны, но я вспоминаю, что где-то в городе учительствует Зина Морозова. Через гороно навожу справку, звоню в школу номер 20. И по счастливой случайности застаю бывшую однокашницу в учительской. «Пискля» — так мы ее раньше звали, и голос ее за эти годы не изменился. — Кто? кто? — кричит она, будто не верит своим ушам. — Боже мой! Неужели это ты, Кумирчик?
А затем в трубке наступает тишина, а затем раздается сильный вскрик учителки, которая, конечно же, ничего не слышала о смерти Яхнина.
— Сегодня в два, — информирую я ее. — Знаю, знаю, что между вами дружбы не было. Но это дела давно минувших дней, Зина. Надо пойти, Зина. Кто из наших еще в городе?
— Люда Иванова, Витя Баранов.
— Ты с ними общаешься?
— Очень редко. Случайно.
— Свяжись с Ивановой, сообщи ей. А где Баранов сейчас?
— По-моему, он программист в Южморгео. Он что-то такое говорил…
— Ладно, я постараюсь найти. А ты запиши адрес Яхниных. Придешь?
Учителка тоненько всхлипывает. Или мне это только кажется? Причитает: «Боже мой, боже мой…» Да, она придет. Все-таки вместе учились… боже мой!
После серии звонков мне удается найти Витю Баранова, а через него еще одного нашего однокашника — Саню Добровольского, единственного медалиста в классе, ныне переводчика «Интуриста». Ни тот ни другой не питали дружеских чувств к Яхнину-Молве. «Всегда знал, что он плохо кончит», — сухо комментирует Добровольский. «Жаль Молву», — негромко, но без горечи откликается программист Баранов. И оба спрашивают: — А ты-то как живешь, Кумир? — на что я отвечаю: — Существую.
Сомнительно, что они придут.
…сомнительно. А хотелось бы, чтобы я не один представлял на похоронах наш класс.
…но они появляются. Под мелким дождем встречаю их около подъезда, чтобы вместе войти в квартиру, где стоит гроб. Учителка Зина все такая же, какой я ее помню, — худая, с девчоночьим обликом. Зато Люда Иванова безобразно раздобрела — она домохозяйка, мать двоих детей. С трудом узнаю я Витю Баранова — большая окладистая борода и преждевременная лысина сильно изменили его. Добровольский в форме — сухой и поджарый, но на висках уже пробивается ранняя седина. Ну а Кумиров?.. Почему однокашники смотрят на меня с каким-то испугом? Неужели я так сильно сдал за последнее время?
Мы обмениваемся рукопожатиями, но говорить, собственно, не о чем. Лишь Баранов спрашивает: — Как его убили? — Лишь я отвечаю: — Говорят, застрелили. — Лишь Добровольский хладнокровно интересуется:
— А чем он занимался? — И вновь отвечаю я, наиболее осведомленный:
— Коммерцией. — Лишь учителка тоненько причитает свое: — Боже мой, боже мой… — Лишь дородная Иванова вздыхает и пыхтит: — Постарели мы все. — И редкий дождь сыплет на прислоненные к стене венки и крышку гроба.
— Ну, пошли, что ли? — говорит Добровольский и смотрит на часы. Он спешит, и он сразу предупреждает, что на кладбище не идет.
— Я тоже. Я боюсь, — пищит по-школьному Пискля.
— А у меня младенец, — пыхтит Иванова. — Соседку попросила присмотреть.
— А ты? — спрашиваю я бородатого, лысого Витю Баранова.
— А ты? — откликается он.
— Надо бы поехать, Витя.
— Ну что ж, если вдвоем… за компанию. (За компанию!)
Лысина и лоб у него багровые — не иначе хлебнул спирта, предназначенного для компьютеров.
Мы поднимаемся наверх, на третий этаж, и я, задержавшись на миг, бросаю в рот пять таблеток экстракта валерианы и вдобавок еще кладу под язык таблетку валидола.
Яхнин в своем гробу выглядит спокойным и умиротворенным. В комнате, хоть и просторной, душно от дыхания многих людей. Чувствуется уже запах тлена.
Отец Яхнина (я с трудом его узнаю) — маленький, ссохшийся, седой — сидит в изголовье сына. Еще какие-то пожилые люди (родственники) окружают гроб. Чуть в стороне теснится группа молодых парней и девиц — все чем-то похожие друг на друга, как братья и сестры. Я встречаюсь взглядом с секретаршей Юлей.
Когда-то… Да, когда-то в этой богатой квартире мы отмечали семнадцатилетие Молвы. А сейчас тихие разговоры, негромкое покашливание, тихие всхлипывания, и сам Яхнин, спокойный и умиротворенный, красавчик, как и при жизни, лежит с закрытыми глазами.
Вдруг подступает тошнота: кажется, я перебрал сегодня элениума и валерианы.
Некто с черной повязкой на руке наклоняется к Ивану Петровичу Яхнину, что-то шепчет. Тот встает, и пожилые (родственники?) тоже встают. Вынос тела.
— Ну, все, — слышу я за своей спиной. Это полиглот Добровольский. Ему не терпится отправиться по своим делам.
— Подожди, — говорю я ему — Подождите, — останавливаю всех наших. — Соболезнование-то надо выразить отцу. Иванова, ты умеешь. Давай от имени всех.
И пока молодые ребята поднимают гроб, пока выносят его из комнаты…
— Иван Петрович, примите наши соболезнования. Мы… вот нас пятеро… учились вместе с Игорем в одном классе. Мы разделяем ваше горе, Иван Петрович, — одышливо изъясняется дородная Иванова.
— А, ребята, это вы… — откликается он слабым голосом (а тогда, властвуя в городе, гремел по радио и телевидению). — Пришли… спасибо.
О деньгах говорить сейчас неуместно. Отложу на поминки. Я заскакиваю в туалет, и меня обильно рвет, и выхожу неверными ногами, с лицом, мокрым от пота.
Много цветов, очень много цветов ложится на гроб Яхнина. Около могилы секретарша Юля и еще какие-то девицы ритуально разливают по граненым стаканам водку… Я, конечно, напьюсь сегодня, это неизбежно… и, возвращаясь с кладбища в автобусе, прошу Витю Баранова следить за мной на поминках. Но он сам уже нетрезв и, пожалуй, излишне, излишне оживлен и речист.
— Эх, Молва! — разглагольствует он. — Недолго пожил, бедолага. Ты знаешь, что он сидел два года?
— Сидел? Нет.
— За какие-то аферы. На материке. Я краем уха слышал… Между нами говоря, Андрюха, Молва был не подарок.
— Тише. И вообще — о мертвых…
— Знаю, знаю. Или хорошее, или ничего. Но если по-честному…
— Погоди, дай послушать, — перебиваю я его.
На сиденье впереди нас два коротко стриженных молодчика в легких куртках обсуждают обстоятельства смерти Яхнина. Долетают лишь обрывки.
— …соседей они спросили. Одних не было дома, другие ничего не слышали. Глухари!
— …два огнестрельных ранения. Наповал.
— …найдем козлов. Рассчитаемся.
— Надо бы.
— Ясное дело, — жарко дышит мне на ухо бородатый, лысый Баранов.
— Что тебе ясно?
— Рэкет, что же еще! Говорят, миллионами ворочал.
— Говорят.
— Ну вот. Не заплатил, наверное, кому надо.
— Возможно.
Баранову, пожалуй, не обязательно знать о моем долге.
Для поминок арендовано кафе «Неофит», и поминки собрали тридцать восемь человек, по моим подсчетам. После третьей или четвертой рюмки, когда сказаны хорошие слова о покойнике, курящие между блюдами перемещаются на крылечко кафе. Я тоже выхожу и, улучив момент, трогаю за локоть Яхнина-старшего.
— Иван Петрович, извините… Можно вас на минуту. Мы отходим в сторону. Как все-таки изменился за эти годы бывший бравый партийный функционер! Совершенно седой, с белыми бровями, ссохшееся личико… ничего, кажется, общего со своим сыном, разве только невыносимо голубые глаза…
— Иван Петрович, вы меня помните?.. — на всякий случай начинаю я.
— Да, да. Учились вместе с Игорьком?
— Да. Вместе кончали школу. Моя фамилия Кумиров.
— Вспоминаю, вспоминаю…
— Дело в том, Иван Петрович, что я остался должен Игорю деньги. Предполагал на днях отдать и вот… Разрешите я вам верну. Сумма довольно большая. — Достаю из кармана куртки пачку пятисотрублевок, перетянутых резинкой. — Вот. Здесь сто тысяч. Это личные деньги Игоря.
Он вдруг трясет головой, отступает на шаг.
— Нет, не надо, не надо! Из-за этих проклятущих… — так и говорит совсем по-стариковски «проклятущих» — …он погиб. А зачем они ему были нужны? Ну, зачем? Ведь я его предупреждал, что большие деньги до добра не доведут. Не надо… не хочу к ним прикасаться, оставьте себе, вам нужней.
Этот отказ совершенно для меня неожидан, и я бормочу:
— Да что вы, Иван Петрович… как же так? Это же мой долг. Я обязан его вернуть. Пожалуйста, возьмите.
И сую ему, сую эти с муками добытые купюры. Но старец трясет головой: нет! нет! Но если я уж очень настаиваю… а это благородно с моей стороны… то я могу отдать эти деньги его дочери.
— Верочка! — слабо зовет он. От кучи курящих отделяется высокая женщина, светловолосая, как Яхнин, голубоглазая, как Яхнин, старше его лет на пять, в черной косынке. А я и не знал, что у Молвы есть сестра.
— Вот, Верочка, товарищ Игорька по школе.
— Андрей Кумиров, — представляюсь я.
— Вот, оказывается, он остался должен Игорьку деньги. Он хочет вернуть, но я не хочу брать эти проклятущие, просто, знаешь, физически не могу. Ты возьми, пожалуйста, если нуждаешься, — объясняет отец.
Сестра Молвы немигающе смотрит на меня, на протянутую пачку.
— Сколько здесь? — спрашивает она.
— Сто тысяч. Я отправлял семью на материк, и мне понадобилось. Я занимал у Игоря еще в мае. Возможно, нужны проценты, но сейчас я…
— Ах, какие проценты! — отмахивается она чуть ли не оскорбленно.
— Спасибо, что эти вернули. — И берет деньги, и сует их, не считая, в сумочку. — Я уверена, что у Игоря осталась куча должников. Но теперь их, конечно, днем с огнем не сыщешь. И, конечно, не докажешь…
— Оставь, оставь… оставь это! — торопливо перебивает ее отец. И поспешно отходит, словно убегает от нестерпимого для него разговора о деньгах.
— Я вас не помню, — говорит сестра Молвы, немигающе глядя на меня.
— Вы у нас бывали?
— Однажды был на дне рождения Игоря. В десятом классе, — выдерживаю я ее взгляд.
— Я тогда училась в институте в Москве. Да, вот так… — Голубые скорбные глаза затуманиваются. — Ушел Игорь.
— Все уйдем. Это неизбежно, — отвечает кто-то за меня. (Дикая банальность!)
— Да, все уйдем. Но он мог бы еще пожить. Слишком спешил. Вы его друг?
— Скорей приятель.
— Что ж, спасибо, что пришли. Что о долге вспомнили. Сейчас, знаете, порядочность не в чести.
Она бросает недокуренную сигарету на крыльцо, растирает туфлей. Хочет уйти.
— Послушайте… — останавливаю ее.
— Да?
— А что-нибудь прояснилось… ну, милиция что-нибудь выяснила? — трудно складываю я вопрос.
— Кто убил? — напрямик уточняет она.
— Да.
— А вы знаете наших сыщиков? На них мало надежды. Папа, правда, настоял, чтобы привлекли самых лучших. Кажется, кто-то приехал даже из Москвы. Что толку! Даже если этого ублюдка или ублюдков найдут, что им грозит? Дадут лет восемь-девять от силы, а потом отпустят досрочно. Игоря этим не воскресишь, так ведь? — как-то очень трезво говорит она. И уходит — высокая, светловолосая, а я возвращаюсь за стол, подсаживаюсь к Вите Баранову, сильно уже пьяному, расхристанному какому-то.
— Сказал бы что-нибудь об Игоре, — подсказываю я бородачу.
— А ты? — вопрошает он.
— Мы с ним не шибко дружили, ты знаешь.
— А я? Я шибко?
— Тише ты… — усмиряю его пьяный громкий голос.
И вдруг Баранов встает с рюмкой в руках. За длинным столом, шумным уже столом, замолкают. Какой-то внезапный ужас охватывает меня. Это не страх возможного скандала от непредсказуемой Витиной речи, а что-то более глубокое, какое-то мистическое ощущение, что вдруг в открытую дверь войдет высокий, светловолосый Яхнин и, увидев меня, воскликнет что-нибудь вроде:
— Ба! И ты здесь, старичок! Вот не ожидал, что придешь. А должок-то ты просрочил, родимый! — И я с трудом удерживаюсь, чтобы не встать из-за стола и не уйти прочь… стискиваю зубы, гляжу куда-то вниз, в ничто.
Баранов говорит неожиданно хорошо, обдуманно и прочувствованно. В его словах нет излишних дифирамбов покойнику. Игорь был нашим товарищем по школе, по классу. Он был неоднозначной личностью. Не все его понимали, но он жадно любил жизнь и хотел взять от нее все, но жизнь сложней наших представлений о ней, она непредсказуема и вычислить заранее все варианты ее, все неожиданные ходы невозможно ни на каком компьютере. Игорь ушел внезапно и очень рано, недоделав предназначенного ему, возможно, большого дела. В последние годы мы редко встречались, но школьная память — самая сильная и живая из всех памятей. Она сохраняет нам Игоря таким, кажим мы его знали. Пусть земля ему будет пухом!
Все встают и, не чокаясь, как полагается, пьют водку, а я вдруг слепну на миг от слез, застлавших глаза.
Потом мы бредем с Витей Барановым по улице пьяные, поддерживая друг друга, к нему домой, чтобы продолжить возлияния. Мы долго сидим на кухне в обществе жены Барановой, бесцветной женщины в бесцветном халате, которая терпеливо выслушивает наши путаные школьные воспоминания. «А ты помнишь…» «А ты помнишь…» — этот рефрен вскоре выдыхается сам собой, и невзрачная, бесцветная жена Баранова переводит разговор на житейские темы. Ее вздохи, ее жалобы… сын растет, зарплаты катастрофически не хватает… я слышу как бы издалека, как сквозь тяжелую дрему… а Баранов вдруг, разъярясь, стучит кулаком по столу: — Эти падлы демократы… я бы этих падл! — и я смутно понимаю, что не туда попал, что ничего общего между нами нет, и вдруг злобно взрываюсь: — А ты, Витюша, оказывается, коммуняка по убеждениям! Баран ты и есть Баран! Придурок ты!
— А ты, сучий потрох, тоже демократ, что ли? — пьяно орет мой однокашник и вскакивает на ноги.
Невзрачненькая жена испуганно кричит: — Да вы что! Ребята! Перестаньте! — и вклинивается между нами, сжимающими кулаки.
Я страшно хочу подраться, хочу, чтобы тяжеловесный Баранов избил меня, как однажды случилось в восьмом, кажется, классе, но жена оттаскивает его к окну, а мне кричит: — Уходите! Я вас прошу!
— Ухожу, ухожу. Слышишь, коммуняка, встретимся на твоих похоронах. Поговорим.
— На твоих, демократ долбаный! — орет он. И орет вслед: — Поцелуй своего Ельцина в жопу!
И сразу темнота какая-то.
Подлинная темнота ночи с беззвездным, безлунным небом. Сколько времени, неизвестно, часов у меня нет, но ясно, что уже поздно идти еще куда-либо, например к редактору Перевалову или, предположим, позвонить Радунской. Следовательно, остается моя квартира, моя камера-одиночка, и надо перемещаться пешком из одного микрорайона в другой по ночному Тойохаро. «А там, — думаю, — еще темней, там вообще мрак», — имея в виду могилу, куда опустили Яхнина.
Бреду, и уже на подходе к дому, в переулке (так помнится) приближаются три или четыре темные фигуры и, помнится, чей-то голос говорит что-то вроде: — Ну, привет, дядя. Тебя-то нам и надо.
А дальше уже беспамятство.
Дальше — серенькое утро и какой-то сумрачный длинный коридор, пропахший лекарствами.
— Отделали вас славно, — хмуро говорит белый халат, сидя на кровати рядом со мной, а еще два белых халата стоят поодаль. — Как себя чувствуете?
— Пить хочу, — разлепляю губы.
— Пить или выпить? — уточняет он с беглой усмешкой. — Да лежите, лежите! Маша, дайте ему воды.
Жадно пью теплую водицу и всматриваюсь в их лица. Он — пожилой, в больших роговых очках, а они молодые — похожие на двойняшек, медсестры, наверно. Глядят жалобно и сочувственно.
— Помните что-нибудь? — спрашивает мой спаситель. (Спаситель?) Я разлепляю губы и выдавливаю из себя: «Очень смутно».
— Ясное дело. А фамилию-то свою помните? Где живете, работаете, помните?
Это я помню.
… и еще я помню поминки по Яхнину и помню бешеную ссору в доме Баранова, и темный безлюдный переулок.
— Запишите, Маша, эти данные. Журналист, значит. Пьяны вы были, однако, изрядно.
— Я… я возвращался домой с поминок.
— Они на вас газом, наверно, прыснули. А потом изрядно потоптали. Недельки две придется полежать. Куда о вас сообщить? Домой?
— Нет… домой бесполезно. Там никого нет. На службу сообщите.
— Ну, хорошо. Ближе к вечеру мы переведем вас в палату, как только место освободится. Пока полежите в коридорчике.
— Мне все равно.
— Вы, считайте, с того света вернулись, Андрей Дмитриевич, — встает он с кровати, громадный пожилой мужчина в роговых очках. Я провожаю его взглядом и думаю: «С того света, значит, Яхнина, выходит, повидал…» — и опять ухожу в забытье.
И опять возрождаюсь: кто-то легонько тормошит за плечо. Уже полный ясный день. Тот же длинный больничный коридор. Муть, боль в голове, ноющая боль во всем теле. Ишь, сколько их собралось около моей кровати… раз, два, три, пять — пересчитываю мысленно. Ну, Радунская здесь, это еще понятно, но тут еще мой недруг, господин редактор и профбосс Лапина, и ответ-секретарь, и еще один коллега. Проявили заботу, пришли проведать, притащили каких-то компотов, яблок… надо же!
Радунская, разовая любовница моя, как всегда, нарядная, праздничная, смотрит на меня с каким-то ужасом. Наверно, неважный у меня видок, наверно, не украшают меня бинты, в которые, чувствую, закутаны голова и тело. Другие тоже глядят сострадательно, как на смертника, а редактор Поликарпов, слышу, спрашивает:
— Ну как ты, Андрей?
Говорить трудно: разбиты, видимо, губы или выбиты зубы, но я все-таки кое-как отвечаю:
— Ничего… сносно.
— Мы поговорили с главврачом. Тебя сегодня переведут в отдельную палату.
— Зачем? И тут неплохо.
— А там лучше. Телевизор, то-се.
— Ну, что ж. Ладно. Спасибо.
— Врач говорит, что все обойдется, только надо отлежаться. У тебя, я слышал, семья в отъезде?
— Вроде бы.
— Вот мы не знаем, надо ей сообщать или нет? Если надо, то нужен адрес или телефон.
— Не вздумайте.
— Не надо?
— Не вздумайте, — повторяю я.
— А если вдруг позвонит, Андрюша, что ей сказать? — страдальчески спрашивает Радунская.
Я на миг прикрываю глаза. Смотреть на яркий свет почему-то больно.
— Если позвонит, я в командировке, поняла? Еще лучше, — складываю я по слогам слова, — дай телеграмму, если не сложно.
— Конечно! А куда? И какой текст?
— Текст простой. Запиши… — и она тотчас достает из своей сумочки блокнот и карандаш. (Журналистка все-таки!) Я медленно диктую адрес тещи — не забыл-таки, не отшибло память окончательно. — Затем так… «Уезжаю две недели командировку». Ну, добавь: целую. Ну и подпись: Андрей. Сделаешь?
— Сразу же пошлю! — горячо обещает несравненная.
И больше, кажется, говорить не о чем. Но редактор Поликарпов не удерживается. Ему нужно знать:
— Как же так получилось, Андрей?
Что ответить? Боль, муть, проблески света сквозь темноту.
— Возвращался после поминок. Приятель погиб… Вика знает. Пьяный, конечно, был. Дальше не помню.
Они молчат, очень скорбно. Радунская отворачивается — неужели плачет?
— Спасибо, что зашли, — выпроваживаю их.
И они, сердобольные, прощаются, говорят: «Выздоравливай… Держись… Все будет хорошо…» — всякие слова, которые я уже слышу в отдалении и новой темноте.
…и при новом свете, уже в отдельной палате, куда меня вскоре переносят на носилках, появляется некто в белом халате, накинутом поверх милицейской формы. С ним тот же пожилой, очкастый врач. — Вот, — говорит, — ваш подопечный. Слишком долго не мучьте.
— Самое необходимое, — обещает сержантик в халате. Присаживается на стул рядом со мной. У него совершенно молодое подростковое лицо с маленькими усиками, румянцем на щеках. Наверно, недавний выпускник их училища, неоперенный такой. Блокнот на коленях, ручка. Славная улыбка.
— Поговорим?
Я смотрю на него с жадностью и нетерпением. Мне хочется узнать, с чем он пришел.
— Моя фамилия Жуков Юрий Иванович, — представляется он. — А ваша Кумиров Андрей Дмитриевич, верно?
Я отвечаю ему глазами: верно, мол. Это моя фамилия. Мое имя-отчество.
Опять хорошая, славная улыбка.
— А мы ведь никаких документов при вас не нашли. Вы в отключке были. Хорошо, что бандюг спугнули, а то бы… Вы где работаете? В газете «Свобода», мне сказали?
Опять я делаю знак глазами: правильно, мол, там, а этот славный малый что-то пишет в своем блокноте. Чувствую, что относится он ко мне уважительно, не как к рядовому пострадавшему, а к представителю прессы.
— Вы, Андрей Дмитриевич, помните, как все произошло?
— Кое-что помню.
— Откуда вы шли?
— Я шел от своего знакомого… некоего Баранова. А до этого я был на поминках своего приятеля Яхнина Игоря Ивановича, коммерсанта. Может, слышали о таком?
— Которого застрелили? — быстро реагирует он.
— Да. Застрелили.
— Слышал, как же! И куда шли?
— Домой шел.
— А где вы живете?
Я называю адрес, который он быстро записывает.
— Вы женаты, Андрей Дмитриевич?
— Да, женат. Но жена и дочь в отъезде. — Говорить мне все еще трудно. Язык толст и неповоротлив, как-то спотыкается о зубы и распухшие губы.
— Ну-ну. Шли и…? Вы извините, вы сильно пьяны были?
— Наверно, сильно. Да, сильно. Может быть, даже шатался. Но не падал. Я много выпил на поминках.
— Так. Понятно. И?
— Тут они появились. Трое или четверо. Там темно было.
— И что? Попросили закурить, как обычно? — быстро спрашивает он и быстро что-то пишет.
— Нет, по-моему. По-моему, один сказал: «Привет, дядя. Тебя-то нам и надо». Что-то в этом роде.
— Дядя? Какой вы дядя! Значит, молодые были.
— Видимо.
— И что дальше?
— Больше ничего не помню. Вы курящий?
— Нет, не курю, не научился, — одаривает он меня улыбкой. — А вы курить хотите?
— Не прочь бы.
— Значит, на поправку пошли. Значит, ничего не помните?
— Ничего.
— А узнать могли бы их?
— Вряд ли.
— А по голосу?
— Вряд ли. Обычный голос. Молодой вроде.
— При вас деньги были?
— Деньги?
— Ага.
— Кажется, что-то оставалось. Немного. Я в тот день отдал крупный долг.
— А документы?
— Документы?
— Ну да.
— Документы были. Редакционное удостоверение, проездной билет…
— А паспорт?
— Нет, паспорт с собой не ношу.
— А в чем вы были одеты?
Он все записывал, все мои никчемные ответы на свои никчемные вопросы.
— На мне куртка была.
— Что за куртка? Как выглядит?
— Обычная куртка. Тонкая такая, светлая. Старая уже. Ценности не представляет.
— А все-таки сняли, сволочи, с вас куртку. А на ногах что было?
— Кроссовки. Тоже светлые. Тоже старые.
— Им все равно какие! Наш патруль их спугнул. А то бы могли и догола раздеть, чтобы поиздеваться, — хмурится юнец, и на потвердевших его скулах вспухают желваки.
— А что… поймали кого-нибудь? — вяло интересуюсь я. Праздный вопрос. Мне абсолютно безразлично, как в недрах милиции раскручивается мое дело. Никакой ненависти я не испытываю к ночным бандюгам. В том, что произошло, я вижу какое-то давнее, чуть ли не космическое предопределение, которого невозможно было избежать. Я удивлен лишь тем, что наказанье (Божье?) столь милосердно: остался жив и, может быть, вскоре опять смогу нормально функционировать.
— Есть у нас наметки, — туманно отвечает мой интервьюер. — Жаль, вы опознать их не можете. А то все-таки попытаетесь, а?
Я слегка шевелю головой — и сразу тупая боль проходит от затылка ко лбу. — Нет, никого не помню. Бесполезно это.
— Да-а, ситуация! — глубокомысленно вздыхает он. — Ну, ничего! — вдруг ободряется. — Мы их, Андрей Дмитриевич, все равно прищучим. Вы не волнуйтесь.
— Я не волнуюсь.
— От наказания они все равно не уйдут.
— Что ж…
— Я вам по секрету скажу: один подозреваемый уже задержан. Я думаю, он расколется. Тогда всех возьмем.
— Что ж…
— А вы лежите, выздоравливайте, — встает он, одергивая белый халат на плечах.
— Спасибо.
— До свидания.
— До свидания.
Светло улыбнувшись, этот нетипичный мельтон идет к дверям. И уходит, оставив меня один на один с собой. Нет, не так. Один на один с муторной тоской. Один на один с предстоящим кошмаром.
Затем — другие посетители, в частности бородатый, лысый Баранов. Он звонил в редакцию, чтобы меня разыскать и извинения принести, а ему сказали, что я лежу в больнице.
— Андрюха, Христа ради, прости балбеса! Я же когда подопью, разум теряю.
— Брось, Витя… не казнись. Я сам не лучше, — успокаиваю его.
— Эх, как они тебя!.. Вот найти бы их, вот на них я бы отыгрался. Как так получилось?
И вновь я прокручиваю эту невнятицу: «Шел с поминок… пьяный… напали… ничего не помню…», но уже не Баранову, а редактору издательства Перевалову. Он, ясное дело, сочувствует, как и все. Но вот порадовать меня ничем не может. Кореец Ю. отпал, а других перспективных спонсоров пока нет. Издательство перебивается с хлеба, так сказать, на воду.
— Но вот что, Андрюша. Я на днях лечу в Москву в командировку по одному делу. На недельку-две. И я знаешь что надумал? Я возьму экземпляр твоей рукописи и похожу там по издательствам. В столице есть еще киты, которые держатся на плаву. Может, кто и купит на корню. А может, возьмут обычным порядком. Доверяешь мне как литературному своему агенту?
— Давай… попробуй… спасибо скажу.
— Должны взять! Я нюхом чувствую, что это бестселлер. Неужто понимающего человека не найдется?
— Вот ты понимающий, — слабо улыбаюсь я, — а издать не можешь.
— Богатого понимающего человека, — уточняет он. Прощается. Желает всяких благ. Уходит.
А затем (я уже могу полусидеть на кровати и пробую читать газеты) входит незнакомец средних лет. Поверх костюма — серого, в полоску — накинут белый халат. Свежая кремовая рубашка. Яркий галстук. В руке «дипломат», а в «дипломате» что? — пистолет? Такая мысль почему-то у меня сразу мелькает.
— Не ошибся? — спрашивает он свежим голосом. — Андрей Дмитриевич?
— Я-с, — отвечаю. Именно так и отвечаю: не «я», а «я-с».
— Вы-с, — смеется пришелец. (Две золотые коронки.) — Читаете? Это хорошо. Дела, значит, идут на лад. Ну-с! — подходит он к кровати и протягивает руку. — Давайте знакомиться. Виталий Ильич Чиж. И дед был Чиж. Целая династия Чижей.
Я пожимаю ему руку своей левой, действующей. И с каким-то страшным любопытством его разглядываю. Узкое лицо. Высокий, с залысинами, лоб. Узко поставленные, очень живые глаза.
— Чиж так Чиж… — без интереса откликаюсь, а сердце почему-то сильно стукает по ребрам. — А кто вы?
— Вопрос по делу. Я, Андрей Дмитриевич, следователь прокуратуры. Вот пожалуйста. — И извлекает из нагрудного кармана пиджака красное удостоверение, раскрывая, показывает мне. — Могу присесть?
— Садитесь, что же… — гримасничаю я.
— Не рады мне, Андрей Дмитриевич? — Садится.
— А чему радоваться? Ко мне уже приходили от ваших. Я все рассказал, что мог. И приятелям раз пять повторил, честно говоря, надоело талдычить одно и то же.
— Это вы о чем? О вашем приключении?
— Ну да. О чем же еще?
— А я по другому делу пришел. Более, извините, серьезному, чем ваше. Я один из бригады, расследующей убийство гражданина Яхнина Игоря Ивановича. Знали такого?
Каким образом я смог его сразу вычислить, едва он вошел?
— Да, конечно, знал, — отвечаю я после небольшой естественной паузы.
— Ну вот. Потому я к вам и наведался. Кажется, вы учились вместе в школе? Впрочем, знаете что. Давайте так. Вы мне сами расскажете, что вас связывало, а я уж по ходу буду расспрашивать. Идет?
И он деловито щелкает замочком «дипломата» и, открыв его, извлекает оттуда портативный, величиной с портсигар, японский диктофон.
— Вы не против, если я буду записывать? От руки, знаете ли, тягомотно.
— А надо записывать? — хмурюсь я.
— А вы, когда берете свои интервью, записываете? Или просто запоминаете? — смеется этот Чиж. (Блестят две золотые коронки.)
— А что вас конкретно интересует? (Тихий щелчок. Он включает диктофон.) Вот, например, на выпускном вечере в школе я увел у Яхнина… у Игоря, — поправляюсь я, — одну девчонку. Это представляет интерес для следствия?
— В каком-то смысле да.
— И то, что в школе у него была кличка Молва?
— Как? Молва? Любопытно.
— Ну если о таких частностях буду рассказывать, вам пленки не хватит. Мы учились с первого по десятый в одном классе. Друзьями, ну, в школьном понимании, никогда не были: ни в первом, ни в десятом, ни в промежутке. Собственно, у нас в классе с восьмого уже строго определились свои компании по пять-шесть человек. Игорь был в одной, я в другой. Мы не враждовали… этого не было… но держались обособленно. У них свои увлечения, у нас свои. Случалось, доходило до драки, но нечасто и не по-серьезному. У нас, в общем-то, был благополучный класс. Чушь несу!
— Почему чушь? Говорите, говорите. Очень интересно.
— После выпускного вечера я его не встречал… до последнего времени. Я поступил в Дальневосточный университет, недоучился и вернулся сюда. Где был Игорь и что с ним, знать не знал. И, честно говоря, не интересовался. Кто-то что-то о нем мельком говорил… но это вылетело. Потом вдруг узнал, что он в городе. Занимается коммерцией. Я здесь курю изредка тайком. Не заложите меня?
— А я, пожалуй, сам закурю, — подхватывает этот Чиж. — Форточку откроем. Сегодня тепло. А дверь закрою. Если кто зайдет, возьму на себя, — компанейски смеется он.
Закрывается. Открывает окно. Угощает своими. «Мальборо»!
— Ну-с, продолжим. (Понравилось ему мое «эс».) Диктофон работает.
— Все.
— Как все? — поражается этот Чиж.
— Все, что я о нем знаю. Остальное касается больше меня, чем его.
— То есть?
— То есть связано с моими семейными делами.
— Но и с Яхниным тоже, я так понимаю?
— Да, и с ним тоже, — неохотно, привычно кривясь, отвечаю я. — Вы же в курсе! — вырывается вдруг у меня.
— С чего вы решили, что я в курсе? И в курсе чего?
— Вы знаете, что я был у него дома и занимал деньги. Иначе зачем сюда пришли и вообще как вы узнали о моем существовании? — злобно говорю я.
Чиж смеется. (А золотые коронки блестят.) Такой дружелюбный, компанейский сыщик.
— Ну, в логике вам не отказать. Кое-что я действительно знаю. Но интересно от вас услышать. Значит, вы с Яхниным в последнее время встречались?
— Встречался. Один раз. И дважды говорил по телефону.
— Вот об этом, Андрей Дмитриевич, хотелось бы услышать. Вы не слишком устали?
— Нет, я не устал. Мне просто неохота выворачивать себя наизнанку.
— Но в интересах следствия, сами понимаете…
— Понимаю. Ладно. Словом, я узнал случайно, что он здесь, и пошел к нему домой.
— С целью? Просто встретиться со старым приятелем?
— Нет, не просто встретиться со старым приятелем. Просто ради встречи я к нему бы не пошел. Я говорю, нас мало что раньше связывало, а сейчас вообще ничего. Я пошел, чтобы занять денег.
— Деньги, значит, понадобились? — раз-другой пыхнул сигаретой узколицый, тонкогубый Чиж.
— Да. Я влез в долги. Не лично я, а вся семья.
— Кстати, какая у вас семья?
— Жена и маленькая дочь. Это вы наверняка знаете, — опять обозлился я.
— Ладно, ладно… беру вопрос назад.
— Ну вот. Влезли в долги. Работаю я один. Зарплаты не хватает. Я решил отправить жену и дочку на время к теще. Ну, чтобы как-то разрядить обстановку… Одному проще выкрутиться, чем троим. Это вроде ясно?
— Куда уж ясней! Сам тащу семью, — живо откликнулся он. Пых-пых.
Тут небольшая вставка. Заглядывает без стука санитарка — не из молоденьких прелестниц, а старая здоровенная бабища — и сразу вопит: — Это что еще такое! С ума посходили, что ли! В палате уже курят! — и долго бы, наверное, орала, но живой и ловкий Чиж мигом вытесняет ее в коридор. Минуты через две возвращается, покачивая стриженой головой: — Ну и мадам! Зверь. Ну, ничего. Конфликт улажен. А дымить все-таки больше не будем. Давайте ваш окурок. Уничтожу улику.
И снова с каким-то жадным интересом — на что он способен, этот золотозубый, что у него в поверхности, а что в глубине? — я смотрю, как, ловко двигаясь, он гасит окурки о спичечные коробки и выкидывает в форточку.
— Перебила! — заглядывает в крохотное стеклышко диктофона, проверяя его работу. — Вы решили отправить жену и дочь к теще и пошли к Яхнину за займом. А почему именно к нему?
— А кто мне мог, по-вашему, занять сто тысяч? У меня знакомых миллионеров нет.
— Сто тысяч?
— Не сегодняшних сто. Майских.
— Ого!
— Да, порядочно. Но хватило всего-то на билет в один конец до Новосибирска, кое-какие мелкие покупки, задолженность по квартплате…
— Понимаю, — сочувствует он, вздохнув. — Сгорают денежки, как в топке.
— Вот именно! А отдавать их оказалось нелегко.
— Подождите, подождите! Мы еще с этим эпизодом не покончили. Мне интересно, как встретил вас Яхнин, о чем вы беседовали.
— А на хрена вам это знать? — грубо спрашиваю я. — Диктофонных записей мы не вели, как вы. Я вам могу любую лапшу на уши навешать.
— А вот этого не надо делать, Андрей Дмитриевич, — вдруг становится он серьезным.
— Встретил по-приятельски. Предлагал выпить, но я отказался. Сам он был с похмелья. В комнате спали какие-то гости. Какие-то девки. А говорили… о чем говорили? О чем могли говорить! Вспомнили старых приятелей, школу. Но он сразу понял, что я пришел исключительно ради денег.
— И все-таки занял? Не оскорбился?
— Помучил меня.
— То есть?
— Ну, поиграл со мной, как кошка с мышкой, — опять кривлюсь я. Непроизвольно кривится и Чиж, словно ему передалась моя боль.
— Плохо себя чувствуете?
— Ничего… уже привык.
— Все-таки, значит, одолжил?
— Одолжил.
— А на каких условиях, интересно?
— На божеских.
— А конкретно?
— На два месяца по десять процентов в месяц.
— Та-ак. Вы, следовательно, должны были вернуть…
— Сто двадцать штук.
— И вернули в срок?
— Не получилось. Я попросил отсрочки.
— Опять к нему домой ездили?
— Нет. Звонил в фирму.
— И какую отсрочку он вам дал?
— Полмесяца. До пятнадцатого.
— Та-ак. С этим ясно. А скажите, Андрей Дмитриевич, на какие доходы вы рассчитывали, занимая у него такую сумму? — задумчиво спрашивает мой мучитель. Щеголь. Чиж.
Вопрос ожидаемый, и с внезапной яркостью, словно вспыхнуло что-то в памяти, я вижу Яхнина в его кухне. Светловолосый, русобородый, в голубой пижаме. Сидит боком на краешке стола, щурится против света и весело спрашивает: — Слушай, старичок, а каким образом ты думаешь рассчитаться за два месяца? Банк возьмешь? — на миг закрываю глаза, и видение пропадает.
Отвечаю я так же, как ответил тогда Молве. Издательство. Книжка предполагаемая. Аванс предполагаемый.
— С авансом не получилось, — устало заключаю я. В самом деле устал и измучился, будто он, этот пришелец, ковыряется без наркоза в моем черепе. Профессионал, конечно. Умеет казаться неосведомленным, хотя ничего нового, ему неизвестного, кроме, пожалуй, издательских перипетий я ему пока не сообщил… Разумеется, у него были предварительные беседы с секретаршей Яхнина, с этой Юлей, с отцом Яхнина… и касались они окружения генерального директора, его знакомств и контактов, его деловых и неделовых встреч, его телефонных разговоров… и когда всплыло мое имя, может, — может быть, случайно, мельком, — он, несомненно, побывал в редакции, чтобы навести справки обо мне, и не исключено, что беседовал с Радунской, которая лучше других меня знает. А верней всего, у Яхнина была записная книжка, которую они обнаружили, а в ней, предположим, список его должников, среди которых оказался и Кумиров — 100000, и вот, взяв след, они теперь идут по этому списку.
Пожалуй, ему известно даже о моей бездарной торговле на «Семеновке», если он основательно расспросил Радунскую о моем финансовом положении, а та припомнила, что я спустил машинку. Но темнит, темнит, профессионально темнит, ходит кругами.
— С авансом в издательстве, следовательно, сорвалось, — жалеет он меня.
— Сорвалось. Да.
— И что вы предприняли, Андрей Дмитриевич?
— Стал искать другие выходы.
— Например?
— Пошел на барахолку продавать пишущую машинку и еще кое-что.
— А что именно?
— Чайный сервиз. Свадебный подарок.
— Ай-я-яй! Вот до чего вас поджало. Продали?
— Продал.
— И сколько выручили, если не секрет?
— Немного. В общей сложности сорок пять тысяч.
— Да-а, негусто. А покупателей случайно не помните?
— А это вам зачем? — в лоб спрашиваю.
— Ну, на всякий случай. Вы должны понять, Андрей Дмитриевич, — спешит он объясниться, — что мы отрабатываем разные версии. Для нас сейчас всякая мелочь важна.
— Подозреваете меня, что ли? — опять в лоб спрашиваю я.
— Боже упаси! — пугается щеголеватый Чиж. — Но я от вас не буду скрывать, почему мы на вас вышли. Мы нашли в квартире Яхнина его записную книжку. В ней упоминается ваше имя.
(Правильно я угадал.)
— А напротив нее стояла цифра сто тысяч?
— Совершенно верно.
— Какой-то высокий мужчина в шляпе. И какая-то бабенка в золоте.
— Это ваши покупатели?
— Да.
— Хорошо, — удовлетворенно кивает он. — Спасибо. (За что, интересно, спасибо?) Это когда было?
— В субботу.
— А отдать долг вы когда должны были?
— Пятнадцатого.
— Сто двадцать тысяч?
— Да.
— Плюс проценты за полмесяца просрочки?
— Наверное.
— А у вас на руках было…?
— Сорок пять штук базарных и штук восемь моих.
— Меньше половины, однако.
— Я нашел остальные.
— Правда? — порадовался он за меня. — А где, если не секрет?
— У знакомого.
— Кто такой, не подскажете?
— Подскажу. Художник. Член Союза художников. Григорьев Павел Матвеевич. Улица Зеленая. Частный дом. Днем его можно найти в мастерских.
— Это не обязательно. Хватит фамилии. Я не собираюсь вас проверять.
— А по-моему, еще как собираетесь, — с какой-то ненавистью говорю я, в упор на него глядя. И он смотрит на меня острыми, живыми глазами. Потом, конечно, смеется, показывая две свои золотые коронки.
— Вас не проведешь, Андрей Дмитриевич. Вам бы в наших органах работать. Далеко пошли бы.
— Меня мои органы устраивают.
— Да, в газете вас хвалят как журналиста. Я ведь там побывал. Говорил кое с кем о вас.
— С Радунской, например?
— Точно!
— Свидание ей не назначили?
— Смеетесь, Андрей Дмитриевич! У меня двое детей и жена, ох, свирепая.
— Слушайте… забыл, как вас зовут…
— Виталий Ильич.
— Теперь запомню. Может, на сегодня хватит?
— Устали? — обеспокоенно спрашивает он.
— Мутит. Болит. В сон тянет.
— Да, пожалуй, я переусердствовал. Заканчиваем. — Щелкает клавишей диктофона, выключая его. — А если я, скажем, завтра загляну?
— А есть еще вопросы?
— Честно говоря, имеются.
— Ну, приходите. Если до завтра не окочурюсь.
— Бросьте, бросьте! Я с вашим доктором консультировался. Опасность позади, — ободряет он меня.
Прощается очень приветливо, как-то по-приятельски, пожимает кисть моей левой руки: держись, мол, старичок! — подхватывает свой «дипломат» и порывисто идет к двери, но на пороге вдруг тормозит и оборачивается.
— Да, Андрей Дмитриевич! Последний вопросик. Вы не помните, где провели прошлое воскресенье?
Я уже успел закрыть глаза, погружаясь в привычную тьму и боль, а тут надо снова выныривать из глубины на поверхность, в опасную явь.
— Аа!.. — мычу. — Сейчас… погодите… Воскресенье? То есть после субботней барахолки. Погода, по-моему, была хорошая. Ну да. Я в сопки ходил, решил проветриться. Поднимался на Лысую гору.
— В одиночку?
— А зачем мне компания? Я люблю один бродить. А потом, когда спустился… ну, да, правильно… пошел в гости к Перевалову.
— Это издатель, о котором вы говорили?
— Он самый. Мы с ним выпили, и я у него переночевал.
— Все, Андрей Дмитриевич. Все. Отдыхайте, — разрешает мне Чиж. И выскакивает из палаты, осторожно прикрыв дверь.
И, может быть, зря я его выпроводил. Наедине со своими мыслями, если сон не идет (а он не идет), тягостней даже, чем в компании следователя. Единственные светлые маячки — ты, Оля, и ты, малышка… но вы в такой дали, что вас нелегко разглядеть. То ли солнце опять зашло за тучи, то ли тяжелый морской туман лег на Тойохаро, то ли зрение потерял, как при катаракте. О себе я не тревожусь… странно, но так, хотя лежу с проломанной головой иезуитскими вопросами. Российское радио тоже не радует, ежечасно сообщая над изголовьем о всяких ожесточенных кровопролитиях. Не ходи, Ольга, поздно вечером по страшному пролетарскому Новосибирску, — даже в магазин за хлебом. Наше новое юродское кладбище в березовом лесу, оказывается, очень уютное. Спи спокойно, Молва. Там, где ты сейчас, не нужны ни рубли, ни иены, ни доллары. А где же эта злыдня, наоравшая на меня и респектабельного Чижа, думает она ставить мне обезболивающий укол? И думает ли она подать мне утку, ибо я больной пока что не ходячий?
И еще одна трудная ночь. И еще один солнечный день. Следователь Чиж не появляется, как обещал, зато в палату впархивает под вечер цветастая, яркая бабочка мисс Радунская.
— Читаешь? Уже читаешь? Какой умница! — радуется она и чмок-чмок! — моя страшная морда быстро расцелована, затем следы губной помады стерты кружевным платочком.
— Андрюша, тебе надо побриться.
— Надо. А как это сделать?
— Очень просто. Я завтра принесу электробритву и побрею тебя.
— И сколько возьмешь за это?
— Бутылку шампанского, когда выйдешь отсюда. Как дела, милый? — присаживается она на край кровати.
— Вроде бы слегка оклемываюсь.
— Молодец! Ты жизнестойкий. Врач говорит…
— Послала телеграмму? — перебиваю ее.
— Ну, конечно. Сразу же.
— Не напутала с адресом?
— Что я, дура, по-твоему?
— Ладно, верю. Что у вас там нового? — пытаюсь приподняться я на подушках. Она подхватывает меня под мышки, помогает.
— Абсолютно ничего. Все та же потогонка. Я вот думаю: не удрать ли в отпуск?
— Удери. Что тебе мешает?
— Нет, сейчас не могу. Вот ты выздоровеешь, выпишишься, тогда удеру.
Я морщусь, словно услышал глупую шутку.
— А при чем тут я? Ты и я — что нас, интересно, связывает? — спрашиваю, и ее лицо тотчас вспыхивает, точно я залепил ей пощечину.
— Хам ты все-таки. Каким был, таким остался.
— А ты чего ждала, Радунская? — не жалею я ее. — Думаешь, если переспала разок в моей семейной постели, то имеешь на меня право? Ошибаешься.
— Заткнись! — Она вскакивает со стула.
— Ладно, сядь, не психуй. Я все-таки больной. У меня черепно-мозговая травма. Может, я сейчас вообще невменяемый.
— Ты всегда был чокнутым.
— А ты всегда была сластолюбицей. Совратила этого золотозубого.
Радунская вдруг пугается и плюхается снова на стул.
— Откуда ты знаешь?
— Значит, совратила?
— Да перестань пошлить! — кричит она. — Откуда ты знаешь, что он со мной беседовал?
— А ты напряги свои красивые мозги и подумай.
— Он был у тебя?
— Вот-вот. Молодец. Напрягла.
— И сказал, что разговаривал со мной? Вот гад! Клялся ведь, что беседа конфиденциальная.
— Я сам вычислил, без его помощи. Ну, и как ты меня охарактеризовала?
— Лучше, чем заслуживаешь!
— Спасибо, спасибо. Он и меня помучил, этот сыщик.
И поскольку она все равно сейчас не удержится от вопросов, я сам ей все выкладываю. Так, мол, и так. Задолжал Яхнину энную сумму. А они, Шерлоки Холмсы, прослеживают сейчас все его деловые связи и знакомства. Вот откуда такой интерес к моей персоне.
— А ты успел отдать?
— Нет. Но я отдал его отцу на поминках.
— Для этого и машинку продавал, да?
— Соображаешь.
— Въедливый такой! Целый час меня пытал.
— Понравилась ты ему, видимо.
— Опять!..
Я кладу свою деловую, действующую руку ей на колено, крепко сжимая эту круглую обольстительную коленку, от которой сразу переливается в меня здоровое животное тепло. Подонок Кумиров. Ему, видите ли, требуется в данный момент чье-то человеческое участие. Наверно, и глаза у меня сейчас просящие, щенячьи, бездомно-тоскливые, а то чего бы Радунская вдруг стала гладить меня ладонью по щеке, поговаривая: — Бедный Андрюшка… В какой переплет попал… Она оставляет после себя пакет со всякой вкусной снедью и свежими газетами. В родной «Свободе» я нахожу статью некоего А. Малышева. Под этим псевдонимом (девичья фамилия моей матери) я привык скрываться.
Ау, мама! Ау, отец! Как вы там, в своем Орле?
В детстве, помнится… Нет, лучше не вспоминать.
— Ну, что ж. При таких темпах через недельку, глядишь, отпустим вас на домашнее содержание, — удовлетворенно констатирует мой добрый лечащий врач Константин свет Павлович. — А отчего такая мрачность? — вглядывается он в меня.
— Так. Семейные обстоятельства.
— Ничего, ничего. Все в этой жизни приходяще, — ободряет он меня расхожей сентенцией.
Очередной осмотр окончен. Он удаляется со своей свитой — медсестрой и двумя юными практикантками из медучилища.
Он удаляется, и он придет завтра утром снова, а следователь Виталий Ильич, значит, Чиж, похоже, обо мне забыл. Я его жду с жадным нетерпением, а он не спешит нанести мне очередной визит. Не означает ли это, что Шерлоки Холмсы вышли на истинный след и отпала надобность в новых допросах Кумирова?
Зато неожиданно появляется в палате тот, кого не жду, — редактор Перевалов, по-всегдашнему озабоченный, высокий, сутулый, со своим неизменным портфелем.
— Ты еще в городе? — удивляюсь я.
— Завтра лечу. Билет в кармане. Знаешь, сколько стоит?
— Тысяч пятьдесят, — называю произвольную цифру.
— А сто двадцать восемь не хочешь? — с каким-то торжеством объявляет он.
— Та-ак, — тяну я. — Подкинули?
— Еще подкинут наверняка. Назад полечу, вероятно, по новой цене.
— А до Новосибирска теперь сколько стоит, ты не в курсе?
— Точно не знаю. Тысяч семьдесят, наверно.
— Та-ак… — тяну я опять. — Кажется, со своей семьей я уже не встречусь.
— Да, Андрей, надо тебе побыстрей их оттуда эвакуировать. Как ты?
— Через неделю, говорят, отпустят.
— Уже через неделю? А не рано? Слушай, Андрей, — вдруг собирает он свой высокий лоб в морщины. — У меня на днях был странный посетитель. И странный состоялся разговор.
— Стоп! — перебиваю я. — Хочешь скажу, кто?
— Ну.
— Некий Виталий Ильич Чиж, следователь. Интересовался неким Андреем Дмитриевичем Кумировым, журналистом. В частности, — усмехаюсь я, — расспрашивал, был ли я у тебя в гостях в воскресенье.
Перевалов откидывается на спинку стула. Помаргивает.
— Все правильно. А что бы все это значило?
— А он тебе не объяснил?
— Очень смутно. Сказал, что ведется какое-то следствие, к которому ты косвенно причастен.
— А подписку о неразглашении взял? — усмехаюсь я.
— Еще чего! Он все-таки не кэгэбэшник. Но вообще-то намекнул, что тебе не обязательно это знать.
— Да, крепко работают ребята! Сначала идет ко мне. Расспрашивает, как я провел воскресенье. Узнает твою фамилию. И полагает, я не допру, что сразу после меня побежит к тебе с проверкой.
— А в чем дело? Я не понимаю… Во что ты впутался?
— Ни во что я не впутался. Помнишь, клянчил у тебя деньги? Ну, когда пили в издательстве.
— Ну.
— Нужно было срочно отдать долг одному приятелю. Я у него брал для отправки семьи на материк. А этого приятеля… это школьный мой приятель… убили на квартире. Видимо, в воскресенье. После него осталась записная книжка должников, и я в ней фигурирую, — медленно и внятно выкладываю ему факты.
— И они всех проверяют?
— И они проверяют алиби каждого из этого списка, скажем так. Вообще все его знакомства.
— А что, убийство с целью ограбления?
— Видимо. Он, говорят, миллионами ворочал, мой приятель.
— Как фамилия? Может, я знаю.
— Яхнин. Игорь.
— Нет, не знаю. И много ты у него перехватил?
— Порядочно. Сто штук. Но у него наверняка и покрупней должники были.
— А отдать успел?
— Насобирал, но не успел. Загнал свою машинку, свадебный сервиз, перехватил у Григорьева… ну, художник, ты его знаешь… А рассчитаться пришлось с его отцом.
Я замолкаю, чтобы Перевалов переварил сказанное. Ибо он слегка потрясен таким странным стечением обстоятельств. И потом спрашиваю с прилипшей к губам усмешкой: — Ну, и что ты ему рассказал?
Мой редактор вздрагивает, точно просыпаясь.
— Что я ему мог рассказать? Сказал, что ты пришел часов в пять в походной одежде, с бутылкой. Что мы выпили. Засиделись. А поскольку было поздно уже, ты у меня заночевал. По-моему, все так и было.
— По-моему, тоже.
— Спросил еще, в каком состоянии ты пришел. Я сказал, что в некотором подпитии… правильно?
— Да, предварительно хлебнул в кафешке, правильно.
— «Ничего необычного не заметили в его поведении?» — спрашивает.
— Психолог! Фрейдист!
— Ну, я говорю, да нет, ничего. Сказал, правда, что ты в последнее время, как семью отправил, вообще комплексуешь. Может, зря?
— Почему зря? Так оно и есть.
— Про книжку расспрашивал. Я ему все растолковал.
— Короче, спас ты меня от тюряги. Спасибо тебе. — Перевалов облегченно смеется.
— Да уж! — И снова морщит свой высокий, многодумный лоб. — А как его убили, твоего приятеля?
— Подробностей не знаю. Говорят, расстреляли в упор.
— Да-а, творят дела. Опасно в Москву ехать.
Больше мы ни о Яхнине, ни о Чиже не вспоминаем, а говорим об издательских делах, о литературных новинках. Горенштейн… Марк Харитонов… Марек Хласко… Лимонов… Бродский… и тяжкий воздух больничной палаты вроде бы сразу свежеет, и вдруг сюда врываются отзвуки большого мира, от которого я как-то отвык и который подзабыл. Я дышу с каким-то внезапным облегчением и возникшей надеждой. Не хочу отпускать Перевалова, но он, конечно, куда-то, как всегда, спешит.
— Ладно, — говорит, — побегу. Пожелай успеха в пробивании твоей рукописи.
— Не в ущерб твоим делам, ладно?
— Ладно! Выздоравливай.
Улетает, счастливец, на Большую землю.
А я через пару дней поднимаюсь с кровати и с легким головокружением неверными шагами выхожу в коридор, а затем — в больничный садик. Такое ощущение, что заново знакомлюсь с жизнью.
Здесь, в больничном садике, на скамейку ко мне подсаживается не кто иной, как пропавший, таинственный, долгожданный Виталий Ильич Чиж.
— Здравствуйте, Андрей Дмитриевич, — дружелюбно приветствует он меня.
— А! Это вы. Здравствуйте, — откликаюсь я равнодушно, слегка отодвигаясь в сторону.
Чиж очень элегантен. Он в каком-то немыслимом костюме из переливчатого, искристого материала, модняцких туфлях, в темных модняцких очках. Узкое лицо выбрито до синевы. Короткая молодежная стрижка. Легкий запах одеколона и хороших сигарет исходит от него. На коленях неизменный «дипломат», а в нем, конечно, супердиктофон (и пистолет?). Следователь новой формации.
— Вырвались на волю, — приветливо то ли спрашивает, то ли констатирует он.
— Да, вырвался. А вот если вы собираетесь меня засадить, то тогда, конечно, век свободы не видать, как урки говорят.
— Что за мысли, Андрей Дмитриевич! — восклицает он со смешком.
— А зачем опять пришли? «Сникерс», что ли, принесли больному?
— «Сникерс» не принес, не подумал. Вы, Андрей Дмитриевич, ей-богу, не понимаете специфики нашей работы. Впрочем, общепринятое заблуждение: раз допрашивают — значит в чем-то подозревают. А мне всего-то надо побыстрей закончить с вами и заняться другими. Есть пара невостребованных вопросов. Закурите?
— Этот вопрос номер один?
— Нет, этот вне программы, — легко смеется он.
— «Мальборо»?
— Ого, запомнили! — достает он из кармана пачку «Мальборо». — Грешен, курю дорогие, хотя жена ворчит.
Мы закуриваем. Денек разгулялся. Синее небо. Припекает солнце. Кажется, лето все-таки берет свое, и порядок природы остается неизменным, несмотря ни на что.
— А вот это уже официальный вопрос, — приступает Чиж, пыхнув дымом разок-другой.
— Без диктофона?
— Сегодня не захватил. Положусь на память.
— Слушаю.
— Вы сказали, что в воскресенье ходили вон туда, в сопки, — указует он рукой на восток.
— Точнее, во-он туда, — поправляю я его географию, показывая рукой на юго-восток. — Туда мне ближе из моего микрорайона.
— Ну, это не суть важно. Рано утром ушли?
— Да нет, не сказал бы, что рано. Часов в одиннадцать.
— Один?
— Вы уже спрашивали. Один, как перст.
— Никого из знакомых не встречали по дороге или в лесу?
— Встречал.
— Да? Кого?
— Одного нашего нештатного автора. Фамилия Неклесса. Работает, если не ошибаюсь, в банковской системе. Обменялись приветствиями и разошлись.
— Ясно. А на обратном пути?
— На обратном не встречал.
— Ясно, ясно. И долго вы в сопках бродили?
— Я время не засекал, у меня часов нет. Когда спустился, заглянул в кафе «Вечерок». Там кого-то спросил. Было половина четвертого.
— Кафе «Вечерок»? Это которое в четырнадцатом микрорайоне? В жилом доме?
— Оно самое.
— А что вам там понадобилось?
— Выпить понадобилось, а там подают.
— Вы не злоупотребляете спиртным, как считаете? — как-то неприязненно поинтересовался Чиж. (Сам-то он, судя по всему, чурается, как черт ладана).
— Когда семья дома, я практически не пью.
— А семья еще не прилетела?
— Еще не прилетела и боюсь, что из-за цен на билеты не скоро прилетит, — мрачнею я.
— Да, цены дикие, верно. А в «Вечерке» знакомых не встретили?
— Увы, нет.
— А много там посетителей было?
— Три человека, я четвертый. Там всего два столика.
— Засиделись?
— Нет, хлопнул сто пятьдесят у стойки и ушел.
— Водки?
— Водки.
— Интересно, почем нынче водка в таких заведениях?
— Везде по-разному. В «Вечерке» триста рублей сотка.
— Без закуски пили? — передергивает Чижа.
— Почему же. Запил стаканом сока.
— Да-а, цены, прямо скажем, ударные. Постойте! — вдруг вскрикивает он, как будто осененный какой-то новой мыслью. — Насколько я помню… я бывал в этом кафе… там обеденный перерыв с трех до четырех.
— Ошибаетесь. С двух до трех. И вообще, Виталий Ильич. — Впервые называю его по имени-отчеству, не скрывая насмешки над его примитивной ловушкой, — коли хотите убедиться, что я там действительно был, осведомитесь у буфетчицы. Зовут ее, кажется, Рая. Она должна меня запомнить. Я ей подарил какие-то цветики-семицветики. В сопках нарвал.
— Нет необходимости, Андрей Дмитриевич, это все формальная проверка.
— Однако Перевалова в издательстве вы все же посетили. И художника Григорьева, полагаю, тоже.
Рассерженный Чиж легонько бьет ладонью по «дипломату», лежащему на коленях.
— Вот черт возьми! — восклицает. — Ничего не удерживается в людях! Просил ведь помалкивать, чтобы вас зря не тревожить. Нет же, растрепались.
— А вы, кстати, обыск в моей квартире не думаете делать? — с желчной интонацией спрашиваю я.
— Да бросьте вы в самом деле!
— А то валяйте, я разрешаю. Правда, ключ у меня в куртке был. А куртку увели. Придется вам дверь взламывать.
— Бросьте, Андрей Дмитриевич, бросьте! — отмахивается Чиж. — Лучше скажите, почему вы не переоделись после вашего похода, а сразу отправились к Перевалову? От «Вечерка» до вашей квартиры, как понимаю, рукой подать.
— А до переваловской еще ближе. Да и не на светский раут я шел.
— Логично.
Сигареты наши догорели одновременно, и мы одновременно выкидываем их в урны — он по правую сторону, я по левую. И Чиж, элегантный в своем костюме, темных очках с безупречной оправой, встает со скамейки.
— Хорошо с вами сидеть на солнышке, но дела ждут.
— А на мой вопрос не ответите? — задерживаю я его.
— Смотря какой.
— Есть сдвиги в яхнинском деле? — впрямую спрашиваю я.
На его свежее, чисто выбритое лицо как будто набегает легкая тень.
— Дело нелегкое, — уклончиво отвечает.
— И все-таки? Я спрашиваю не как бывший приятель Яхнина, а как журналист. В нашей газете, вы знаете, есть рубрика «Криминал». Я мог бы, когда отсюда выйду, освещать ход расследования?
— Преждевременно, Андрей Дмитриевич, — быстро отвечает Чиж. — Надо дождаться, когда мы поставим точку, и вот тогда пожалуйста.
— Ну а все-таки есть сдвиг? — настаиваю я.
— Вам должно быть известно, — уклоняется Чиж от прямого ответа, — что раскрываемость преступлений довольно низкая. Это не секрет. Но за дело Яхнина мы взялись серьезно. Сдвиг есть. Есть перспективная версия. Есть подозреваемые.
— Вроде меня.
— Вы, извините, мелкая сошка. Вы постольку-поскольку. Есть фигуры покрупней, позначительней. Могу сказать, но без передачи: двое уже задержаны, находятся под следствием. Это, разумеется, не для публикации.
— Понятно.
— Всего доброго, Андрей Дмитриевич. Больше тревожить вас не буду. Выздоравливайте окончательно.
— Спасибо.
Я смотрю, как он уходит легкой походкой, покачивая своим «дипломатом», высокий, поджарый, сам больше похожий на дипломата, чем бегунка-следователя. Откидываю голову на спинку скамейки и подставляю лицо сильным солнечным лучам. Наверно, думаю, наш шеф Поликарпов не откажет мне в преждевременном отпуске… из сострадания. И профсоюз, наверно, поднатужится и окажет материальную помощь. Вот на эти деньги я вызволю жену и малышку из затянувшегося новосибирского заточения. Они вернутся, как беженцы, в свой родной дом… а дальше что? Дальше будет видно. Не хочу заглядывать в дебри времени.
— Ну-ка давайте посмотрим, как поживает ваша черепушка, — бодро говорит мой лечащий врач, добрейший Константин Павлович.
Бинты, бинты… Я похож на Уэллсовского человека-невидимку, который, чтобы стать видимым, заматывал свою голову и лицо бинтами.
— Маша, дайте человеку зеркало. Пусть полюбуется на себя. Молоденькая Маша, улыбаясь, подносит мне маленькое зеркальце. Я долго, по частям, по участкам, разглядываю свое лицо, выбритую голову и вдруг истерически хохочу.
Разве это Кумиров глядит на меня? Это же какой-то жуткий уголовный тип, подпадающий под классификацию Ломброзо. Такие вот лица, страшные, с опустошенными глазами, жесткой складкой губ, бугристыми, лысыми черепами я видел на фотографиях в старом издании книги Дорошевича о сахалинских каторжниках.
— Хорошо, а? — как будто радуясь, потирает ладони мой эскулап.
Кое-как справляюсь со своим истерическим смехом.
— Шрамы останутся? — спрашиваю.
— К сожалению, да, — отвечает лекарь. — Но ничего. Они придают вам мужественности. Вот здесь, вот здесь, — трогает пальцем мой лоб, мою щеку. Становится серьезным. — Головные боли мучают?
— Так, эпизодически.
— Надо привыкать. Не сразу пройдут. Возможны сильные приступы. Особенно если позволите себе принять водочки.
— Исключено. Зарекся.
— Правильно.
— Когда выпишите, Константин Павлович?
— Не терпится?
— Да, хочется на волю.
— Ну, можно хоть завтра. Лицо… (читай — морда) у вас поджило. Ну а головную повязку придется еще поносить. Маша аккуратненько сделает вроде чалмы, — смеется он.
Об остальных побитых органах — ребрах, почках, правой руке, правой ноге речь не идет, как о второстепенных. Могу функционировать — это главное. Например, способен поднять трубку телефона в приемном покое и позвонить.
— Иван Петрович?
— Да, я. Кто это? — дребезжит старческий голос.
— Это Андрей Кумиров, помните меня? Я учился с Игорем…
— Да, да, как же, я вас помню.
— Иван Петрович, я не смог прийти на девятый день. Так получилось, что я оказался в больнице.
Выражаю еще раз соболезнование. Слышу его глубокие, жалобные вздохи.
— Спасибо, что позвонили, — благодарит он. — У Игорька при жизни было много друзей, но не все о нем вспомнили. Так бывает, что поделаешь. Приходите на сороковой день.
— Да, я зайду.
Больше нам говорить не о чем. Со стиснутыми зубами я кладу трубку. Где теперь находится Молва? В каких далях обитает, в каком орбитальном полете? Шопенгауэр, прочитанный мной недавно, утверждает, что…
— Вика, это ты, солнышко?
— Андрюша, милый, это ты? — кричит Радунская, сразу меня узнавая.
— Верней сказать, мое подобие. Слушай, я выписываюсь. Не в службу, а в дружбу: сходи к моему шефу, попроси у него машину для моей транспортировки домой. Мне с ним говорить неохота. Сделаешь?
— Господи, о чем речь! — кричит она.
— Сколько любовников новых завела? — навожу на извечную тему.
— Ни одного, дурачок.
— Ну и зря. Теряешь время. Я жду внизу в приемном покое или на улице перед входом, — заканчиваю разговор.
И через полчаса она приезжает в нашей редакционной колымаге. В мини-юбке. В легкой цветастой блузке с короткими рукавами и широким вырезом на груди — полуобнаженная, можно сказать. Длинные ноги, кажется мне, растут у нее сразу из подбородка. В руке у нее букет цветов — кому же это он предназначен, хотел бы я знать?
— Это тебе от всей редакции, — налетает на меня Радунская. Порывисто целует в щеку и только тогда, отступив на шаг, ахает, разглядев мой злодейский облик.
— Что, трудно узнаваем? — улыбаюсь я своими шрамами.
— Господи, что они с тобой сделали!
— А на голове, между прочим, стальная пластинка, — вроде бы горжусь я.
— Да ты что!
— Да. А на ней выгравированы мои инициалы и год рождения.
— Перестань!
— Зачем приехала? Я бы и сам добрался.
— Не твое дело. Я у тебя в квартире приберу. Там, наверно, бардак. — Уу! — стонет голоногая и голорукая Радунская. — Так бы тебе и врезала, не будь ты больным.
— Знаешь, — говорит она уже в машине, на ходу приглядываясь ко мне, — а тебе эти шрамы даже идут. Правда, Костя? — обращается за подтверждением к нашему водиле в маленькой кожаной кепочке.
Он что-то отвечает, но я не слышу. Жадно разглядываю наш Тойохаро, вроде бы преображенный за эти недели, — в буйной зелени берез, рябин, газонов, — словно вернулся из дальнего бесконечного странствия по иным весям, где темно и пустынно.
— Костя, останови у магазина! — командует Радунская.
— А это еще зачем? Я не пью теперь. Завязал я, Вика, навечно.
— Очень хорошо. Рада за тебя. Но с едой ты, надеюсь, не завязал? У тебя дома, наверно, одни тараканы.
И она сообщает то, что я предполагал: редакция выделила мне материальную помощь в размере аж пятьдесят тысяч. Еще мне причитается гонорар плюс больничные, когда сдам бюллетень.
— Ну, как? Неплохо? — радуется за меня Радунская.
Некоторое время я молчу. Курю. Потом слышу свои слова, звучащие как бы со стороны:
— Выгодно, оказывается, быть избитым. И еще:
— Жена звонила, Вика?
— Знаешь, может, и звонила, но я была в бегах все время. При мне не звонила.
И еще:
— Вот что, Вика. Ты сильно не шикуй в магазине. Купи все самое необходимое. Ну, хлеба, молока, каких-нибудь концентратов. Я эти деньги соберу в кучу и вызволю своих с материка. Остатки долгов раздам… понимаешь?
Она понимает. Она почти все понимает и упархивает в раскрытые двери магазина.
Дверь приходится взламывать, ибо ключа у меня нет. Водила Костя делает это быстро и умело, точно по совместительству занимается домушничеством.
Нежные объятия и долгий, но скорее дружеский, чем любовный, поцелуй — вот все, на что меня хватает, когда мы с Радунской остаемся одни. А затем, через пару дней «домашнего содержания»…
— Але! Але! Оля! Ты меня слышишь?
— Слышу, Андрюша. Очень плохо, правда. Говори!
— Нет, это ты докладывай, как у вас дела.
— У нас все хорошо, Андрюша, а у тебя? Я уже начала тревожиться. Пыталась дозвониться тебе на службу, но никто не отвечал. Ты вернулся?
(«Откуда? С того света?»)
— Да, Оля, я на месте. На днях приступаю к работе.
— Что значит «приступаю к работе»? Разве ты не работал? У тебя какое-то произношение невнятное. И голос какой-то не такой. (Все слышит, все чувствует на расстоянии!)
— Это я зуб вырвал, — пытаюсь засмеяться.
— Зуб вырвал? Бедный!
— Вообще-то тут со мной история приключилась, — продолжаю невыносимо бодрым тоном. Сообщить надо, подготовить надо, чтобы, чего доброго, не упала в обморок при встрече со мной, малоузнаваемым.
— Что такое? Что случилось? — сразу напрягаясь, звенит ее голос.
— Да так, ерунда, небольшой криминал, не пугайся, Христа ради. Какие-то молодчики вечером поколотили окола дома. Пришлось пару дней («пару дней!») полежать в больнице.
— Господи! Так избили?
— Ну, я в долгу не остался, — бодро вру я. — Правда, наложили на физиономию пару швов, но они мне, говорят, к лицу. Придают, говорят, мне мужественности. Надеюсь, и тебе понравятся, — смеюсь я, как придурок.
Но ее, мою чуткую жену, не так легко обмануть.
— Андрюша, скажи мне честно: ничего серьезного?
— Абсолютно ничего. Еще красивше стал. Машенька здорова? — перевожу разговор на самое главное.
— Нет, скажи мне еще раз, что ничего серьезного.
— Ничего серьезного!! — раздельно, по слогам отчеканиваю я. — Забудь и не думай об этом. Вопрос слышала?
— Здорова, здорова. Очень веселая и бойкая. Мама в нее влюбилась.
— А ты-то как? Здорова?
— Господи, ну что со мной сделается! Я тут как сыр в масле катаюсь, а ты, бедный, наверно…
— Я тоже живу припеваючи.
— Да? Вот как? И даже не скучаешь? Не вспоминаешь?
Эти ее безобидные слова, почти шутка, вдруг так меня задевают, что я, весь перекорежива-ясь, ору:
— Поглупела ты, однако, в своей Сибири! Думай, что говоришь!
— Ну, извини, пожалуйста. Я ведь тут совершенно измучилась без тебя.
— Очень хорошо. Так и должно быть, — гашу я в себе приступ злости. — Теперь слушай в оба уха. Завтра… возможно, послезавтра… это от бухгалтерии зависит… вышлю тебе деньги. Как только получишь, немедленно покупай билет и вылетайте. Все поняла?
— Андрюша! Неужели? — не верит она своим ушам. Голос у нее невероятно счастливый. Я вдруг чувствую жжение в глазах от подступивших слез. Сентиментальный стал, однако, Кумиров! — А то я у мамы хотела просить.
— Не вздумай.
— А ты не знаешь, сколько сейчас стоит билет?
— Знаю. И возможен еще подскок цен. Поэтому желательно, чтобы вылетели быстрее. А то нарветесь на новые тарифы.
— Да, конечно… на первый же возможный рейс. Ох, Андрюша, как тебе удалось? А что с этим кошмарным долгом? Висит?
— Отдал.
— Да ты что!
— Вообще полностью рассчитался со всеми.
— Ох, как хорошо! Просто не верится. А я тут у мамы заняла…
— Я вышлю двумя переводами с запасом.
— Не в этом дело. Ей отдавать необязательно. Я купила тебе куртку. Очень красивую, модняцкую, — опять счастливо поет ее голос.
Что ей сказать? Это жжение в глазах, эта сентиментальная влага, эта боль в виске… И я заявляю, что она ведет себя по-идиотски, тратит деньги черт-те на что. Я запрещаю ей покупать мне еще что-либо, иначе, говорю, не пущу домой, и Ольга заливается давно не слышимым мной смехом.
— Малышка где? — спрашиваю я. — Может, дашь ей трубку. Пускай покурлычет.
— Ох, она с мамой гуляет. Мама в отпуске. Они теперь неразлучны.
— Ну, ладно, — вдруг сразу обессилев, говорю я. — Поцелуй ее от моего имени, если позволит. Тебя тоже целую.
— А я тебя. Очень сильно!
— Жду.
— Жди!
Я кладу трубку и ковыляю к двери. Радунская стоит в редакционном коридоре около окна и задумчиво курит.
— Вика, — зову я ее. — Можешь заходить. Сепаратные переговоры закончены.
Но действительно ли я рад прилету жены и дочери? Не страшит ли меня их возвращение? Смогу ли я казаться таким же, каким был в ту (кажется, астрономически далекую) пору их присутствия под нежным, сострадательным, пытливым взглядом Ольги? Только ли мои шрамы обновили меня? Нет ли в моем лице тех необратимых изменений (прочь, Вика, прочь, ты тут ни при чем!), которые недвусмысленно кричат о смерти прежнего Кумирова?
В этот день, тащась после телефонного разговора домой, я захожу в нашу новую церковь (а точнее — молельный дом) и впервые в жизни истово выстаиваю службу.
…чтобы еще через два дня приступить к исполнению своих муторных редакционных обязанностей.
«Вылетаем двенадцатого. Целую Ольга» — гласит телеграмма. Хотя ожидал ее, она поражает меня, как глас Божий с небес. Приступ головной боли. Нервная трясучка. Пенталгин. Элениум. Тяжкая, нескончаемая ночь.
Наутро Радунская сообщает, что мне звонили из милиции.
— Некто Дворкин. Вот телефон, — протягивает она мне бумажку с номером.
— Не из прокуратуры? — уточняю я.
— Нет, из милиции. Может быть, нашли твоих бандюг? (Моих!)
Она попадает в точку. Меня вызывают на опознание. Но я ведь ясно сказал вам, толстолобые, что я не помню ни одного лица! Я не помню ничего. Больше того. Я не хочу, чтобы моих знакомцев, если это только они, отдали под суд. Я не чувствую к ним никакой ненависти. Больше того. Я углядываю в их зверских действиях какую-то высшую логику и справедливость. Если угодно, это кара, ниспосланная свыше.
Так я хотел сказать следователю УВД в его кабинете, крохотном кабинете с решеткой на окне. Но я лишь устало говорю, что это зряшная затея. Я никого не могу опознать, ибо я ничего не помню. Вообще, говорю я, не имею к ним претензий и прошу закрыть дело. Я их прощаю.
Это мое заявление почему-то бесит следователя Дворкина, высокого и, как жердь, худого человека с опасным, хищным лицом.
— Вот такие, как вы, сердобольные, трусливые гавнюки и плодят уголовщину, — свирепо цедит он сквозь зубы. — Эти подонки признались… понимаете, признались! Мы из них выбили показания, а теперь я должен выпустить их на волю, так получается? А они завтра кого-нибудь зарежут — это вам до фени?
Два милиционера (один из них знакомый юный сержант) вводят двух (руки за спиной) молодых парней. Оба невысокие, коренастые, широкомордые крепыши. Оба синхронно, как-то скабрезно ухмыляются. За ними вводят еще двух. Эти различаются ростом, но оба безлики, без каких-либо индивидуальных примет, и оба угрюмо равнодушны. Их всех усаживают вдоль стены на стулья.
— Эй, Полунин! Ты, ты, старший! — обращается следователь к одному из двух коренастых. (Братья!) — Узнаешь его? — тычет в меня пальцем.
Полунин-старший несколько секунд глядит на меня с безобразной ухмылкой.
— Тот был бухой. А этот вроде трезвый. Но вроде похож, — медленно выговаривает он.
— А вы, — перекидывается на меня следователь Дворкин, — узнаете кого-нибудь из них?
Ну, надо ему, чтобы я узнал, надо! Я качаю головой.
— Нет, никого не узнаю. — И, кажется, слышу, как следователь скрипит зубами. Он сейчас, кажется мне, ненавидит меня больше, чем эту четверку. Вдруг, перегибаясь, ныряет в свой стол и вытаскивает оттуда куртку.
— Ваша?
Я подхожу, разглядываю. Отказываться бессмысленно.
— Моя.
— Что было в карманах?
— Удостоверение. Ключ от квартиры. Кое-какие деньги.
— Что значит кое-какие! Сколько конкретно?
— Знал бы я! Не помню. Я в тот день отдал долг. Несколько сотен, наверное, осталось.
— А не несколько тысяч?
— Вряд ли.
— Удостоверение можете забрать. А с деньгами можете попрощаться. Куртку пока оставим у себя. Распишитесь вот здесь, — подсовывает мне какую-то бумагу. Я расписываюсь, не глядя в текст. — Вы свободны, — свирепо говорит он мне, как справедливо осужденному и тут же незаконно помилованному.
Не прощаясь, я ухожу с привычной уже, сверлящей болью в темени.
Дожидаюсь, когда стемнеет. Темнеет в эту пору поздно, лишь в одиннадцатом часу. От моего дома до ТОГО места в сопках полчаса ходьбы. Но я иду медленно, заторможенно и затрачиваю, наверное, около часа, чтобы миновать район застроек с его котлованами и заборами, выйти на тропу и подняться по ней круто вверх до пересечения с проезжей дорогой, где стоит трангуляционный геодезический знак. Здесь я делаю передышку, выкуриваю сигарету, а затем сворачиваю в заросли шиповника под темную сень лиственниц и берез. Теперь ориентиром мне служит мачта высоковольтной передачи, вон она, средняя из трех, которая раскорячилась у подножия сопки. Сразу за рощей начинается большая проплешина горельника, моего горельника. Печальное, сиротское место, наверняка малопосещаемое. Черная земля. Остовы деревьев. Струпья кустарников. Уже сильно стемнело, но пока не настолько, чтобы включать фонарик. Я так найду этот приметный камень, на котором можно передохнуть и выкурить еще одну сигарету. Вот он, на своем исконном месте, метрах в ста от мачты.
Я сказал «камень»? Но это не камень. Это отколотый кусок какого-то массивного бетонного блока. Он лежит, видимо, с тех пор, как ушли из этих мест строители высоковольтной линии. И он будет лежать тут еще многие годы, зарастая травой, лопухами, медвежьими дудками, до тех пор, пока городская застройка не доберется до этих мест. Кому придет в голову бродить по этому горельнику, переворачивать или перемещать этот тяжелый кусок бетона? Любопытные, вездесущие пацаны? Они не осилят. Фанатик рыбак, ищущий червей под камнями и корягами? Исключено. Поблизости нет речки. Мой тайник куда как надежней, чем ТОТ в Петербургском дворе… Да, плагиат, конечно. Плагиат. Я бесстыдно украл эту идею у незабвенного Федора Михайловича.
Но хватит ли у меня нынче сил, чтобы справиться с этой тяжестью? Я выдохся, хрипло дышу. В голове такая боль, что кажется, ее сейчас разорвет изнутри. И все-таки я не теряю бдительности: долго в тишине разглядываю темные окрестности. Никого нет вокруг. Никто меня не преследовал, и я приступаю.
Первая попытка приподнять руками эту бетонную уродину неудачна. Мне понадобился толстый железный прут, который я отыскал в прошлый раз и припрятал в ложбинке невдалеке. Придется включить фонарик, но осторожно, Кумиров, осторожно. На свет летят не только безобидные мотыльки. Какой-нибудь задержавшийся дачник. Какая-нибудь влюбленная пара. Свет в лесу привлекает, и я, прикрывая фонарик ладонью, направляя луч света себе под ноги, подаюсь метров на двенадцать левее и осматриваю горелую ложбинку. Вот она, эта железяка, лежит, где я ее оставил.
Теперь я вооружен, а точнее, обеспечен подъемным устройством. Возвращаюсь к тайнику и в полной темноте (луны нынче нет на небе, подернутом облаками), пользуясь железным прутом, как рычагом, переворачиваю бетонную хреновину. Под ней кусок толстой толи, мной подложенный. Дальше песчаная почва, которую я легко разгребаю руками, пока на глубине локтя не нащупываю свою кожаную сумку. Это старая сумка, найденная мной в кладовке, но она не дырявая и «молния» на ней работает исправно. Внутри полиэтиленовый пакет, трехслойный. Пакет в пакете. На них надпись: «В знак дружбы от японского народа». В таких продают заморские продукты — гуманитарную помощь от наших островных соседей. Я снимаю плотную резинку с горловины пакетов, запускаю внутрь руку и ощупываю твердые пачки. Мне нет необходимости пересчитывать, сколько здесь денег. Я и так знаю. Пять миллионов восемьсот тысяч рублей. Семь тысяч триста двадцать семь долларов. Тысяча двести немецких марок. Почти шестьсот тысяч японских иен. Семьдесят два приватизационных чека. Я держу в руках ценности яхнинского домашнего сейфа.
Теперь надо опять на краткое время включить фонарик. Я пристраиваю его на земле и, низко согнувшись, вынимаю из одной пачки три пятидесятитысячные купюры. Но тут же понимаю, что сделал ошибку. Нежелательно оперировать крупными купюрами. Не исключено ведь, что предусмотрительный Яхнин отметил в своей записной книжке номера или серии, и тогда… Безопасней мелкие деньги. Например, вот эти банковские пачки пятисотрублевок. Две пачки, сто тысяч — этого хватит на предстоящие бытовые расходы. Это не вызывающая сумма, и при опасной ситуации, внезапном, скажем, обыске я смогу в ней отчитаться. А остальные… остальные я тщательно увязываю в пакеты, кладу в сумку, застегиваю ее на «молнию» и возвращаю в уютную песчаную ямку. Я буду еще приходить сюда неоднократно и изымать понемногу, очень умеренно, очень разумно — и так до первых заморозков, до первого снега, когда придется сменить этот тайник на другой. К тому времени окончательно станет ясно — снято ли с меня подозрение… и, возможно, к зиме я уже найду способ воспользоваться в полной мере этим несусветным богатством.
Плагиат, Федор Михайлович, понимаю. Я чуть ли не наизусть помню «Преступление и наказание», и я помню умно-зловещие рассуждения Родиона Раскольникова. Попадаются именно те, кому не терпится спустить награбленное, кому невтерпеж, кто чуть ли не в день преступления устраивает кутежи в кабаках… «Плебсы!» — вот как он называл с презрением этих безнадежных глупцов.
Но Кумиров не плебс, о нет! Я не из этого разряда, хотя меня мучит жгучее желание немедленно приступить к осуществлению своего замысла, конечная цель которого — заграница.
Будь я один, будь я волком-одиночкой, то, возможно, не удержался бы от дикого соблазна ближайшим рейсом вылететь на материк и там раскрепоститься в полной мере. Но это не мои личные деньги. Это — скажем так — семейные деньги, от которых зависит благополучное будущее Ольги и Машеньки, и поэтому я не могу ошалело рисковать. Я выдержу томительную паузу. Может быть, полгода, может быть, даже больше, живя так, как жил, ну, может быть, чуть обеспеченней, чем прежде, — без всяких вызывающих дорогостоящих покупок, которые могут броситься в глаза и вызвать пересуды. Я буду даже продолжать практику займов у приятелей и знакомых… и так до тех пор, пока пульсирующее дело Яхнина не завянет, не пожухнет, не покроется пылью в следовательских папках… И вот тогда пойдут в ход эти неправедные миллионы, жгущие мне руки. Моя семья не будет бедствовать, как прежде! Моей дочери не придется с завистью смотреть на своих богатеньких однолеток! Не для нищенской жизни родил я ее.
Поэтому сто тысяч и ни копейкой больше. Скромная сумма, истинное происхождение которой не узнает даже Ольга, — вполне подотчетная, если нагрянет вдруг мой дружок Виталий Ильич Чиж. Но вряд ли. УЖЕ вряд ли он нанесет мне визит. Алиби мое почти безупречно. В то роковое воскресенье я был здесь, в сопках (и тому есть подтверждение: встреча с нештатным автором), затем меня видела и запомнила барменша Рая в «Вечерке», затем я пьянствовал с Переваловым (а он и его жена Люда даже не предполагали, что в моем походном рюкзаке, небрежно брошенном в их прихожей — дикий риск! — лежат миллионы), а отрезок времени от 13.45 до 15.20 — столько времени я провел в квартире Яхнина — невозможно засечь. Нет такого медицинского эксперта, который на третий день после смерти смог бы с точностью до часа определить, когда эта смерть произошла. Наверняка заключение расплывчато. «Следует считать, что…», «вероятней всего, что…» День смерти, конечно, назван правильно — воскресенье. Может быть, в заключении даже указано время суток — утро, день, вечер, но и только, без часов и минут. У Кумирова есть алиби и на утро, и на день, и на вечер. И он никого не встретил, поднимаясь по лестнице в квартиру Яхнина. Никого не было у подъезда. Ни одна живая душа (ситуация Раскольникова) не видела меня, уверен, когда я спустился из квартиры во двор и сразу же свернул за угол дома на оживленную улицу.
А отпечатки пальцев? Их не осталось, тоже уверен. Литература, к которой косвенно причастен Кумиров, стала его помощницей и соучастницей. С насмешкой, а то и с брезгливостью прочитанные современные детективы оказались в чем-то полезны. Все возможные отпечатки — на рюмке, из которой пил, на бутылке, из которой наливал, на письменном столе, на журнале, который перелистывал, на сейфе… словом, везде уничтожены. Окурки унес с собой и выкинул на улице. Паркет в прихожей протер мокрой тряпкой, чтобы не осталось следов рубчатых туристских ботинок, а по квартире Яхнина я ходил в его тапочках.
Я проделал все это тщательно, как домашняя хозяйка, и с необычайной четкостью, точно в ярчайшем сне, помню каждое свое движение. Понадобилось минут двадцать — может, чуть больше, и каждую минуту, нет, каждую секунду я ждал, что зазвонит дверной звонок, и мне придется затаиться, как Раскольникову, и переждать, пока уйдут пришельцы. Какое-то высшее озарение подсказало, что надо вырубить магнитофон… и протереть клавишу, на которую нажал пальцем. Но никто не позвонил. И у меня хватило ума и рассудка, выходя на лестничную площадку, протереть носовым платком, мокрым от пота, английский замок, засов, цепочку, дверные ручки. Странно, но я не позабыл захватить с собой цветики-семицветики, принесенные из леса.
Ольга никогда не узнает об этом. Я никогда не исповедаюсь ей, как Раскольников Соне Мармеладовой. Когда придет срок и надо будет показать ей это богатство, я сделаю так: я НАЙДУ деньги в «дипломате». Их оставит в баре какой-то пьяный коммерсант. Мы поразмыслим с Ольгой, относить ли их в стол находок или в милицию, и, конечно, я смогу убедить ее, что нам они нужней, чем неведомому барыге. Очень сомнительно, что она, при ее доверчивости, сможет как-то связать неожиданное богатство со смертью Яхнина, ей незнакомого. Да и о смерти его она вряд ли узнает.
Кого я боюсь, так это самого себя. Не выдадут ли меня внезапные ночные откровения? В ту ночь у Переваловых я ни на минуту не заснул, боясь, что кровь Яхнина заговорит во мне. Я довел себя до изнеможения, прежде чем приткнулся под боком приблудной Радунской. Но кто его знает — может быть, в своих одиноких снах с непроходящими кошмарами я выкрикиваю его имя, плачусь, мечусь и саморазоблачаюсь?.. Я полагаюсь на сильные снотворные и успокоительные средства, которых не имел мучимый виной Родион Раскольников. Но я не он, и я живу в иное время — ожесточенное и не склонное к глубоким покаяниям. Я могу убедить себя, если постараюсь, что Яхнин-Молва сам уготовил себе такой конец, и смерть его, как смерть старухи процентщицы, не нанесла непоправимого урона всем живущим… Может быть, в этой смерти есть высшая справедливость.
Клад мой лежит под бетонным гнетом. Я спускаюсь в город, высвечивая фонариком тропу. Почему вдруг, уже в городской черте, я круто сворачиваю вправо, выхожу не в одиннадцатый микрорайон, где живу, а в девятый? Неужели мой плагиат столь бесстыден, что и сейчас не могу освободиться от влияния Федора Михайловича? Я ведь помню, что «неотразимое и необъяснимое повлекло его». И вот стою перед домом Яхнина, вычисляя взглядом окна его квартиры. Они темны, зашторены. Квартира, видимо, пуста. Она ждет нового хозяина.
«Неотразимое и необъяснимое желание» охватывает меня. С неодолимой силой тянет подняться на третий этаж к знакомой двери и, помедлив, передохнув, нажать кнопку звонка, как в тот раз… и услышать легкомысленную неделовую трель.
Как и в первый мой приход, я стоял в зоне обзора из дверного «глазка». Как и тогда, была некоторая пауза, прежде чем раздались шаги. Затем звякнул засов, щелкнул замок, дверь распахнулась, и передо мной предстал мой кредитор, мой однокашник, мой дружок.
Яхнин был в той же небесно-голубой пижаме, распахнутой на груди, с всклокоченными светлыми волосами.
— Ба! — вскричал он. — Кто к нам пришел! Какие люди!
— Спишь? Пьянствуешь? Блядствуешь?
— Ни то, ни другое, ни третье. Работаю! Входи.
Та же просторная прихожая с паркетным полом, деревянной обшивкой стен, огромным зеркалом, низкими, мягкими пуфиками.
— Ты никак, старичок, на пленере был? — ясным голосом вопросил Яхнин, глядя, как я расшнуровываю и стаскиваю свои походные ботинки. — По грибы ходил? Вроде бы еще не сезон. А цветы кому? Уж не мне ли?
— Не тебе.
— Ага. Своей благоверной, значит. Прилетела?
— Нет еще. — Я стащил рюкзак и бросил его на пол.
— Однако надолго ты ее в космос запустил! Значит, ее заместительнице цветочков нарвал, а, Кумир?
— Неважно. Куда идти?
— Сегодня можно в мой кабинет. Я, старичок, сегодня один. Давай сюда, — пригласил он, взмахнув рукой.
Мы вошли — он первый, я за ним — в большую, светлую гостиную. Я сразу остановился озираясь. Таких больших, богатых гостиных я не видел в домах своих знакомых. Все здесь блестело и сверкало зеркальной полировкой: «стенка», длинный стол, дюжина стульев вокруг него, мягкие кресла по углам. На стенах висели яркие, сюрреалистические какие-то, картины. Толстый, шоколадный — под цвет мебели — ковер покрывал пол. Огромный экран телевизора, утопленного в «стенке», беззвучно показывал картинки. Вазы. Керамические блюда. Фарфоровые сервизы. Индийские серебряные кувшины. Пылающий букет свежих красных роз. Идеальная, стерильная чистота. Кондиционер по ту сторону широкого окна. Блистающая люстра на длинных подвесках. Что еще? Не помню.
Помню, что, исказив лицо в привычной усмешке, сглотнув слюну, я выдавил:
— Богато живешь, Молва.
— Стараюсь, Кумир. Не люблю ни в чем себе отказывать, — хмыкнул Яхнин, явно довольный моим потрясением.
— И сколько у тебя комнат?
— Пять. Пока пять.
— Не много для одного?
— Старичок, ты обалдел! У тебя советская психология. Много — это пятьдесят.
— У меня лично восемнадцать квадратов, — пробубнил я.
— А потому что ты балда! — определил мою сущность Яхнин. — Я сейчас строю по дороге на Горный воздух… знаешь, около лыжной базы?.. такую храмину! Двухэтажный. Около двухсот квадратов, с двумя ванными, двумя туалетами, тиром в подвале, бильярдной, ну и теннисным кортом рядышком. Это будет похоже на нормальное жилье. Как въеду, приглашу на новоселье, — ослепительно оскалился он, — придешь?
— Нет, старичок, — в тон ему отвечаю я. — Заранее отказываюсь.
— А что так?
— Не люблю завидовать. А ты провоцируешь.
— А, вон что! — хохотнул Яхнин. — Ну, это бывает. Ну, пошли, пошли в кабинет!
Первое, что меня поразило — книги. Яхнин читает! Сотни томов заполняли полки вдоль одной стены. На другой, как и в гостиной, висели полотна. Штормовое море. Таежный распадок. Белоснежные яхты. Между ними почему-то две скрещенные шпаги и ритуальный меч. Портативный, сверкающий сталью сейф. Старинный письменный стол с разбросанными на нем бумагами. На приставном столике включенный компьютер. И ослепительно белая медвежья шкура устилала пол — с разбросанными когтистыми лапами и оскаленной мордой.
Яхнин вместе со мной не без удовольствия оглядел этот кабинет.
— Садись, — подтолкнул меня к глубокому креслу. — Кури. У меня минут на десять работенки осталось. Посмотри вот пока.
Он взял с письменного стола глянцевый толстый журнал и бросил его в кресло.
— Может, сразу решим наши финансовые вопросы да я пойду?
— Старичок, обижаешь! Неужто и на этот раз сбежишь? Спешишь, что ли, куда?
— Да нет… — промямлил я. — Усталость вдруг навалилась.
— У меня сегодня никаких встреч не запланировано. Мы с тобой хорошо посидим, Кумир.
— Что ж… ладно.
— Вот это разговор! — обрадовался Яхнин. — Десять минут, и я свободен. Он уселся за компьютер на высокий крутящийся табурет. Яхнин — книжник. Яхнин — программист. Непостижимо.
Я закурил. После моего пролетарского «Рейса» дым «Честерфильда» показался эйфорически легким и сладким. А журнал… это был шведский журнал. С его обложки на меня глядел обнаженный, сияющий женский зад, снятый крупным планом. «Добро пожаловать!» — вроде бы услышал я его призыв. Внутренние страницы красочного, многоцветного издания предлагали широкий выбор плотских удовольствий. Он и она. Он и он. Она и она. Двое и один. Два и одна. Свальный грех на ковре. На изумрудной лужайке. Сверкающие зады. Напряженные члены. Измазанные в губной помаде, раскрытые женские рты. Одиночное мастурбирование. Коллективное мастурбирование. Я разглядывал эти картинки с хладнокровным, злобным любопытством — не более того.
«Эта квартира со всей обстановкой… при нынешних ценах… если ее продать, стоит, наверное, не один миллион, — вот о чем думал я в эти минуты, бегло листая журнал. — И он строит загородный дом. Во сколько же может обойтись сегодня постройка загородного дома?.. — не отпускала меня мысль. И всплывали несусветные суммы. Воображение катило, как колеса, круглые нули. Мое ощущение, что я сам в тот момент набит деньгами, вмиг потускнело. Что для Яхнина мои сто штук! Это, может быть, его дневной заработок (или часовой?). Он может, если возникнет такая блажь, насадить эти купюры на гвоздь в туалете и использовать их как туалетную бумагу».
«И ты, сука, заставил меня выложиться до последнего, — думал я, тупо глядя в небесно-голубую спину Яхнина, в его затылок с взлохмаченными волосами, слыша слабое попискивание компьютера. — Подбиваешь новые бабки, да? Приход-расход? Сальдо-бульдо? Икра, рыба, чеснок, лук, водяра, кофе, да? Оптовые партии. Зарубежные связи. А сколько, интересно, разбросано у тебя по городу «комков»? И ты, сука, грозился натравить на меня своих мафиози, чтобы востребовать долг? А Ольга и малышка живут на тещином иждивении. А я торгую свадебными подарками, и ничего впереди не светит», — темнело у меня в глазах.
Яхнин вдруг крутанулся на своем табурете. У него было светлое озаренное лицо.
— Ну как? — поймал он меня врасплох.
— Что как? Гомиков не терплю. Лесбиянок тоже.
— Я не о том. Представляешь, такой бы журнал попал в наш класс в те годы? Старичок, мы бы рехнулись, скажи?
— Наверное.
— Мы бы наших целочек начали трахать почем зря. Мы же были наивненькие, Андрюха. Сколько упустили!
— Ты уже закончил? — прервал я его. Меньше всего мне хотелось предаваться с ним воспоминаниям.
— Да хрен с ней, с работенкой! Не убежит. Давай разговеемся.
— Я деньги принес, Молва.
— Да? Принес? Ну, нормалек. Я всегда был в тебе уверен.
— Вот, — сказал я, доставая из заднего кармана джинсов пачку тысячерублевых купюр, перетянутых резинкой. — Держи.
Я бросил ее через комнату, он ловко поймал.
— Сколько здесь?
— Десять.
— А проценты, старичок?
— А ты можешь подождать с процентами еще пару недель?
— Андрюха, Андрюха! — укоризненно вскричал Яхнин. — Я же тебе, кажется, объяснил мой принцип. Дружба дружбой, а башли башлями. Неужели не усек?
— Хорошо, через неделю.
— Завтра, старичок, завтра. Завтра пятнадцатое. Моя фирма знаешь чем славится? Точностью платежей. И с других я требую точности. В бизнесе, старичок, иначе нельзя. Тут уж извиняй. Поднапрягись, ладно?
Я вдруг расхохотался. Расхохотался и закашлялся, заперхал, да так, что на глазах выступили слезы.
— Старичок, что с тобой? — напугался вроде бы Яхнин.
«Не зови меня старичком, подлюга, а то я тебя чем-нибудь пристукну…» — такая мысль мелькнула. Я платком вытер взмокшее лицо.
— Ничего… так… приступ. Ну, давай, тащи, что ли, выпивку, если есть. Яхнин соскочил с высокого табурета, белозубо улыбаясь.
— Вот это разговор! Узнаю былого Кумира! Ты что пьешь, родной? У меня ассортимент широкий.
— Неважно. На твой вкус.
— «Наполеон» пойдет? Есть пара бутылочек.
— Давай Бонапарта, пойдет, — все еще окончательно не отсмеялся я.
— Лады!
Он бросил мою пачку на письменный стол и по белой, роскошной медвежьей шкуре стремительно вышел в гостиную. Сразу же там грянула музыка — Яхнин врубил магнитофон.
Почему он так быстро опьянел? Почему так быстро и неотвратимо?
А я? Я не уступал ему в рюмках. Но почему алкоголь меня не брал, лишь до боли обострял мысли?
Закусывали мы засахаренными апельсиновыми дольками, кусочками иноземного шоколада и курили легкий «Честерфильд».
После первой бутылки на лбу Яхнина выступили красные аллергические пятна. Взлохмаченные светлые волосы. Русая бородка. Голубые глаза. Он оправдывал свою вторую школьную кличку — Красавчик.
Стародавний Яхнин и его стародавние события, извлеченные на свет его памятью…
— Помнишь практикантку Светлану Юрьевну? — жадно спрашивал он.
— Очень смутно.
— Ну как же, Кумир! Маленькая такая, грудастая, жопастенькая. Английский преподавала месяца два.
— Блондинка, что ли?
— Ну да, она самая! В десятом классе у нас была. Я ведь чуть не трахнул ее, старичок, веришь?
— Все может быть, — отстраненно отвечал я.
— Как-то после уроков задержались в классе. Вдвоем. Слово за слово: так, мол, и так, Светлана Юрьевна, почему мне английский трудно дается, как вы думаете? И накинулся на нее, начал целовать, обжимать. Ты думаешь, она шибко сопротивлялась? Ну, отбивалась, конечно, но так, без энтузиазма. Клянусь, Кумир, были бы условия, стала бы моей. — Он облизнул красные губы и воззрился на меня с искренним беспокойством: поверил я или нет?
— Мы много чего упустили, — неопределенно отвечал я.
— Брось, Кумир! Ты-то не упускал! Тот поход помнишь, в восемьдесят первом, летом?
— Что за поход?
— Ну как же! Неужели не помнишь? — разволновался Молва. — На Черную речку, с палатками.
— Аа!
— Вспомнил?
— Нет.
— Придуриваешься, Кумир! Фаддей с нами был, физик. Мы его упоили вусмерть.
— И Фаддея не помню.
— Придуриваешься, Кумир! — разозлился Яхнин. — Скажи еще, что Попцову не помнишь, свою пассию?
— Попцова? Кто такая?
— Третья парта слева, около окна. Сидела с кореяночкой Соней. Да помнишь ты, помнишь! Придуриваешься! — закричал генеральный директор. Он походил не на генерального директора, а на обиженного, взъерошенного подростка.
— Ты, я смотрю, Молва, ценишь то время, старичок. Странно.
— А чего странного, старичок? Молодые были, не то что сейчас. Давай еще по одной.
— Давай.
— Я тебе так скажу, Андрюха. Я школу всегда ненавидел. Я кое-как дотянул до финала, ты знаешь. Там как в тюряге было. А сейчас иной раз вспомню и думаю: неплохо бы повторить. Вот какая срань! Ненавидел и вспоминаю. Ностальгия, старичок. С чего бы это?
— Стареешь.
— Наверно. А верней — все познал. Тогда что-то впереди светило. А сейчас? Бабы приелись. Денег навалом, хоть печку топи. В загранке уже побывал, поеду еще, заведу там счет в банке. А может, умотать туда, а?
— Твое дело.
— Подумаю, подумаю! Пока еще рано. Капиталы пока еще не те. Ну а вообще-то, что там особенного, ну, в тех же Штатах? Те же бабы, те же кабаки, машины, коттеджи… ну, классом повыше и только, — загрустил вдруг Яхнин. — А хочется чего-то новенького. А чего, а? Чего, старичок?
— Попробуй петлю, — предложил я вариант.
— Ась?
— Повешайся, — расшифровал я.
Яхнин перетянулся через стол и сильно хлопнул меня ладонью по плечу, как бы оценив мой черный юмор.
— Ну уж хуюшки! — вскричал он, воспрянув. — Этого от меня, старичок, не дождешься. Я еще поживу, старичок, погуляю, повластвую. Это я так, рассиропился на миг… А жизнь я люблю. А сколько еще баб неопробованных! Кстати! — вдруг озаренно воскликнул он. — Чего мы одни-то сидим? Давай я сделаю пару звонков. Сейчас набегут сучонки… — И он потянулся к супертелефону с наборным диском на трубке.
Я перехватил его руку.
— Стоп, Молва. Это без меня.
— Да брось, Кумир! Что ты из себя монаха лепишь! Они бы и сами уже набежали… звонили уже, и не одна, но я отлуп дал: работаю, мол. Но это дело поправимое. — И опять потянулся.
— Тогда я пошел. — Я встал. Давно уже хотел встать.
— Стоп, стоп — куда! Ни с места, Кумир! — заорал мой дружок и, распахнув дверцу сейфа за спиной, выхватил оттуда пистолет и нацелился в меня. — Шаг влево, шаг вправо — расценивается как побег!!
Черный убийственный зрачок глядел мне прямо в лоб.
— Всамделешный? — усмехнулся я не, двигаясь.
— А ты как думаешь? Детская пукалка, что ли?
— И заряжен?
— Ясное дело. Полная обойма. Хороша игрушка, а? — хвастливо оскалился он, опуская руку.
— И на хрена он тебе? — все еще не двигался я с места?
— Ну, ты даешь, старичок! У меня не только этот охранник. У меня и живые есть в штате. На приличных окладах, между прочим. Не в пример твоему.
— А охрана тебе зачем?
— Эх, Кумир, старичок, простодыр ты! — пожалел меня Яхнин. — Я же хорошими башлями ворочаю, а до них знаешь сколько охотников? Это ты, голь перекатная, можешь жить без опаски, как одуванчик. А я всегда на стреме. Вот в этом сейфе, ты думаешь, что хранится? Рваные носки или презервативы? Не-е! — пьяно замотал он светлой башкой. — Здесь, родной, лимоны. Цитрусовая плантация! — белозубо захохотал он.
— Заливаешь, Молва. (Кто это сказал? Я?)
— Не веришь? Показать?
— Не надо. Верю.
— Правильно делаешь, Кумир. Подбросим туда вот это говнецо. — Он взял мою пачку и, полуобернувшись, швырнул ее в открытое зево сейфа.
Вот это зря он так сказал и зря с таким небрежением кинул эту пачку, собранную в хождениях по мукам. И зря продолжал:
— Жаль мне тебя, Кумир, бля буду, таких нищих, как ты, стрелять надо, чтобы детей не плодили. Ну, что твоя девка… или кто там у тебя?.. увидит в жизни, какие радости при твоих-то доходах?.. Да ты не серчай! — тут же дружелюбно закричал он — наверно, лицо у меня сильно исказилось. — Не серчай, родной! Садись! Продолжим!
— Без баб.
(Кто это сказал? Я?)
— Ладно, х… с тобой! Оставайся девственником. Сейчас еще бутыль раскупорим. Считай, целку сломаем, а?
Я протянул руку. Нет, не так. Некто, неподконтрольный мне, с темной мутью в глазах протянул руку и проговорил:
— Дай посмотреть твою игрушку. Никогда не держал. Яхнин охотно откликнулся:
— Посмотри, старичок, посмотри, оцени! И охотно протянул мне свой пистолет.
Неужели ничего не дрогнуло в нем в эту минуту? Неужели не прозвучал в нем никакой предупредительный сигнал свыше?
Я взял пистолет и взвесил на ладони. Он показался мне необычно тяжелым. Я повертел его в руках, разглядывая. Он был безупречно красив, этот молодчик, как и его хозяин. Я ощутил, что от него исходит какая-то живая пульсация.
И Яхнин с любовью вглядывался в своего охранника. «Ну, как? Хорошо, а?» — не терпелось услышать мое похвальное слово.
Опять не я, а некто, мне не подконтрольный и мной не управляемый, проговорил стальным голосом:
— Молва, молись. Сейчас я тебя расстреляю.
Он вскинул руки вверх, как при сдаче в плен:
— Давай! Пали, родной. Но только чтобы не очень больно.
Некто щелкнул предохранителем.
— Эй! эй! — закричал Яхнин. — Ты это кончай, старичок. Он, бывает, сам по себе стреляет. — И, привстав, протянул ко мне руку. — Давай сюда.
И это были последние слова Молвы.
Кто все-таки нажал на курок?
Музыка в гостиной ревела — может, поэтому выстрел прозвучал не так громко, как я ожидал. Лицо Яхнина мгновенно и необратимо изменилось, страшная судорога прошла по нему. Его не отбросило ни вперед, ни назад — он стал медленно валиться в сторону, на медвежью шкуру. И пока он так валился — замедленно, неохотно, с оскаленными зубами, — уже я, уже истинный Кумиров, осознавший себя, выстрелил еще раз, и на этот раз прицельно, в его левый бок.
Раскольников Родион, размозжив голову старухи топором, внимательно вгляделся в ее лицо, когда она упала. То же сделал и я: тотчас же присел на корточки и заглянул в лицо Молвы, уже не искаженное, но уже, как по волшебству, медленно бледнеющее. С полминуты я так и сидел, глядя на него, лежащего с поджатыми к груди коленями, на боку, — и белоснежная медвежья шкура медленно окрашивалась кровью, — пока не убедился, что Яхнина уже нет здесь, в этом кабинете, и никогда уже не будет.
…и разглядываю темные окна его бывшей квартиры, и меня трясет сильней, чем в те преступные мгновения. Неужели я пришел сюда, чтобы убедиться, что Яхнин действительно мертв?
…а еще через пару дней, а именно двенадцатого июля я покупаю у кореянки около главпочтамта три красные розы в блестящей и шуршащей фольге и направляюсь к остановке аэропортовского автобуса. На голове у меня свежая повязка — сменил в больнице, я слегка прихрамываю, но я чисто выбрит и свеж, и в новых джинсах и голубой безрукавке, которые позволил себе приобрести.
Вдруг кто-то окликает меня.
— Андрей Дмитриевич, добрый день!
Я невольно вздрагиваю, увидев этого знакомца, этого щеголя с неизменным «дипломатом» и птичьей фамилией, и я изображаю улыбку.
— Здравствуйте, — говорю, — Виталий Ильич. И пожимаю ему руку.
(Фатум, фатум! Минуту назад я почему-то вспоминал о Чиже.)
— Рад вас видеть в добром здравии, — улыбается золотозубый.
— Не совсем, но… Спасибо.
— С цветами! Какое-то событие?
— Да, можно сказать так. Вызволил с сибирских рудников свою семью. Еду встречать.
— А, вон что! Рад за вас. Уже работаете?
— Да, приступил. Кстати, собирался позвонить вам на днях.
— Да? Зачем?
— Согласно договоренности.
— Какой… напомните.
— Наша рубрика «Криминал» нуждается в материалах. Вы обещали, что…
— Да, понял, понял, — перебивает он. — Увы, Андрей Дмитриевич, пока еще рано.
Я хмурюсь. Я вроде бы хочу сказать ему, что как журналист и бывший приятель Яхнина недоволен медлительностью и неэффективностью следствия.
— Что поделаешь, Андрей Дмитриевич, — вздыхает Чиж. — Тяжелый случай. Впрочем, конфиденциально могу вам сказать. Но конфиденциально, не для пера, хорошо?
— Хорошо.
— Взяли мы одного. Есть серьезные улики.
— Кто такой?
— Имя не обязательно. Связан с мафиозными структурами. В свое время угрожал Яхнину.
— Это уже кое-что, — выдавливаю я из себя.
— Есть серьезные улики, но…
— Но?
— Нужна полнота доказательств. Словом, Андрей Дмитриевич, мы не бездельничаем, поверьте, — как бы оправдывается он передо мной, как перед высоким начальством.
— Дадите знать, если что-то прояснится? Мой рабочий телефон… — Я называю номер.
Чиж обещает, что позвонит, и, золотозубо улыбаясь, прощается.
— Всего доброго!
— Всего доброго, Виталий Ильич, — вежливо отвечает убийца Кумиров. Нет, далеко ему все-таки до следователя Порфирия Петровича, который «расколол» Родиона Раскольникова.
Из-за железной ограды я смотрю, как пассажиры спускаются по трапу ИЛ-76, а затем пешком, вслед за аэропортовской работницей, как за поводырем, идут через летное поле к выходу. Мои любимые — одни из последних. Ольга несет малышку на одной руке, а в другой у нее тяжелая сумка, которая перекосила ее плечо. Наверняка, тещины гостинцы, какие-нибудь дурацкие банки с вареньем, привезенные чуть не через всю страну. Ольга в джинсах и легкой курточке. Сильный ветер раздувает и путает ее длинные волосы. Малышка ухватилась рукой за ее шею… она в красно-голубом костюмчике… я не верю своим глазам — так она выросла, эта бывшая кроха. Я раздуваю ноздри, глубоко втягиваю воздух, чтобы успокоиться, но сердце, словно слетев с тормозов, как-то придурошно пляшет груди.
Приближаются. Приближаются. Глаза Ольги беспокойно мечутся по толпе встречающих, разыскивая меня, но не видит она своего благоверного или видит, но не узнает. Да вот же я, слепошарая! Вот же я!
Входят в открытые ворота, и тут Кумиров, с неожиданным всхлипом, со спазмом в горле протискивается к ним и хватает жену за локоть.
— Стоп, Кумирова, таможенный досмотр. Чей ребенок?
Сумка шлепается на асфальт. Какое сильное «ах» раздается! Или «ох».
Я обнимаю их обеих сразу и попеременно — то одну, то другую — целую туда-сюда: в губы, в лобик, в глаза… и Машенька, скривив свою светлую мордочку, заливается своим испуганным плачем.
— Не узнала… Она тебя не узнала, — лепечет Ольга, оправдываясь. — Глупая, это же папа! Слышишь, дурашка? Это же папа, — успокаивает она малышку.
— Па-па. Я па-па, — тычу я себя пальцем в грудь, утверждая свое несомненное отцовство. — Дай мне. — И беру плачущую дочь на руки.
Воссоединение семьи — вот как это называется.
А затем наступает сороковой день, сороковины, и, ничего не сказав Ольге, я посещаю квартиру Ивана Петровича Яхнина, где за длинным столом опять поминают уничтоженного мной Игоря. И я слушаю скорбные слова о нем, и я пригубляю водки в его память, и я смотрю на большую фотографию, на которой Яхнин белозубо, неистребимо улыбается всему Божьему свету… и не звериные угрызения совести я чувствую, не проказа души гложет меня, а нечто более страшное — оледенение и оцепенение, точно сердце мое вырезано напрочь. Я могу даже думать о таких предстоящих бытовых вещах, как размен квартиры, переезд в новые края, где меня никто не знает, и дальнейших планах переселения за отечественный рубеж. Я могу сочувственно пожать руку отцу убиенного, прощаясь и уходя. Нет мне места на этой земле. Я погубил сам себя и лишь в своей семье обретаю я счастье.
1994
Южно — Сахалинск
Вместо послесловия
Я решил предать гласности эту рукопись после того, как получил неожиданную телеграмму от Андрея Кумирова из Самары. Вот ее текст: «Уезжаю в Австралию навсегда. Прощай. С рукописью поступай по своему усмотрению. Андрей».
Ю. А.