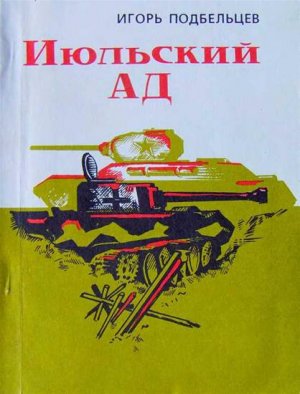
Июньский АД
(роман)
- Всё смешалось…
- Которые сутки
- Рвётся к Курску отчаянно враг.
- Он на Прохоровку
- в бешенстве жутком
- Свой нацелил железный кулак.
- Все ползут и ползут его танки,
- «Фердинанды» и «тигры», ревя,
- И тогда
- По сигналу атаки
- В бой рванулась и наша броня.
«ТРЕТЬЕ ПОЛЕ»
И. Чернухин
- Вокруг неё земля фугасом взрыта,
- Шли самолёты за звеном звено.
- Она в народе стала знаменита,
- Как подмосковное Бородино…
- … Со счёту сбившись, смерть врагов косила,
- Дымилась необъятнейшая ширь.
- Вот так тряхнул своей бывалой силой
- Под Прохоровкой русский богатырь.
«ПРОХОРОВКА»
Н. Истомин
ЧАСТЬ ПЕРВАЯ
ВХОЖДЕНИЕ В ПРЕИСПОДНЮЮ
«НИ ПУХА НИ ПЕРА!..»
Стояла середина жестоко-морозного февраля 43-го. По просторам многострадальной России гуляли злые метели и холодно-белые вьюги. Но танкистам 3-го гвардейского Котельниковского танкового корпуса плевать на всевозможные непредсказуемые капризы погоды. У них, у танкистов, был сейчас вполне заслуженный отдых. Но, конечно, не какой-нибудь там отдых, как, скажем, года три-четыре назад — в мирное, довоенное время, а отдых от смертельно тяжёлых кровопролитных боёв и жестоких сражений. Танкисты и сейчас не сидели сложа руки, и не валялись беззаботно на примитивных постелях, от нечего делать ловко пуская смачные плевки в потолки крепко сбитых бревенчатых землянок; нет, все они, воины обескровленного танкового корпуса — от рядового до полковника и генерала — приводили ставший им родным многострадальный корпус в более-менее надлежащий порядок. А приводить в порядок, чёрт возьми, было что: только-только, считай — на днях, танкисты, усталые до невозможности, вышли из тяжелейших боёв под Ботанском и Ростовом. Многие — ох многие! — там, на тех отчаянно горячих среди жутко морозной зимы полях полегли. А которые в живых остались — чудом иль по воле провидения — надеялись, что больше на их пути, который неизвестно когда закончится, не будет таких страшных и опустошительных сражений. Надеялся на это и командующий корпусом генерал Ротмистров.
Он, откинувшись на спину, сидел в блиндаже на топчане и, сняв очки, усталым взглядом, как бы совсем невидяще, созерцал небольшое пламя в стеклянном пузыре лампы. А пламя это — дитя керосина, фитиля и спички-то и дело причудливо колебалось из стороны в сторону — сквозняк: где-то через дверную щель февральский ветерок протискивался в помещение и не то, чтобы шалил, а давал всё-таки о себе знать — я, мол, здесь и мне запоры ваши нипочём.
Пламя настольной лампы ещё долго отражалось в неподвижно застывших зрачках Ротмистрова. А потом оно угасло — генерал задремал, так и не выпустив дужку очков из пальцев левой руки; правую, чуть нервно дрожащую, он держал на коленях. Задремал он на короткое время, но и за этот мизерный промежуток успел увидеть себя совсем ещё юным, живущим с семьёй в деревеньке под названием Сковорово. что притулилось скромненько в Селижаровском уезде Тверской губернии. Успел увидеть себя голодным и оборванным, рыскающим с ватагой сверстников по территории самой деревеньки Сковорово и далеко за её пределами в поисках чего-нибудь съедобного. Успел увидеть он своих отца и мать, печально смотревших на него, уже семнадцатилетиего парня, который, стесняясь поцеловать их на прощание, уходил из деревеньки. Уходил, то и дело оглядываясь, пересиливая боль щемящего сердца; Паша отправлялся в Москву, на заработки, — там, в Москве, жил его старший брат Лёня. Успел Павел Алексеевич увидеть за этот короткий промежуток нечаянной дрёмы и брата Лёню, Леонида, рассказывающего ему страшные истории, в том числе и о том, как 30 августа 1918 года было совершено покушение на Владимира Ильича Ленина…..
Проснуться и быстро открыть глаза генерала заставил виноватый шепоток адъютанта Василия Земскова:
— Товарищ генерал!.. Проснитесь, товарищ генерал!.. Да проснитесь же, Павел Алексеевич!..
Ротмистров, не надевая очков, подслеповато прищурился на адъютанта, хрипло выдохнул:
— Ну?… Чего тебе?…
— Товарищ генерал, вас к телефону просят.
— Просят или требуют?
Адъютант на секунду задумался, потом звонко щёлкнул каблуками новеньких хромовых сапог:
— Так точно, товарищ генерал, — требуют: командующий Южным фронтом на проводе.
Сквозь шумы в телефонной трубке Ротмистров услышал знакомый голос генерал-полковника Малиновского, не так давно сменившего на посту командующего войсками Южного фронта Еременко.
— Слушаю вас, Родион Яковлевич, хотя связь, честно говоря, не ахти какая хорошая! — прокричал в трубку Ротмистров.
— Это вам минус, уважаемый Павел Алексеевич! — не то в шутку, не то всерьёз — Ротмистров этого не помял — громыхнул на том конце провода генерал-полковник. — Надобно связистам засыпать горяченького уголька за шиворот. Как выдумаете насчёт этого? Ну, да ладно — это ваши проблемы, вы их и решайте… Как поживаете, Павел Алексеевич?
— Спасибо, ничего: без особых осложнении. Возрождаемся вот, можно сказать, заново. Как Феникс из пепла.
— По-нят-но… — прогудел задумчиво Малиновский и, с минуту помолчав, сказал: — Вы знаете, по какому поводу я вам звоню, Павел Алексеевич?
— Понятия не имею, Родион Яковлевич.
— Ну так вот, чтобы понятие это появилось, я попрошу вас немедленно прибыть ко мне. Ясно?
— Так точно, товарищ генерал-полковник! Скоро буду…
В кабинете у командующего войсками Южного фронта находился и член Военного совета этого же самого фронта Никита Сергеевич Хрущев. И Малиновский, и Хрущев дружелюбно поздоровались с генералом Ротмистровым за руку.
Малиновский медленно несколько раз прошёлся по кабинету, дважды скользнув взглядом по усталому посеревшему лицу Ротмистрова, потом остановился; перед ним и, пресекая его попытку встать, без обиняков начал:
— Я знаю вас давно, Павел Алексеевич, и знаю, в основном, о многих ваших положительных качествах, о хороших чертах. И они мне, я так скажу — нравятся. Вы не краснейте и не думайте о том, что мне все ваши положительные черты правятся. Отнюдь! Я имею в виду лишь вот что: видимо, душой я не покривлю, если скажу, что вы, уважаемый Павел Алексеевич, танкист, прямо говоря, до мозга костей, танкист — с большой буквы. Правильно я мыслю?
Ротмистров вздохнул, пожал плечами:
— Что ж, отнекиваться не стану: здесь вы полностью правы, товарищ командующий. В самую точку, как говорится, попали. Кроме того, что, мол, с большой буквы…
— В самую точку, наверное, я попаду, если скажу, — продолжал Малиновский, — что вы, Павел Алексеевич, являетесь крепко убеждённым сторонником массированного применения танков в сражениях этой проклятой, трижды проклятой войны. Не так ли?…
— Так точно, товарищ командующий! И здесь вы угадали…
— Угадал? — Малиновский усмехнулся, хитро подмигнув Хрущеву. — Слыхали, Никита Сергеевич, что он говорит?… Да не угадал я, а просто давно слежу за вашей… За вашей деятельностью, что ли… И мне нравятся ваши обоснованные суждения… на многие темы. Дело в том, скажу вам по секрету, что в Ставке Верховного Главнокомандования да и, я знаю, на многих военных советах фронтов сегодня интенсивно обсуждается вопрос о формировании танковых армий. Улавливаете — что к чему?
О-о!.. Неудачный вопрос задал в этот раз Малиновский!.. Ещё бы не улавливать того, о чём он, собственной персоной Павел Алексеевич Ротмистров, не думал бы в бессонные бесконечные ночи, о чём бы постоянно не мечтал в последнее время… И вот поэтому, услышав последнюю фразу командующего фронтом, Ротмистров невольно напрягся, словно охотник, неподвижно застывший с заряженным дробью ружьём перед вылетом из густых зарослей камыша дикого селезня.
— Так вот, Павел Алексеевич, — Малиновский снова сделал несколько шагов по кабинету, сосредоточенно почесал переносицу, — до вашего сведения довожу, что Москва очень и даже очень интересуется мнением командиров танковых корпусов, и, в частности, вашими, мой дорогой, взглядами на то, какой должна быть танковая армия. Вам понятно?
Ротмистров встал, поправил очки, вытер платочком вспотевший лоб и только тогда пристально взглянул на Малиновского.
— В принципе, всё понятно, товарищ командующий. В прин-ци-пе! Однако…
Но тут безапелляционно вмешался Хрущев. Он как-то озорно даже посмотрел добрыми глазами на немного растерявшегося генерала и сказал:
— Никаких «однако», товарищ Ротмистров. Если хотите знать, мне только что звонил генерал Боков из Генштаба. Знаете его? И, между прочим, он твёрдо сказал, что ждёт вас у себя, в штабе.
— Генерал Боков? — не сразу поняв, о чём и о ком идёт речь, переспросил Павел Алексеевич.
— Ну да, Боков, — улыбнулся Никита Сергеевич и тут же посерьёзнел. — Повторяю, генерал ждёт вас и… И при необходимости, скажу вам прямо, организует встречу с самим товарищем Сталиным.
Ротмистров внимательно и чуть с недоверием посмотрел на Хрущева: нет, член Военного совета фронта не шутил. Серьёзен был и Малиновский.
— Что ж, — выпрямляясь и вытягиваясь как по команде «Смирно!», сказал генерал Ротмистров, — как бы там ни было, я готов доложить, вернее — высказать своё мнение по данному вопросу и в Генштабе, и Верховному Главнокомандующему.
— Вот и прекрасно! — Малиновский широко улыбнулся, пожал генералу руку. — Вот и прекрасно, вот и хорошо! А теперь, Павел Алексеевич, незамедлительно отправляйтесь в Москву. Командование корпусом возложите на генерала Вовченко.
— Слушаюсь, товарищ командующий!
— Да, и вот ещё что, — Малиновский снова почесал переносицу, — когда прибудете в Москву, то до встречи с Боковым постарайтесь, пожалуйста, переговорить с командующим бронетанковыми и механизированными войсками Красной Армии Федоренко. Он вам, надеюсь, кое-что подскажет — нужное и полезное.
— Слушаюсь, товарищ командующий! Обязательно зайду к Федоренко.
— Ну, тогда, как говорится, с Богом!
— Ни пуха ни пера!.. — добавил Хрущев.
Ротмистров вздохнул и негромко ответил:
— К чёрту!..
ДВА ЛЕЙТЕНАНТА
Около танков, над которыми в целях маскировки была натянута сетка, прогуливался часовой. Чуть большеватую для него шапку-ушанку он завязал под подбородком; стоячий воротник шубного тулупа как-то нелепо торчал вверх, словно крышка открытого люка танка; руки в рукавицах часовой запрятал поглубже в рукава, предоставив автомату безалаберно болтаться на груди; высокие новенькие валенки заставляли несчастного дозорного ходить вокруг боевых машин чуть ли не строевым шагом. Он замёрз, как говорится, «в дугу», и по чём зря проклинал ненавистного Гитлера, развязавшего эту кровопролитную многолетнюю войну, которая — чёрт его знает! — когда ещё окончится; проклинал зиму с её жуткими морозами и колюче-снежными метелями; проклинал этот час, в который ему, согласно составленному командиром батальона графику, предстояло сейчас не то что мёрзнуть, а прямо-таки коченеть, охраняя могучие смертоносные машины.
Конечно же, часовой, коротая караульное время, сыпал проклятиями не вслух: во-первых, немцы не так уж далеко, а жить ему ещё не надоело; во-вторых, если бы он раскрывал рот, высказывая своё мнение о войне, то и губы запросто обмёрзли бы при таком холодище, или, не дай Бог, холодище этот во внутренности его организма забрался бы, — так что он, часовой, проклинал всё на свете белом в уме, про себя, одновременно вслушиваясь в зимнюю ночь. Поэтому сразу же и услышал чьи-то скрипучие на морозе шаги и несколько сипловатый голос:
— Эй, военный!.. Чего согнулся-то?… Замёрз, что ли?…
Часовой обернулся, пристальнее вглядываясь из-под заиндевевших бровей в подходящего к нему человека, хотел было взяться за автомат, но тут же передумал, потому что узнал командира танка Кошлякова.
— А-а, товарищ лейтенант!.. — протянул часовой. — Да как тут не замёрзнешь — не май месяц…
— Это точно, — согласился лейтенант. — Ну, а как, на сон не тянет?
— Какой гут сон к дьяволу! Первое — от мороза не заснёшь, а второе — я сон плохой видел: будто бы меня на посту зарезали. А вот то ли немец, то ли наш — ей-Богу, не разобрал…
— Ах, какой же ты суеверный!.. Ну что ты буровишь!.. Лучше скажи мне, ты случайно братца моего не видал? Ищу его уже с полчаса, а найти никак не могу: как сквозь… снег провалился…
Часовой пристальнее вгляделся в лицо Кошлякова, разочарованно качнул головой:
— Ну никак я рас не различаю: то ли вы это, то ли ваш брат?… Извините, товарищ лейтенант, вы кто?… По имени…
— Эх ты, чудо гороховое, сколько меня знаешь — года полтора, считай, а до сих пор с Валентином путаешь! — рассмеялся Кошляков. — Василий я…
— Кто вас разберёт, — проворчал часовой, — вы с братом— как с одной иконы писаны.
— Но-но, «с иконы»! Нашёл святых… Забыл, что мы самые ярые атеисты? Забыл, что в Бога не веруем?
— Да ничего я не забыл, товарищ лейтенант. Но всё равно, без веры в душе жить, а особливо — воевать, как-то… неспокойно, что ли…
Верить можно во многое. Я, например, лично в товарища Сталина верую… Он для меня и Бог, и отец родной…
— Ну, а кто ж в него не верует? — ухмыльнулся часовой. — Слыхали и знаем, что, как только пехота в атаку идёт, так непременно кричат: «За Родину! За Сталина!» Да и мы, танкисты, тоже не лыком шиты… Ни за что не уступим пехоте…
Кошляков безапелляционно пресёк иронические разглагольствования часового:
— Как твоя фамилия, боец? Что-то я запамятовал…
Тот мгновенно осёкся, сразу же сообразив, что к чему, а затем попытался принять стойку «смирно!» и щёлкнуть валенками, словно каблуками сапог. Но ничего у него из этой попытки не вышло, и он сконфуженно промямлил:
— Рядовой Ядренко! — и, словно боясь, что лейтенант не расслышал, добавил уже погромче: — Ядренко моя фамилия… Вы только ничего не подумайте… Я не со злого умысла… Я…
— В этот раз я ничего не слышал, рядовой Ядренко. И не надо больше так при мне рассуждать, иначе ваш сон — как вас там зарезали — сбудется… Ну так что, видал ты моего братца, рядовой Ядренко?
— Так точно, товарищ лейтенант, брат ваш, он к медикам побег.
У местных медиков было накурено до чёртиков.
— О, Василий, — сквозь дым разглядел вошедших седой лысоватый майор. — Заходи, гостем будешь!
Он небрежно подвинул с края скамьи молоденького, уже порядком захмелевшего младшего лейтенанта, усадил Кошлякова, подставил ему алюминиевую кружку со спиртом.
— Чистый? — поинтересовался Василий.
— Не-а, — мотнул головой майор, — разведённый. Да ты пей, Кошляков, разведён по норме: сам знаешь — разную херню не пьём.
— А по какому случаю?… По какому случаю такой грандиозный банкет?
— А что, обязательно нужен случай или повод?… Да пьём мы просто за то, мой миленький лейтенант, что живы… Что — ПОКА! — живы!.. Пьём, между прочим, свои законные, нар-ко-мов-ски-е!..
Ладно, майор, не петушитесь! — усмехнулся Кошляков и, стукнувшись своей кружкой об его, залпом вылил спирт в рот, страдальчески крякнул, потянулся за закуской. — А где ж мой брательник? Разведка доложила, что к вам пошёл…
Майор молча пальцем ткнул в дальний угол помещения. Валентин, действительно, сидел там, в углу, на жёлтом сундуке, и, отгоняя рукой от глаз надоедливый табачный дым, что— то доказывал старшему лейтенанту из своей роты.
Василий благодарственно хлопнул по плечу майора, поднялся из-за стола и направился к брату. По пути услышал как тот декламировал:
Валентин, увлечённый чтением своих «виршей», не сразу заметил Василия, а когда Василий положил руку на его погон, Валентин как-то заторможено поднял глаза, удивлённо спросил?
— Это ты, брательник? Тебе чего?
— Одевайся, разговор есть.
— Что, прямо сейчас одеваться и идти с тобой куда-то разговаривать? Или можно попозже?… Война ещё не окончилась — времени для разговоров у нас по самое горло!..
Вмешался старший лейтенант:
— Васька, будь человеком! Пусть он ещё одно стихотворение мне прочтёт, и тогда забирай его к едрени-фени!..
— Ах, чёрт с вами!.. Валька, читай свой стих, но только один…
Валентин согласно кивнул головой и начал:
Валентин замолчал, а старший лейтенант, опрокинув в своё горло ещё одну порцию спирта, пьяно полез к Валентину целоваться.
— Валька, ты — гений!.. Люблю тебя!.. А ну, ещё… Как там: «Вы извините, перейду на Вы: ведь так о женщинах писал Тургенев…»
Валентин хотел было поддержать своего поклонника, но Василий, тряхнув его за плечо, поморщился:
— Не выпендривайся, Валька: мать письмо прислала из дому. И в нём, между прочим, про Володьку пишет тоже.
Валентин больше не стал препираться с братом, перестал разговаривать и со своим собеседником: он быстро оделся и вслед за Василием выскочил из домика, прямо в морозный скрипучий февраль.
Часовой, увидев братьев-близнецов, улыбнулся вконец замёрзшими губами:
— Ну что, нашли своего братца? Э-эх!.. — и замолчал тут же, ещё сильнее сгорбившись и всё глубже пряча свой посиневший нос в кудрявый отворот воротника.
Пришли к себе. Валентин, торопливо раздевшись, протянул руку к гудящей и потрескивающей печке и попросил:
— Покажи письмо, Васька!
Василий молча подал брату листок из ученической тетради, на котором криво легли каракули, выведенные рукой их мамы. Валентин сразу же вклюнулся в этот драгоценный листок; а Василий, усевшись за стол, уставился на него. Он уже читал письмо и уже знал, о чём в нём написано. Мать скупо объясняла, что она жива-здорова, что недавно прислал ей письмо их отец, воюющий где-то под Ленинградом; что недавно отыскался, наконец-то, ещё один её сын, а их брат — Владимир, долгое время находившийся в окружении, а затем прорывавшийся из этого самого окружения; что Владимир сейчас служит в Москве, при каком-то очень важном штабе, но очень просится на фронт, и именно в ту часть, где служат они — Василий и Валентин; что Владимир мечтает о том, чтобы танковый экипаж полностью был семейным.
Василий, Валентин и Владимир — тройняшки. Они одновременно появились на свет божий и были похожи друг на друга, ну как две капли воды! Вернее — как три капли… Только мать да отец могли их различать, а остальные — и соседи, и друзья, и учителя в школе — постоянно путали близнецов безрезультатно гадая, кто же из них Вася, кто Валя, а кто Вова.
Перед самой войной братья Котляковы окончили военное танковое училище и были направлены служить в одну и ту же боевую часть. И тут грянула война!.. И, как назло, вдруг заболел Владимир: его отправили в госпиталь; госпиталь вместе с другими тыловыми подразделениями попал в окружение. И Владимир для родных и знакомых, что называется, пропал. Пропал без вести. Пропал в прямом смысле этого слова… И вот теперь мать пишет, что брат их нашёлся…
Валентин прочитал письмо и с какой-то радостной грустью сказал:
— Знаешь, Вась, а всё-таки это здорово, что Володька наш нашёлся!
Василий ничего не ответил брату; молча он подошёл к Валентину и крепко-крепко обнял его.
У ГЕНЕРАЛА БОКОВА
Нет, что ни говорите, не та уже Москва сегодня была. Совсем не та, как в прошлом году, в 42-м. Разница — ог-ром-ней-шая!.. Тогда все улицы советской столицы, куда ми взгляни, были сплошь и рядом перекрыты громоздившимися самыми разнообразными оборонительными сооружениями: в том, минувшем году, не то что проехать, пройти пешком трудно было. А сегодня, в этот светлый морозный февральский денёк, Москва встретила Павла Алексеевича непривычно оживлённым шумом и, как ему — по крайней мере — показалось, какой-то праздной сутолокой; уже даже как-то непривычно резали уши громкие беспечные сигналы большущего потока машин. А трамваи с их весёлым перезвоном!.. Для них как бы и не существовало такого страшного понятия, как война.
Ротмистров опытным взглядом сразу же определил, что многие москвичи — и проезжающие, и проходящие мимо — наверняка находятся в неплохом настроении. В морозном воздухе иногда звенел чей-то задорный смех, проносились в воздухе, словно снаряды из «сорокапятки», и весёлые шутки.
«А почему бы им и не порадоваться! — всей грудью вдыхая морозный дух, думал генерал. — Мы уже не те, новички, как в начале войны, мы уже надавали фрицам по соплям: сколько уже крупных сражений выиграли!..»
У командующего бронетанковыми и механизированными войсками Якова Николаевича Федоренко Ротмистров задержался недолго. Беседа велась на излюбленную обоими генералами тему, на интересующую их, и, в основном — и Ротмистров, и Федоренко — остались довольны друг другом, так как мысли и убеждения их почти во многом совпадали.
Провожая Ротмистрова, Федоренко сказал ему:
— Павел Алексеевич, поезжайте к Бокову и… и отстаивайте свою позицию до конца. А я вас, не сомневайтесь, обязательно поддержу. Сделаю всё, что в моих силах и возможностях.
Ротмистров крепко пожал Якову Николаевичу руку.
В Генштабе командующего танковым корпусом Ротмистрова незамедлительно препроводили к генералу Бокову. Тот, против ожидания, не ставил из себя эдакого неприступно-недоступного и очень-преочень умного командиру и радушно принял Павла Алексеевича. Душевно принял.
— Как добрались, Павел Алексеевич? Надеюсь, без приключений?
— Да, вроде бы, слава Богу, благополучно. А почему вы, Фёдор Ефимович, такой вопрос мне задали? Насчёт приключений…
— О, бывали кое с кем и трудности в этом вопросе. И не один раз!.. Но о них позже, потом поговорим. Да вы присаживайтесь, дорогой Павел Алексеевич, с дороги ведь.
Ротмистров присел на диван, а Боков, заказав по телефону чай, не спеша и подробно начал рассказывать о существе дела, ради которого Павла Алексеевича и вызвали так внезапно в Москву.
— Всё назрело давно уже, — Боков прихлёбывал чай и, не отрываясь, смотрел прямо в глаза Ротмистрову, — очень даже давно, но на пути к намеченному было слишком уж много препятствий. Да вы и сами о них знаете не понаслышке. Так ведь? А сегодня вопрос о реорганизации танковых армий смешанного состава — а их, армии, ещё в прошлом году создали — встал очень остро. Надеюсь, вы меня понимаете…
Ротмистров промолчал п лишь слегка кивнул головой, а генерал Боков продолжал:
— Я, конечно, никого не собираюсь осуждать, Павел Алексеевич, но сегодня все должны понять, что управлять армией, имеющей в своём составе танковые, пехотные и… и кавалерийские соединения — весьма сложно.
— Вы правы, Фёдор Ефимович, — подтвердил правильность слов представителя Генерального штаба Ротмистров, — ой как вы правы!.. Чёрт побери! Опыт же уже есть, причём — горький опыт подобного управления. Смотрите сами, что получается, товарищ генерал: армия идёт, допустим, в наступление, а только что перечисленные вами соединения имеют различную степень подвижности и манёвренности. Кони сильны и выгодны в одном, танки — в другом, пехота — в третьем. К чему всё это приводит?
— Ну, Павел Алексеевич, удивили! — иронически развёл руками Боков. — Вам как теоретику и практику подобные вопросы, наверное, и задавать не стоит. Мартышкин труд, так сказать.
Ротмистров не обратил внимания на иронию штабного генерала.
— Простите, — сказал он, — но теоретиком — в полном смысле этого слова — я себя никак не считаю. Абсолютно! Что же касается практики, то…
И генерал Ротмистров долго говорил о том, что он лично, на собственной шкуре, испытал; что для развития успеха на прилично большую глубину — в крупных наступательных операциях — войска фронта или фронтов должны и даже обязаны иметь высокоподвижные, обладающие большой ударной силой и огневой мощью танковые соединения и объединения; что только они могут решать задачи такого рода, могут обеспечить массирование танков на важнейших направлениях и в решающий момент; что…
Генерал Боков слушал очень внимательно, не перебивая увлёкшегося рассказом Ротмистрова, и лишь только когда Ротмистров выдохся и умолк, Фёдор Ефимович спросил:
— Павел Алексеевич, мне перед вашим приходом звонил Федоренко и сказал, что вы просите организовать вам встречу с товарищем Сталиным. Вы серьёзно этого хотите?
Ротмистров вначале растерялся, но затем взял себя в руки.
— Если на то уж пошло, — сказал он, — то я, говорю вам честно и открыто, с подобной просьбой к генералу Федоренко не обращался.
— Вот как? — удивился Боков.
— Да, именно так. А говорил я ему лишь о своей готовности доложить Верховному Главнокомандующему своё мнение по обсуждаемому в Ставке вопросу. Так что, Фёдор Ефимович, я здесь не…
Резкий телефонный звонок прервал речь генерала Ротмистрова самым наглым образом, а Боков быстро поднёс трубку к уху:
— Генерал Боков слушает! — произнёс он и тут же, переменившись в лице, вскочил. — Здравия желаю, товарищ Сталин!.. Так точно, товарищ Сталин!.. Слушаю, товарищ Сталин!..
Боков торопливо и взволнованно, как будто бы молоденький курсант военного училища, пододвинул к себе объёмистую папку и начал срывающимся голосом докладывать Верховному последнюю сводку с фронтов.
Ротмистров, поддавшись возбуждённому состоянию Бокова, тоже невольно привстал, и в груди его что-то захолодело: то ли от необъяснимого испуга, то ли от внезапного волнения. А Боков в это время, закончив передавать сводку, отвечал на вопросы Иосифа Виссарионовича. Ротмистров немигающе смотрел на Бокова, на телефонную трубку в его руках, из которой мягко шелестел ЕГО голос. А генерал Генштаба вдруг скосил на пего глаза и громко, отчётливо выложил:
— Товарищ Сталин, с Южного фронта к нам прибыл генерал Ротмистров. Я прошу вас… хочу просить вас, товарищ Сталии, чтобы вы его приняли. По очень важному делу…
Ротмистров от нового приступа волнения смертельно побледнел, а лицо Бокова вдруг расплылось в широчайшей улыбке: наверняка Сталин был в хорошем настроении и сказал генералу что-то эдакое, шутливое. Затем генерал Генштаба мгновенно погасил улыбку, стёр её бесследно со своего лица.
— Слушаюсь, товарищ Сталин! — вытягиваясь, ответил в трубку Боков, и, осторожно опустив её на рычаг, шумно и с облегчением выдохнул. — Ну что ж, Павел Алексеевич, в рубашке вы, видимо, родились: Верховный не возражает и велел вас пригласить к нему.
— Что-то у меня… — Ротмистров снял очки, прямо пальцами рук машинально протёр стёкла. — Что-то я…
— Да полно вам, Павел Алексеевич! Он — Верховный — примет вас сразу же после моего доклада о положении на фронтах.
Боков засуетился около папок с документами, затем вскинул глаза на всё ещё стоявшего с очками в руках растерявшегося Ротмистрова.
— Да, я сейчас позвоню секретарю Сталина, Поскрёбышеву. Надобно заказать для вас пропуск. И ещё: у меня к нам есть небольшая просьба. Личного характера…
— Какая просьба?.
— В вашем корпусе служат два лейтенанта. Они — братья. Фамилия у них — Кошляковы. И у меня тут, в штабе, прописан ещё один Кошляков; он очень просится на фронт, к своим брательникам. Тоже — лейтенант, тоже — танкист. Имеет желание танковый семейный экипаж организовать. Не прихватите ли вы его с собой?… Да вы не морщитесь: понимаю, генералам нынче не до лейтенантов, но… Дело в том, что отца этого офицера я очень хорошо знаю. Не раз вместе под одним одеялом ночи коротали…
Ротмистров вздохнул:
— Отчего же не прихватить: пусть готовится в дорогу. Как его… Кошляков?… А нам путь — к Иосифу Виссарионовичу. Звоните, Фёдор Ефимович, Поскрёбышеву…
ПОЯВЛЕНИЕ МИТЬКИ КЛЫКА
Шестидесятилетний дядька Мирон Полежаев проснулся рано. Проснулся от холода: спал он на широкой лавке, укрывшись старым и облезлым овчинным тулупом, но тулуп сегодня почему-то от мороза не спасал. В хате было студёно, а всё из-за того, что живительная печка давно погасла — дровишек на зиму, оказалось, мало заготовил, экономить теперь надобно; а углём… в войну где углём-то разживёшься… Разве что на том свете, в аду…
Дядька Мирон посмотрел на печку, на её верх, где дремала укрытая разным тряпьём его жена: ей-то, пожалуй, теплее — кирпич медленно остывает.
«Ладно, — подумал Полежаев, — пусть ещё чуточку поспит. А то сколько же времени, бедняга, глаз не смыкала, всё о Федьке думала, о сыне. Где он теперь, на каких фронтовых дорогах? Давно что-то весточки от него не было… В танкистах сын-то военную лямку тянет, в почётных, так сказать, войсках. Не то что я, Мирон Иванович Полежаев, в империалистическую: в пехоте лапотной служил…»
Дядька Мирон привычно нахлобучил на плешивую к старости голову шапку, накинул на плечи тулупчик, вышел во
двор, скрипнув в сенях просевшими дверьми. Ох!.. Морозно!.. Но, слава Богу, тихо, без ветра.
Полежаев, оглянувшись и не заметив ничего подозрительного, оправился «по-лёгкому» за углом, шмыгнул в сараюшку, где набрал дровишек и чуть ли не бегом — насколько только годы позволяли и здоровье — припустился в хату. Как ни старался, но всё же громыхнул берёзовыми чурками о земляной пол, и жена на печи зашевелилась.
— Ты чевой-то, Мирон? — сонно спросила она.
— Спи, спи, Феклуша, я сейчас немного подкочегарю печку, а то кости старые мои почему-то насквозь мёрзнут.
Он успел растопить печь, а жена его уже приготовила кое-что позавтракать — по её словам — поснедать, — когда в окошке их приземистой хатенки раздался негромкий стук.
— Кого там нелёгкая принесла, — недовольно заворчала тётка Феклуша, — уж не немцев ли?
— Немцы, понимать надо, так осторожно не стучат. Погоди, я сам открою.
С кудрявыми клубами мороза в хату вошла, нет, вернее — вплыла племянница дядьки Мирона пятнадцатилетняя Настя. Раскрасневшаяся от мороза, от быстрой ходьбы, ома быстренько выпалив — «Здрасьте!» — тут же устало упала на лавку.
— Дак это небось ты, Настюха? — оправившись от изумления, спросила, наконец, тётка Феклуша. — Да милая ж ты моя, да каким же тебя ветром-то занесло в наш полузаброшенный хутор и в такую-то раннюю рань?
— Погодь, мать, племяшку допрашивать, не в гестапо, чай, она заявилась, — сказал дядька Мирон, — пусть отдышится красавица чуток. Да ты раздевайся, Настасия, дай-ка я тебе, милая, помогу.
Помогая племяннице раздеться и разместить её вещи, Полежаев осторожно спросил:
— А что, девонька-племяшечка, есть ли в селе твоём, в Береговом, германцы?
— А куда ж им, дядя Мирон, деться?… Живут, хлеб наш жуют… Да издеваются ещё…
— Понятно. Никого не убили в Береговом-то?
— С того раза — помнишь, я тебе рассказывала? — никого.
Полежаев замолчал, о чём-то задумавшись.
— Настюха, дюже давно ж ты у нас была, кажется, сто лет уж минуло… — пропела с радостью в голосе тётка Феклуша. — Садись, красавица ты наша, к столу — снедать будем…
— Дак чево ж ты, взаправду, в такую рань в наш хутор прибегла?
Настя замялась, ещё больше зарделась. Видимо, ей трудно было говорить-то ли от волнения, то ли ещё от чего.
— Маманя меня послала… Просила, чтобы вы… приютили меня… Чтобы на время приютили…
— Чево ж так? — вмиг переменившимся голосом спросила тётка Феклуша. — Голодно, небось, в селе, жрать нечего? Иль ещё какие печали?
— С едой, тётя, и правда, туговато в селе. Но не в этом дело…
— А в чём же, Настюха? Ты вот, сердцем чую, чевой-то не договариваешь, и мне тревожно. Дюже тревожно! Говори…
Настя опустила голову низко-низко, почти до груди, тихо сказала не на кого не глядя:
— Немцы… пристают. Ко мне… Мама за меня боится. Страх как боится!.. Так вы примете меня?
Дядька Мирон огорчённо вздохнул, поскрёб пятернёй небритое лицо.
— Зачем ты обижаешь нас, Настасия? Ну скажи по совести: рази можно так говорить? Ведь кровь-то у нас с тобой, племяшечка, одна…
— Правильно говорит Мирон: живи у нас за ради Господа! Бог даст — не обедняем, — поддержала мужа тётка Феклуша. — Да и помощь какая-никакая нам, старикам, нужна: хворосту там, к примеру, насобирать, водицы холодненькой из колодца принести. Мало ль ещё чево…
Настя, подняв голову, обрадованно заулыбалась:
— Ой, спасибочки вам, мои родненькие! Как же я вас всех люблю и уважаю! — и тут же внезапно насторожилась, к дядьке своему лицом повернулась. — А у вас, на хуторе, немцы есть?
— Нет, милая племяшка, у нас немцев: что им, гансам и фрицам, делать в нашем десятидворном хуторке? Клеща кормить да комаров? Им, фрицам, покрупнее пункты населённые подавай — Береговое ваше, например, Карташовку, Прелестное иль саму Прохоровку… Есть тут у нас в хуторе один полицай, Васечкой его зовут; по-моему, ему лет шестнадцать от роду. Почти ровесник тебе… Наш он, тутошний. Ходит с повязкой на рукаве да с винтовкой на ремне, никому зла не делает… Безобидный такой да жалкий…
— Ну и что ж из того, что зла никому не делает! — раздражённо проворчала тётка Феклуша. — А Родину-то, тюлюлюй несчастный, предал?! И нас с тобой когдась не пожалеет.
— Дура ты, Феклуша!.. Он же, Васечка, я повторяю, безобидный. Ты подумай, а что было бы, если бы на его месте другой полицай оказался и, не дай Бог, не с Васечкиным характером, а совсем с другим, с дурным? Так что — не виноват он, Васечка, силой его заставили эту позорную службу нести. Пусть служит, лишь бы вреда людям не делал.
Полежаевы и Настя сели за скромный стол с ещё более скромной снедью; и дядя, и тётя, прежде чем приступить к трапезе, дружно повернулись к святому углу, перекрестились на тусклые иконы, шепча про себя какую-то молитву. Настя не участвовала в этом ежедневном обряде своих верующих родствен ников.
Тётка Феклуша, помолившись, повернулась к ней:
— По-прежнему, Настюха, в Бога не веруешь?
— Не верую, тётя Феклуша, я — комсомолка. Так меня воспитали — в антирелигиозном направлении.
— Плохо жить без веры. Мой-то сынок, Фёдор, с Богом в сердце воюет с немцами. И Господь Бог ему поможет в трудную минуту: в живых по окончании войны оставит. Как он теперь там, ненаглядный мой?… А ты, Настюха, про комсомол — то свой дюже не заикайся: опасная нынче время. Да про торжество коммунизму не талдычь нигде по хутору. Поняла? Ну, а теперича давайте снедать.
Не успели хозяева и их гостья-племянница допить чай — чуть слащавый, на моркови настоянный, как в дверь требовательно и громко постучали, и не успели разом вздрогнувшие дядя Мирон и тётя Феклуша встать из-за стола, чтобы открыть дверь, как дверь сама распахнулась и в хату ввалился тщедушный паренёк с винтовкой в руке; на рукаве мелькнула полицейская повязка.
— К вам можно? — спросил паренёк с усмешкой, потирая варежкой озябшие щёки.
— Тьфу, ирод, — в сердцах сплюнула ему под ноги тётка Феклуша, — испугал до смерти!.. Чтоб тебя, ирода, партизаны насмерть убили!..
Дядька Мирон рукой махнул:
— Садись, Васечка, к столу, чаёвничать будем. А на старуху мою внимания особого не обращай: она и меня всю жизнь вот так вот пилила, словно пилой ржавой. Так садись, что ли!
— Нет, спасибо, дядь Мирон, но я чай с морковкой не пью, — Васечка заговорщицки подмигнул хозяину, кивнув головой на тётку Феклушу (я её, мол, сейчас, раззадорю), — мне бы что-нибудь послаще…
— Так какого же ты рожна тогда припёрся к нам? — искренне удивился дядька Миром Полежаев. — Самогон тебе, сосунку, ещё рано употреблять… Хотя его у нас, к моему великому сожалению, и нету.
— Чего припёрся? Хотел вот с тёткой Фёклой поздороваться, а она меня, представителя нового порядка, почему-то не любит, — опять пошутил Васечка, стрельнув очами в сторону молчавшей Насти.
— А чевой-то мне тебя любить! — с возмущением отозвалась тётка Феклуша. — Ты ж не нашим, ты ж фрицам проклятым прислуживаешь, — им, вшивым, задницы лижешь…
— Но-но! — всерьёз обиделся на последние слова неприветливой хозяйки местный блюститель нового порядка. — Ты, тётка Феклуша, не больно-то распускай свой куримый язык. Запомни — я при исполнении! Могу и психануть — я нервный…
Полежаев, тяжело сопя заложенным насморком носом, молчал, а тётка Феклуша не унималась, ну никак не успокаивалась:
— При каком таком ещё исполнении?
— А при таком!.. Вышел утром пораньше из дома, иду, значит, по хутору, смотрю — следы чьи-то. Свежие. Незнакомые. И к вам, к халупе вашей, ведут. Кто это, думаю, в такую рань к вам так запросто припёрся? — Васечка с любопытством уставился на Настю. — Может, думаю, партизанка какая— то? А?
Тётка Феклуша опять смачно сплюнула юному полицейскому под ноги и гордо, с достоинством отвернулась к печке. Дядька Мирон глуховато рассмеялся, хитро прищурив глаза.
— Что, съел? Не любит она вашего брата-полицейского, — сказал он. — А это, знакомься, племяшка моя, притопала погостить из Берегового. Видишь, какая красавица растёт — артистка да и только: страшно её с немцами оставлять.
Васечка уже открыто залюбовался покрасневшей от смущения девчонкой.
— Кра-си-ва-я! — нараспев, с восхищением протянул ом. — Я бы на такой сразу женился. Ей-Богу! — и тут же пошутил: — Но нельзя жениться, понимаете, — служба. Очень ответственная служба.
Тётка Феклуша резко обернулась от печки, уничтожающим взглядом напрочь испепелила Васечку, но, прикусив губы, в этот раз ничего оскорбительного ему не сказала. Спросил лишь Полежаев:
— Тебе чего, Васечка, собственно говоря, надобно? Ответь на милость…
— Через час, дядька Мирон, сюда, в хутор, приедут немцы.
— Ох ты, господи! — воскликнула тётка Феклуша и бросила испуганный взгляд на Настю. — Не брешешь ли, а?
— Не кричи ты так, тётка! — поморщился Васечка. — Дай до конца сказать. Вот бабьё… Немцы приедут в хутор всего лишь на каких-то полчаса: они старшего полицейского привезут к нам. Все жители хутора обязаны присутствовать при церемонии знакомства с новым… человеком.
— Бог ты мои! Страсти-то какие! — усмехнулся дядька Мирен. — Ну а ты-то кем будешь? Старше приезжающего по должности, ай нет?
Точнее всего — «ай нет». Буду полицейским, но в ЕГО подчинении. Вот так-то! — и юный полицейским невесело как— то подмигнул Насте. — Ну что, комсомолочка, пойдёшь замуж за младшего полицая?
Настя смерила Васечку презрительным взглядом: худющ был юный полицейский хутора Полежаева — меры нет, невысок — от горшка два вершка, и нос его весь веснушками обсыпан, словно калач маковыми зёрнами; и силы в нём, видимо, ровно настолько, чтобы винтовку на плече кое-как держать, а! не то, чтобы целиться из неё.
Не дождавшись ответа, Васечка вышел из хаты, успев, однако, шепнуть дядьке Мирону, чтобы тот не брал с собой Настю на сход хуторян: мало ли что может случиться… И вообще — она не местная.
Немцы — народ аккуратный и пунктуальный до педантичности. В хутор Полежаев (так он называется с незапамятных времён, а всё потому, что здесь жили семьи, носившие, в основном, фамилию — Полежаевы) они прибыли ровно через час. Из крытого грузовика выпрыгнуло несколько солдат, из «оппеля» степенно вышли два офицера в эсэсовской форме и вслед за ними — человек в полушубке, с чёрной повязкой на одном глазу.
Васечка неуклюже засеменил к немецким офицерам, пытаясь что-то им доложить, словно бы военный военным, но в этом своём подобострастии, в этом своём стремлении он был так наивен и так неловок, что старший по возрасту офицер весело рассмеялся и дружески хлопнул его рукой в лайковой перчатке по плечу.
— Ти есть кароший полицейский! — сказал он на ломаном русском языке. — Отвечайт: здесь, в толпе, стоят весь житель этот хутор?
— Так точно, господин офицер! — неловко промямлил Васечка. — Все — от мала до велика, так сказать.
Офицер небрежно оттолкнул его в сторону, обернулся к офицеру помоложе, что-то быстро, словно по-собачьи, пролаял ему на своём языке. Тот что-то тихо ответил ему.
Немногочисленные жители хутора Полежаев с интересом рассматривали приехавших немцев: им не часто удавалось видеть их — не любили немцы мелких хуторов, вросших в землю в таинственной и опасной лесистой местности.
— Мирон, — прошептала тётка Феклуша, — а ить они-то, фрицы, дюже на нас похожи: только что не по-нашему балакают.
— На морду-то схожи, — охотно согласился тот, — я их, гансов этих, в империалистическую насмотрелся. А вот характер у них — ну чисто зверский: попадёшь к ним в зубы, считай…
Дядьке Мирону не дал углубиться в воспоминания старший офицер.
— Господа житель хутор, — прокартавил он, — я есть оберштурмбанфюрер СС Вернер Хорст. Ми к вам приехаль с унтерштурмфюрером Куртом Дитрихом по ошень важный дело…
— Васечка, — прошептал на ухо подошедшему к хуторянам юному полицаю дядька Мирон, — ты, случаем, не знаешь, что это за звания такие у фрицев — оберштурм… штурм… Хрен выговоришь!..
Васечка недовольно покосился на дядьку Полежаева, но всё же, тоже шёпотом, ответил:
— Тот, что помоложе, он и по званию ниже. Он — унтер-штурмфюрер: по-нашему, значит, лейтенант. А другой — обер-штурмбанфюрер, этот — подполковник.
— Ну-у! — крутанул головой дядька Мирон и, снова навострив уши, начал вслушиваться в картавые слова Хорста.
А тот продолжал:
— Ви все знайт, как ошень плехо жить при большевицкий режим. Коммунисты сделали вас тупой раб. Ми, немец, самый культурний наций. Ми освобождать вас от большевицкий ярмо, от-как это? — экс-плю-а-та-ци-я!.. Ми установить новый порядок в ваш хутор. А свой наместник здесь ми оставляй! старший полицейски… э-э… — как это? — Митья Клык…
И он пальцем указал на человека с чёрной повязкой на глазу. Тот сразу же вышел вперёд, чуть склонив в знак согласия — что это действительно именно он, «Митья Клык» — голову.
— Ми уезжайт — дела, Клык оставайт здесь. Его надо слюшайт, иначе — пуф-пуф! Ми с унтерштурмфюрером Хорстом теперь будейм частый гость ваш хутор, — он взглянул на часы, потом пальцем поманил Васечку. — Господин полицейский, ви должны оказать всяческий помощь Митья Клык! Ви поняль?
— Так точно, господин офицер! — весь дрожа то ли от охватившего его возбуждения, то ли от колючего зимнего холода, ответил Васечка. — Поможем… Как же…
Дитрих в это время что-то выкрикнул солдатам, и те бегом бросились к своей машине, торопливо забираясь в кузов, а унтерштурмфюрер направился вслед за своим шефом. Машины взревели моторами и через несколько минут исчезли в крутой и глубокой балке, направляясь в сторону села Прелестное.
Хуторяне ещё некоторое время стояли молча, сосредоточенно разглядывая только что прибывшего старшего полицейского; тот, в свою очередь, своим единственным глазом просверливал, как бы насквозь, их лица. Наконец он сказал:
— Надеюсь, что вы все слышали, хуторяне, что меня зовут Дмитрий, фамилия моя… Клык.
— Фамилия это — Клык — или кличка? — громко спросила одна из хуторянок.
— Скоро узнаете! — ощерился Митя. — И прошу не перебивать. Я буду наводить в вашем паршивом хуторе новый немецкий порядок. Прошу меня слушаться беспрекословно, иначе я… Короче: я скор, быстр на руку…
— Прошу прощения! — раздался из толпы хуторян чей-то старческий голос. — А как же к вам обращаться? Как вас по батюшке кличут-то?
Митька Клык криво усмехнулся, поправил ремень немецкого автомата.
— Много будете знать, скоро состаритесь!.. Никаких отчеств: зовите меня просто — господин полицейский. Ясно? А теперь, хуторяне дорогие, — по домам! Я вас позже навещу всех и разъясню, что от вас требуется для немецкой власти. Разъясню каждому — ин-ди-ви-ду-аль-но! — и к Васечке подёрнулся. — Ну, сынок безусый, и помощничек мой верный, веди меня к себе. В гости приглашай!
— Слушаюсь! — испуганно выдохнул Васечка, прикладывая руку в варежке к шапке.
— Не надо козырять! — досадливо поморщился Клык. — Не люблю я этого… Самогон дома имеется? Ну и лады. Пошли, сынок безусый…
СТАЛИН ДАЁТ «ДОБРО»
Ротмистров всё оставшееся до визита к Сталину время очень волновался и переживал. Ещё бы! Он отлично, можно даже сказать, до предела был напичкан более чем многочисленной информацией, слухами о непредсказуемых решениях Иосифа Виссарионовича: Верховный одним взлётом бровей мог мгновенно возвысить любого человека необъятного Союза Советских Социалистических Республик до немыслимых для последнего, до недосягаемых высот, а мог и наоборот, лишь скептически дёрнуть усом и позорно втоптать в немыслимую грязь, а то и вообще лишить жизни. Конечно, всё это он делал не лично, не своими руками — всё делалось другими, всё свершалось с его молчаливого согласия или с не менее молчаливого приказания злым прищуром глаз. Но об этом все молчали, очень боясь того, как бы их далеко потаённые крамольные мысли не выплыли случайно наружу, чтобы их кто-либо не обнаружил и, не дай Бог, не донёс куда следует: тогда — всё… Жди, ожидай жуткого «чёрного ворона», который в тёмные ночи приезжает только за врагами народа…
Ротмистров даже вздрогнул, когда внезапно увидел перед собой лицо своего адъютанта Земского, его немо шевелящиеся губы.
— Тебе чего, Василий?
— Извините, что побеспокоил вас, товарищ генерал, по вам уже пора, — полушёпотом произнёс Василий Земсков.
— Пора?
— Так точно, товарищ генерал пора… к самому Сталину!
Ротмистров, уже садясь в машину, напомнил адъютанту о том, чтобы он сегодня принял лейтенанта Кошлякова и оказал ему соответствующее внимание.
— Будет исполнено, товарищ генерал! — ловко и привычно метнул руку к шапке Василий Земсков.
В Кремль два генерала — Боков и Ротмистров — прибыли вечером. Переступили порог приёмном Верховного Главнокомандующего. Генералов встретил Поскрёбышев.
— Я прошу извинения за товарища Сталина, — сказал он, слегка пожимая руки Павлу Алексеевичу и Фёдору Ефимовичу, — он просил вас немного подождать: Верховный сейчас ведёт серьёзную беседу с нашими конструкторами, как только разговор окончится, он сразу же примет вас, товарищи генералы.
Ждали вызова в святая святых не очень долго, но Ротмистров переволновался заметно сильно — даже колени временами мелкую дрожь выбивали. Одно его спасало, что в противном, противоестественном его гордому нутру волнении он был не один: искоса бросая нечастые взгляды на Бокова, Павел Алексеевич видел, как тот нервно, но бесшумно, безостановочно барабанит пальцами по папке с бумагами.
Высокая дверь раскрылась совершенно внезапно, и из кабинета начали выходить конструкторы. Они почему-то не сразу, как ожидал Ротмистров, ринулись из приёмной вон, а начали прикуривать папиросы, заполняя «резиденцию» Поскрёбышева успокаивающе-щекотливым табачным дымом.
Конструкторы о чём-то перебрасывались короткими возбуждёнными фразами, но Ротмистров от ещё более нахлынувшего на него волнения никак не мог разобрать смысла этих фраз, хотя, вроде бы, и старался сделать это. Он не сразу понял, что в кабинет к Сталину вызвали одного лишь Бокова, и поэтому, видя, что тот встаёт, тоже начал приподниматься на вдруг ослабевших, словно бы на ватных ногах, но вовремя обернувшийся Боков махнул ему досадливо рукой — сиди, мол, и не рыпайся, не твоя очередь…
Конструкторы, оставив после себя лишь призрачный дым, ушли, и Ротмистров остался в приёмной наедине с Поскрёбышевым. У личного секретаря Сталина сейчас, в эти самые минуты, был такой серьёзный и деловой вид, что, казалось, он вообще не замечает взволнованного предстоящей встречен с Верховным генерала: Поскрёбышев старательно и сосредоточенно разбирал на— столе какие-то бумаги и отрывался от них лишь тогда, когда звонил телефон.
Ротмистрову почему-то не понравилось такое поведение Поскрёбышева, вернее— его невнимание к нему, к генералу: Павел Алексеевич даже обозлился немного на секретаря, и это сразу же помогло ему унять непривычное и поэтому постыдное для него волнение. Он сразу же начал думать над тем, как нужно наиболее чётко и как можно покороче доложить, высказать Иосифу Виссарионовичу своё мнение. Ещё задолго до поездки сюда — в Москву, в Кремль, — Ротмистрова проинформировали о том, что Главнокомандующий ох как не любит пространных рассуждении своих собеседников по военной линии, а, следовательно, и тех, кто их высказывает.
— Павел Алексеевич, — прервал нить его размышлений Поскрёбышев. — Прошу вас! Входите!.. Вас ожидают.
Ротмистров вошёл в кабинет Сталина. Сталин находился в самой глубине кабинета и с лёгким прищуром смотрел на вошедшего. В его слегка согнутой руке дымилась трубка. Верховный мягко и медленно двинулся навстречу замершему около двери генералу. Пока он шёл, Ротмистров быстро окинул взглядом длинный стол, за которым сидели члены Политбюро ЦК ВКП(б), члены Ставки и правительства.
Сталин оказался рядом, и Ротмистров по-уставному щёлкнул каблуками:
— Товарищ Верховный Главнокомандующий, генерал Ротмистров по вашему приказанию прибыл!
Сталин чуть усмехнулся и протянул генералу руку:
— Не надо так говорить. Я вам не приказывал, я вас, приглашал, товарищ Ротмистров.
Павел Алексеевич смутился, а Сталин, снова усмехнувшись, прошелестел в усы:
— Что ж, товарищ Ротмистров, рассказывайте, мы будем слушать. Рассказывайте, как вы там Манштейна громили? Не стесняйтесь, пожалуйста.
Павел Алексеевич смутился ещё больше: зачем, ну зачем Сталину пересказывать о том, о чём он уже наверняка прекрасно знает от своих штабных офицеров!.. Да, было такое— схлестнулись они крепко с Манштейном, когда он яростно рвался выручать окружённую под Сталинградом группировку Паулюса; да, были страшные и жестокие бои, которые вёл 3-й гвардейский танковый корпус, наступая на Рычковский и Котельниково… Многое было!
Против Верховного «не попрёшь», надо всё ему рассказывать, если он «просит»; и об анализе боёв, и о тактике наступления корпуса, который был под его началом. И Ротмистров повёл рассказ. Рассказывая, он видел, как реагировали на это всё присутствующие здесь, как то и дело поправлял своё пенсне Молотов, как напряжённо и внимательно его слушали другие, сидящие за длинным столом, как бесшумно, по-рысьи, прохаживался вдоль этого самого длинного стола ОН, попыхивая трубкой и напряжённо думая о чём— то, лишь одному ему известном.
Затем последовали вопросы, на которые Павел Алексеевич отвечал чётко и ясно.
Верховный, подойдя к Ротмистрову вплотную, вдруг прищуренным взглядом пристально посмотрел ему прямо в глаза.
— Мы думаем, — растягивая слова, сказал он, — что сегодня наши танковые войска уже научились успешно громить противника. Они наносят ему глубокие удары, сокрушительные удары. Вы согласны с этим, товарищ Ротмистров?
— Так точно, товарищ Сталин, вполне согласен.
— Хорошо, что согласны, но, однако, вы почему-то считаете, как мне сказали, нецелесообразным иметь в танковой армии… пехотные соединения. Чем вы можете обосновать своё мнение?
«Сталин всё знает!» — мелькнуло в голове генерала. — Ему уже сообщили о моём мнении, и кто знает, как он относится к нему… Ну да ладно!.. Двум смертям не бывать…»
Павел Алексеевич непроизвольно кашлянул и громко, отчётливо произнёс:
— Товарищ Сталин, не я один думаю о том, что при наступлении стрелковые дивизии намного отстают от танковых корпусов. Естественно, это ведёт к нарушению взаимодействий между ними, к затруднению всеобщего управления.
— Вы смело сказали, товарищ Ротмистров, но позвольте вам возразить. Вы ведь знаете, — слышали, — о смелых и решительных действиях танкового корпуса генерала Баданова?
— В районе Тацинской? — уточняюще спросил Ротмистров.
— Именно там! — ответил Сталин. Так вот, на примере корпуса Баданова можно легко определить, что танкистам очень трудно самим удерживать объекты, захваченные в оперативной глубине. Трудно без пехотинцев!.. Так нужна ли танковой армии пехота?
— Так точно, товарищ Сталин, нужна! — опять кашлянул Ротмистров. — Но… моторизованная пехота. Отсюда следующее моё мнение: в основной состав танковой армии, не считая танковых корпусов, разумеется, обязательно должны входить не стрелковые, а мотострелковые части.
Сталин поднёс трубку ко рту, глубоко затянулся, пыхнул дымом в пространство и ничего не сказал. И тогда, поправляя пенсне, задал свой вопрос Молотов:
— Павел Алексеевич, а вы знаете о том, что командующий танковой армией Романенко очень даже доволен стрелковыми дивизиями в составе своей армии. И не только доволен, но и настойчиво просит добавить ему одну-две такие дивизии.
Ротмистров взглянул на Молотова, но ничего ему не ответил.
— Павел Алексеевич, уважаемый, разъясните, — не отставал Молотов, — так кто же из вас правы или же Романенко?
Ротмистров опустил глаза и твёрдо произнёс:
— С моим мнением вы уже знакомы. Я считаю, что танковая армия должна быть танковой на самом деле, а не ни штабной бумаге.
— Ну и какое же организационное построение танковой армии, в таком случае, вы считаете наиболее приемлемым?
— В настоящую танковую армию должны входить два танковых и один механизированный корпус. Кроме этого, несколько полков противотанковой артиллерии.
Верховный посмотрел долгим и внимательным, изучающим взглядом на смело отстаивающего свои принципы генерала, затем одобрительно покивал головой. А Молотов не унимался.
— Я не понимаю вас, товарищ Ротмистров: выходит, вы совсем не признаёте противотанковые ружья, если ратуете за противотанковую артиллерию?
— Противотанковые ружья, товарищ Молотов, — я, кстати, вовсе не против них — являются средством борьбы с танками противника лишь в оборонительных операциях: сидит стрелок в окопе, подпускает вражескую машину метров на двести-двести пятьдесят, в крайнем случае — на триста, и стреляет. Вот здесь и имеется нужный эффект. А в манёвренных условиях противотанковые ружья вряд ли выдержат единоборство с пушечным огнём вражеских танков.
Около двух часов продолжалось обсуждение остро злободневного вопроса в кабинете Сталина, и Ротмистров каким— то шестым, обострённым чувством улавливал, чувствовал, что Сталин во многом солидарен с ним, что Сталин хорошо понимает значение массированного применения танковых войск.
Верховный задумчиво посасывал давно уже погасшую трубку, менее всего встревая в спор собравшихся в этот поздний час в его кабинете; он больше вслушивался и, наконец, сказал:
— Я знаю, придёт время, когда наша промышленность непременно сможет дать Красной Армии значительное количество бронетанковой, авиационной и другой боевой техники… Да, товарищ Ротмистров, я поделюсь с вами секретом, у нас уже сейчас имеется возможность для формирования новых танковых армий. Скажите откровенно: вы могли бы возглавить одну из них?
У Ротмистрова внезапно кровь прилила к вискам, однако, он мгновенно справился с волнением и, вскочив со стула, хрипло сказал:
— Как прикажете, товарищ Сталин!
— Достойный ответ, товарищ Ротмистров, солдатский ответ! И это — похвально. Думаю, что вы обязательно справитесь с новыми служебными обязанностями. Хорошие теоретические знания и богатый практический опыт у вас имеются.
… Выйдя на улицу, Ротмистров глубоко вздохнул, прихватив горлом морозный воздух, снял очки и, крепко сомкнув глаза, долго стоял неподвижно. Он — думал…
СОН РЯДОВОГО ЯДРЕНКО
В дверь комнаты постучали. Валентин во сне поморщился, недовольно и обиженно натянул на свою взлохмаченную голову одеяло. Василий, в отличие от брата, проснулся сразу, привстал с подушки, но отвечать на стук вовсе не торопился; он думал: во сне ему этот стук прислышался или же наяву. Но в дверь снова, на этот раз сильно и настойчиво, застучали, и чей-то хриплый голос громко спросил:
— Котляковы, вы дома?
Василий потрусил головой, сгоняя остатки сна, недружелюбно спросил:
— Кого это там нелёгкая принесла?… — Ч-чёрт, ну никогда спокойно не отдохнёшь — ни дома, ни на войне…
За дверью беззаботно хохотнули:
— Ты чего, Васька, своих не узнаёшь? Это я, капитан Зенин.
— Входи, чёрт с тобой! Всё равно ведь не отстанешь: прилипнешь как банный лист до задницы…
— Ты как это с капитаном разговариваешь, лейтенант Кошляков? — шутливо-грозно вопросил Зенин, входя в комнату и по-хозяйски присаживаясь на стул. — Устава, что ли, не знаешь? За оскорбление старшего по званию…
— Да иди ты!.. — отмахнулся Василий, лениво натягивая галифе.
На своей кровати заворочался, сбросил со злостью с головы одеяло Валентин.
— Вечно ты, Никанор, поспать не даёшь! — сердито проворчал он. — По какому случаю к нам пожаловал?
Зенин был на год старше Котляковых, и годом раньше он окончил то же самое танковое училище, что и братья Кошляковы — Василий, Валентин и Владимир. Раньше, он сам не знает, за какие заслуги, Никанору упали на погоны последующие звёздочки, на целых две у него сейчас больше, чем у братьев.
— Чего я пожаловал? — переспросил капитан. — А хочу вас, неразличимых близняшек, в гости пригласить. Как, орлы, дельное предложение?
— К себе, что ли в гости? — фыркнул Василий.
— Зачем же к себе? — не смутился Зенин. — У меня вам делать нечего. Я, чтоб вы знали, человек негостеприимный. К медикам я вас приглашаю.
Валентин поморщился:
— Опять спирт кружками хлестать!.. Бр-р-р!.. Надоело уже: к окончанию войны — а я надеюсь дожить — запросто можно пьяницей стать. Не пойду я к медикам.
— Та-а-ак! Валька, как говорится, отпадает. Ну, а ты, Васька, что скажешь? Пойдёшь со мною?
— Мне, Никанор, тоже неохота.
— Вот ладненько! — удовлетворённо потёр руки капитан. — Я же, брательнички-близняшки, пошёл. Покедова… Да, чуть не забыл: между прочим, нашей доблестной медчасти пополнение прибыло, в чисто юном женском виде.
— Врёшь! — в один голос вскрикнули братья, мгновенно повернувшись к капитану недоверчивыми лицами.
— Моё дело сказать, ваше — не верить! Ну, я пошёл…
— Погоди! — воскликнул Василий. — Дай время одеться… Ядренко! Ядренко, чёрт бы тебя побрал, воды!..
Рядовой Ядренко приволок кувшин воды, тазик и, пока братья Кошляковы брились да плескались, он всё сетовал на то, что ему часто сны плохие начали сниться, что будто бы его чуть ли не каждую ночь режут. Кинжалом. А вчера ночью вообще что-то страшное и невообразимое приснилось.
— И что же? — заинтересовался Зенин, вытаскивая из пачки папиросу. — Расскажи.
— О, товарищ капитан! — живо повернулся к нему Ядренко. — Это просто ужас! Вот послушайте!.. Снится мне, будто бы я не на фронте, а в селе, около дома бабушки своей нахожусь. Смотрю, вдруг всё небо покрывается рисунками, гербами различными, и всё это постоянно — как там? — видоизменяется. Пролетел надо мной какой-то странный и невиданный мной доселе самолёт. А другой воздушный корабль — наподобие мотоцикла с коляской, опустился возле двора и подрулил к моему отцу. Я и кто со мной был, подумали, что это инопланетяне прилетели, хотели бежать к ним, а отец сказал, что это его знакомый прилетел из Прохоровкн. Прохоровка — это посёлок такой, центр районный, я недалеко от него живу… Ещё один воздушный корабль опустился прямо у наших ног. Внутри никого и ничего не было, кроме детского автомобиля. Я тогда ещё подумал: инопланетяне угадали мои мысли, достали для моего племянника желанную игрушку.
— Гм!.. Странные сны снятся ребятам из какой-то… Как её? — поморщился, заговорщицки подмигивая лейтенантам, капитан.
— Из Прохоровкн, — подсказал Валентин.
А Ядренко взмолился:
— Не перебивайте, товарищ капитан. Слушайте далее: во не почему-то в феврале было лето, но лужа в нашем дворе — природная, от ключей и дождей, — однако, замёрзла. И вот, когда улетел инопланетный корабль, лёд вдруг растопился и закипел, хотя вода в луже — я пробовал — была холодноватой. Племянник прошёлся по ней, и ноги его — по колено — стали белыми какими-то и липкимиЯ племяшу своему говорю, что держись, мол, подальше от лужи, а он, как назло, снова в неё попал, теперь уже с головой. Я закричал сестре, давай, дескать, воды — отмывать сына. Она и подала воды. А тут брат мой вмешался, ему на руки воды надо полить… Ну, а потом картина резко переменилась: во дворе, будто бы возле самогонного аппарата, сидит мой отец, его же окружают двое покойников-односельчан, и появляется третий — мой двоюродный дедушка Жора. Я подошёл к нему и спросил у него — где лучше: здесь, в нынешнем мире, или же в потустороннем? Он засмеялся своим особым смехом, махнул рукой и ответил, что лучше всего жить в потустороннем мире.
— Да заткнись ты, Ядренко! — рубанул рукой воздух Василий. — Чего ты не на шутку раскаркался! Вечно тебе везде смерть мерещится!.. Запугать нас хочешь?… Мы — молодые, и никакая пуля нас не возьмёт. Так, капитан Зенин?
— Твои бы слова — да до Бога! — хохотнул тот. — Ну что, готовы, братья-близняки? Тогда — за мной!..
Капитан Зенин, к своему сожалению, но ещё к большему сожалению, братьев Котляковых, просчитался: медики женского пола в их медчастъ не прибыли. По какой причине — это никому не было известно.
— Не расстраивайтесь, пацаны, — успокаивающе прогудел лысеющий не по годам майор, — нет девочек сегодня, завтра прибудут. Или послезавтра. Короче, на днях, а может, и раньше, девчата к нам — ещё не обстрелянные и не обцелованные — обязательно прибудут. А пока, — майор дотянулся до шкафчика и осторожно извлёк из него колбу со спиртом, — а пока, если не возражаете, проведём маленькую репетицию предшествующему балу по случаю скорого прибытия красавиц-дам в нашу доблестную геройскую медсанчасть.
… Через полчаса все собравшиеся у медиков оживлённо радостно гудели, жестикулируя рассказывали что-то, то, дело перебивая друг друга. Потом майор, на правах старшего, заставил всех замолчать и попросил Валентина:
— Кошляков, слышь, будь другом, прочти нам что-нибудь из своих… произведений!.. Просим!.. Сообща просим!..
Валентин не стал отпираться, только спросил:
— Мужики, вам грустное стихотворение преподнести и, весёлое?
Все тотчас зашумели, заспорили, а майор негромко сказал:
— Валентин, читай на своё усмотрение…
Валентин привстал за столом, держа пустую кружку и ред собой и чуть хрипловатым голосом прочёл:
Лейтенант окончил читать своё стихотворение и замолчал, вместе с ним молчали и его слушатели, словно пережёвывай, переваривая в уме только что услышанное. Потом Валентин, робко улыбнувшись, сказал:
— Аплодисментов мне, ребята, не нужно. Лучше наполните мою кружку крепчайшим спиртом…
Майор молча потянулся за колбой…
Разошлись от медиков поздно. И без песен…
«КЛЫК — ОН И ЕСТЬ КЛЫК!..»
Митька Клык пил очень много, но особенно сильно не пьянел. Этой его завидной способности очень удивлялась мать Васечки: ты смотри, самогоняру — холера его забери! — хлещет трёхлитровыми банками, почти ничем не закусывает и с ног не валится, даже не шатает его из стороны в сторону, как бывало давеча, до войны, пьяных мужиков хутора Полежаева.
Васечка не пил. Совсем не пил.
— Вы меня не насилуйте, господин старший полицейский дядь Митя, я же ещё годами не созрел, — говорил Клыку в своё оправдание Васечка, — вот как подрасту ещё чуток да телом окрепну и заматерею, тогда мы с вами…
— Брось трепаться, сынок безусый. Телом он, видите ли, окрепнет… Синичку — хоть в пшеничку… — прикуривая немецкую папироску от немецкой зажигалки, отвечал ему Клык. — Небось, когда захочу, чтобы ты выпил — не отвертишься! Я тебе враз уши пообрезаю… А пока живи, желторотик: просто жалко мне тебя, недотёпу тщедушного…
Клык, по неписаным правилам, вернее — по своим правилам, установил, кто и когда его — представителя новой власти — в хуторе кормить должен и поить. В этот, по его личному графику, день, он должен был идти на обед до Верцы Хомяковой.
— Слушай, сынок безусый, у вас тут, на хуторе, бабёнки путёвые хотя бы имеются? — хмуро спросил он Васечку, неторопливо и по-хозяйски шагая к хатенке Верцы, которая совсем недавно получила с фронта «похоронку» на мужа и до сих пор, с утра и до вечера, лила по нём солёные слёзы.
— Чего? — не понял сразу Васечка.
— Ах, какой ты бестолковый! Я у тебя спрашиваю — бабы или девки хорошие в хуторе имеются? Чтоб красивые были да сисястые!..
Васечка смутился:
— Да вы что, господин старший полицейский, у нас хутор маленький: если и есть женщины более-менее в хорошем возрасте, так они все замужем.
— А мужья их где?
— Известно где, — воюют.
— С кем? На чьей стороне?
Васечка, словно подавившись давно не виданным куском колбасы, икнул, сразу замолчал. А Клык, с презрением мотнув головой из стороны в сторону, выдохнул:
— Не хутор, а дерьмо какое-то… Ну, а Верца Хомякова, к которой мы топаем, она как из себя?
Васечка неопределённо пожал плечами:
— Так себе… Стара она для меня…
— Балбес ты, сынок безусый! Ну, ладно, это её хоромы? Тогда заходим…
Верца уже поджидала «дорогих гостей»: Васечка ещё накануне предупредил её, что именно сегодня, в такое-то время, её посетит представитель нового порядка, господин старший полицейский Митька Клык.
Они вошли. Верца сразу же испуганно уставилась в единственный глаз старшего полицейского.
— Милости просим к столу, — дрожащим голосом произнесла Хомякова, — чем богаты — тем и рады.
Клык небрежно сбросил тулуп и шапку на лавку и, окидывая хозяйку оценивающим взглядом, от которого та съёжилась поневоле, неторопливо уселся за стол. Васечка, как тень, последовал за ним. Верца выставила два стакана, наполнила их мутноватым на вид самогоном.
— Это вам для сугрева, — сказала она и собралась было отойти от стола.
— Стой! — резко выдохнул Митька. — Куда торопишься, хуторянка? А ну-ка, присядь!
Верца испуганно и безропотно села к столу.
— Теперь бери стакан и пей! — приказал Клык.
— Господин полицейским, этот — второй стакан — я для Васечки приготовила. Ему этот стаканчик…
— Васечка твой, чтоб ты знала, совсем и категорически не пьёт спиртного. Так что — не упирайся, разлюбезная хуторянка!.. Пока я не осерчал…
Клык поднял стакан, стукнул им по стакану в руках Верцы и опрокинул резко всё содержимое в свой гнилозубый рот. Скривившись, он шумно занюхал корку хлеба и снова положил её на стол. Поднял голову и единственным глазом словно пронзил Хомякову насквозь:
— Ты чего не пьёшь? За падло меня принимаешь?! Или травить, родемая, хочешь?! А ну!.. — и он громко бабахнул кулаком по столу.
Верца быстро выпила самогон, задохнулась-то ли от волнения, то ли от крепости самодельного напитка — и, схватив кружку с водой, жадно припала к ней. Клык удовлетворённо хмыкнул и повернулся к Васечке.
— Ну что, набил ты своё брюхо? — спросил он.
— Да… вроде бы… нет ещё… — с набитым ртом промямлил, промычал Васечка. — Я… только… начал…
Митька сурово сдвинул брови, предостерегающе, как опасная кобра, зашипел:
— А я думаю, что ты уже основательно пожрал. Одевайся и быстренько дуй отсюда. Пока, как говорится, трамваи ходят… Только далеко не уходи, около дверей потопчись. И смотри: чтобы сюда ни одна душа не вошла! Тебя это тоже касается, сынок безусый: войдёшь только тогда, когда я тебя окрикну и позову. Понял?…
Васечка вдруг всё понял. Понял, что задумал жестокий Митька Клык. Он медленно повернул голову в сторону ненастной Верцы и тотчас встретился с её молящими о помощи, о заступничестве глазами. Но чем он мог помочь своей дрожащей от предстоящего ужаса землячке, чем? Он сам сильно, как огня, боялся Клыка. Боялся до смерти, хотя тот ещё ни разу не наказывал его, даже не обругал крепко.
Васечка оделся и уже подходил к двери, когда услышал вдруг почему-то осипший голос своего начальника:
— Наливай ещё, Верца! Выпьем за неожиданное знакомство. Да ты по полной наливай, чтобы глаза не вваливались…
Васечка вышмыгнул за дверь, но в сенях остановился, прислушался. Вначале всё было тихо, лишь ровно гудел неразборчивый голос Клыка. Затем что-то громыхнуло и испуганно взвизгнула Верца. Снова что-то громыхнуло, будто упала тяжёлая вещь. И тут же дико заголосила Верца:
— Ой, не надо!.. Не трогайте меня!.. Не трогайте, я женщина честная!.. Не надо!..
Митькиного голоса уже не было слышно, но слышно было, как падает и разбивается вдребезги посуда, как то и дело вскрикивает и воет Верца. Но вот взвыл и Клык: видимо, саданула его чем-то Хомякова.
— Ах ты, стерва! — услышал Васечка яростный крик старшего полицейского. — Ты на представителя власти руку поднимаешь!.. Застрелю, суку!.. А ну, ложись, ныряй в постель падло, добровольно!.. Считаю до трёх!.. Один!.. Два!..
Васечка не мог больше стоять в сенях и подслушивать; не мог он и войти в хату и без раздумий пустить пулю в лоб Митьке Клыку — страх был сильнее его самого и его всяческих чувств; выход оставался один — вон отсюда, на улицу чтобы не слышать ничего, и, тем более, не видеть!..
… Митька Клык из хаты Верцы вышел где-то через полчаса. Через всю его щёку кровоточила свежая царапина.
— Чего уставился? — хрипло спросил он. — Не узнаёшь? — Дура баба попалась — он осторожно погладил царапину — не постели ничего не может — лежит как бревно… Мне бы помоложе себе подыскать бабёнку да с огоньком… Или совсем необученную девочку!.. Эх, жизнь-житуха!
В голове у Васечки вдруг помутилось: ему внезапно представилось, как поганый Клык насильничает Настю… Настю к которой у него, кажется, начала появляться симпатия.
«За Настю я его враз пристрелю!.. Надо предупредить дядьку Мирона, чтобы спрятал Настю от этого одноглазого дьявола. Клык — он и есть самый настоящий клык, волчий ли. собачий ли…» — подумал он и поплёлся вслед за Клыком, то и дело поправляя ремень тяжёлой для него винтовки.
ВОЛЬНОМУ-ВОЛЯ…
Поздно вернувшийся из Кремля Ротмистров застал у себя не только своего адъютанта Василия Земскова, но и незнакомого молодого симпатичного лейтенанта. И Земсков, и молодой симпатичный лейтенант мгновенно вскочили, вытянувшись по стойке «Смирно!». Павел Алексеевич рассеяно кивнул им головой и хотел было пройти мимо, но адъютант вежливо окликнул его:
— Товарищ генерал!
Ротмистров остановился, молча вопросительно взглянул на него.
— Товарищ генерал, к вам лейтенант Кошляков явился!.. Вы просили…
— Являются только черти, Василий. Запомни это. Ну, это я так, к слову. Ты не обижайся. Я сейчас разденусь, и, прошу тебя, организуй, пожалуйста, нам с лейтенантом чай.
Через некоторое время Ротмистров и лейтенант Кошляков сидели за столом и пили горячий чай. Лейтенант явно чувствовал себя не в своей тарелке; генерал, в свою очередь, чувствовал стеснительность юного офицера и с чисто отеческой улыбкой то и дело посматривал на него.
— Лейтенант, позвольте спросить у вас: почему вы из такого тёплого и уютного местечка так усиленно рвётесь па фронт? Война ведь, сами чувствуете, не к концу своему приближается, а, можно сказать, к своей золотой середине. И сколько ещё людей в ней полягут — одному Богу известно. Эх, долго ещё смерть своей безжалостной косой орудовать будет, много голов буйных скосит — и генеральских, и, тем паче, ваших, молодых и горячих.
Товарищ генерал, в вашем корпусе два брата моих служат. Танкисты они. Я хочу с врагом сражаться бок о бок с ними.
— Да, мне говорили о вашем жгучем желании службу военную, нести вместе с ними. Но, лейтенант, подумайте всё же хорошенько: там же, на фронте, вас ожидают жестокие бои и, не исключено, что вас могут убить. Неужели вам, в ваши столь юные годы, так хочется умереть?
— Нет, товарищ генерал, умирать я вовсе не собираюсь. Я, наоборот, хочу убивать тех, кто пришёл нас предать смерти. И не подумайте, что я совсем ещё необстрелянный, мне пришлось побывать в кое-каких переделках и смотреть Косой прямо в её глаза.
Ротмистров вздохнул, отхлебнул глоток чая и надолго замолчал, о чём-то раздумывая. Молчал и лейтенант, упрямо и насторожённо вперив немигающий взгляд в блестящий бок чайника.
— Ну что ж, — сказал Ротмистров наконец, — как говорится, вольному — воля… Отец тоже воюет?
— Так точно, товарищ генерал!
— А мать… Мать-то твоя где сейчас?
— Мы недалеко от Москвы живём, мама сейчас там, в деревне, находится.
— Где именно, лейтенант?
Кошляков назвал точный адрес, и Ротмистров опять надолго замолчал, опять о чём-то сосредоточенно думая. Затем сквозь очки внимательно посмотрел на младшего офицера.
— Мать свою давно видели?
— Давно. Очень давно… вздохнул лейтенант и, какой-то горький комок прихлынул прямо к самому его горлу.
— Хотелось бы её повидать?
Лейтенант пристально посмотрел в уставшее лицо генерала, горько улыбнулся:
— Кому ж не хотелось бы, товарищ генерал…
— Вас как зовут?… Владимир?… Понятно. Так вот что, Владимир, я хочу дать вам одно поручение — очень серьёзное; выполняя его, вы можете на денёк заглянуть домой. Это как раз, лейтенант, вам по пути будет.
— Товарищ генерал! — вскочил Кошляков. — Да я…
— Сидите, лейтенант, и… не надо благодарить. Это совсем необязательно. За необходимыми документами для командировки прибудете завтра к моему адъютанту. Выполните поручение и, пожалуйста, поезжайте в корпус, к своим братьям-танкистам. Да, ещё я слышал, вы хотите попасть именно в их экипаж?
— Так точно, товарищ генерал!
Что ж, я постараюсь вам помочь. Идите, лейтенант Кошляков.
… С поручением генерала Ротмистрова Владимир справился на удивление быстро. И сейчас он, развалясь, как барин, на соломе в санях, держал прямой путь в родную деревеньку. Он что-то невпопад отвечал на вопросы кучера— мужика из соседней деревни, которого он знал и помнил в лицо, но совершенно не знал, как его зовут, а сам с тревожно-радостным чувством думал о своём родном доме, о маме, о том, как через каких-то полчаса, а может, быть, минут через сорок, встретится с ней и как он ей самыми нежными на свете словами скажет о том, что он, её сын, сильно-пресильно любит её.
На повороте в деревню Владимир распрощался с помогшим ему добраться мужиком, сунув ему в знак искренней благодарности банку фронтовых консервов. По полуторакилометровому от поворота дороги шляху он почти безостановочно бежал, совсем не чувствуя за спиной тяжёлого рюкзака с продуктами, не ощущая под ногами рыхлого, тормозящего его бег снега.
Но вот и дом. Из трубы слегка курится тёмный змеистый дымок — значит дома кто-то есть. Владимир взбежал па старенькое скрипучее крылечко, остановился, переводя дух, и почему-то робко постучал в дверь. Никто не отозвался. Владимир постучал сильнее и только тогда услышал знакомый с самого детства голос матери:
— Кто там стучит? Входи, у нас не заперто.
Он толкнул покосившуюся дверь и внезапно ослабевшими ногами переступил порог; со света поначалу ничего и никого Владимир в хате не увидел: он стоял, привыкая к сумраку помещения и напряжённо молчал. И вдруг услышал голос матери:
— Кто это?… Господи, сыно-о-ок!..
И в тот же миг лейтенант ощутил на своих плечах сухонькие, но жилистые ещё руки матери: он моментально обнял её, поднял с земли и бешено, с каким-то остервенением начал целовать её прохладные шершавые губы, морщинистое, до боли родное и любимое лицо, и скупые слёзы вдруг выступили в его глазах, и в этот миг он не стеснялся их.
— Погоди, сынок, — слабо запротестовала она, — погоди! Дай-ка я разгляжу тебя, ненаглядного… Ой, ты в гимнастёрке военной, сразу и не узнаешь, не угадаешь, кто ты из трёх моих кровинушек… Вовочка, кажись?
— Да, мама, я это, я! — задохнулся от нового прилива нежности к маме Владимир. — Родная ты моя.
Мать долго суетилась, собирая на стол скудный обед, а он, сын её, внимательно и с любовью смотрел на неё, на её глубоко изборождённое морщинами лицо, на руки — мозолистые и трудолюбивые, с детских лет привыкшие к крестьянской работе. Спохватился Владимир лишь тогда, когда мать, смахивая со щёк слёзы, сказала:
— Сынок, да ты ж теперь проголодался, небось, — садись к столу. Вот выставила всё, что смогла. Не обессудь, сынок.
Владимир виновато улыбнулся и, вспомнив, потянулся к рюкзаку, расстегнул его и начал вытаскивать свой паёк, офицерский.
Они сидели друг против друга и, выпив за встречу по стаканчику крепкого и вонючего самогона, почти ничего не ели, рассказывая друг другу о своей жизни, о войне, которая подло и надолго разлучила их. За разговором они и не услышали, как осторожно скрипнула дверь и на, пороге появилась девушка.
— Здравствуйте, — смущённо произнесла она, дуя на покрасневшие от мороза пальцы. — Я не помешала вам?
Мать откликнулась сразу:
— А, это ты, Леночка! Раздевайся, проходи к столу… Сынок вот мой приехал… На побывку…
А юный лейтенант во все глаза разглядывал вошедшую — Леночку Спасаеву, свою бывшую одноклассницу и свою бывшую первую любовь. Впрочем, почему бывшую? Провожая его, Леночка, неумело поцеловав Владимира на прощание, сказала, что будет непременно ожидать его.
Через некоторое время, посидев ещё за столом и поговорив о самом разном, но больше всего, конечно же, о войне, Владимир и Леночка ушли. Ушли к ней, к Спасаевой, домой. Она пригласила. Владимир твёрдо пообещал маме, что он очень скоро вернётся, и ещё добавил, чтобы она не очень скучала, пока он короткое время будет отсутствовать. Мать с горечью и любовью взглянула на сына, согласно кивнула головой:
— Приходи, Вовочка, только поскорее: мы ж с тобой и не побалакали даже как следует…
… У Спасаевых из взрослых никого не было. И как только они вошли в неказистую хатенку и сняли верхнюю одежду, Леночка вдруг сразу же бросилась к Владимиру на шею и жадно-неумело, но жадно-припала к его немного обветренным губам. От неожиданности лейтенант чуть было не задохнулся, а затем, сделав глоток живительного воздуха, сам крепко обнял Леночку Спасаеву и стал непрерывно покрывать прохладное ещё лицо её своими горячими поцелуями.
— Я люблю тебя! — страстно и бессвязно шептал он задыхающимся от волнения голосом.
Леночка Спасаева ничего не отвечала на эти безумные его слова, лишь всё сильнее и сильнее прижимала своё упругое и горячее тело к возбуждённому телу лейтенанта Котлякова. А потом вдруг хрипло произнесла еле слышным голосом:
— Я хочу иметь от тебя ребёнка…
Владимир не сразу понял, что сказала Леночка, а поняв — он глубоко изумился её словам, ужаснулся, подумав, зачем, мол, такие жертвы и упрямо мотнул головой:
— Не надо, родная… Зачем?… Война идёт, люди сотнями и тысячами гибнут, и меня могут убить… Я не хочу, чтобы ты…
Она прикрыла ему рот ладонью:
— Замолчи!.. Не говори больше ни слона об этом!.. И запомни: меня ничего не пугает… Я хочу… хочу иметь от тебя ребёнка!
Владимир на какой-то миг разжал объятия, Леночка быстро выскользнула из них, решительно набросила на дверь крючок и задёрнула на окнах занавески.
— Любимый!.. — прошептала она, и её сильные девичьи руки с новой силой обхватили шею Владимира.
И время для лейтенанта замерло… Он словно бы впал в беспамятство…
… Домой он заскочил уже под самое утро, проклинал себя за всё на свете — и за неумелую и пылкую любовь с Леночкой Спасаевой, и за то, что так предательски мало побыл, пообщался с мамой, а время уже — увы! — торопит его в дорогу…
Мать молча и сиротливо сидела у стола перед ровно горящей свечой и печально, не мигая, смотрела на родненького сына. Владимир смутился, ещё более остро почувствовал свою вину и ещё раз крепко-прекрепко обнял мать.
— Прости меня, родная, — прошептал он, и снова глаза его непроизвольно увлажнились.
— Что ты, сынок! — мать нежно погладила волосы сына, совсем как в детстве. — Бог с тобой!.. Ваше дело молодое… Я ни капельки не осуждаю тебя… Не бери ты дурного в голову…
— Прости, мама, мы так обо всём и не поговорили… А я… я обещал ведь тебе…
— Ничего, Вовочка, миленький ты мой, мы ещё обо всём — обо всём после войны проклятой поговорим да побалакаем. Наговоримся вволю. Лишь бы живы все были… Лишь бы живы…
Владимир, протерев рукой глаза, тяжело вздохнул:
— Мама, мне пора уезжать.
— Я знаю, сынок… Я тебе рюкзак уже сготовила… В дорогу…
— Мама, милая! — опять задохнулся в приливе любви и нежности к матери своей родной Владимир. — Прости!.. Виноват я, что мало побыл с тобой…
— Перестань, Вовочка, не надо. Ты мне вот что ответь: может, не нужно тебе было из штаба на фронт проситься? А, сынок?… Ведь там стреляют…
— Мама, я же тебе всё уже объяснял…
— Хорошо, сынок, больше не буду: вольному — воля…
«Вольному — воля… — резануло в памяти лейтенанта. — А ведь я это уже где-то слышал. Но где?… Господи, да эго же на днях было — Ротмистров мне тоже так сказал…».
— Сынок, передавай мой привет братикам своим, моим сыночкам Вале и Васе. Скажи, люблю я их… И живыми домой жду…
… Во дворе громко и недовольно зафыркала лошадь, заскрипели, застонали полозья саней по морозному снегу: это родственник их дальний дед Шилка подрулил на своей кляче к хате Кошляковых, чтобы довезти молодого офицера Владимира до железнодорожной станции.
Владимир взял рюкзак, накинул его на плечи и в последний раз взглянул в провалившиеся и почерневшие от бессонной ночи глаза матери…
РОЖДЕНИЕ АРМИИ
Колесо завертелось. Закрутилось колесо решения организационных вопросов: создавалась новая армия, а это требовало огромного количества физических сил и крепкого — морального духа. Конечно же, Павел Алексеевич Ротмистров знал, и, между прочим, не понаслышке, что создавать что-либо в жизни вообще — трудно, но что он встретится вплотную — сам лично — с такими выматывающими душу и сердце трудностями, не представлял себе даже и в мыслях. Отступать, однако же, было уже поздно… Да и не привык он от чего-то отступать.
Буквально через день после того памятного, заставившего его поволноваться совещания у Сталина, Павла Алексеевича срочно вызвали в Генштаб. Когда он прибыл туда, ему встретились многие его знакомые — и давнишние, и новые. Б Генштабе Ротмистрова уже с нетерпением ожидал командующий бронетанковыми и механизированными войсками генерал-полковник Карпенко. Там же находился и тревожно озабоченный чем-то генерал Боков.
— О, Павел Алексеевич, здравствуйте! — искренне обрадовался он появлению Ротмистрова. — Я, поверите ли, очень рад вам! Честное слово!.. Вы знаете, я вчера делал очередной доклад товарищу Сталину и, чёрт побери, узнал, что Верховный полностью одобрил высказанные вами накануне предложения.
— Всё разве? Тогда я очень рад! — сказал Ротмистров, слушая внутреннее тревожно-радостное биение своего сердца.
— Погодите, я не всё ещё сообщил вам, генерал: Иосиф Виссарионович не только одобрил ваши предложения, но и подписал директиву о формировании 5-й гвардейской танковой армии…
Тут шумно вмешался Федоренко:
— Павел Алексеевич, дорогой, вы и мне работёнку задали, да такую — что будь здоров!..
— И вам? Работёнку? Не может быть!..
— Вот вам и «не может быть!» — рассмеялся Федоренко. — Верховный поручил Генштабу совместно с моим управлением — с моим! — тщательно разработать проект структуры танковых армий. Новых… танковых… армий!.. Поняли? Так что — с вас причитается, дорогой Павел Алексеевич! Естественно, не сейчас, а когда проект будет утверждён…
— Павел Алексеевич, — засмеялся в свою очередь Боков, — если уж будете магарыч набирать генерал-полковнику Федоренко, то и мне не забудьте граммов эдак двести хмельного и крепенького чего-нибудь плеснуть. Хотя бы за вполне приемлемую и — хорошую новость.
— За какую ещё новость? — спросил Ротмистров, блеснув очками на Бокова.
— А за такую: я вам сообщаю, что уже подписан приказ о назначении командования 5-й гвардейской танковой армии. Вы, естественно, как и обещал Верховный командарм. Ко-ман-дарм!..
— Об этом я, допустим, уже приблизительно знал или, по крайней мере, догадывался. Ну, а кто же у меня боевые замы и так далее? С кем, как говорят рядовые солдаты, мне кашу из одного котелка есть придётся?
— Заместители у вас прекраснейшие, Павел Алексеевич, — сказал Боков. — Первым замом к вам назначен генерал-майор Плиев, вторым-генерал-майор Труфанов, членом Военного совета — генерал-майор танковых войск Гришин и начальником штаба — полковник Баскаков. Ну как, отличные гвардейцы подобрались? То-то!..
Ротмистров ничего не мог возразить против только что сказанных слов генерала Бокова: замы у него действительно подобрались прекраснейшие. С такими можно воевать. Он повернулся к Федоренко и вдруг увидел, как тот чему-то лукаво улыбается.
— Вы чего? — насторожился Ротмистров? — Что-то не так?
— Всё так, Павел Алексеевич, всё так. Вернее, почти что так… Почти — это потому, что вы опять непроизвольно улизнули от меня: я ведь, честно признаюсь, долго упрашивал Сталина назначить вас, генерал, моим заместителем.
— Вот как? — удивился вдруг Боков, — А я и не знал, какие… какие коварные мысли вынашивали вы в своей голове! Ну и что же вышло из ваших этих самых упрашиваний?
— А то: Верховный сказал, что канцеляристов и так в. Москве развелось чёрт знает сколько…
Федоренко и Боков продолжали о чём-то разговаривать, то и дело обращаясь с какими-то вопросами к Ротмистрову; тот машинально отвечал им что-то, но что — он и сам слабо понимал, потому что именно сейчас оценивающе думал о том, что ему крупно повезло с заместителями. Они — довольно опытные генералы, служившие в своё время в коннице, которую по праву считают родоначальницей и носительницей манёвра; они, генералы эти, хорошо знают тактику подвижных родов войск, и это — ну просто отлично!..
… Дни шли за днями. Дни, так похожие друг на друга, иногда — словно близнецы, но больше всё же — несхожие, совершенно разные по делам и событиям. И — трудные. Приходилось чуть ли не ежечасно решать многочисленные организационные вопросы, скрупулёзно разрабатывать план боевой и политической подготовки личного состава соединений и армейских частей, которые будут входить в танковую армию. Вернее, уже вошли. Необходимо было разрешать также и проблемы по приёму немалого количества эшелонов с пополнением, техникой, боеприпасами и многими другими всевозможными грузами.
Что же уже представляла собой 5-я гвардейская танковая армия изначально? Сегодня, то есть… Ротмистров, подсчитывая всё в уме, прикрыл глаза… В состав армии включались: 3-й гвардейский Котельниковский и 29-й танковые корпуса, 5-й гвардейский Зимовниковский механизированный корпус, 6-я зенитно-артиллерийская дивизия РГК, 1-й отдельный гвардейский мотоциклетный, 678-й гаубичный артиллерийский, 76-й гвардейский миномётный, 994-й отдельный авиационный, 108-й и 689-й истребительно-противотанковые артиллерийские полки, 4-й отдельный полк связи и 377-й отдельный инженерный батальон. Правда, вскоре родной и близкий Ротмистрову 3-й гвардейский танковый корпус, которым теперь командовал сослуживец Павла Алексеевича генерал-майор Вовченко, спешно убыл под Харьков — там вовсю гремели страшные и кровопролитные бои, и перевес сил клонился явно не в пользу советских войск.
Павел Алексеевич отлично знал, что все входящие в состав новой армии подразделения были разными и по численности личного состава и по боевому опыту, и даже по боевым возможностям. Взять, например, 5-й гвардейский механизированный корпус генерал-майора танковых войск Скворцова: корпус особо проявил себя в Сталинградской битве, а теперь в этом героическом корпусе недоставало двух тысяч солдат и офицеров, а также — двести четыре танка. Естественно, необходимо было в минимальные сроки восстанавливать боевую мощь соединения и хотя бы более — менее прилично обучить самому необходимому новое пополнение.
Из отдельных танковых бригад, действующих ранее в качестве соединений непосредственной поддержки пехоты, формировался 29-й танковый корпус. Его командиру — генерал-майору танковых войск Аникушкину — надлежало свести бригады в единый боевой организм — в живой организм! — и научить его действовать бесстрашно и умело в оперативной глубине. В конце апреля, правда, Аникушкина сменил на посту генерал-майор танковых войск Кириченко, который сразу же занялся кропотливой работой по сколачиванию танковых экипажей, взводов, рот и батальонов. Кириченко своё дело знал…
Боевая учёба в новой танковой армии шла напряжённо и повсеместно. И она вплотную сочеталась с воспитанием у личного состава высоких морально-боевых качеств. Военный же совет армии, грамотные во всех вопросах политорганы направляли все свои усилия на качественное повышение уровня партийно-политической работы, на надёжное укрепление партийных и комсомольских организаций частей и подразделений достойными людьми, достойными солдатами. На первое апреля 1943 года в 5-й гвардейской танковой армии насчитывалось 2158 членов и 1675 кандидатов в члены партии, а также — 5142 комсомольца. Постоянную и активную работу вели: 130 первичных, 212 ротных партийных организаций и 10 партгрупп, 124 первичные и 322 ротные комсомольские организации…
Павел Алексеевич Ротмистров, прямо и грубо говоря, замотался вконец. И нормальному процессу формирования, и полному — по возможности — укомплектованию вверенной ему армии личным составом и техникой, а также подготовке к отправке её на фронт — всему этому Ставкой Верховного Главнокомандования и Генеральным штабом уделялось большое внимание. Поэтому и приходилось генералу Ротмистрову то и дело вылетать в Москву и докладывать на самых высоких уровнях и о материальном обеспечении войск, а загвоздки в этом вопросе случались, и о самом ходе боевой подготовки личного состава. Знакомые Ротмистрова — кто в шутку, а кто на полном серьёзе — говорили ему, что он «с лица спал», похудел до невозможности, то есть. Павел Алексеевич слегка краснел, застенчиво и устало улыбался в ответ и… продолжал делать своё нелёгкое дело. Он знал, буквально нутром чувствовал, что впереди его ждут совсем не лёгкие бои…
… ЗА ЗДОРОВЬЕ НАШИХ ДАМ!
Василий и Валентин Кошляковы следом за капитаном Зениным уже выходили из домика, когда буквально нос к носу столкнулись с только что приехавшим из Подмосковья Владимиром.
— Вовка, ты?! — вскрикнули они в один голос и, подхватив брата под руки, поволокли его обратно, в свой временный приют.
Зенин, досадливо крутнув головой, пошёл вслед за ними. После крепких объятий и обоюдных расспросов они уселись за стол, и Владимир, порывшись в рюкзаке, выставил бутылку вина, которую он раздобыл в Москве по случаю. Никанор, увидев бутылку, сразу же поморщился:
— А может, не будем, ребята?
Владимир непонимающе уставился на него:
— В чём дело, капитан? У вас что — сухой закон?
— Брось ты, Владимир… Просто мы собрались идти к медикам, к ним пополнение прибыло… Девчата… Мы шли на знакомство с ними. Там бы и выпили.
Владимир обескураженно посмотрел на братьев. Василий, вздохнув, промолчал, а Валентин успокаивающе хлопнул Зенина по плечу:
— Не будь занудой, капитан. От стопки вина мы не опьянеем. Так ведь? Наливай, брат, вина, выпьем за встречу!.. И потом пойдём с девчатами знакомиться. Если, конечно, не возражаешь… Лады?…
… В этот раз у медиков — на удивление — накурено не было. И все собравшиеся здесь представители мужского пола были трезвы и чисто выбриты. В углу стоял патефон, вращался диск пластинки и лилась какая-то незнакомая мелодия. Но никто не танцевал; все сидели — кто на скамье у стола, кто у стены. Вёлся разговор, но какой-то не оживлённый, натянутый. Видимо, из-за присутствия в офицерском обществе молоденьких девчат, от которых парни в защитных гимнастёрках уже и отвыкли… Те тоже смущённо молчали, коротко отвечая на вопросы более-менее смелых офицеров.
Когда вошли капитан Зенин и три — на одно лицо — лейтенанта Кошлякова, все смолкли — не только девчата, не знавшие и не подозревавшие совсем о существовании близнецов— офицеров, но и сослуживцы, ведь они ни разу не видели Владимира, А он был точнейшей копией Василия и Валентина.
— Вот это да! — изумлённо воскликнул, наконец, лысеющий майор-медик. — Такое, братцы мои, не часто увидишь!.. Это вам не три богатыря с картины известного художника! Это, братцы мой, нечто посложнее и интереснее!.. Надо же, как природа постаралась!..
— Батюшки, как одна мама родила! — прошелестел девичий восхищённый голосок; он и стал тем самым катализатором, разрядившим натянутую и неестественную обстановку, потому что сразу же все рассмеялись, начали шутить, окружили братьев Кошляковых плотным кольцом.
— Но тут безапелляционно вмешался майор-медик:
— Товарищи, общество, как говорится, в полном сборе. Прошу всех к столу! — и пошутил: — Занимайте места согласно купленным билетам!
Девчат было трое. Так уж получилось, что одна из них — Алина — села около Василия, другая — Фаина — примостилась между Валентином и Зениным, а третья — Вера — вообще оказалась по другую сторону стола. Майор, откопавший где-то по такому случаю более-менее подходящую посуду, а именно — мензурки, налил в них спирту, восхищённо цокнул языком.
— Мужики, давайте выпьем сейчас за наше прекрасное пополнение, за этих юных девчат, которым предстоит нелёгкая и совсем не девичья служба! — сказал он, высоко поднимая свою мензурку. — Пусть им повезёт в жизни — и в этой, военной — совсем девчатам не нужной, и в мирной!
Все согласились со словами майора и дружно выпили. Начали закусывать, но беседа всё равно почему-то не вязалась — не ударил, видимо, хмель ещё в юные головы собравшихся здесь. И майор, как самый старший в этой компании не только по званию, но и по возрасту, эго отлично понял. Он снова наполнил мензурки спиртом, снова первым поднял свою вверх.
— Я хочу произнести следующий тост, полумедицинский, так сказать, — майор озорно подмигнул. — Давайте выпьем за здоровье всех больных, за свободу пленных, за красавиц наших дам и за нас, военных!..
И он первым опрокинул содержимое мензурки в рот.
Потом начались танцы. Василий пригласил Алину.
— Извините, вы не замужем? — спросил он шутливо и дерзко, наклонившись к ней.
— А вам-то зачем знать такие подробности? — спросила она в ответ. — Вы что, из СМЕРШа?
— Ну-у, — не нашёлся сразу Василий, — мало ли зачем… А вдруг вы мне… понравились…
— Да? И что же, если я замужем, то должна всем нравиться? Так, что ли?
— Нет, почему же… — смутился Василий. — Извините, что я… Если я…
— А вы ещё можете краснеть, лейтенант. Это хорошо: значит вы ещё не совсем потерянный человек. И раз уж вы такой застенчивый, я вам откровенно признаюсь: я не замужем.
Глаза Василия радостно блеснули, и он, близко склонившись к уху Алины, шепнул ей, внезапно даже для себя:
— Давайте на некоторое время сбежим отсюда. Душно здесь.
Алина внимательно посмотрела в глаза лейтенанта, как бы рентгеном проверяя его душу и мысли на качество, и, к удивлению Василия, согласно кивнула головой.
Было начало марта, но весной как таковой, естественно, и не пахло. Однако Алине и Василию в эти минуты на холод было совершенно наплевать. Они бродили по снегу не отходя далеко от домика медиков и по очереди рассказывали друг другу о себе, о предвоенных годах. Около высокой н красивой ели Василий внезапно остановился.
— Вы чего, лейтенант? — непонимающе уставилась на него Алина. — Вы чего остановились?
— Алина, можно я вас поцелую? — срывающимся от волнения голосом спросил он.
Алина пристально смотрела в лицо лейтенанта и молчала. Тот расценил это молчание как знак немого укора, как знак безмолвного отказа и поэтому глухо, и даже с долей некоторой своей вины произнёс:
— Понятно, — и тяжело вздохнул. — Я вас обидел. Извините, я больше не буду…
— Дурачок вы, лейтенант, — улыбнулась Алина и, взяв его обеими руками за голову, приблизила свои губы к затрепетавшим губам Василия.
… Валентин в это время танцевал с Фаиной. В отлично от Василия, он был более робким и всё боялся первым завести разговор. И начать его пришлось девушке.
— Ах, лейтенант, я впервые вижу перед собой тройнят! Бесподобное зрелище!.. Кто же из вас первым увидел свет божий?
Валентин покраснел, неловко пожал плечами, не зная, что ответить.
— А-а, — заговорщицки рассмеялась Фаина и, тотчас сделав серьёзное лицо, приложила палец к губам, — понимаю: страшная военная тайна!..
Валентин покраснел ещё больше, хотел что-то ответить, но тут танец окончился. Фаина лукаво взглянула ему в глаза:
— Надеюсь, вы меня ещё раз пригласите, лейтенант: хочу, чтобы вы всё-таки сказали мне пару слов. А то у меня, ей-Богу, создаётся впечатление, что вы немой, что вы вообще не умеете говорить.
— Да, — протянул растерявшийся вконец Валентин, — конечно…
Но тут к ним петухом подскочил капитан Зенин, галантно взял Фаину под руку:
— Следующий танец, прекраснейшая из медсестёр, вы потанцуете со мной. А лейтенант пусть отдохнёт. Или, лучше всего, пусть сочинит какой-нибудь стих.
— Стих? — Фаина округлила глаза. — Валентин пишет стихи?
— Да, — небрежно бросил Зенин, — пописывает…
— Я очень люблю стихотворения и хочу услышать… Товарищи, я только что узнала, что лейтенант Валентин Кошляков имеет поэтический дар. Давайте дружно попросим его прочесть что-нибудь!..
Валентин пытался отказаться, стесняясь дамского общества, но майор-медик сразу же переубедил его:
— Валька, не дури… Некрасиво!.. Тем более, если женщина просит…
— Ладно, уговорили, я прочту одно стихотворение. «Отпущение грехов» оно называется.
— Погоди! — крикнул ему весёлый младший лейтенант и поставил перед ним табурет. Залезай, Валька, на сцену! Помогите мне его подсадить, товарищи!
И Валентин, несмотря на сопротивление, был водружён на табурет. Он прищурил глаза на огонь лампы и начал:
— Браво! — первом закричала Фаина, когда Валентин окончил чтение. — Валентин, можно я вас за это поцелую? Да слезайте же скорее!
И ома звонко чмокнула раскрасневшегося лейтенанта в щёку.
— А теперь — снова танцы! — весело выкрикнула Фаина и схватила Валентина за руку. — Дамы приглашают кавалеров! Я, можете себе представить, приглашаю вас, великим молчальник!
— Я прошу прошения, но, Фаина, дорогая моя, о чём это ты щебечешь, пташка моя? По-моему, этот танец ты обещала мне? Не так ли?
— Всё так, но извините, капитан, я — передумала и своё обещание беру обратно.
Никанор побледнел. То ли от неловкого положения, и котором он оказался и, видимо, впервые, то ли от ярости.
— Ну ты! — прошипел он сквозь зубы. — Я подобных шуточек не люблю… Иди сюда!..
И он грубо схватил Фаину за руку, дёрнул к себе. И туг вмешался сбросивший с себя чувство смущения Валентин.
— А ну-ка, брось её руку, Никанор! Это дамский танец…
— Чего?
— Отпусти руку девушки, я сказал! Иначе…
Зенин отпустил руку Фаины и грудью полез на Валентина:
— Ты, стихоплёт несчастный, да я тебя сейчас так врежу по мозгам, все рифмы свои растеряешь!
Валентин побелел как мел и, сжав кулаки, шагнул к шипящему от ярости капитану. И тут распахнулась дверь, и под крик майора-медика «Смирно!» вошёл командир батальона майор Чупрынин.
— Вольно, товарищи офицеры! — скомандовал он и, присев на табурет, огляделся. — По какому случаю столь грандиозный банкет?
И не дожидаясь ответа на этот вопрос, снова спросил:
— А чего эти задиристые петушки — капитан и лейтенант— не поделили? Хмель в голову вдарил или ещё чего?… С немцами надо воевать, — он вздохнул тяжело, — с немцами, а не друг с другом. Понятно вам, товарищи офицеры? А если вам уж так приспичило, что просто необходимо подраться, то разрешаю вам это сделать. Подеритесь, но только… после войны.
— Товарищ комбат, — нагнулся к уху Чупрынина майор-медик, — наркомовские употребите? За компанию. Повод для этого вполне хороший.
Комбат насмешливо взглянул на майора и озорно почесал кадык:
— Чёрт с вами, наливайте! Пока мы не замяты в боевых действиях, думаю, что можно себе позволить такое удовольствие.
Но выпить Чупрынин так и не успел: снова распахнулась дверь и в помещение буквально ворвались Василий Котляков и Алина. Алина, загородив рот и нос ладонью, всхлипывала. А лейтенант кинул ладонь к виску:
— Товарищ комбат, разрешите доложить!
— Разрешаю, лейтенант, докладывайте!
— Мы с медсестрой только что, сейчас вот, прогуливались и обнаружили рядового Ядренко. Мёртвого…
— Что? — вскинулся Чупрынин, передёрнув бровями.
— Рядовой Ядренко мёртв. Зарезан ножом. За противотанковом пушкой.
— Чёрт побери, это же ЧП. Теперь пойдут разборы да дознания, кто и за что его зарезал… Так, ладно, идите за мной, лейтенант! Покажете! — приказал комбат и стремительно вышел вон.
Офицеры поспешили за ним. Валентин на ходу, ни к кому специально не обращаясь, произнёс:
— А ведь Ядренко этот, я вам скажу, предчувствовал свою гибель.
— Как это предчувствовал? — поинтересовался майор-медик.
— Да очень просто: он много раз рассказывал нам о своих снах, в которых его непременно зарезают.
— Да, — буркнул всё ещё не остывший от гнева Зенин, — я тоже много раз слышал об этих его снах от него лично.
А Василий добавил:
— Только бедный Ядренко в снах никак не мог установить — кто же его зарежет: то ли свои братья-славяне, то ли немцы.
Рядовой Ядренко, неловко поджав под себя руку, лежал ничком; шинель на спине была располосована и обагрена его кровью.
— Ах, Ядренко-Ядренко! — с горечью вздохнул Валентин.
— Гак и не добрался ты до своей… как её? Забыл…
— До Прохоровки какой-то, — подсказал Василий. — Он из-под неё родом.
— Вот-вот, до Прохоровки своей, до своей малой Родины. Чертовщина какая-то…
Зенин, бросив презрительный взгляд на Валентина, насмешливо хохотнул:
— У нас у каждого своя Прохоровка, и никто из нас не знает, доберёмся ли мы когда-нибудь до неё живыми…
— Отставить разговоры! — прикрикнул комбат. — Давайте перенесём рядового отсюда…
И НЕБЕСА ПОСЛАЛИ СМЕРТЬ
Ротмистров, поглядывая в окошко мчавшегося к Миллерово автомобиля, то и дело тяжело вздыхал: трудно-архитрудно! — и создавать новую армию, приводить её в надлежащий порядок, и командовать ею…
Павел Алексеевич, сняв очки, устало протёр глаза. Почему он, генерал, ехал сейчас в Миллерово? Не надо задавать такой вопрос — ни самому себе, ни, тем более, кому-то со стороны: на это были веские причины! Всё дело заключалось в том, что уже стояла середина марта и что в это самое время и штаб армии — его, Ротмистрова армии, — и армейские части, и главные силы 29-го танкового и 5-го гвардейского Зимовниковского механизированного корпусов сосредоточились именно в этом самом пункте, носящем название — Миллерово.
На какое-то время Павел Алексеевич отвлёкся от мыслей об армии: в его голову внезапно хлынули совсем недавние и очень для него приятные воспоминания. Да, что ни говори, но он в последнее время ох как часто посещал столицу необъятного СССР — древний город Москву. И решал там не только необходимые стратегические дела, касающиеся непосредственно 5-й гвардейской танковой армии. Нет, помимо всего неотложного, касающегося армии и только армии, были у него, у боевого генерала, запоминающиеся встречи с партийными и государственными деятелями, были встречи с известными журналистами и писателями.
Ротмистров специально прикрыл глаза, и тотчас перед мим, как наяву, возник образ Микояна, обходительного и внимательного. Микоян был членом Государственного Комитета Обороны, руководил снабжением Красной Армии продовольствием, боеприпасами, горючим и другими материальными средствами. Он почему-то очень хорошо относился к Павлу Алексеевичу и, не стоит, видимо, скрывать, что именно благодаря ему, благодаря его пристальному вниманию и дружеской заботе только что созданная армия в самый что ни есть короткий срок была обеспечена всем необходимым.
Хорошее впечатление на Ротмистрова произвела его встреча с всесоюзным старостой Калининым. Михаил Иванович, вручая генералу орден Суворова II степени, просил его передать горячий и пламенный привет и самые лучшие пожелания воинам-танкистам.
Но, пожалуй, — да что там пожалуй?! — в самой реальной действительности более всего запомнилась, запала глубоко в душу Павлу Алексеевичу его встреча с известным советским писателем Алексеем Николаевичем Толстым, который сам захотел непременно поговорить с ним, генералом-танкистом, по прочтении в газете «Красная звезда» статьи — «Мастер вождения танковых войск». Целых два часа расспрашивал тогда писатель генерала о боевых действиях танковых войск, о проводимых тактических приёмах, о конкретных примерах героизма танкистов. Ну буквально до всего было дело и интерес у писателя Толстого…
— Павел Алексеевич! — донёсся до расслабившегося и задумавшегося Ротмистрова голос адъютанта Земского.
Ротмистров медленно открыл глаза:
— Чего тебе, Василий?
— Мы к Миллерово подъезжаем.
… Миллерово было похоже на растревоженный муравейник. Разгружались с железнодорожных платформ танки, сновали люди, в воздухе разносились громкие выкрики команд, да ещё невыносимый лязг и противный — до зубной боли — скрежет железа об железо.
Братья Кошляковы стояли у своего танка, который уже успели согнать с платформы. К ним подошёл чем-то озабоченный капитан Зенин.
— Мужики, а что — закурить у вас не найдётся? — спросил ом. — Дымнуть хочется — прямо спасу нет!
— Может, тебе ещё и губы в придачу дать, — хмыкнул Василий, — чтобы лучше затяжки делать?
— Грубиян! — хмыкнул Зенин и ещё раз повторил, но теперь уже растягивал слово по слогам: — Гру-би-ян!..
Валентин пренебрежительно отвернулся от Зенина: он всё ещё непримиримо зол был на него за тогдашний инцидент в домике медиков, а тут ещё настырный капитан продолжал настойчиво добиваться благосклонности со стороны Файлы, которую, незаметно для себя, полюбил он, Валентин. Фаина, естественно, отвергала приставания Никанора, но он не отступался, и это злило, доводило до бешенства Валентина Кошлякова, и он уже не один раз обещал Никанору, что когда-нибудь обязательно набьёт ему морду, — его наглую капитанскую морду, но тот лишь презрительно усмехался в ответ.
Итак, Валентин, проигнорировав вопрос Зенина, демонстративно отвернулся. Василий же, на полном серьёзе, сказал, что курева у него нет. Соврал, однако. А Владимир, по доброте души своей, неторопливо полез за кисетом.
— Травись, товарищ Никанор, — сказал он, — такой гадости мне для друга вовсе не жалко.
Зенин закурил, благодарно — насмешливо кивнул головой, ловко пустил дым через нос, задумчиво огляделся вокруг. Танки… Танки… Танки… И люди… Солдаты… Василий перехватил взгляд капитана.
— Что, Никанор, любуешься? — спросил он и, не дожидаясь, что скажет Никанор, сам же себе ответил. — А чего ж не любоваться!.. Глянь-ко, какую силищу сюда нагнали! Мать честная!.. Враз немцы лапы кверху поднимут…
Зенин скептически улыбнулся,
— Храбрый ты, Василий, а дурень… Ты слышал что-нибудь о новой боевой технике немцев?
— Что ты имеешь в виду, капитан?
— Как что? Ты тут под дурака не шарь, Вася!.. А танки Т-V и T-VI?! Что ты о них скажешь?
Василий нахмурил брови:
— Ты имеешь в виду «пантеру» и «тигра»?
— Вообще-то я на глупые вопросы не отвечаю, но сейчас скажу. Вот именно: эти «тигры», да в придачу к ним самоходные орудия «фердинанд», имеют к вашему сведению, сильнейшую лобовую броню. У наших «тридцатьчетвёрок» броня значительно слабее. Так что, разлюбезный мой лейтенант Вася, может быть, и нам ещё придётся лапки кверху тянуть! Под команду «Хенде хох!»…
— Ну да! Ты ещё и самолёты немецкие вспомни — «Фокке-Вульф-190 А» и «Хеншель-129», которые, если верить слухам, сильное пушечное и пулемётное вооружение имеют…
— Зачем юродствовать, Котляков? Самолёты нас, слава Богу, поскольку-постольку касаются, а я о танках речь веду: согласись, что всё-таки слабее наши танки против германских… Слышал ведь, как пострадала от «тигров» да «пантер» первая танковая армия Катукова?
— Наши танки манёвреннее! — упрямо сжал губы Василий. — Манёвр в битве большую роль играет! Сам знаешь… Так что, благодаря манёвру, лобовую броню можно обойти, в бок, понимаешь, — в бок надо бить немца. И заполыхают они— как миленькие!
— Я ещё раз повторяю, Василии: храбрый ты, а дурень. На наших танках семидесятишестимиллиметровые пушки приспособлены, а у немцев — восьмидесятивосьмимиллиметровые. Мощнее? Разумеется, мощнее…
— Ну и чёрт с ними!.. Зато больше радости будет, когда более сильного укокошишь… — Василий обернулся к Владимиру. — Дай-ка, братан, я докурю.
— Какие-то у тебя, Зенин, панические высказывания просачиваются! — не выдержал Валентин. — В плен сдаваться надумал, или как?
Зенин резко повернулся к Валентину, и глаза его зло сверкнули.
— Ты что?… Я — в плен?… Неужели?… Неужели ты так думаешь?… Ты…
Он на какой-то миг замолчал, подбирая более оскорбительное, сразу же морально разящее наповал слово, но тут вдруг неподалёку резанул барабанные перепонки чей-то тревожный, раздирающий душу крик:
— Воздух!.. Воздух!..
Это короткое слово мгновенно услышали всё, и оно пошло перекатываться и громыхать, но теперь уже с разными интонациями, над всеми сосредоточенными в Миллерово — гружёными ещё и разгруженными уже — эшелонами; это короткое слово громыхало и перекатывалось стремительно из одного конца станции в другой. И тотчас, стремясь забить, заглушить такое зловещее на войне слово «Воздух!» и, наоборот, такое необходимое и жизненно важное это же самое слово в повседневной жизни, пространство железнодорожной станции напрочь пронзили отрывистые выкрики команд офицеров и сержантов.
— Всем в укрытия!.. Рассредоточиться!..
И люди в серых шинелях, до этого деловито суетящиеся и снующие там и сям, стремительно побежали прочь от беззащитных эшелонов, залегая, прикрыв головы руками, за насыпью, за далёким и по-зимнему голым кустарником, в лощинах на тёмном мартовском снегу. А к станции уже вплотную с большущей скоростью приближался зловещий гул самолётов, которых многие ещё не видели, но уже всем телом, каждой клеточкой своего мозга ощущали где-то прямо над собой, и им, солдатам и офицерам, казалось, что нет никакого прикрытия от них, что нет никакого спасения от внезапного набега небесных стервятников.
И вот самолёты с чёрными крестами на фюзеляжах вынырнули из-за горизонта и как-то очень уж быстро очутились над злополучным и вконец растерянным Миллерово. «Юнкерсы» умело и привычно выстроились в огромную карусель, и она, зловеще завывая, закружилась в диком воздушном хороводе над станцией, над замершими в ужасе эшелонами с техникой, над танками, уже благополучно сошедшими с платформ, над людьми-солдатиками, тщетно зарывавшимися в ненадёжный мартовский снег и молящими Бога, в которого за минуту до этого мало кто верил, о спасении, о том, чтобы смерть с чистых небес проскочила сегодня, сейчас далёкой-предалекой стороной.
Капитан Зенин, повинуясь не столько команде «Всем в укрытия!», сколько животному инстинкту самосохранения, дико скакнул в сторону и запрыгнул в старую воронку от бомбы. С ним рядом залёг, впьявился цепко, как клещ, в землю Валентин. Василии и Владимир нырнули под днище своего танка. Заряжающий их экипажа младший сержант Каблучок, выпрыгнул из люка, растерянно заметался из стороны в сторону, не зная, что же ему предпринять — то ли под танк заскочить, то ли подальше от него держаться? И так ты мишень для самолёта, и эдак…
А «юнкерсы» всё вели свою страшную карусель, наводя непередаваемый ужас на всё живое. И вот внезапно ведущий бомбардировщик стремительно сорвался в крутое пике, нацеливая тысячекилограммовый бомбовый удар на парализованную ужасом станцию. За ведущим самолётом с диким душераздирающим воем устремился к земле очередной «юнкере». За ним — следующий… И ещё следующий… Каждый из небесных стервятников, прежде чем выйти из пике, почти над самой землёй ронял из-под жёлтого брюха чёрные комья бомб…
Из-за пронзительного и сплошного воя и свиста бомб, их страшных разрывов вряд ли можно было слышать что-то другое, и всё-таки Валентин услышал это самое что-то другое. Услышал он пронзительно-верещащий голос своего заряжающего Каблучка. Валентин через силу — так велико было притяжение земли — оторвал голову от дна воронки, одним глазом с опаской выглянул наружу. Младший сержант, словно обезумевший, метался между разрывами бомб и дико, не по-человечьи, верещал.
— Сюда! — хрипло, не своим голосом заорал Валентин, вскидывая вверх руку и призывно махая ею. — Сюда, Каблучок!.. Сюда, к нам!..
И тут Каблучок внезапно остановился, схватившись за живот обеими руками, и медленно-медленно упал на сотрясаемую разрывами землю.
«Дьявольщина! Убит, что ли?» — мелькнуло в сознании Кошлякова, и не успел он ещё испугаться за, Каблучка, как в этот момент заряжающий задвигался, задёргался на чёрном от земли и гари снегу, пытаясь ползти в сторону воронки, где лежали он, Кошляков, и капитан Зенин.
Валентин, решив помочь раненому, вскочил было во весь рост, но тут сильнейшей взрывной волной его резко бросило вниз и пребольно ударило спиной о стену воронки. Когда он, превозмогая боль, выглянул снова, около Каблучка суетилась уже хрупкая медсестра, тщетно пытаясь помочь раненому отползти подальше от страшного места. Это — Валентин сразу же её узнал! — была Фаина…
— Никанор! — закричал в самое ухо Зенину Кошляков — Никанор, слушай! Там Фаина!.. Надо ей помочь!
Капитан поднял голову, бессмысленным взором уставился на лейтенанта, что-то беззвучно прошептал. Кошляков голоса его не услышал, но отчётливо понял, что капитан спросил, где, мол, Фаина. Валентин, прикрываясь одной рукой от сыпавшихся сверху комьев снега и земли, пальцем другой несколько раз ткнул в ту сторону, где находились Фаина и Каблучок. Никанор, резко вдохнув в себя воздух, опасливо выглянул.
— Побежали к ним, Никанор! — опять закричал Кошляков. — Видишь, там Фаина! Поможем ей!..
Новый близкий взрыв пугающе тяжело всколыхнул землю, и Зенин, вздрогнув, отрицательно мотнул головой.
— Ты охренел!.. — заорал он. — Я тебе не камикадзе!..
И он с новой силой вжался всем телом в спасительную землю.
— Гад!.. Сволочь!.. — вскричал озлобленный Валентин и плюнул в спину капитана; глубоко вздохнув, он взметнул своё тело из воронки.
Он, не петляя, напрямую побежал к плачущей от бессилия Фаине и, прокричав ей, помогу, мол, — хотя она этого и не слышала из-за не утихающего свирепствования самолётов, — подхватил младшего сержанта под руку с другой стороны, сильно потянул его в сторону (своего танка. А там уже Фаине и Валентину помогли Василий и Валентин, выскочившие из-под днища «тридцатьчетвёрки».
— Каблучок, ты что, ранен? — улучив момент секундного затишья, наклонился к смертельно побледневшему заряжающему Владимир.
Тот медленно приоткрыл глаза, и обескровленное лицо его чуть тронула грустная улыбка.
— Вот, лейтенант, — прошептал он, — не довелось дожить до победы. А ведь гоним уже фрицев… гоним…
— Брось паниковать, Каблучок, доживёшь ты до победы: отправим вот тебя в госпиталь, подлечишься…
Заряжающий снова прикрыл глаза:
— Не надо, лейтенант… Осколок в живот попал… Это — неизлечимо… Я уже чувствую приближение смерти… Небеса послали…
— Каблучок…
— Жене моей сообщите… Хоть и не геройски, но… за Родину… И за… Сталина…
— Ах, чёрт! — вскричал вдруг Василий. — Вы посмотрите: ну куда его несёт? Ну куда?
— Ты о ком? — повернулся к брату Владимир.
— Да о ком же!.. Смотрите, комбат наш прётся куда-то!.. Он что-с ума сошёл?!..
Взоры всех устремились туда, куда указывал Василий. Действительно, короткими перебежками мимо их танка, в сторону эшелонов, двигался майор Чупрынин. Вот он вскочил с земли, пытаясь сделать очередной рывок, но тут взрыв бомбы, разорвавшейся совсем близко, перевернул его в воздухе, словно какую-либо щепку, и мощно бросил его в снежно-земельную кашу. Василий негромко, но злобно ругнувшись, рванулся вон из-под танка и бросился к лежащему без движения комбату. Через несколько минут он приволок недвижимого майора под днище «тридцатьчетвёрки». Фаина наклонилась нал Чупрыниным.
— Что с комбатом? — тяжело и часто дыша, спросил Фаину Василий. — Что он — жив или?…
— Жив, — ответила медсестра, — просто он потерял сознание.
— Вот и хорошо, — скупо улыбнулся Василий, — Вот и хорошо, что майор жив.
— А Каблучок — умер, — негромко сказал Валентин, но его все прекрасно услышали.
Фаина повернулась к Валентину заплаканным и поэтому сейчас совсем некрасивым лицом, обняла его крепко рукой, прижалась к горячей щеке.
— Ох, ребята-ребята, да зачем же на вашу долюшку-судьбинушку участь такая тяжелющая выпала?… Жалкие вы мои… Милые…
«Юнкерсы» не развернулись в полную мощь, не выбросили весь свой смертоносной груз на 29-й танковый и 5-й гвардейский Зимовниковский механизированный корпуса и на эшелоны полевого управления армии. Да и то, что они сбросили, особого вреда не причинило, больших потерь — на удивление! — ни в живой силе, ни в технике не было: отлично подготовились в своё время расчёты частей 6-й зенитно-артиллерийской дивизии, которой командовал гвардии полковник Межинский. Воины-зенитчики повели настолько меткий и плотный огонь, что фашистские самолёты вынуждены были сбрасывать бомбовый груз где попало, а не куда нужно было.
Генерал Ротмистров, когда ему доложили о малых потерях, сначала не поверил в это.
— Выходит, мы отделались лёгким испугом?…
А потом позвонил Межинскому:
— Спасибо вам, гвардии полковник! Вам и всем вашим зенитчикам. Спасибо! Хорошо поработали…
А позже он, Павел Алексеевич Ротмистров, долго сидел над картой, где различными стрелками и пунктирами были обозначены направления движения войск, фронтов и прочее, и прочее. И обстановка сейчас, на это время — надо признать! — была сверхсерьезной. Немецко-фашистские танки и моторизованные соединения, вновь захватив Харьков, мощно теснили войска Юго-Западного фронта в угольном Донбассе, теснили на восток, к Северскому Донцу. Неважное положенно складывалось и с левым крылом Воронежского фронта: войска этого крыла, оставив город Белгород, также отошли за Северский Донец.
Спустя некоторое время, командование Степного военного округа, в состав которого вошла 5-я гвардейская танковая армия, приняло решение передислоцировать её ближе к фронту, в район города Острогожска. Там и продолжалась плановая боевая учёба частей и соединений армии, подготовка к предстоящим операциям военных штабов.
ГРЕХ ПОД ДУЛОМ АВТОМАТА
— Ты знаешь, Васечка, — говорил Митька Клык своему юному сослуживцу, опорожнив очередной стакан самогона, — у меня очень и очень обострённый нюх на всякие гам важные события. Ты мне веришь?
— Верю, — согласно кивал головой Васечка, тоскливо разглядывая своего непосредственного начальника.
— Так вот, сынок безусый, я нюхом шестым чую, что скоро произойдут какие-то великие события. Ве-ли-ки-е!.. Но какие? Какие, я спрашиваю?
Васечка молчал. Молчал потому, что не обладал таким острым нюхом, как Митька. А Клык, наливая из бутыли ещё одну порцию бурачного, продолжал разглагольствовать:
— Я думаю так, что наш фюрер — Адольф Гитлер, в этом году непременно возьмёт Москву златоглавую и всех большевиков-коммунистов, а с ними заодно и жидов-евреев, развешает по столбам, вместо фонарей. А что, я полностью поддерживаю идеи фюрера: всё зло в России и во всём мире— от большевиков! Зачем им надо было делать революцию и из России богатой делать Россию бедную?
Васечка, встретив злобный взгляд Клыка, который ожидал от него ответа, лишь недоуменно пожал плечами:
— Я в таких вопросах не разбираюсь…
— Ну и дурак! И я тебе, как дураку, поясняю: не надо было царя нашего, Николашку, свергать, а если уж свергли, то можно было одной революцией обойтись — февральской!.. А то ещё одну придумали, прости Господи, — Великую Октябрьскую да ещё и социалистическую…
Митька нехотя похрустел огурцом, разжёванную смесь выплюнул под стол.
— А евреев почему я не люблю, так это потому, что это они — суки, жиды потрохатые! — все революции организовывают н делают. Троцкий там, и ему подобные…
— Извините, господин старший полицейский, — робко кашлянул Васечка, — но, по-вашему, выходит, что и Ленин… еврей?
— Ну, я точно не знаю, хотя слух идёт, что нечистых кровей Ульянов жид, а всё-таки, я думаю, есть у него в крови нечто еврейское… Ладно, — Клык строго стукнул кулаком по столу, — хватит рассуждать! Одевайся, к Верце Хомяковой идём.
— Извините, но сегодня ж ведь не к ней очередь идти! — удивился Васечка. — Мы сегодня…
— Заткнись! Много будешь знать, — ощерился Клык, — все зубы повыбиваю! Понял? А если понял, то молча следуй за мной!
И первым шагнул за порог хаты.
Верца Хомякова гостей совершенно не ждала. Особенно таких. И совсем особенно — Клыка! Она растерянно, с заметно начинающим расти испугом, прижавшись спиной к тёплой стене, печки, смотрела на вошедших.
Васечка смущённо отвёл взгляд в сторону. А Митька Клык криво усмехнулся:
— Ты что, своих не узнаёшь?… Ну и ну!..
И по-хозяйски плюхнулся на некрашеную скамейку.
— Ты вот что, Верца, сваргань-ка чего-либо на стол. Жрать особо мы не хотим, так что не очень старайся с закусью, а вот самогончика твоего мы по-тя-нем! С удовольствием!
Хомякова на скорую руку собрала на стол, выставила и бутылку.
— Садись и ты, хозяйка! — скомандовал Клык. — Вот так-то! А теперь — наливай!..
Верца плеснула вонючую и крепчайшую жидкость в два стакана, затравленно взглянула на полицая.
— Чего вылупилась, как курица? — хохотнул он. — Поднимай стакан, женщина, пей! Первой пей!
— Я не могу!.. Не буду я!.. Не могу!.. Отстаньте вы, ради Бога!..
— Цыть, баба! Я здесь власть, и я здесь командую!.. Поэтому заруби себе на носу: что скажу, то и исполняй! Пей, пока я добрый, пока я не разошёлся во всю правду!
Верца, всхлипывая, с отвращением медленно выцедила самогон. Её невольно всю передёрнуло. Митька Клык довольно ухмыльнулся, чуть повернул голову к Васечке:
— Послушай, ты, сынок безусый: сдёрни-ка ты отсюда на полчаса! Да смотри, пацан, далеко не уходи, — понадобиться можешь. Уйдёшь, — застрелю! Ты меня знаешь… — и тут же. позабыв о Васечке, похотливо уставился единственным глазом на Верцу.
Васечка, не глядя в молящие о помощи несчастные глаза Верцы, торопливо и неуклюже кинулся к дверям. В сенях, как и в тот, прошлый раз, остановился; схватившись обеими руками за голову, он чуть слышно, с отчаянной тоской простонал:
— Да что же это делается!..
А в хате действительно что-то делалось, и это юный полицейский слышал слишком уж явственно: там что-то гремело и разбивалось, истошно и обречённо кричала и выла Верца, беспрерывно на разных нотах громыхал бас Клыка. Васечка, ужаснувшись, крепко-накрепко зажал уши, чтобы ничего не слышать, и уже хотел было испуганным зайцем метнуться во двор, как вдруг дверь из хаты с громким треском распахнулась и через порог спиной вперёд стремительно вылетел Митька Клык. С ходу он сбил с ног не успевшего понять в чём дело Васечку, и оба они вмиг оказались лежащими на холодном земляном полу. Спустя мгновение Митька вскочил, рука его судорожно дёрнулась к повязке на глазу, но её там не оказалось, а рука скользнула лишь по чему-то липкому и горячему. Он поднёс её к полыхающему бешенством глазу и увидел кровь.
— А-а, сука! Ты меня бить будешь?! В кровь!.. — заревел в ярости Клык. — Застрелю, проститутку!
И он коршуном бросился в хату. Не соображающий ничего от стремительно развивающихся событий Васечка стремглав кинулся вслед за ним.
Клык, схватив автомат, направил его на вмиг переменившуюся в лице Верцу, стоявшую с половником в руке, и резко нажал на спусковой крючок. Васечка, не помня себя, схватил Клыка за пояс сзади и изо всех сил рванул его в сторону; пули из автомата, просвистев мимо головы чуть не потерявшей сознание Хомяковой, впились в стену за её спиной. А Клык и Васечка, потеряв равновесие, упали. Клык был значительно сильнее и опытнее юного полицейского, и он так двинул его локтем в солнечное сплетение, что Васечка сразу же задохнулся и, страшно выпучив глаза, скрючился на земле, судорожно суча ногами.
— Ах ты, сволочь! — дико закричал Митька на своего помощника. — Так ты заодно с этой хуторской потаскушкой?! Неблагодарный!.. А-ну, становись к стене! Становись рядом с ней, подонок! Сосунок недоношенный…
Васечка с трудом поднялся, согнувшись пополам, проковылял к Верце Хомяковой, которая ещё стояла, словно парализованная. Клык вновь поднял автомат, уверенно навёл его на Верцу и Васечку.
— Ну, подонки хуторские… молитесь! — хрипло приказал он, прожигая их насквозь единственным глазом. — Сейчас я отправлю вас прямым сообщением в рай!.. Безгрешных!.. Хотя, почему это я должен вас спроваживать на тот свет безгрешными? Нет, голубчики вы мои, сейчас вы у меня согрешите…
Митька наморщил свой лоб, придумывая что-то из ряда вон выходящее, и тут взор его наткнулся па повязку, сорванную в схватке Верцей с его покалеченного глаза. Он поднял её, приладил на своё место и, ещё раз поглядев в лица своих жертв, вдруг нехорошо хихикнул.
— Так значит, Верца, ты, сучка, побрезговала мной, не дала… побаловаться, поиграть с тобой в любовь… Чёрт с тобой! Не хочешь меня ублажать — и не надо… Однако, я надеюсь, что ты не откажешь и дашь… моему юному напарнику, Васечке… Он ещё не-це-ло-ван-ный! И ты сейчас будешь его сов-ра-ти-тель-ни-цей!
Верца Хомякова сразу же поняла всю гнусность задуманного Клыком, и лицо её из бледного стремительно перекрасилось в белый цвет. Васечка же из всего, сказанного Клыком, абсолютно ничего не понял. Он с каким-то детским испугом всматривался в свирепо-ядовитое лицо своего шефа и мучительно думал о том, пожалеет ли он их с Верцей или же непременно убьёт. А Клык, упиваясь своей властью и своей местью, уже командовал:
— Раздевайтесь догола!.. Оба!.. Чего стоите, сволочи большевицкие? Верца, ты баба горячая, помоги неопытному парню раздеться!
— Не надо! — в отчаянии прошептала Хомякова. — Зачем?… Зачем мальчика… Давай уж с тобой, проклятым… Уступлю…
Митька зло рассмеялся, — поздно, дескать, — а потом, резко оборвав смех, угрожающе поднял автомат:
— Считаю до десяти!.. Раздевайтесь и… сношайтесь! При мне… Я любоваться буду… Ну!..
Тут смысл злобной мести Клыка непокорной Верце Хомяковой наконец-то дошёл и до Васечки. В голове у него сразу помутилось, он умоляюще взглянул на своего шефа:
— Господин старший полицейский!. Дяденька!..
— Прекрати, сыпок безусый!.. У тебя уже были женщины? Спал ты с ними в постели или в соломе?
— Н-нет, н-не б-было… Не с-спал…
— Прекрасно, значит сейчас свершится чудо, и у тебя будет женщина, и сейчас ты станешь настоящим мужчиной!..
— Н-но…
— Молчать!.. Я ещё раз повторяю, что считаю до десяти. Время пошло! — Клык угрожающе повёл дулом немецкого автомата перед лицами Васечки и Верцы.
— Васечка, миленький! — запричитала-заголосила Верца. — Ох и стыдно!.. Боже, милостивый!.. Нам придётся покориться своей участи… Убьёт ведь, изверг поганый!.. Мне себя не жалко… Тебя жалко!.. Ещё и не жил на свете белом…
И она, низко опустив голову и роняя на руки горючие слёзы стыда и бессилия, принялась раздевать Васечку этими самыми мокрыми, дрожащими от страха и унижения руками. Васечка, обречённо закрыл глаза, в бессилим припал к Хомяковой, неумело, стыдливо и вынужденно заползая рукой ей под кофту…
… Потом, весь опустошённый и безразличный до всего, Васечка шёл вслед за Клыком и то и дело всхлипывал. Клык, не оборачиваясь и не замедляя шага, презрительно бросил через плечо:
— Заткнись! Ты магарыч мне поставить должен от великой радости: впервые женщину попробовал… Это же ведь— наслаждение…
Васечка в своих далёких и потаённых мыслях очень хотел сорвать с плеча винтовку и всадить горячую свинцовую пулю в широкую спину Митьки Клыка, но это его желание, к его же великому сожалению, было несбыточным — и от настигшей его опустошённости, и особенно от страха, который всегда внушал ему старший полицейский Митька Клык. Сегодня Клыка Васечка стал бояться ещё больше…
ДРАКА ОФИЦЕРОВ
Жара. Страшная жара. И уже на исходе первый месяц лета 43-го… Зной, казалось бы, усыплял, заставлял расслабляться буквально всех — и рядовых, и генералов. Но сильно уж дремать, по правде говоря, не приходилось: сквозь усыпляющий июньский зной с каждым днём всё острее и острее чувствовалось приближение покуда ещё неизвестных, но, по всему видать, грозных событий. По тем данным, которыми располагал Павел Алексеевич Ротмистров, свободно можно было предположить, что эти самые надвигающиеся грозные события на всю катушку развернутся не где-нибудь, а именно на орловско-курском и белгородско-харьковском направлениях. Это уж точно! Ведь именно здесь советские войска,
стремительно овладев древним городом Курском, продвинулись вперёд до линии Севск, Рыльск, Сумы, и именно здесь образовался так называемый Курский выступ. Фронт сегодня имел дугообразную конфигурацию, а это, — учитывая наличие у противника крупных группировок севернее выступа, в районе Орла, и южнее, в районе Белгорода, — позволяло ему организовывать встречные удары на Курск. Эти удары на Курск гитлеровцы могли нанести в целях окружения и уничтожения главных сил Центрального и Воронежскго фронтов и, естественно, с последующим развитием наступления в в восточном направлении. И это было бы в перспективе неплохой попыткой немцев взять реванш за поражение в зимней кампании.
Июньское солнце не могло окончательно усыпить 5-ю гвардейскую танковую армию: личный состав её усиленно готовился к предстоящим боям — решительным и беспощадным. В армии уже знали, что немцы в надвигающихся боевых действиях обязательно применят новые боетанки; узнали и тактично-технические данные «тигров» и «пантер», а узнав — внесли соответствующие поправки в боевую подготовку экипажей и артиллерийских расчётов.
Никто ни от чего не застрахован: армия Ротмистрова могла вступить в сражение непосредственно с марша, а это всегда чревато нехорошими последствиями. Именно из-за этого был заблаговременно создан передовой сводный отряд в составе 53-го гвардейского танкового, 1-го отдельного гвардейского мотоциклетного и 678-го гаубичного артиллерийского полков. Отрядом этим сводным назначили командовать заместителя командующего армией генерал-майора Труфанова.
Грозные события зрели как чирей на теле, готовый вот— вот прорваться…
К лейтенантам Котляковым заглянул комбат, майор Чупрынин.
— Вольно! — махнул он по-крестьянски рукой на вытянувшихся в струнку лейтенантов. — Какие дела, ребята?
— Всё в норме, товарищ майор! — козырнул Василий.
— Это хорошо. А тебе, Василий, особое спасибо: выручил ты меня в ту распроклятую бомбардировку. Я уж думал, по правде говоря, что душа моя покинула грешное тело и ввысь вознеслась, но ты не дал ей совершить такой нежелательный перелёт. Короче, спасибо огромное!..
— Не за что, товарищ майор! — смутился Василий и тут же вскинулся. — Извините, вы нам обещали нового заряжающего прислать, взамен убитого Каблучка…
— Обещал. А вы что ж, думаете, что я забыл про своё обещание? Нет уж, дудки! Я своё слово всегда держу. — И, чуть обернувшись, Чупрынин резко крикнул: — Сержант Полежаев! Ко мне!..
Из-за сдвоенной — типа детской рогатки — берёзы выскочил сержант и, остановившись подле Чупрыпина, лихо щёлкнул каблуками:
— Товарищ майор! Сержант Полежаев по вашему приказанию прибыл!
Комбат ничего не ответил сержанту, а лейтенантам сказал, прерывисто вздохнув:
— Вот вам… замена… Принимайте в свою семью!
И ушёл, чуть сгорбившись, устало переставляя ноги.
— Да, — вздохнул Василин, — достаётся нашему комбату, и, наверное, по самую завязку… — и к сержанту Полежаеву повернулся. — Ну что ж, новый заряжающий, давай знакомиться. Рассказывай, кто ты и откуда.
Полежаев не спеша снял с плеча рюкзак, положил его аккуратно на землю.
— Меня зовут Фёдором. Родом я из-под Белгорода, а точнее — из Прохоровки…
— Погоди! — вскинув руки, перебил его Валентин. — Погоди! Ты сказал, что родом из Прохоровки? Я не ослышался?
— Да, я из Прохоровки. А что, вам знакомо это название посёлка?
— Знакомо, сержант. У нас недавно солдата одного фрицы зарезали. Он тоже был родом из Прохоровки. Вернее, — из-под Прохоровки. Ядренко — его фамилия. Не слыхал?
— Нет, не слышал, — крутанул головой Полежаев. — Я, честно говоря, тоже не из самой Прохоровки: в семи километрах от неё родился, в хуторе Полежаев.
— Ого, да ты зажиточный, оказывается! — воскликнул с иронией Владимир. — Хутор свой имеешь!
— Что вы, товарищ лейтенант! — запротестовал сержант. — Просто какой-то далёкий предок наш основал хутор в незапамятные времена, вот и живут в нём, в основном, одни Полежаевы. Почти все — родственники. Так что…
Но тут сержанта самым беспардонным образом прервали.
— Эй, ребята, привет! — раздался совсем рядом звонкий девичий голос.
Экипаж танка мгновенно, как по команде, повернул головы в сторону, откуда донёсся голос. За соседним Танком стояли Фаина и Алина.
— Вы чего это не здороваетесь, товарищи офицеры? — опять выкрикнула Фаина, теперь уже с усмешкой в голосе. — Воды в рот набрали?
Лейтенанты поприветствовали девчат, поприветствовали вразнобой. Наверное, от неожиданности. А Фаина, озорно кося глазом, уже командовала.
— Василий и Валентин — на выход! Без вещей! Всем остальным — оставаться на местах.
— Что ж, Володька, — сказал, сияя улыбкой, Василий, — придётся тебе одному с сержантом поближе познакомиться, а мы — потом… Нас сейчас дамы ожидают!
— Не скучайте! — добавил Валентин. — Будет трудно — пишите письма.
Василий с Алиной свернули влево по тропинке, Вален— тин с Фаиной побрели совсем в противоположную сторону.
— Ты у меня самый милый! — шепнула Фаина, прижимаясь к Валентину. — Самый, самый!
— Гм!.. А что, у тебя есть и не самые милые, а? — хмыкнул лейтенант, внезапно останавливаясь и с подозрением вглядываясь в смешливые глаза дивчины. — Смотри, я не ревную, но… предупреждаю…
— Ах, какой же ты дурачок!.. Ну зачем ты к каждому слову моему придираешься? Ты ж ведь сам знаешь, что у меня ты — единственный-преединственный!
— Это точно, Фаина?
— Конечно же, Валя! И — не сомневайся во мне никогда. Понял?
— Да, понял. Только вот мне не нравятся приставания Никанора… Почему ты не можешь ему прямо сказать, чтобы он отстал от тебя — раз и навсегда!..
— Ах, дурачок ты, Валька! Да пусть себе, пристаёт!.. Ты же знаешь: я тебе верна…
— Но ты его в последнее время не прогоняешь…
И тут вдруг заросли орешника впереди влюблённой парочки раздвинулись, и перед Валентином и Фаиной нарисовался в полной красе сам капитан Зенин.
— Это кто меня здесь недобрым словом поминает? — насмешливо и зло спросил он. — И почему это меня, кстати, должны прогонять? Чем я хуже?
Фаина и Валентин от неожиданности замерли, непонимающе созерцая подбоченившегося Никанора. А тот снова усмехнулся:
— Ну, чего это вы… опешили? А я, между прочим, жду ответа: почему это Фаина меня должна прогонять, а не тебя?
Кошляков повернулся к Фаине.
— Слушай, скажи ему… пару ласковых! — попросил он. — Скажи, иначе я не выдержу…
— Ха, он не выдержит! — язвительно хохотнул капитан. — Не выдержишь, так что — стихи сочинишь, что ли?… Сатирические… И, если здраво рассудить, чего это такого страшного медичка эта может мне сказать, когда вчера она со мной… взахлёб целовалась!.. Что, Фаина, неправду я говорю?
Валентин побледнел и вмиг охрипшим голосом спросил:
— Фанана, Никанор правду говорит?
Лицо Фаины полыхнуло краской, она сжала кулачки и, прикусив губу, выкрикнула прямо в лицо Зенина:
— Лжец!.. Врун!.. Подлец!.. Валентин, родненький, не верь ему, он врёт!.. Нагло врёт!..
— Что-о?! — вскричал, в свою очередь, Никанор. — Я вру?… Окстись, стерва!
И он сделал шаг вперёд, замахнулся на Фаину, намереваясь влепить ей хорошую пощёчину, но тут на его пути встал Валентин Кошляков.
— Ты оскорбил мою… мою невесту. Извинись немедленно, Никанор, сейчас же! — гневно, прошептал ои. — Извинись, я по-хорошему тебя прошу…
— Невесту?… — осклабился Зенин. — Да её любой мужик, у которого все принадлежности при себе, только пальцем поманит, и она…
Капитан Зенин не договорил, потому что Кошляков, размахнувшись, изо всей силы ударил его кулаком в подбородок; Никанор упал, но тут же подхватился и в ярости метнулся к Валентину.
Они дрались молча и ожесточённо, били, не разбирая куда — и в лицо, и в грудь, и в живот, и в шею… Они падали и вставали, не вытирая крови, льющейся и сочившейся из разбитых носов и губ. И сколько бы они ещё дрались — неизвестно, но тут подоспели танкисты из их батальона и растащили их в разные стороны.
Фаина не дождалась конца драки. Драки из-за неё. Закрыв лицо руками, она, рыдая, убежала.
В НАЧАЛЕ ИЮЛЯ ЗАПАХЛО ГРОЗОЙ
Раздумья Ротмистрова прервал телефонный звонок.
— Павел Алексеевич, здравствуйте! Вас беспокоит начальник штаба Степного фронта генерал-лейтенант Захаров.
— Здравия желаю, товарищ генерал-лейтенант! Чем сегодня меня порадуете или опечалите?
— Хочу сообщить вам, Павел Алексеевич, что в основной состав вашей армии включается — дополнительно! — 18-й танковый корпус генерала Захарова. Как вы к этому относитесь?
— О-о, это приятная новость! — улыбнулся в трубку Ротмистров. — Поверьте, я искренне рад.
— Я думаю!.. Вы свяжитесь с Бахаровым, пожалуйста, и, если возникнут какие-нибудь вопросы, решите их. И вот что ещё: немедленно приведите все войска армии в полную боевую готовность. Вам ясно? И — ждите распоряжений.
— Слушаюсь, товарищ генерал-лейтенант!
— Сегодня у нас какое число? Пятое июля?… Н-да!.. Так вот, чтобы вы окончательно поняли, для чего нужно приводить армию в полную боевую готовность, сообщаю, что на Центральном и Воронежском фронтах завязались ожесточённые и кровопролитные бои с сильным противником.
— Я понял… Всё будет исполнено!
Ротмистров проезжал на «виллисе» по хозяйству комбата Чупрынина и напряжённо всматривался в застывшие в ожидании команды грозные громады танков, в лица танкистов, снующих там и сям; лица танкистов должны говорить о многом, вот генерал и разглядывал пристально каждого встретившегося на его пути парня, пытаясь понять его сегодняшнее настроение, его мысли — и затаённые, и откровенные, и открытые, — как вдруг увидел знакомого лейтенанта, того самого, которого ему когда-то «всучил» генерал Боков. Ротмистров положил руку на плечо водителя:
— Останови-ка, любезный! — и к адъютанту повернулся. — Василий, позови мне во-о-он того лейтенанта! Ты его знаешь, он наш старый знакомый. По, Москве.
Когда Земсков привёл Владимира Кошлякова, Ротмистров вышел из машины. Он устало потянулся, распрямил плечи. Владимир вытянулся было перед ним в струнку, но генерал, тепло улыбнувшись, по-отечески сказал:
— Не надо… Как служится, Владимир? С братьями в одном экипаже воюешь?
— Так точно, товарищ генерал! В одном! Только вот ещё не опробовал себя в боевых действиях, пока что только в учебных. А так хочется испытать себя в настоящем сражении…
— За этим дело не станет; я чувствую, что уже пахнет горючим порохом и чёрной гарью предстоящих боёв и сражений… Кстати, а какое настроение у танкистов? По вашему мнению, лейтенант?
— Товарищ генерал, скажу вам искренне: настроение у всех, по-моему, самое что ни есть боевое — все рвутся в бой!
— Боевое — это хорошо! Это — прекрасно! Нам сейчас без настроения хорошего никак нельзя воевать… Ну ладно, Владимир, прощайте! Служите честно…
Ротмистров повернулся к «виллису», хотел уже влезть в него, но тут его остановил застенчивый голос Кошлякова:
— Товарищ генерал!
Ротмистров остановился, через плечо взглянул на Владимира.
— Вам чего?
— Товарищ генерал, я вас поздравляю…
— С чем же это, лейтенант?
— С днём рождения! С наступающим…
«Чёрт возьми! — неловко хмуря брови, подумал Павел Алексеевич. — А ведь и точно — завтра, шестого июля, день моего рождения!.. Как это я забыл?…» — И сказал с благодарностью: — Спасибо за поздравление, лейтенант Кошляков!
В «виллисе» Ротмистров приказал адъютанту:
— Василий, — немедленно займись приглашениями на товарищеский ужин. Хочу отметить день рождения в кругу своих боевых друзей.
— Слушаюсь, товарищ командующий! На который час приглашать?
… Утром шестого июля в армию прилетел командующий Степным фронтом генерал-полковник Конев.
— Я вас искрение и от всего сердца поздравляю с вашим личным праздником! — сказал он первым делом, крепко и долго пожимая руку Ротмистрову. — Правда, подарка вот у меня пет… Зато немцы, надо сказать, с подарком к вашему дню рождения не просчитались. Конечно, то, что они подготовили — не совсем приятно. Как по-вашему?
— Чёрт с ними, с немцами! — усмехнулся Ротмистров. Они нам, Иван Степанович, подарки делают почти что ежедневно. Так что нас ничем не удивишь,
— Охотно верю, Павел Алексевич! Охотно. Но поговорим о дне сегодняшнем. Сейчас наиболее мощный удар противник наносит нам на Курском направлении. Учитывая сложившиеся обстоятельства, Ставка приняла решение о передаче вашей 5-й гвардейской армии Воронежскому фронту. Как вы к этому относитесь?
Конев вперил пристальный взгляд в лицо. Ротмистрова. Тот с честью и невозмутимостью выдержан взгляд командующего Степным фронтом. Только подумал: «Что-то уж часто задают мне этот вопрос — «Как вы к этому относитесь?»: вчера — генерал-лейтенант Захаров, теперь вот — Конев».
— Как я отношусь к переподчинению? — переспросил Ротмистров и тут же ответил: — Оттуда, сверху, я думаю, виднее.
— Значит так, Павел Алексеевич, — продолжал генерал— полковник Конев, — вам надлежит в самые сжатые сроки сосредоточиться юго-западнее Старого Оскола. Это, сами понимаете, не дружеский совет, а приказ.
И он, придвинув к себе карту, красным карандашом очертил только что названный район.
Конев улетел. А Павел Алексеевич долго ещё сидел над оперативной картой и думал, думал, думал.
Где-то через час позвонил Поскрёбышев по связи ВЧ.
Ротмистров сразу представил себе сидящего у телефона в приёмной Сталина широкоплечего, широколицего и бритоголового Поскрёбышева и ответил ему:
— Я вас слушаю, Александр Николаевич!
— Павел Алексеевич, с вами будет говорить товарищ Иванов.
Ротмистров знал, что Иванов — это псевдоним не кого-нибудь там, а самого товарища Сталина. Внутренне он весь сжался, лихорадочно раздумывая над тем, чем вызван неожиданный звонок Иосифа Виссарионовича. А тот уже, с характерным акцентом в голосе, глуховато спрашивал:
Скажите, товарищ командующий, вы получили нашу директиву о переброске вашей танковой армии на Воронежский фронт?
У Павла Алексеевича отчего-то запершило в горле, и он чуть с хрипотцой сказал в трубку:
Никак нет, товарищ Иванов, директива мной ещё не получена. Однако, я об этом решении уже информирован.
— Кем вы информированы?
— Товарищем Стёпиным.
Стёпин — это псевдоним командующего Степным фронтом генерал-полковника Конева.
— Хорошо, — послышалось на другом конце трубки, и Сталин, немного помолчав, опять задал вопрос.
— Скажите, как вы думаете осуществить передислокацию своей армии? Какое мнение имеете вы на этот счёт?
— Я решил: передислокация армии будет осуществляться своим ходом, товарищ Иванов.
— Своим ходом? — переспросил Сталин. — И это окончательное ваше решение?… А вы знаете, что по этому поводу высказывает нам товарищ Федоренко? Он говорит, что двигаться своим ходом на такое большое расстояние — многокилометровое! — опасно, — танки могут выйти из строя. А это грозит большими неприятностями. Товарищ Федоренко предлагает перебросить танки по железной дороге.
Ротмистров мгновенно ответил Верховному. И ответил, как ему показалось самому, несколько дерзко:
— Этого, товарищ Иванов, никак нельзя делать. Никак!.. Не надо забывать о мощной вражеской авиации, которая может запросто разбомбить в пути следования эшелоны с техникой или же железнодорожные мосты, без которых мы, естественно, не сможем следовать к намеченному району. Тогда, я уверен, мы не скоро соберём армию. И, кроме того, мы крупно подведём пехоту, переброшенную автотранспортом в район сосредоточения: если пехота повстречается с танками противника…
— Довольно об этом, товарищ командующий. Скажите лучше, вы имеете намерение совершать марш только ночами?
Павел Алексеевич на секунду задумался, а затем отчеканил:
— Никак нет, товарищ Иванов! Сегодня продолжительность ночи составляет всего лишь семь часов. Если мы, осторожничая, будем двигаться только в ночное время суток, то нам поневоле придётся танковые колонны на весь день заводить в леса, — прятать, а к вечеру, естественно, выводить их. А лесов, надо сказать прямо, на нашем предстоящем пути следования совсем мало…
Сталин хмыкнул на другом конце трубки:
— Что же вы предлагаете в таком случае, товарищ командующий?
— Я не предлагаю, я прошу вашего разрешения двигать танковую армию и днём, и ночью.
— Но послушайте! — голос Сталина чуть повысился. — Вы только что сами говорили об авиации противника: вас ведь в светлое время суток будут беспощадно бомбить! Вы понимаете это?
— Так точно, товарищ Иванов, понимаю. Возможно, нас и будут бомбить. И даже не возможно, а наверняка. И именно поэтому я прошу вас дать указание нашей авиации, чтобы она как можно надёжнее прикрыла нашу гвардейскую танковую армию с воздуха.
Я думаю, здесь вы правы, — чуть помолчав, согласился Верховный. — Хорошо, я полагаю, что ваша просьба о прикрытии марша армии нашей авиацией будет выполнена.
Он снова задумался, а затем добавил:
— Будете начинать марш, сообщите об этом командующим Степным и Воронежским фронтами. Желаю вам успеха…
Сталин положил трубку. Ротмистров белоснежным платочком вытер вспотевший лоб.
… Вечером этого же дня, по разосланным приглашениям, поздравить Павла Алексеевича с днём рождения собрались командиры корпусов, офицеры и генералы полевого управления армии. И Ротмистров решил воспользоваться этим собранием командного состава армии для отдачи предварительных, распоряжений на предстоящий танковый марш. Каким он будет — трудным и тяжёлым или же архитяжелым — этого командующий армией не знал. Но знал он одно — лёгким марш не будет…
— Товарищи командиры, — сказал он собравшимся, — я очень прошу вас извинить меня за столь необычный ужин, между прочим — праздничный, но в связи с изменением обстановки, я решил начать его с оперативной карты.
Командиры, пришедшие на юбилей, недоуменно загудели.
Кое-кто из них был откровенно разочарован… Но Ротмистров был непреклонен в своём неожиданном даже для самого себя решении.
— Прошу всех, товарищи командиры, подойти к карте! — приказал-пригласил он и тут же проинформировал собравшихся на праздничный ужин офицеров и генералов о предстоящей переброске армии, а заодно поставил необходимые оперативные задачи.
А потом всё же все пили трофейное шампанское, празднично шумели и дружно поздравляли Ротмистрова с днём рождения.
ПРИЗНАНИЕ ФАИНЫ
Братья Котляковы неторопливо шли от комбата к своему танку. Василий то и дело с интересом посматривал на Владимира и, наконец, не выдержал.
— Послушай, брательник, я давно хочу у тебя спросить и всё как-то не решаюсь…
— Какие проблемы, Вася? Спрашивай! Я всегда готов тебе ответить.
— Ты не обижайся, прошу тебя, но я вот о чём… Ты, случайно, в баптисты не записался?
— Не понял! Ты к чему это задаёшь такие странные вопросы?
— А к тому. Ты почему это на девчат вовсе не обращаешь никакого внимания?
— На каких это девчат?
— На обыкновенных, — на нашенских медсестёр… Я, например, с Алиной… в хороших отношениях. Валька, вон, с Фаиной дружит. А ты… Между прочим, братан, мне кажется, что Вера на тебя глаз положила. Замечаешь?
— Ничего я не замечаю и замечать не желаю, — Владимир вздохнул. — А вообще-то, уважаемые брательнички, у меня есть… невеста…
— Как?! — в один голос воскликнул Василий и Валентин. — Кто?…
— Я надеюсь, вы помните Леночку Спасаеву? Ну, из параллельного класса… Так вот, мы с ней собираемся пожениться. После войны, разумеется. А война… Гитлера мы уже гоним, и я надеюсь, война уже не долго продолжаться будет…
— Ну ты и даёшь! — восхищённо воскликнул Василий. — А, пожалуй, ты и прав: я, видимо, тоже скоро окольцую одну дивчину. Какую — знаете и сами: Алину. Она, вроде бы, не против, хотя я её об этом ещё не спрашивал. Представляете, как будет здорово, если свадьбы сыграем вместе, в один день!.. Что ты думаешь по этому поводу, Валька?
Валентин вздохнул:
— У меня с этим вопросом всё не так просто. Между мной и Фаиной, между нашими отношениями торчит этот чёртов Никанор; раньше Фаина его, по-моему, недолюбливала, а теперь, кажется, привыкает к нему.
— Ты, брат, поговори с ней. По-серьёзному… — посоветовал Владимир Валентину.
— А что, это дельная мысль! — охотно, и даже с каким-то энтузиазмом, согласился Валентин. — И я не буду откладывать на завтра то, что я смогу сделать сегодня. Итак, брательники, я на полчасика отчаливаю.
— Куда? — спросил Василий.
— На Кудыкину гору! К Фаине, чёрт побери, к ней же: я поговорю с ней прямо сейчас.
— Что ж, успехов тебе, Валька.
У медиков было на удивление тихо, Валентин даже подумал ненароком: «А не разбежались ли все по домам, да ещё и по случаю окончания войны?!». Он заглянул в одну комнату — никого, в другую — пусто, толкнул дверь третьей и… И сердце его от неожиданности чуть было не остановилось!.. На кровати — полулёжа на ней — страстно целовались Фаина и Никанор!..
— Фаина! — сдавленно и глухо воскликнул Валентин. — Фаина!..
Застигнутая врасплох парочка мигом вскочила с кровати. Фаина, покраснев, отвернула от Валентина лицо, а Никанор зло выдохнул прямо в покрывшиеся туманом глаза Котлякова:
— Стучать надо, лейтенант! Стучать!.. Интеллигентные люди всегда и везде так поступают…
Убитый неожиданным зрелищем Валентин не смотрел на подёрнутое злом лицо Зенина, он не сводил глаз со своей любимой Фаины.
— Фаина! — снова, но уже с тоской в голосе произнёс он.
И Фаина подняла лицо.
— Никанор, выйди, пожалуйста, на улицу! — попросила приказала она. — Мне нужно сейчас же, без свидетелей, выяснить отношения с лейтенантом Котляковым.
Зенин нехотя протопал к двери. И как только он переступил порог, Фаина упрямо вздёрнула голову.
— Ну, — сказала она, — что? Говори…
— Фаина, я глазам своим не верю… Ведь совсем недавно ты клялась мне!.. Я не верю…
— Извини, Валентин, но тебе придётся поверить. Не знаю, право, как получилось, но я… полюбила капитана Зенина.
— Как же так? Ведь ты мне говорила, что у тебя с Никанором ничего такого нет и не было, что он врал тогда, когда мы с ним подрались…
— Я тебе сейчас всё объясню…
Валентин рассеянно молчал некоторое время, а потом, собравшись с духом, сказал:
— Не надо, Фаина, мне ничего объяснять. И так всё ясно и понятно. Я — ухожу… Навсегда… Но прежде, чем я переступлю порог в последний раз, я хочу прочесть моё стихотворение, посвящённое тебе и только что сочинённое:
Он замолчал, проглатывая комок, подступивший к горлу, потом сказал:
— А теперь, Фаина, прощай.
— Погоди!
— Чего тебе ещё?
— Валентин, можно я поцелую тебя на прощание?
Валентин грустно и тоскливо улыбнулся:
— Давай не будем… Не надо сентиментальности, обойдёмся без слёз. Прощай, и будь счастлива! С другим…
И, развернувшись, он резко толкнул дверь ногой.
Братья Кошляковы — Владимир и Василий — сосредоточенно хлопотали возле своего танка. Им с усердием помогал заряжающий Полежаев.
— Ну как, поговорил с Фаиной? — вытирая руки ветошью, спросил Василий подошедшего Валентина.
— Поговорил, — нехотя буркнул тот, присаживаясь на траву.
— Ты какой-то прямо не в себе, — сказал Владимир, внимательно вглядываясь в лицо брата. — Что-то не так?
— Не так… Мы с Фаиной… расстались. Вопросы прошу не задавать. По крайней мере — сегодня.
Владимир и Василий переглянулись и, понимающе вздохнув, принялись за прерванную работу; Полежаев, неловко кашлянув, проворчал: «Бог её накажет!»; а Валентин, накрыв лицо пилоткой, вытянувшись, замер на траве. И никто из них — ни Владимир, ни Василий, ни Валентин и тем более Полежаев — не знал, что сегодня, именно сегодня неотвратимо закрутился маховик большого колеса, которое непременно покатится в сторону пока ещё никому неизвестной Прохоровки. Они, эти молодые ребята, не знали, что сегодня начальник штаба армии генерал Баскаков с начальниками подчинённых ему отделов, командующим артиллерией генерал-майором артиллерии Владимировым, начальником инженерных войск полковником Исуповым уже приступил к обеспечению маршрутов движения корпусов, организации противовоздушной обороны и комендантской службы на предстоящем марше, составлению графика прохождения войск по рубежам и подготовке необходимых документов. Не знали братья Кошляковы и о том, какая большая ответственность возлагалась на начальника управления бронетанкового снабжения и ремонта полковника Солового, который со своими подчинёнными должен был составить план технического обеспечения армии на марше и принять все меры к тому, чтобы ни один танк не вышел из строя. Братья Кошляковы и заряжающий Полежаев твёрдо знали только одно — скоро будет что-то страшное, которое непременно коснётся их. Это чувствовалось везде и во всём.
ВХОЖДЕНИЕ В ПРЕИСПОДНЮЮ
Только что окончилось открытое комсомольское собрание. Василию страшно сильно захотелось курить и поэтому он поторопился одним из первых выбраться из рядов комсомольцев, многие из которых не очень жаждали уходить с собрания. А собрание, надо сказать, было на редкость бурным и воодушевлённым. Да и как воинам-гвардейцам не воодушевляться, почему? Ведь наконец-то до личного состава дошло долгожданное известие о выступлении на фронт. Господи, сколько же его ждали!.. Ожидание — нудное и беспокойное — утомило всех до конца, и именно поэтому известие о выступлении на фронт было ошеломляюще приятным для всех бойцов армии, и именно поэтому на открытых комсомольских и партийных собраниях, прошедших ныне, свободно можно было услышать горячие и твёрдые высказывания о том, что наконец-то для них, гвардейцев, настала страдная пора, пора рассчитаться с фашистскими захватчиками, рассчитаться за все принесённые ими советскому народу подлые и жестокие злодеяния.
Василий сам выступил на собрании сверстников-комсомольцев, призывая их громить ненавистного врага умно и беспощадно и гнать его с родной и священной для всех земли.
Василий присел на поваленный снарядом ствол тополя, закурил, задумался. Задумался и совсем не заметил, как к нему подошла и подсела невесть откуда взявшаяся Алина.
Он от неожиданности вздрогнул, когда она осторожно положила ему на плечо руку.
— Алина? Ты?
— Я, Вася, я… Ты чего это такой задумчивый? Серьёзный какой-то…
— Это от радости, дорогая, от большой радости: наконец-то наше выступление ожидается. На фронт будем двигаться. Понимаешь… на фронт!..
— Это же хорошо, Васечка: все быстрее разобьём фашистов и победу нашу приблизим. Так я говорю?
— Наверное, так, Алина. Скорее бы война проклятая окончилась, мы бы… Мы бы поженились… Я не прав?
— Прав, Вася, прав… Только вот дожить бы до победы! Только бы дожить.
Василий яростно швырнул окурок в траву, крепко обнял девушку, приложился губами к её уху:
— Не беспокойся, дорогая, доживём. Слишком уж мы молоды, чтобы о смерти проклятой думать…
… Седьмого июля, в половине второго утра, 5-я гвардейская танковая армия начала беспрецедентный форсированный, двумя эшелонами, марш. Первый эшелон составляли 29-й и 18-й танковые корпуса, во втором эшелоне двигался 5-й гвардейский Зимовниковский механизированный корпус. Ротмистров распорядился, чтобы штаб армии следовал с главными силами. Он, командующий этой армией, был уверен, что подобное построение на марше позволит не только чётко управлять армией, но и, в случае чего, быстро развернуть танковые корпуса для нанесения — с ходу — мощного танкового удара…
Казалось, что ночи — как и вчера, и позавчера, и поза-позавчера — и не было совсем. Да и какая она есть — ночь-то — в июле месяце! Так, одно название лишь: очень уж короткое это время суток в этом летнем и жарком до невозможности месяце… Кажется, только смежил усталые веки и не успел ещё провалиться в приятное беспамятство, а уже и вставать надо… А сегодня экипажи танков только чуть-чуть придремали, а многие и вообще, не спали. Они, усталые до изнеможения танкисты, вели свои стальные машины по строго заданному маршруту навстречу таинственной и поэтому тревожной неизвестности. Вели чётко, как и было положено, как нужно было.
Василий, какое-то время выглядывающий из люка на башне, прикрыл его.
— Фу, дьявольщина, ну и жарища сегодня: прямо пекло какое-то африканское! — досадливо прокричал он. — И это— в восемь часов утра! А что же будет в полдень?… Изжаримся к чертям!..
— Марш сегодняшний — это у нас сейчас вроде бы дороги в ад, — угрюмо отозвался Полежаев, вытирая рукавом пот с лица, — это мы сейчас вроде бы как в преисподнюю входим.
— Да заткнись ты, Фёдор, пожалуйста! — сказал в сердцах Владимир. — Надоел ты уже со Своими религиозными баснями хуже горькой редьки! — И к брату обратился: — Вась, чего там, наверху?
— А чего там будет?… Пыль столбом — дым коромыслом… Да в небе истребители наши барражируют: нас, естественно, охраняют. Совсем как ангелы-спасители…
— А небо-то какое?
— Чего? — не понял Василий.
— Я спрашиваю: небо сейчас какое? — повторил Владимир, повысив голос.
— Тебе-то какая разница?… Небо как небо — безоблачное… Кстати, заряжающий Полежаев, а почему это ты не присутствовал на собрании?
Фёдор хотел было промолчать, но Василий снова повторил свой вопрос. И тогда Полежаев ответил:
— Я, товарищ командир, не комсомолец, тем более — не коммунист. Так чего ж мне сидеть на этих самых собраниях, штаны протирать? Ведь вам там наверняка говорили, что нужно не щадить себя — Родину защищать, а я это давно знаю и запросто жизнь свою за Родину отдам.
— Гм, интересно ты рассуждаешь, Полежаев… Ну, а почему же ты молчал, не признавался, что ты не комсомолец? Мы бы тебя, как ты говоришь, запросто приняли… Мигом…
— Нет, товарищ лейтенант, — вздохнул Фёдор Полежаев, — мне нельзя ни в комсомол вступать, ни в партию. Да и кроме того, для чего мне всё это, если я совсем другого мнения в жизни придерживаюсь, противоположного.
Тут уж Валентин не выдержал, вскинулся, чуть рычаги управления из рук не выпустил.
— Фёдор! — вскричал он, — не говори загадками!
— А чего здесь загадывать?… Я — верующий… Я в Бога верую…
Ошеломлённый услышанным, Валентин так рванул танк вперёд, что стальная машина мгновенно «разулась» — гусеница, соскочила, и тут «тридцатьчетвёрку» резко крутнуло вокруг своей оси.
— Ты чего, Валька, бешеный! — закричал Василий, всерьёз расстроенный случившимся. — Какого чёрта машину рвёшь!.. И о нас бы подумал: не дрова ведь везёшь!..
Владимир, в отличие от Василия, промолчал: он лишь ожесточённо потирал только что сильно ушибленный лоб. Валентин же, не оправдываясь, буркнул:
— Сообщи комбату Чупрынину: так, мол, и так, короткая остановочка у нас невольно выходит…
— Дал бы я тебе «короткую остановочку»! — недовольно выкрикнул Василий, а сам уже по рации вызывал комбата: — Товарищ майор!..
Братья Кошляковы и Полежаев торопливо выползли из люка «тридцатьчетвёрки», и тут же их пристальным взорам представилась потрясающая и по масштабам, и по всем другим параметрам, доселе невиданная ими, картина. Вокруг, насколько глаз мог видеть, стояла сплошная серая и словно живая завеса пыли и дыма. Да такая плотная завеса, что сквозь неё братьям Кошляковым и Фёдору багровый диск высоко поднявшегося уже солнца представлялся как бурый огонёк еле тлеющей свечи.
— Господи!.. Господи!.. — торопливо и смущённо закрестился Фёдор, тоскливо и ошарашенно оглядываясь по сторонам. — Да что же это такое творится?! Ей-богу, мы и правда попали в преисподнюю…
А мимо, грозно и громко ворча и фыркая, проходили на больших скоростях тяжёлые и грозные танки; за ними, как бы вовсе беззвучно плыли по дороге шустрые автомашины: это продвигалась к назначенному району 5-я гвардейская танковая армия. И густая залежавшаяся дорожная пыль, грубо попранная гусеницами и колёсами боевой техники, неотвратимо поднималась асе выше и выше со своего дорожного ложа, неумолимо и настойчиво покрывая толстым — хищно-волчьей окраски — слоем придорожную растительность, представленную здесь кустарником и деревьями, зреющие хлеба в придорожных полях. Не щадила занудливая пыль и самих виновников нарушения её спокойствия: она медленно и бесконечно оседала и на танки, и на автомобили, словно маскируя их на всякий случай.
Танкисты, вооружившись необходимым инструментом, спрыгнули на землю.
Когда соскочившую гусеницу возвратили на её место и Кошляковы с Полежаевым собрались уже заводить танк и догонять свою часть, к ним неловко и даже с какой-то опаской подошли несколько ребятишек и женщин.
— Ну что, отступаете? — загораживая глаза рукой от пыли, спросила самая старшая из них и криво усмехнулась: — Защитнички вы наши…
Владимир, Валентин и Фёдор, невольно покраснев от язвительного тона и слов женщины, неопределённо пожали плечами и обратили свои взоры на Василия: ты, дескать, у нас старший по должности, ты и отвечай на вопросы местных жителей. Василий тоже засмущался, но, однако же, ответил.
— А кто вам сказал, дорогие женщины, что мы отступаем?… Сами посмотрите — мы же на запад путь держим, туда, в сторону Германии движемся…
— На запад?… В сторону Германии?… — не унималась пожилая женщина. — А, по-моему, Германия — так она уже и под Москвой числится… Ведь вы же всё германцам посдавали…
— Да кто ж вас поймёт нынче, — вмешалась вторая женщина, — на запад ли вы путь держите, аль на восток, — а всё ж одно — от-сту-па-е-те!
— Ты не совсем права, мать… — голос Василия словно вдруг надломился, стал хриплым. — Сегодня на дворе не сорок первый год… Сегодня и мы кое-что можем…
И он громко скрипнул зубами.
— Дай-то Бог, сынок, чтобы вы кое-что могли. А лучше было бы, если бы не кое-что, а во всю правду!.. Что — раз уж вы допустили проклятого фашиста в страну нашу — погнали его галопом из России-матушки, чтоб побыстрее выгнали его вон…
— Мы теперь не отступим, дорогие наши женщины, — согнал краску смущения с лица Владимир, — мы теперь не дадим вас в обиду!..
«Тридцатьчетвёрка», обдав напоследок женщин и ребятишек выхлопным газом, рванулась вперёд, догонять свою часть. А рядом нескончаемым мощным потоком шли и шли огнедышащие танки, трудяги-тягачи с лёгкими и тяжёлыми орудиями, неторопливые самоходно-артиллерийские установки, мирные и беззащитные на вид автомашины, упрямые бронетранспортёры.
Вскоре Кошляковы догнали своих, заняли в колонне предназначенное им место. Танковый марш продолжался.
Танковый марш продолжался, а Валентин изнемогал. И не только он чувствовал себя окончательно разбитым и морально, и физически, и даже наполовину умершим человеком: и остальным механикам-водителям было не легче. Адская июльская жара, густая и назойливая до глубокого отвращения пыль, нечеловеческое напряжение глаз и рук, синдром регулярного недосыпания — всё это с оглушающей силой обрушилось на несчастных механиков-водителей танков. И с каждым часом им становилось всё тяжелее и тяжелее. Для отдыха же времени совсем не было: каждый час был на вес золота.
— Валька! — окликнул брата Василий. — Давай я тебя подменю! Иначе ты пропадёшь ни за что и в бою не поучаствуешь. –
Валентин, против обыкновения, не стал возражать и охотно уступил рычаги управления танка брату. Чуть позже Василия сменил Владимир. Валентин же за это время смог неплохо отдохнуть…
…Павел Алексеевич Ротмистров сурово хмурил брови, стараясь придать своему лицу строгий вид, но в душе он был несказанно рад: выдержали, выдержали, чёрт побери, танкисты тяжелейшее испытание, выдержали с честью, поборов и нестерпимую духоту, и мучительную до невозможности жажду. Он, генерал, сам видел, как они, его подчинённые, выжимали у танков мокрые и липкие от пота гимнастёрки…
Танковая армия свой форсированный марш начала седьмого июля в половине второго утра; другим утром, сутки спустя, главные силы армии вышли в район юго-западнее Старого Оскола… Уже потом, позже, Ротмистров подсчитал, что, учитывая трату времени на подтягивание тылов и окончательный выход частей в указанные им районы, в целом за двое суток армия фактически преодолела, буквально подмяла под себя где-то 230–280 километров российских мучительных дорог. Радовал командующего армией и тот немаловажный фактор, что количество боевых машин, отставших во время напряжённого и изнурительного марша по различным, в основном, по техническим причинам, исчислялось буквально единицами. Да и то они после устранения неисправностей возвратились в строй в самые минимальные сроки…
Вернувшийся от комбата Василий громко и с горькой иронией в голосе объявил экипажу:
— Как вы, наверное, догадываетесь, товарищи танкисты, нам только что сделали замечание за… За отставание на марше. Разулись, понимаете, на ходу! И это — во время марша!.. Мирного, можно сказать, марша… А что же будет в таком случае с танком в бою?
— Это я виноват! — в один голос воскликнули Валентин и Фёдор; воскликнули, и тут же, посмотрев друг на друга, улыбнулись.
— Чёрт возьми, Фёдор, — крутнул головой Валентин, — пусть буду я виноват, но суть не в этом. Ты признайся, правду сказал ты тогда или так, сбрехал, что в Бога веруешь?
Полежаев снова улыбнулся, теперь уже как-то неловко.
— А чего мне, товарищ лейтенант, брехать? У нас вся семья такая, верующая… И дед, и прадед…
— Так ведь Бога-то нет!.. Сказки все о нём… Ну кто его видел, скажи? Ах, тёмный ты человек, Фёдор!
— Прекратите спор! — строго потребовал Василий. — А ты, Фёдор, смотри, при политруке нашем не ляпни о своей набожности: Якутии Мирон Иванович — он человек спокойный, но… Короче, ты меня понял, надеюсь! А теперь о деле: нам необходимо, ребята, ещё раз тщательно проверить и привести в порядок материальную часть машины, заправить её основательно, и, естественно, почистить своё личное оружие.
— Будет сделано, командир! — шутливо козырнули Владимир и Валентин; Фёдор, тот лишь покашлял в кулак: куда, мол, деваться, — такая уж наша судьба…
Пока рядовые и младшие офицеры были заняты непосредственно подготовкой своих боевых машин, командиры рангом повыше и штабы корпусов и частей лихорадочно собирали сведения о районе предстоящих боевых действий, вплотную занимались организацией противовоздушной обороны. За исполнением отданных генералом Ротмистровым
распоряжении контроль осуществлял штаб армии, разместившийся в селе Долгая Поляна…
… Был первый час ночи девятого июля. Владимир лежал на траве у танка, закинув руки за голову, и пристально— смотрел в далёкое звёздное небо с загадочным Млечным путём, думая с огромнейшей нежностью о ставшей ему родной и близкой Леночке Спасаевой, о маме. Фёдор Полежаев лежал на боку с закрытыми глазами: то ли спал он, набираясь сил к предстоящему новому дню, то ли прикрыл их, всем сердцем вслушиваясь в слова песни, которую шёпотом напевал себе под нос Валентин. А Валентин пел:
Неслышно подошёл Василий, бывший по вызову у комбата; он осторожно присел, прислонившись спиной к траку и, вновь очарованный давно знакомой ему песней, начал негромко помогать брату:
Оторвался от своих приятных мыслей о Леночке Спасаевой и Владимир.
Было тихо. И, казалось, что сама ночь слушает эту жизненную песню, шёпотом исполняемую братьями Кошляковыми.
Братья Кошляковы замолчали. А Фёдор встрепенулся:
— А что же дальше, а? Песня ведь не окончена, так же?
— Эх, брат Фёдор, — отозвался Валентин, — песня не окончена, ты прав… Вот только слов мы далее не знаем… Есть там такие строки: «Только тронулся поезд с перрона, моментально старик стал седой…». И ещё: «Его дочь от любви к командиру под машину легла головой…»
— Ты немного забыл, Валька, — сказал Василий, — там ещё есть куплет. — И он трогательно пропел:
Песня окончилась. Воцарилась тишина. Не нарушил Фёдор, давно уже приподнявшийся с травы.
— Хорошая песня, — сказал он тихо, — но грустная. Мне бы сейчас чего-нибудь весёленького… Скажи, командир, — Полежаев к Василию повернулся, — не сообщил ли случайно майор Чупрынин чего-нибудь ободряющего, радостного?
— А как же, Фёдор, — хмыкнул Василий после некоторого молчания, — сообщил. И сообщение, считаю, радостное. А для тебя радостное — вдвойне.
— Да ну?! — неверяще мотнул головой заряжающий. — Шутите, товарищ, лейтенант? Так ведь, а?
— К чёрту всякие шутки, Полежаев!.. В Прохоровку твою направимся, вот… Доволен?
— Да ну?! — опять неверяще воскликнул Фёдор.
— Вот тебе и «ну», заряжающий Полежаев! — сказал Василий. — Я вам, мужики, скажу следующее: получен приказ — к исходу сегодняшнего дня нам, кровь из носу, необходимо выйти в район известной только одному Фёдору Прохоровки…
— Господи! — обхватив голову руками, громко прошептал Полежаев. — Да неужели ты смилостивился, Господи!..
— Да-да, в район Прохоровки! — повторил лейтенант, недовольно косясь на заряжающего. — И, естественно, мы должны быть готовы сразу же, если понадобится, принять сражение. Мало ли что нас там, под Прохоровкой, ожидает… Так что, Полежаев, если дорогу до Старого Оскола ты назвал преисподней, то твоя горячо любимая Прохоровка для нас вполне вероятно, может стать сущим адом. Вот так-то…
— И в аду живут люди, только мучаются… Господи! — радостно задыхался Фёдор. — Может, дом свои увижу… Командир, когда выступаем?
Василий взглянул на часы:
— Через двадцать минут. Как там у нас, всё готово?. Гусеница не соскочит, как в тот раз?…
Танки, терпеливые и надёжные, проделали ещё один марш, теперь уже более короткий — стокилометровый. Все соединения и части своевременно прошли рубежи регулирования и, ещё раз наглотавшись пыли, ещё раз испытав все «прелести» жары, в строго ограниченное время вышли на исходные позиции на рубеже Прохоровка и Весёлый… 5-я гвардейская танковая армия была полностью готова к дальнейшим боевым действиям. А что её ожидало впереди, под Прохоровкой и Весёлым, — победа или смерть, никто этого ка что не знал… Никто… Даже сам Господь Бог.
13 февраля — 3 августа 1994 г. с. Береговое
ЧАСТЬ ВТОРАЯ
ЖИВЫЕ В АДУ
«…Если битва под Сталинградом предвещала закат немецко-фашистской армии, то битва под Курском поставила её перед катастрофой…»
И. Сталин
ВИЗИТ К ВАТУТИНУ
Шестого июля 1943 года состоялся непродолжительный разговор генерала Ротмистрова со Сталиным, а уже десятого числа 5-я гвардейская танковая армия строго официально и на самых полных правах вошла в состав Воронежского фронта…
… Нельзя прямо сказать, что Ротмистров в жизни был очень уж сентиментальным человеком, но иногда и на него, самого полнокровного кадрового военного, находило эдакое неопределённое, не поддающееся никакому пояснению чувство. Вот и сегодня он поневоле на какое-то время позволил себе расслабиться и тотчас почему-то очень отчётливо вспомнил молоденького и симпатичного лейтенанта, ну того самого, что из Москвы, от генерала Бокова, в свою армию привёз. Кошляков его фамилия, что ли? Да, да, — точно — Кошляков… И захотелось вдруг генералу непременно его увидеть. Захотелось, но почему?
Павел Алексеевич не стал принуждать себя искать ответ на это «почему?», а вызвал своего адъютанта Земскова:
— Послушай, Василий, прошу тебя не в службу, а в дружбу: разыщи и доставь ко мне, пожалуйста, лейтенанта Кошлякова. Владимира… Помнишь такого, а?
— Так точно, помню, товарищ генерал! Будет сделано!..
Спустя какое-то время, Владимир смущённо сидел перед расслабившимся Ротмистровым, аккуратно отхлёбывал из кружки крутой и очень горячий чай и рассказывал ему о делах в своём родном подразделении, о настроении танкистов, об их нуждах. Павел Алексеевич, сняв очки, близоруко и добро щурился на лейтенанта, внимательно, не перебивая, слушал его и затаённо улыбался, — даже как-то по-отечески, что ли, — и изредка, мягко и корректно, задавал ненавязчивые, но нужные ему вопросы.
Их умиротворённую беседу, беседу младшего офицера и командующего армией, безапелляционно прервал телефонист с осипшим голосом.
— Товарищ генерал! Извините, но вас командующий фронтом к телефону требует.
Павел Алексеевенч взял трубку, мягко проговорил:
— Ротмистров на проводе!
— Здравствуйте, Павел Алексеевич! Ватутин вас беспокоит.
— Здравия желаю, товарищ командующий фронтом!
— Мне не с руки долго говорить по телефону, да и разговор этот не совсем телефонный, поэтому я прошу вас, Павел Алексеевич, срочно прибыть ко мне, на мой командный пункт. Вам ясно?
— Так точно, товарищ командующий фронтом!
Павел Алексеевич ещё с минуту, наверное, стоял у телефонного аппарата, сосредоточенно и крепко потирая лоб, затем медленно вернулся к лейтенанту Кошлякову.
— Извините, Владимир, мы с вами сегодня не обо всём ещё переговорили. А жаль… Но… Дела-а!.. Но — ничего, я надеюсь, что мы с вами не в последний раз видимся. Не так ли?
— Товарищ генерал!.. Так точно, товарищ генерал!.. Вы… Мне с вами хорошо и легко… — Владимир засмущался и густо-прегусто покраснел. — Извините, товарищ генерал…
— Ничего, лейтенант. Не смущайтесь. Идите…
Командный пункт командующего Воронежским фронтом генерала армии Ватутина размещался рядом со старинным и очень уж провинциальным городком Обоянью. Когда Ротмистров срочно прибыл сюда, здесь на КП уже находились представитель Ставки Верховного Главнокомандования маршал Советского Союза Василевский — он координировал действия Воронежского и Юго-Восточного фронтов — и начальник штаба фронта генерал-майор Иванов.
— Ну что, танкист, — крепко пожимая руку Ротмистрову, с интересом спросил Василевский, — с каким настроением собираешься драться с фашистами? — а сам на Ватутина хитро посмотрел, даже чуть не подмигнул ему: настроение у Маршала сегодня просто прекрасное» было.
Ротмистров тоже бросил беглый взгляд на задумчивого и серьёзного, в отличие от Василевского, Ватутина, а затем Василевскому почти по-уставному отчеканил:
— Настроение у нас, танкистов, одно, товарищ Маршал Советского Союза: скорее бы в бой пойти, силы свои испробовать. Засиделись ведь уже…
— Похвально, похвально, — улыбчиво обронил представитель Ставки и тут же посерьёзнел. — Но только вот не нравится мне то, как вы сказали, что силы надобно «испробовать»… Этот ответ, дорогой Павел Алексеевич, какой-то затаённой неуверенностью сквозит. По-моему, вы должны были сказать, что так, мол, и так, настроение у танкистов очень даже боевое, бравое — и враг непременно будет разбит.
Ротмистров промолчал, подумав про себя: «А ведь и Сталин так говорил — «Враг будет разбит! Победа будет за нами!» Ничего не сказал на слова Василевского и Ватутин. Да Маршал Советского Союза вовсе и не ожидал никакого ответа от этих генералов. Он неторопливо повернулся к начальнику штаба фронта Иванову:
— Семён Павлович, расскажите, пожалуйста, генералу Ротмистрову о сложившейся на сегодня обстановке на Воронежском фронте. Только, прошу вас, кратко и доходчиво.
— Слушаюсь, Александр Михайлович, — с готовностью ответил генерал-лейтенант.
Конечно же, Павел Алексеевич и без начальника штаба уже многое знал о положении на многих фронтах, — и у него разведка работала и не зря свой нелёгкий хлеб ела, — но после чёткого рассказа Иванова он, с некоторой белой завистью, понял, что ещё больше ом абсолютно не знал. Сегодня, десятого июля, уже шестой день подряд войска Воронежского фронта мужественно — да что там мужественно?! — героически отражали яростный натиск очень мощной группировки немецких войск. В эту трижды распроклятую группировку входили восемь танковых дивизий, одна — моторизованная, и пять дивизий — пехотных. Все они — из группы армий «Юг».
— Вы знаете, Павел Алексеевич, — прервал доклад Иванова Ватутин, — кто возглавляет эту группу армий? — и сам же, не дожидаясь, что скажет Ротмистров, — ответил: — А возглавляет её генерал-фельдмаршал Манштейн. Он уже знаком всем нам, здесь присутствующим, по боям под Сталинградом. Хо-ро-шо знаком!.. Не так ли?
Ротмистров молча и согласно кивнул головой, а начальник штаба, выждав определённую паузу, продолжал:
— Мы уже знаем, товарищи, что наш противник пятого июля, в шесть часов утра, из района севернее города Белгорода перешёл в общее наступление. Силами 4-й танковой армии, мощной, подчёркиваю, танковой армии, — ею командует небезызвестный нам генерал-полковник Гот, — немцы нанесли свои главные удары на города Обоянь и Курск. Войска Манштейна и Гога, надо смотреть правде в глаза, имеют лучшие танковые соединения в армии вермахта. В том числе, товарищи, яркое созвездие фашистских бронетанковых войск. Цвет!!! А цвет — это дивизии СС «Адольф Гитлер», «Райх», «Мёртвая голова». Вы наверняка понимаете, какие силы выставлены против нас…
— Вы, Семён Павлович, — аккуратно сделал замечание Ватутин, — пропустили, кажется, ещё одну дивизию. Моторизованную. «Великая Германия» называется.
— Н-да-а, — задумчиво протянул Василевский, — противник у нас, товарищи генералы, что пи говорите, достойный. Фюрер прямо-таки обожает и генерал-фельдмаршала Манштейна, и генерал-полковника Гота: они у него, чёрт побери, — в фаворе. И, наверное, Гитлер ни на секунду не сомневается в их боевом успехе.
— Эти два несомненно талантливых генерала — надежда и опора главного фашиста Германии, — криво и, в то же время, с некоторой горечью усмехнулся Ватутин. — И они, естественно, стараются оправдать высокое доверие своего любимого и обожаемого фюрера. Вспомните, какие страшные, какие ожесточённые бои происходили на этих днях! И потери немцы несли большие, а всё же, продвинулись…..
Начальник штаба сурово шевельнул бровями, нахмурился, соглашаясь с Ватутиным:
— Продвинулись, канальи. На Корочанском направлении, по-моему, километров на десять, а на Обоянском — считай, на все тридцать пять. И это — печально… Но надо учитывать, товарищи, что успешному наступлению главной ударной группировки противника крепко содействовала ударом в северо-восточном направлении — это на Корочу — оперативная группа «Кемпф». А в группе этой на полную катушку был задействован 3-й танковый корпус. И не один, а с частями усиления. Вот так-то…
Василевский, прикрыв ладонью глаза, о чём-то сосредоточенно думал. Ватутин же встал, заложив руки за спину, несколько раз прошёлся мимо своих собеседников, затем подошёл к карте.
— Павел Алексеевич, прошу вас, — подойдите ко мне! — негромко приказал-пригласил он Ротмистрова, и, когда тот подошёл, командующий фронтом аккуратно заструганный карандашом указал на район Прохоровки. — Смотрите, товарищ генерал, и слушайте. Мы думаем и рассуждаем следующим образом: к Курску через Обоянь наш противник при всём своём желании не смог прорваться — не вышло у него, не получилось. А идти ему вперёд непременно надо.
И теперь становится очень даже очевидным, что он, немец, изменил направление своего главного удара, решил перенести его несколько восточнее.
— То есть, вы хотите сказать, — вдоль железной дороги на Прохоровку? — уточнив Ротмистров.
— Вот именно! Вот именно! Знайте, Павел Алексеевич, что сюда, именно к небольшому райцентру, к Прохоровке, стягиваются испытанные в сражениях войска 2-го танкового корпуса СС. Они, взаимодействуя с 48-м танковым корпусом, а также с танковыми соединениями группы «Кемпф», обязательно должны будут наступать на восток на Прохоровском направлении. Другого выхода у них нет. Это — гарантия…
Ватутин кашлянул и взглянул на Василевского: как, мол, он реагирует на его высказывание. Маршал одобрительно кивнул головой: продолжай, дескать, правильно ты рассуждаешь.
— Так вот… Ватутин на какой-то миг запнулся. — Кстати, а вы знаете, почему, по какой причине, не так уже и давно, сильно пострадала от немцев 1-я танковая армия Катукова?
— Немного наслышан об этой неприятной истории, товарищ генерал. Виной тому, если верить рассказам компетентных лиц, тяжёлые танки «тигр» и самоходные орудия «фердинанд». Они-то и сыграли роковую роль в незавидной судьбе армии Катукова.
— Правильно мыслите, генерал. А что вы скажете насчёт нашего решения противопоставить эсэсовским танковым дивизиям нашу стальную танковую гвардию?… Чего молчите, Павел Алексеевич?… Страшно?… А я ведь серьёзно говорю: давайте нанесём противнику мощный контрудар вашей 5-й гвардейской танковой армией!..
Ротмистров, раздумывая то ли над приказом, то ли над предложением командующего фронтом, неопределённо пожал плечами. Ватутин тотчас недовольно сдвинул брови к переносице:
— Вы что, сомневаетесь в своих силах, товарищ генерал? Так позвольте ж вам подсказать: не стоит сомневаться. Мы вашу армию для надёжности усилим ещё двумя хорошими танковыми корпусами… Представляете, какая силища у вас будет?! Кстати, что вы знаете о «тиграх» и «фердинандах»? Как будете бороться с ними?
— Да, да, — поддержал Ватутина Василевский, — нам, Павел Алексеевич, поверьте, очень интересно выслушать ваши ответы на эти сверхсерьезные вопросы.
— Что ж, я отвечу вам, — Ротмистров снял очки, протёр их, снова водрузил на переносицу. — С новой техникой гитлеровцев, столь усердно воспетой их идеологами и пропагандистами, мы знакомы. Не так давно, например, мы получили из штаба Степного фронта их тактико-технические тайные. Сразу скажу — прекрасные характеристики! Даже завидно немного… Ну и, естественно, серьёзно думали и над эффективными способами борьбы с вознесёнными пропагандой «тиграми» и «фердинандами».
— Интересно! — заметил Ватутин. — Очень интересно!
— Вот как! — воскликнул в свою очередь Василевский. — Продолжайте, Павел Алексеевич. Пожалуйста!..
— Техника немцев, — здесь скрывать нечего, — имеет преимущество над нашими танками: у гитлеровцев, на нашу беду, очень уж сильная, мощная лобовая броня — это раз; у них, что ни говорите, очень мощная восьмидесятивосьмимиллиметровая пушка — это два; у пушки очень большая дальность прямого выстрела — это три.
— Н-да, сразу видно, что вы скрупулёзно работали над заданным вопросом, вы всё точно подметили, — кивнул головой Ватутин и вздохнул. — У наших танков пушка всего-навсего лишь семидесятишестимиллиметровая… Ну и что же дальше? Продолжайте, прошу вас!
— Я думаю, — продолжал Ротмистров, — что более успешно с немецкой техникой можно бороться лишь в условиях… ближнего боя. Да, да, — я не оговорился: ближнего боя. Для этого необходимо использовать высокую манёвренность наших танков Т-34 — гитлеровские машины в этом вопросе остались далеко позади наших — и, конечно же, ведение огня по бортовой броне немецких машин.
Ватутин задумчиво потёр подбородок, скосил глаза на Ротмистрова.
— Вы хотите сказать, что с немцем в данных условиях нужно идти напрямую лишь, образно говоря, в рукопашную схватку?
— Образно говоря, — да… Вы меня правильно поняли, товарищ командующий фронтом.
— Что ж, возможно вы, Павел Алексеевич, и правы… И| это лишний раз утверждает меня в решении нанести всё же противнику мощный бронированный контрудар. В нём, помимо вас, примут участие 1-я танковая, 6-я, 7-я и 5-я гвардейские общевойсковые армии.
Из дальнейшего разговора прекрасно образованных в военном отношении генералов вырисовывалась следующая перспективная картина. 5-я гвардейская танковая армия должна была усилиться 2-м гвардейским Тацинским и 2-м танковым корпусами, 1529-м самоходно-артиллерийским и 1148-м гаубичными, 148-м и 93-м пушечными артиллерийскими полками, 16-м и 80-м полками гвардейских миномётов. Короче говоря, стальная армия Ротмистрова, вкупе с приданными ей танковыми соединениями, в конечном итоге должна была насчитывать где-то около 850 танков и САУ.
Важный разговор стратегов подходил к концу, когда Ватутин вдруг задумчиво спросил:
— А как вы думаете, уважаемый Павел Алексеевич, смогут ли в действительности немецкие танки прорваться к Обояни?
— В жизни всё случается, — не сразу ответил Ротмистров, — а на войне — тем более… Война — непредсказуемость. А что, товарищ командующий фронтом, если я прикрою ваш КП?
— То есть? — вскинув брови, удивился Ватутин. — Как это прикроете?
— А гак, в прямом смысле слова: прикрою частью сил своего резерва.
— Ну да? Думаете, я трушу? — усмехнулся Ватутин, даже головой крутнул, а потом вдруг согласился. — Шут с вами, прикрывайте…
Ротмистров, не откладывая своего предложения в долгий ящик, тут же по рации связался с Труфановым и отдал ему соответствующее приказание. Где-то через пару часов передовой отряд частью сил замял оборону по большому ручью впереди командного пункта Ватутина и установил связь с 6-й гвардейской армией генерала Чистякова.
— Спасибо, Павел Алексеевич, — поблагодарил Ротмистрова командующий фронтом. — Теперь же слушайте приказ: вашей армии надлежит двенадцатого июля, с утра, совместно с 1-й танковой, 5-й гвардейской общевойсковой армиями перейти в решительное наступление. Вам необходимо уничижить противника юго-западнее Прохоровки, а к исходу дня выйти на рубеж Красная Дубрава-Яковлево. Вам ясна задача?
— Так точно, товарищ командующий фронтом!
Ротмистров испросил разрешения уйти и уже направлялся к двери, когда его окликнул Василевский:
— Павел Алексеевич, я намерен завтра вас посетить.
— Что ж, товарищ Маршал Советского Союза, мы всегда рады принять вас…
… На свой командный пункт Ротмистров с боевым приказом вернулся во второй половине дня. Он тут же, собрав, не оттягивая времени, командиров корпусов, провёл с ними рекогносцировку района предстоящих боевых действий и тут же поставил корпусам необходимые боевые задачи. Задачи очень серьёзные и крайне трудные. Несколько западнее и юго-западнее Прохоровки, где-то на фронте протяжённостью до пятнадцати километров, был избран район развёртывания равных сил армии. После некоторых дебатов было принято решение развернуть в первом эшелоне сразу все четыре танковых корпуса — 2-й, 18-й, 29-й и 2-й гвардейский Тацинский. Решение это было, конечно же, принято в основном с учётом того обстоятельства, что в сражение войску Ротмистрова предстояло вступить с очень сильной танковой группировкой противника. У Павла Алексеевича имелись достоверные сведения о том, что на несчастную Прохоровку, ещё не подозревавшую о своей участи, нацелились около семисот танков и САУ, и в том числе— сто «тигров» и «фердинандов».
Второй эшелон по согласованию командования составлял 5-й гвардейский Зимовниковский механизированный корпус. Части же передового отряда и 689-й истребительно-противотанковый артиллерийский полк решено было оставить в резерве. На генерала Труфанова была возложен а обязанность командовать этим самым резервом…
Спать генерал Ротмистров лёг довольно-таки поздно. И как только он прикоснулся к подушке, так сразу же и уснул. Как убитый.
КВАС ДЛЯ КЛЫКА
— Ну и июль нынче на дворе! — занудливо ворчал себе под нос дядька Мирон. — Сколько годков-то на свете белом живу, а всё никак не привыкну к этому зною. Спасибо хоть в Полежаеве живу, а не в Африке…
Он сидел в тени на завалинке и аккуратно крутил «козью ножку», то и дело проводя кончиком мокрого языка по огрызку пожелтевшей от давнего времени газеты.
— Н-да, — продолжал он, прикуривая и пуская дым под соломенную стреху хаты, — нонче была в мирное время — уже готовились бы хлеба убирать, ещё с недельку бы и в поле… Но теперь не до хлебов мужикам нашим, теперь ведут он и, Бог ты мой, совсем иную жатву.
Из приземистых сеней вышла-выплыла тётка Феклуша.
— Ты с кем это балакаешь? — удивлённо спросила она, — осматриваясь вокруг. — Вроде бы никого и нетути…
Дядька Мирон как-то тоскливо, с укором, что ли, взглянул на жену и ничего не ответил ей. Но она, по обыкновению, не унималась:
— Тю-у, да ты никак, отец, сам с собой разболтался! Чевой-то ты так, а?… Э-эх ты!..
— Помолчала бы ты, баба: языком как помелом мелешь. Не до тебя мне… Слышала, что Васечка намедни говорил, — что, мол, предвидится большое сражение!..
— Да уж не глухая, поди, я тетеря… — тётка Феклуша опустилась на завалинку, села рядом с мужем и тоже задумалась-пригорюнилась. — Всюду бои идуть на земле, а теперича вот и к нам, к хутору нашенскому, беда чёрною кошкою подобралася…
Они сидели и молчали. Молчали каждый о своём, молчали тяжело и отрешённо друг от друга. Дядька Мирон курил, часто затягиваясь и пуская дым через ноздри. Тётка Феклуша с болью и нежностью думала о сыне, о Фёдоре. Где он там, родимый и жалкий, как ему живётся-можется на фронтовых горячих дорогах? Может, где с рамой тяжёлой в госпитале лежит, а может, уже давно в сырой землице его белые косточки покоются… Хотя — нет: чуткое сердце матери не верило в то, что её сын мёртв; Господь Бог не допустит такой несправедливости, не отнимет у неё его, единственного…
Любящее сердце матери затаённо и остро чувствовало, что сын её — Феденька — жив, но совсем сердце матери не чувствовало, что её ненаглядный Федька, Фёдор Миронович, именно сейчас, в эти минуты, находится совсем рядом, совсем недалеко от своего родного хутора, — в Прохоровке. Не чувствовало схваченное болью сердце матери и того, что именно в эти минуты её сын — Фёдор Полежаев — с тревогой и любовью думал о них, о родителях, что он нестерпимо, чуть ли не до безумия, жаждет встречи с ними. Очень нестерпимо…
Вышла неслышно на улицу стройная, раскрасневшаяся Настя. Молча подсела к задумавшимся родственникам, тоже задумалась, но уже о своём кровном.
— Ты чего это, Настасия? — пристально вглядываясь в лицо девушки, с любовью в голосе спросил Мирон Иванович. — Ты чего загрустила, племяшечка?
— Ах, дядя Мирон, ну как же мне не грустить, не печалиться? Вон когда ещё из дому ушла, зимою снежною ещё! Соскучилась по мамке — страсть! Как там она, в Береговом-то?
— Потерпи, Настасия, потерпи. Не век же этой проклятой' войне злорадствовать, — и на старуху найдётся поруха, — когда-то конец её наступит. Победный…
— Да, да, — согласно кивала головой тётка Феклуша, — окончится война, окончится. Погонют наши супостата… Помяни моё слово! Но вот только — когда!.. Поскорее бы, Господи…
И вдруг она, словно сглотнув слово, внезапно замолчала, напряжённо вглядываясь вдаль из-под руки.
— Мирон, глянь-ка, никак сам Васечка опять к нам топает?… Точно, он… А ну-ка, Настюха, шуруй-ка скорёхонько в хату: бережёного Бог бережёт… Да и мы с Мироном за тобой следом попрёмся.
… Разомлевший на жаре Васечка, заявившись в хату Полежаевых, неловко затоптался у порога.
— Здорово живёте! — смущённо проговорил он. — Можно к вам?
Тётка Феклуша недружелюбно взглянула на него:
— Чевой-то ты спрашиваешь? Ты же — власть… Явился, прости Господи, не запылился…
— Да чего ты, тётка, всё время на меня окрысиваешься? Я чего тебе плохого сделал? Дорогу перешёл, или как?
— «Чего?». Знаю я твоё «чего?» Зря, ирод, к Настюхо тропинку топчешь.
— Ничего я не топчу; так, просто зашёл…
— Ну-ну, — оставив недружелюбный тон, вздохнула понимающе тётка Феклуша. — Заливай… касатик…
Мирон Иванович, отведя задумчивый взгляд от совсем молодого полицая, как бы обречённо мотнул головой:
— Присаживайся, Васечка. Рассказывай, чего нового в твоей службе и… вообще. Ты ж там — в верхах — вращаешься, всё должен знать.
— Нового пока ничего нет, дядька Мирон, но, наверное, скоро будет. Митька Клык чего-то встревоженный стал; фрицы всполошены, и, мне чувствуется, что вот-вот чего-то произойдёт. Войск окрест нас нагнали — просто ужасть. И особенно — танков. Я столько танков и в кино не видел!..
— Чевой-то ж это ты, представитель нового порядка, тайну военную разбазариваешь, как будто семечками нас угощаешь? — ехидно спросила тётка Феклуша. — За это знаешь, что бывает? Фрицы твои родные тебе заживо пупок на шею намотают!
Васечка покраснел и сконфузился, замолчал, нелепо поднеся ладонь ко рту, словно закрывая его. Полежаев хотел было успокоить Васечку да пожурить неугомонную супругу — чего, мол, раскаркалась, старая рухлядь, но тут в сенях что-то загремело, будто бы ведро пустое с лавки упало, и дверь в хату резко распахнулась. Головы всех моментально повернулись в сторону двери: в её проёме, хищно щуря единственный глаз, стоял сам всемогущий Митька Клык. Войдя с улицы, он не сразу смог привыкнуть к сумеркам в хате и потому сначала не смог различить, кто же здесь находится. А потом, когда глаз его привык к сумраку-полумраку, он удовлетворённо растянул топкие губы в ухмылке и ядовито выплюнул:
— Ну и компашка собралась здесь!.. И, как в сказке Пушкина, старик со старухой и мой боевой помощничек собственной персоной!. А это кто такая, а? Эт-то штой-то за краля незнакомая?… Ну-ка, ну-ка… Откель она появилась на вверенной мне территории?
И Клык, твёрдо и уверенно шагнув от двери, остановился прямо перед съёжившейся Настен.
— Ты, деваха, чья будешь — он грубыми пальцами взял её за подбородок, резко поднял лицо её вверх. — Признавайся! И быстро, пока я не осерчал… Если я осерчаю…
Перепуганная насмерть Настя, задрожав, мгновенно побелела. Совсем как стена, выбеленная мелом. И ни слова не могла вымолвить.
Поднялся, кряхтя, с лавки дядька Мирон, прокашлявшись, к Клыку руку вытянул:
— Послушай, господин полицейский!..
— Молчать! — рявкнул, не отводя взора от Насти, Митька. — Я тебе, козёл старый, не господин полицейский, а господин — старший! — полицейский! Старший! Ты понял меня?…
— Господин старший полицейский! — смущённо, с зарождающимся испугом поправился дядька Мирон. — Я вас очень прошу: не трожьте вы девушку эту, она — племяшка моя…
— Кто? — не помял Клык. — Кто такая?
Тут тётка Феклуша вмешалась, негодующе полыхнув глазами в сторону Митьки.
— А чево туточки непонятного? — вызывающе подпёрла она бока руками. — Очень дюже и понятно! Это — Настюха, племянница нашенская. Чево ж про неё ещё можно балакать, а?
— Откуда вдруг заявилась она, племянница эта ваша, в хутор Полежаев?
— Настюха? Дак неужель не знаешь? Да из Берегового…
Клык отпустил подбородок Насти, недоверчиво хмыкнул:
— Что-то я подозреваю, будто бы вы лапшу мне на уши навесить собираетесь… А документ какой-нибудь у племянницы вашей, у береговской, имеется?
Настя молчала, не отводя испуганных повлажневших глаз от чёрной повязки на злобном лице Клыка.
— Господин старший полицейский, — тяжело вздохнул дядька Мирон, — да откуда же у неё документ заимеется, она ж ещё — ребёнок…
— Это меня не волнует! — снова вызверился Митька. — Не ще-ко-чёт!.. Пусть хоть комсомольский билет показывает мне!.. А нет документа — со мной эта крошка пойдёт, для выяснения личности. Вдруг она партизанка?
Дядька Мирон и тётка Феклуша в этот самый миг, после сказанных полицаем угрожающих слов, не на шутку испугались. И тут вмешался Васечка.
— Господин старший полицейский! — робко кашлянул он, прижав кулак ко рту.
— Ну, чего тебе, сынок безусый!
— Господин старший полицейский, я эту девушку… Настю эту… кроче, давно уже знаю. Она, правда, живёт в селе Береговом. Так что, я… за неё… могу поручиться…
Клык внимательно всмотрелся в покрасневшее в один миг лицо Васечки, криво усмехнулся:
— Всё понятно. Ладно, у меня тоже есть сердце: гуляй, пичужка, и поставь свечку за своё избавление моему боевому помощничку Васечке.
Дядька Мирон и тётка Феклуша облегчённо вздохнули и хотели было снова опуститься на лавку, но Митька Клык тотчас сурово повернулся к ним.
— Чего лыбитесь? — спросил он и тут же голосом, не терпящим возражений, сказал: — Давайте чего-нибудь попить!
Дядька Мирон огорчённо развёл руками, конфузливо скривил рот.
— Почитай, с июля сорок первого в этой хате спиртным и не пахнет.
— Дурень! Пень старый! — рявкнул полицай. — Я не о самогоне речь веду: жарища на улице такая, трахнешь стакан — и Богу душу отдашь, а мне этого пока не очень хочется; ты мне чего-нибудь холодненького плесни, горло и душу остудить. Охолонуть мне надобно…
— А-а, понял. Ну-ка, Феклуша, не посчитай за труд, — налей-ка господину старшему полицейскому кваску. Квасок у нас — от-мен-ный!
Митька недоверчиво хмыкнул и иронически шевельнул губами.
— Это мы сейчас посмотрим. Проверим, так сказать, — сказал он. — Я чего, не знаю, что каждый кулик своё болото хвалит, а?
Тётка Феклуша расторопно метнулась в сени, откуда принесла выщербленный на горлышке кувшин с квасом.
— На, — небрежно сунула она его в руки Клыка, — опохмеляйся! Да не тресни-то от жадности…
Митька Клык хотел было взъяриться, но передумал: жарища, духотища — и ругаться даже лень. Он лишь вздохнул глубоко:
— Въедливая ты баба, ну прямо спасу от тебя нет. И как только с тобой мужик твой живёт? Был бы я на его месте, то давно бы уже по тебе пирожки поминальные жевали.
— Как же! Как же! — вскинулась тётка Феклуша, прищуривая глаза. — Пирожки бы он по мне жрал!.. Слава те, Господи, но бодливой корове Бог рог не даёт…
Полицейский досадливо крякнул, но ничего не ответил сварливой бабе, лишь, поморщившись, припал к кувшину. Кадык его на горле заходил, забегал, как челнок в швейной машинке «Зингер», над воротником рубашки.
Когда Митька, наконец, с трудом оторвался от кувшина, то все увидели, какой неописуемый восторг и истинное наслаждение выражались на его одноглазом уродливом лице.
— Послушай, тётка Феклуша! — восхищённо воскликнул он. — Неужели ты сама приготовила такой божественный напиток?!
Тётка Феклуша обиженно поджала губы:
— Ты чевой-то, белены объелся?… А кто же мине ещё помогать-то будет — ты или помощничек твой, задрипанный Васечка?
— Божественный напиток! — не обращая внимания на издёвку в голосе хозяйки, продолжал нахваливать квас Клык. — Сроду, такого не пивал! Ты прости меня, тётка Феклуша, но очень прошу тебя: поделись секретом, расскажи, как квас свой готовишь!
— Да ты чевой-то?… Из-за границы, что ль, ползком припёрся? Дак везде ж на Руси хлебный квас одинаково делают.
— Одинаково, да не так уж и одинаково, — Митька хитро взглянул на тётку Феклушу. — Такого квасу, как у тебя, тётка, я нигде не пивал.
Дядька Мирон вытер вспотевший лоб:
— Да расскажи ты ему!.. Феклуша, прошу тебя…
Хотя и недовольна была хозяйка хуторской хаты представителем немецкой власти, но всё же похвала Клыка в глубине души была ей приятна и даже желанна. И это поневоле подтолкнуло её на рассказ.
— А чевой-то там не знать, как квас-то делать? — вопрошающе хмыкнула она. — Дак туточки и дураку последнему понятно… Сначала сварганиваешь гущу. Для этого берёшь тёплую воду, дрожжи, мучицы да сахарку. Всё это превращаешь в тесто. Тесто заиграить — и всё. Гуща готова.
— Это я, тётка Феклуша, примерно, и без тебя знаю, — поморщился Клык. — А дальше? Дальше-то как?
— Не перебивай, а то психану и не буду рассказывать вовсе… Слухай дальше, как запускают всю эту басню. Тесто из кваса берёшь, гущу-то есть, мучицы граммочку добавляешь, сахарку. Водичку подогреваешь. Когда всё это заиграет, значит, — всё нормально. Что же дальше? Ага: теперь вар закипел, ты набираешь миску муки, просеиваешь и сыплешь её в кастрюлю. Добавляешь тёплой водицы, размешиваешь. Потом набираешь кружку вару, мешаешь смесь ещё, пока не станет жидкой. Апосля накрываешь для упарки. Понял, чи нет? И пущай стоит. А попозжа добавляешь в неё запуску — пусть укисает. Станет кислая — воды долить по вкусу. И — подсолись.
— Всё мне теперь понятно, тётка, — ухмыльнулся Клык, — всё ясненько и понятненько. Понятно, что квас твой отменный, а вот как ты его делаешь — не очень-то доходчиво пояснила. Ну да ладно, на досуге запишу твой рецепт. Благодарю за квасок! Ну что, Васечка, топаем, что ли, отсюда?
Васечка как-то неловко замялся, и Митька Клык, пристально взглянув на него, прикрикнул раздражённо:
— Ну ты, сынок безусый! Чего с ноги на ногу переминаешься, как жеребец необъезженный, а? В лобешник захотел получить? Так я это — не боись! — быстро организую…
— Я… ничего… — промямлил Васечка, невольно покраснев, совсем как девочка-первоклассница.
А Митька с Васечки вдруг перевёл пристальный взгляд на не проронившую до сих пор ни слова Настю. Та, поймав его взгляд, вздрогнула и опустила ресницы.
— Понятно… — нехорошо усмехнулся он и ещё раз протянул: — По-нят-но.
Когда полицейские — сначала Клык, а потом Васечка — вышли из хаты Полежаевых и потопали по тропинке восвояси, тётка Феклуша, словно перепуганная насмерть перепёлка, заметалась по горнице, то и дело хватая себя руками за щёки.
— Ты чего это узносилась, как бы курица перед кладкой? — не вытерпел дядька Мирон.
— Ох, Миронушка, чует моё серденько, ну что не зря приходил этот проклятущий одноглазый полицай!.. Ох, надобно ж нам Настюху немедля прятать от лиходея одноглазого!
— Окстись, старая! Охолонь… Ничего этот выродок Настасии не сделает. Мы-то на что, не заступимся, что ли?
Молчавшая до сих пор Настя подняла голову, неслышно вздохнула:
— Может быть, мне в Береговое стоит вернуться?
Тётка Феклуша промолчала, думая о чём-то тяжёлом и непонятном, а дядька Мирон сказал:
— Погоди, милая Настасия, дай покумекать немного. Что-нибудь да придумаем, решим…
А между тем Митька Клык, идя впереди, спрашивал у Васечки:
— Я вижу, сынок безусый, ты вроде бы чертовски влюбился в ту деваху береговскую, а?… А ничего девка — сочная, самый смак. Я таких, как она, дю-ю-же обожаю.
Васечка тяжело вздохнул.
— Она, и правда, нравится мне, — сказал он. — Ах, если бы не война!..
— «Очень нравится», — передразнил Клык. — Мне она, может быть, тоже понравилась.
Васечка резко остановился, глухим, словно бы и не ему принадлежащим голосом, проговорил:
— Не надо шутить так, господин старший полицейский. Я не позволю…
— Чего, чего? — тоже остановился Клык. — Не позволишь? Мне не позволишь?
— Я убью вас, если вы к Насте… притронетесь…
Клык пристально пробуравил лицо Васечки единственным глазом и вдруг… захохотал.
— Молодец! Ей-Богу, молодец!.. Смелость у тебя уже появляется! Хвалю! И не слушай меня, я — пошутил. Пойдём, сынок безусый, по имени Васечка. Пойдём… и ни о чём не думай. У нас с тобой теперь одна дорога.
ПРОЩАНИЕ С АЛИНОЙ
Василий, как ни спешил, всё равно опаздывал. То и дело он нервно поглядывал на часы — в его распоряжении оставалось всего каких-то несчастных полчаса — и упорно продолжал пробираться сквозь ряды боевой техники, сквозь многочисленные толпы солдат и офицеров, ежеминутно спрашивая у всех, не видел ли кто случайно, где остановился медсанбат. Но никто ему ничего определённого не отвечал: то ли и самом деле не знали, где сейчас расположились медики, то ли не до лейтенанта было с его наивными вопросами. И отчаявшийся вконец Василий Кошляков хотел уже всерьёз плюнуть на свою затею встретиться перед надвигающимся сражением со своей пассией Алиной, как вдруг его кто-то окликнул. Он обернулся на голос. К нему шёл знакомый лысеющий майор медицинской службы.
— Ты чего это здесь болтаешься, парень? — спросил он, широко улыбаясь и благоухая одеколоном с чисто выбритого лица. — Да ещё с таким видом, будто бы кого ищешь.
— Здравия желаю! — обрадованно козырнул Кошляков. — Вы правы, товарищ майор, я действительно в труднейшем поиске. Но ищу не кого-то, как вы выразились, а именно Альбину.
— Ну да?
— Именно! Подскажите, где находится этот чёртов медсанбат?
— Не надо, Кошляков, так низко и пошло выражаться о высоких духом военных медиках. Ты ещё ни разу к нам не попадал, кроме как по амурным делам? И не дай Бог! Лучше живи здоровым и сильным…
— Товарищ майор! — взмолился Василий и нетерпеливо постучал пальцем по циферблату часов. — Товарищ майор!.. Я опаздываю!..
Майор посерьёзнел:
— Понял! — сказал он и ткнул пальцем в сторону. — Там… Прямо иди… Не сворачивай — и упрёшься…
Алина увидела Василия чуть раньше, чем он её. Увидела и стремглав бросилась к нему навстречу. Она с разгона обняла его за шею, начала осыпать озабоченное лицо Кошлякова жаркими прерывистыми поцелуями.
— Алина, что с тобой? — улучив момент, еле продохнул Василий.
— Ничего, ничего, — пробормотала Алина, продолжая, по-прежнему, осыпать его страстными прикосновениями губ.
Наконец она выдохлась и остановилась, бессильно повиснув на нём. Василий смущённо огляделся по сторонам, сказал:
— Алина, ты чего так? Люди ведь смотрят…
— А мне всё равно, Вася. Понимаешь, я люблю тебя! И чувствую, как любовь моя с каждым днём, с каждым часом становится всё сильнее: всё невыносимее мне быть без тебя… Я уже не могу жить, не видя тебя!
— Я тоже люблю тебя, Алина! Только вот сейчас я пришёл к тебе проститься: предстоит трудное сражение и кто знает…..
— А какие сражения бывают лёгкими, Васечка мой милый?
— Да, да, ты права — лёгких битв не бывает. Да ещё — и без жертв. Я, конечно, не верю, что умру именно здесь, под какой-то Богом забытой Прохоровкой, но, всё равно, я пришёл, чтобы сказать тебе, как сильно я тебя люблю. И эти слова я буду теперь говорить тебе перед каждым сражённом. До самого последнего дня войны. До победного дня,
Алина с тихой грустью и внутренне-кричащей жалостью жадно и ненасытно всматривалась в родное и близкое ей лицо Василия, слушала его бессвязные признания в любви, принимала всем сердцем эти его признания, а сама — одновременно — думала о чём-то другом, о постороннем. И когда она попыталась разобраться, понять — о чём же это постороннем она в эти скупые минуты думает, и когда поняла — о чём! — то мгновенно ужаснулась. Как-то подспудно, шестым чувством, она почему-то ясно и отчётливо представила, что это её последняя, самая последняя встреча с любимым человеком — Васенькой Котляковым. Она, ещё не зная почему, внутренне чувствовала, что кто-то из них уже не выйдет из предстоящего боя живым и здоровым, что чья-то из них двоих светлая душа вознесётся на бескрайние небеса, а другая душа, задержавшаяся для несения тяжкого земного бремени, будет невыносимо тосковать по ней.
И Алина нечаянно всхлипнула.
— Всё, Васечка, я пошла. Меня уже зовут.
— Иди…
— Береги себя…
— И ты тоже… береги себя…
— Встретимся после боя…
— Да, Алина, встретимся…
Алина в последний раз обернулась и, крепко-накрепко закрыв — лицо руками, побежала прочь.
Василий долго смотрел ей вслед, а затем, тяжело вздохнув, побрёл было к себе, в расположение своего батальона. Но тут его окликнули:
— Василий, погоди на минутку!
Он нехотя остановился. К нему, запыхавшись, подошла Фаина.
— Тебе чего? — недружелюбно спросил Котляков, не смотря на неё.
Фаина замялась и, опустив глаза, почему-то шёпотом сказала:
— Василий, будь другом, — передай мой большой привет Валентину.
— Чего? — сразу не поняв, переспросил Василий,
— Привет брату своему передай.
— От кого?
— От меня…
Василий присвистнул
— А ты, Фаина, случаем, не того? — он выразительно покрутил пальцем у виска. — Может быть, привет от тебя передать капитану Зенину, Никанору?
— Не юродствуй, Василий, я — серьёзно… Серьёзно говорю… У Василия вдруг ни с того ни с сего пропала злость на медсестру Фаину и он, сглотнув комок подпершей к горлу слюны, сказал:
— Чёрт с тобой… Я передам Вальке твои слова. А теперь прощай, мне пора…
Фаина проводила Василия Кошлякова долгим и внимательным взглядом. А он ушёл, ни разу не оглянувшись. Как уходят настоящие, не сентиментальные мужчины. И Фаина ещё подумала: «А оглянулся ли бы Валентин?»
Она, оглянувшись по сторонам, вытащила из кармана вчетверо сложенный листок, развернула его. На листе подчерком Валентина было написано:
Фаина, прочитав стихотворение молодого лейтенанта, невольно всплакнула, затем опять сложила листок вчетверо и опять же бережно сунула его в карман. Постояв с минуту, она тщательно вытерла слёзы и, решительно тряхнув головой, быстрым шагом направилась к своим, в медсанбат.
ЭТО ТАНКИ НЕ НАШИ…
Где-то вдали, наверное, аж за Белгородом, в сторону Харькова, несильно — из-за расстояния — погромыхивало. Наверное, шёл бой. А может, и не бой, а всего-навсего лишь подготовка к нему. Артиллерийская подготовка.
Ротмистров покрасневшими от недосыпания глазами долго и пристально рассматривал карту с районом предстоящих боевых действий. Да, судя по всему, сражение под Прохоровкой будет нешуточным. Техники, только с нашей стороны, нагнано видимо-невидимо. И у немцев, если судить по данным разведки, танков и самоходных установок в этом районе чёртова куча. Ох, что-то будет!.. А что?…
Зной ещё не полностью спал, хотя время уже наступало вечернее. Было душно и веяло ленью. Даже ветер и тот, отчаянный проказник, дремал где-то в одной из многочисленных ложбин Средне-Русской возвышенности. Дремали и деревья, не шевелясь ни одним из своих посеревших от пыли листков.
Маршал Василевский прибыл на КП Ротмистрова где-то около девятнадцати часов. Вытирая платочком лицо и шею, он молча и терпеливо выслушал доклад Павла Алексеевича о боевом построении армии, о том, какие необходимые задачи поставлены корпусам армии и приданной артиллерии.
— Что ж, Павел Алексеевич, — одобрительно кивнул он головой, когда Ротмистров завершил доклад, — вы правильно вс е делаете. Ваши решения, с точки зрения профессионального военного, очень даже приемлемы.
— Спасибо на добром слове, Александр Михайлович, — кончиками губ улыбнулся Ротмистров. — Но, прошу вас, здорово меня не хвалите.
— Это почему же здорово не хвалить?
— Сглазите.
— Ну-у! — рассмеялся Василевский, а затем посерьёзнел. — А вы знаете, дорогой Павел Алексеевич, у меня только что состоялся важный разговор с Верховным Главнокомандующим, с Иосифом Виссарионовичем.
— Вот как?
— Да. И он поручил мне неотлучно находиться в вашей 5-й гвардейской танковой армии, и ещё — в 5-й гвардейской общевойсковой…
— Всё ясно, товарищ маршал. Поверьте, я искренне рад такому поручению товарища Сталина. — Ротмистров на секунду замялся, быстро взглянул в глаза Василевскому. — Думаю, мы найдём общий язык…
— То есть, вы хотите сказать — своюемся? — опять улыбнулся маршал. — Да и ещё. Сообщаю вам для информации. Сталин приказал командующему фронтом оставаться на своём КП, в Обояни. Начальник же штаба генерал-лейтенант Иванов отправлен и выехал на Корочанское направление.
Несмотря на позднее время, июль исполнял свои природные функции чётко: он не давал, как допустим, декабрь, быстро уйти солнцу за горизонт; июль опускал великое светило медленно и осторожно, и солнце уже находилось почти у самого горизонта, но было ещё достаточно светло.
Отдохнувший и взбодрённый крепким чаем Василевский предложил Ротмистрову осмотреть намеченные исходные районы 29-го и 18-го танковых корпусов.
— Вы знаете, — сказал он, — карта картой, но увидеть местность воочию тоже играет великую роль. А, впрочем, зачем я вам всё это рассказываю, словно преподаватель новичку в академии?… Извините меня, Павел Алексеевич.
— Что вы, Александр Михайлович, не надо извиняться. Вспомните, как гласит народная мудрость: «Век живи — век учись!».
— И дураком помрёшь! — шутливо подхватил маршал. — Ну, ладно, поехали.
И он первым пошёл к замершему в ожидании «виллису».
Дорога на Беленихино, проходящая через Прохоровну, оказалась совсем уж не изысканной и заставила обоих представителей высшего офицерского состава крепко держаться за ручки дверей и спинки сидений юркого «виллиса», который немыслимо подпрыгивал на ухабах, то и дело обгоняя продвигающиеся к фронту автомашины с боеприпасами и горючим. И это продвижение к фронту радовало маршала и генерала — подготовка к предстоящему сражению идёт полным ходом. Но совсем не радовали маршала и генерала медленно ползущие навстречу им транспорты с ранеными.
Ротмистров подумал про себя: «Господи, да сколько же жизней ушло и ещё уйдёт, пока не утихнет, не умрёт сама война!.. Да за что же такие наказания несёт российский народ, за какие прегрешения!..».
«Виллис» продвигался вперёд и вперёд, минуя стоящие на обочине дороги повреждённые грузовики, разбитые повозки и прочий хлам, по которому трудно уже было определить, чем этот хлам был изначально. Ах, война!..
За грузовиками и повозками, исковерканными в пух и прах войной, желтели и напоминали о мирных днях обширные поля высокой и густой, пшеницы. Над полями этими, в бездонной синеве неба, пели свои песни невидимые жаворонки, ничего не хотевшие знать о проклятой войне, не хотевшие совсем её знать и принимать. Где-то там, в спеющей! пшенице, были гнёзда жаворонков, и они с высоты любовались ими, они всей душой хотели продолжения рода.
… Люди не хотели продолжать свой род. Люди хотели уничтожать друг друга…
Может быть, они — и русские, и немцы — и вовсе не хотели воевать, истреблять друг друга, но они уже не могли остановить машину Смерти, и она подминала их под себя, раздавливала безжалостно и сосредоточенно…
За полями пожелтевшей пшеницы начинался лес, вплотную примыкавший к селу Сторожевому. Вернее, даже не к селу, а к хутору. Лес был красив, и на северной его опушке находились исходные позиции 29-го танкового корпуса. А чуть правее, согласно разработанному плану предстоящего сражения, будет наступать 18-й танковый корпус.
Обо всём этом и о многом другом Ротмистров рассказывал Василевскому. Александр Михайлович внимательно слушал, изредка кивал головой в знак одобрения высказываемого командующим танковой армией; одновременно маршал пристально всматривался вдаль, пытаясь что-то разглядеть, но это «что-то» никак не поддавалось его зрению, и ещё маршал прислушивался — опять же не в ущерб рассказу Ротмистрова — к далёкому, но всё нарастающему гулу где-то идущего боя. Там — где-то! — высоко в небо поднимался чёрный зловещий дым — кудрявый и клубящийся, там — где-то! — громко и страшно разрывались мощные авиабомбы и значительно меньшие по размерам, но также разбрасывающие смерть, их собратья-снаряды.
— Бой идёт серьёзный, — заметил Василевский. — Павел Алексеевич, а то что за постройки завиднелись?
И он указал рукой на хоздворы, находящиеся от «виллиса» где-то за пару километров.
— Это совхоз «Комсомолец».
— Ясно. А ну-ка, товарищ водитель, притормози! — приказал вдруг маршал.
Шофёр недоуменно взглянул на маршала, но, встретив его твёрдый взгляд, поспешно свернул на обочину, резко тормознул у покрытых седой дорожной пылью кустов.
— Вы чего, товарищ маршал? — спросил Ротмистров.
— Ничего, — ответил Василевский. — Давайте выйдем.
И первым покинул машину. Ротмистров поспешил за ним.
— Вы слышите, Павел Алексеевич? — подняв палец вверх и призывая к тишине, сказал маршал.
Ротмистров прислушался и сразу же понял: навстречу им идут танки. Да вот они и показались.
Василевский резко повернулся к нему, криво усмехнулся и с досадой в голосе почти что выкрикнул:
— В чём дело, генерал?! В чём дело, чёрт возьми?… По— моему, вас предупреждали, товарищ Ротмистров, о том, чтобы о прибытии ваших танков в этот район противник совсем не знал! Не должен знать!
— Так точно, товарищ маршал! Но…
— Что «но»? Вы что это делаете? Да у вас танки средь бела дня на глазах у немцев по полю гуляют как… как коровы деревенские по пастбищу!..
Ротмистров быстро вскинул бинокль и чуть не выругался вслух — пошло и гадко: дьявольщина, по пшеничному полю, грубо подминая его под себя, действительно, шли десятки танков. И не просто шли, а стреляли на ходу из своих короткоствольных пушек.
— Ну?! — повернул разгневанное лицо маршал.
— Эти танки, Александр Михайлович, — ответил Ротмистров, — немецкие. Не наши эти танки…
Гнев мгновенно исчез с лица Василевского. Он задумчиво прищурил глаза.
— Вот это новость!.. Видимо, немцы всё же где-то прорвались и, наверняка, хотят упредить нас и захватить Прохоровку. Как вы думаете, генерал?
— Я полностью разделяю ваше мнение, товарищ маршал: допустить захвата Прохоровки нам никак нельзя.
— Тогда, Павел Алексеевич, действуйте!
Ротмистров тотчас по радио связался с генералок Кириченко и приказал ему немедленно выдвинуть навстречу танкам противника две танковые бригады и, кровь из носу, остановить их продвижение вперёд, на Прохоровку.
Вернувшиеся на командный пункт маршал Василевский и генерал Ротмистров были неприятно удивлены. Оказалось, что вроде бы до этого дремавшие фашисты вдруг очнулись и предприняли активные действия буквально против всех наших армий. И это сразу же осложнило обстановку, уже хорошо сложившуюся. Прорыв противника необходимо было немедленно ликвидировать. НаДобно было подготовку к наступлению, то есть выбор огневых позиций артиллерии, рубежей развёртывания и атаки проводить совершенно заново. И всё из-за того, что гитлеровцы захватили ранее намеченный для контрудара исходный район. Уточнить задачи, организовать взаимодействие между корпусами и частями, пересмотреть график артиллерийской подготовки, сделать всё для чёткого управления войсками в бою требовалось в очень и очень сжатые сроки.
— По плечу ли вам всё это, Павел Алексеевич? — с тревогой в голосе спрашивал Василевский.
— Я верю в своих людей, — тихо ответил Ротмистров. — Задача действительно архисложная по срокам, но… надо…
Надо… Вроде бы обыкновенное слово… И, в то же время, — сильное… И это ощутили и сам Ротмистров, и все органы штаба армии, и командиры и штабы корпусов, и бригады и части. Ощутили, выполняя, можно сказать, непосильную и крайне сложную задачу. И — выполнили! Естественно, самые необходимые и сверхоперативные коррективы тотчас были внесены в боевой приказ. Предписывалось: на правом фланге наступать 18-му танковому корпусу генерал-майора танковых войск Бахарова; корпус этот усиливался, кроме ранее приданной артиллерии, ещё и полком 57-миллиметровых противотанковых пушек 10-й истребительно-противотанковой артиллерийской бригады. И это не всё: на этот же самый корпус Бахарова возлагалась задача — наступая вдоль реки Псел, атаковать противника, занимающего позиции на рубеже Андреевка-роща северо-западнее совхоза «Комсомолец».
Такую сложную задачу должен был выполнить правый фланг армии Ротмистрова. А что же левый? С левого фланга, с рубежа Ясная Поляна-Беленихино, наступать должен был 2-й гвардейский Тацинский танковый корпус. Нм командовал гвардии полковник Бурдейный.
Центр. То есть самое пекло. Здесь, в центре, нанести удар противнику должен был 29-й танковый корпус генерал-майора танковых войск Кириченко. Данному корпусу вместе с приданным ему 1529-м самоходно-артиллерийским полком приказано было разгромить вражескую танковую группировку, которая действовала западнее железной дороги на Прохоровку.
Какие ещё изменения были внесены в боевой приказ? А такие: во 2-м танковом корпусе, которым командовал генерал-майор танковых войск Попов, осталось очень мало танков, и ему поэтому была поставлена задача — вместе с 10-й истребительно-противотанковой бригадой поддерживать своим огнём главные силы армии, а также прикрывать фланги 29-го и 2-го гвардейского Тацинского танковых корпусов.
Далее: 5-му гвардейскому Зимовниковскому корпусу генерал-майора танковых войск Скворцова, который должен был наступать во втором эшелоне, предсказывалось быть в готовности для развития успеха 29-го танкового корпуса. Резерву же командующего армией, возглавляемому Труфановым, ставилась задача сосредоточиться в районе Правороти и прочно обеспечить левый фланг армии.
Вот какое положение боевых подразделений было накануне 12 июля 1943 года. Задача по корректировке боевого приказа была выполнена в считанные часы. И Ротмистров, наконец-то, смог хоть ненадолго расслабиться. А впереди ждала ночь. Ночь, в которую вряд ли бы кто уснул. Ночь перед боем.
НЕ ЛЮДИ, А ЗВЕРИ
Васечка, обнажённый по пояс, сидел на завалинке, прячась в тени своей хатенки от слепящих и горячих лучей солнца. Он осоловевшими глазами смотрел на воробьёв, которые от июльской жары пораскрывали клювы и, против обыкновения, не чирикали весело и задиристо и не скакали на тонких ножках в поисках пищи. Одновременно с ленивым наблюдением за воробьями Васечка вслушивался в не такую уж далёкую канонаду: по его прикидке выходило, что громыхало где-то уже за Юдинкой, за Костромой и за хутором Весёлым. Да, смертоносный огонь предстоящего сражения медленно, но уверенно приближался к хутору Полежаеву. И выживет ли после этого батального пекла и сам хутор, и хуторяне — Васечка и представить себе не мог. Совсем не мог!
Мысли его стремительно переключились на хату дядьки Мирона Полежаева. Как там его симпатия, Настенька? Перепугалась, поди, полицая Клыка!.. Ну да ничего, Клык не посмеет её тронуть, а если даже и попытается это сделать, он — Васечка — в обиду Настеньку ни в коем случае не даст. Ни Клыку, ни кому-либо другому.
Вдалеке, на бугре, в клубах пыли показалась машина. Васечка сразу узнал «оппель» эсэсовцев Дитриха и Хорста. Узнал и тут же ошалело вскочил, торопливо натягивая на себя рубашку. Не одевшись как следует, громко застучал в окно:
— Господин старший полицейский! Господин старший полицейский!
В окне показалась сонная физиономия Митьки.
— Чего орёшь, сынок безусый? — поправляя повязку на глазу и зевая, недовольно спросил он.
— К нам господа офицеры едут! Я их машину па бугре видел…
С Митьки Клыка сонливость слетела в один миг, и через полминуты, при полном параде, он уже был на улице. Досадливо и зло бросил Васечке:
— Да заправься же ты по-нормальному, балбес безмозглый. Немцы порядок любят!.. Во всём…
«Оппель» мягко подкатил к хате. Клык услужливо распахнул дверцы автомобиля.
— Хайль Гитлер! — выкрикнул он и слегка наклонился вышедшим из машины унтерштурмфюреру Курту Дитриху и оберштурмбанфюреру Вернеру Хорсту.
Те небрежно кивнули ему в ответ, и Дитрих сказал:
— Митья, ми приехаль погулять. Ошень паршивый настроений. Веди в дом, шнапс давай!
— Слушаюсь, господа офицеры! Милости прошу к нашему шалашу! — угодливо склонился Клык, а сам Васечке отрывисто бросил: — Ну-ка, быстренько сваргань чего-нибудь.
Через некоторое время двое немцев и двое полицаев сидели в хате за столом и напропалую пили крепучий самогон. Немцы пили самогон маленькими дозами, но пьянели быстрее, чем русские. Васечка, которого тоже заставили выпивать, вскоре отчаянно захмелел и то и дело вскакивал, пьяно выкрикивая: «Хайль Гитлер!». Клык явно не одобрял поведения своего помощника и яростно сверлил его единственным глазом, украдкой сильно толкал под столом ногой и всё время усаживал не в меру распетушившегося юнца. Но тому в это время всё было до лампочки.
Ни слова не говоривший по-русски оберштурмбанфюрер презрительно улыбался и покровительственно похлопывал Васечку по спине, а затем он наклонился к Дитриху и что— то начал ему говорить. Тот согласно кивал головой, потом обратился к полицаям.
— Господин Хорст имейт желаний слюшать песня! — сказал он. — Все должни… как это?… петь!
— Петь так петь, — согласился Клык, — нам к этому не привыкать. Ну, помощничек мой славный, чего мы господам офицерам споём?
Васечка икнул, поднял руку, как дирижёр, и промямлил:
— А чего хотите! Я все песни знаю… «Взвейтесь кострами…»? Запросто…
— «Катьюша»! — подсказал Дитрих. — «Катьюша» пойте! — и скомандовал: — Айн! Цвай! Драй!..
Клык и Васечка, взбодрённые зверски крепким самогоном, орали, как оглашённые. Старались! Но — напрасно: немцам их пение не нравилось, и они брезгливо морщились.
— Найн! Найн! — поднял руку унтерштурмфюрер. — Где музикальность? У вас — как это по-рюсски? — медведь наступиль на ухо…
Дитрих склонился к Хорсту и начал ему что-то доказывать: тот слушал, улыбался слегка и несогласно покачивал головой. И тогда Дитрих взглянул на полицаев.
— В хуторе есть красивый женьщин? — спросил он.
Клык подумал немного и сказал:
— Найдём, господин унтерштурмфюрер, поищем. Есть тут одна бабёнка знойная, Верцей зовут, Хомяковой. Кла-а-асс!..
Васечка вытаращил было глаза на Клыка, но тот негромко процедил сквозь зубы:
— Цыц, падло! Убью!
— Карашо! Карашо! — расплылся в улыбке немец. — Митья, веди меня к женьщин. Бистро, бистро!
— Айн момент, господин офицер! — ответил Клык. — Скажите, а господин оберштурмбанфюрер тоже идёт с нами?
— Найн! — засмеялся Дитрих. — Господин Хорст сказаль, что он имейт такой возраст, когда сделаль женьщин предложений и очень боится услышать от неё положительный ответ. Господин Хорст желайт отдих.
Верца Хомякова была во дворе, когда пьяная процессия остановилась у её избы. Дитрих, увидев её, сразу же восхищённо зацокал языком:
— Хороший русский баба! Гут! Гут!
Верца испугалась не всей этой пьяной процессии, она испугалась Клыка. Скрытым в глубине души шестым чувством она поняла, что одноглазый полицай зашёл к ней неспроста. Она сразу же вспомнила тот день, когда этот человеческий отброс нахально и безбоязненно насиловал её, как она потом с трудом и отвращением долго отмывалась ото всего того, что этот одноглазый циклоп оставил на её теле, на её одежде. И тело и одежду она отмыла, но как вот душу отмыть? Чем? И отмоется ли она когда-нибудь вообще?
— Чего уставилась? — сально ухмыльнулся Митька, пьяно икнув, и от его голоса Верца вздрогнула. — Принимай гостей, приглашай в хату!
Верца стояла, как вкопанная, невидяще смотря мимо «гостей»; она в эти минуты словно закаменела и даже не очнулась тогда, когда Клык, что-то говоря, взял её за руку, а потом, плюнув ей под ноги, сам направился в дверь хаты. Верца очнулась от этой необычной закаменелости лишь тогда, когда её грубо обхватил за талию и небрежно, словно вещь, поволок к сараю эсэсовец. Она очнулась, дико закричала и начала руками из всех сил бить и царапать холёную физиономию фашиста.
Немец что-то злобно забормотал по-своему, не совсем удачно уворачиваясь от рук Хомяковой, но тут же споткнулся о какое-то бревно и, вместе с Верцей, упал на землю. Митька Клык яростно, словно коршун, бросился на помощь Дитриху. И тогда Верца крикнула:
— Стойте! Стойте! Бросьте меня, не держите! Я сама…
Ей поверили: Верца встала и, обречённо бросив «Идите за мной!», медленно пошла к сараю. Клык, облизнувшись, тронулся было за ней, но немец легонько отстранил его.
— Митья, не спеши! — сказал он. — Ви с помощником соблюдайт ошередь!
Васечка стоял у плетня, бессильно опершись на винтовку, и пьяно крутил головой, не соглашаясь с Дитрихом. Он сейчас совсем ничего не хотел. Хотел только одного — спать.
Унтерштумфюрер до дверей сарая не дошёл. Он вдруг словно бы наткнулся на невидимую стену и замер с широко раскрытыми глазами: из сарая с вилами наперевес чёрной пантерой выскочила ошалевшая ото всего свалившегося на неё Верца Хомякова.
— Заколю-ю-у-у! — закричала в безумии она, и четыре металлических рожка, четыре острых стрежня ринулись на сближение с грудью безвольно застывшего на месте Дитриха.
Клык еле успел вскинуть автомат, и очередь откинула Верцу Хомякову от немца, ударила её о стену сарая, сразу же обильно оросив её кровью, а затем бросила на землю.
Дитрих глядел не на купающуюся в крови Верцу, а на вилы, хорошо воткнувшиеся в землю у самых его ног.
— О, майн гот! — только и прошептал он, машинально стирая со лба мгновенно выступивший пот.
Васечка, из крови которого быстро уходил хмель, трясся, как паралитик, у плетня. Клык смерил его презрительным взглядом, подошёл к немцу.
— Господин офицер, — участливо спросил он, — не задело вилами-то?
Дитрих мотнул головой н облегчённо вздохнул:
— Сюмашедьший баба!
— Ну и слава Богу! — сказал Митька. — Обошлось… Ну. что, господин офицер, теперь домой идём?
Унтерштурмфюрер взглянул на Клыка, как-то странно усмехнулся:
— Не поняль? Ти хочешь сказать, что праздник окончиль?… Найн! Веди к другой женьщин! Я не меняйт свой решений…
— К другой? — переспросил Клык и задумался, а потом, посмотрев на трясущегося Васечку, облегчённо хмыкнул: — К другой, так к другой. Идёмте!
Дядька Мирон поздно заметил немца и полицаев; когда он их увидел, они уже по-хозяйски шли по двору к дверям.
— Господи, пронеси! — выдавил дядька Мирон, быстро крестясь.
Тётка Феклуша не успела спросить, кого он там увидел, что так перепугался, как дверь под ударом сапога широко распахнулась. Первым вошёл Клык с автоматом в руках, за ним ввалился Дитрих, Васечка неловко топтался в дверях.
— Вам чего? — тихо, не своим голосом спросила тётка Феклуша.
— У нас сегодня праздник, — недобро ухмыльнулся Клык и издевательски пояснил: — Бояре гуляют!
— Чего? — переспросил дядька Мирон. — Гуляете? Да у нас, извините, нечем вас угостить. Самогона…
— Не нужен нам твой самогон…
— А что же вам нужно? — совсем растерялся дядька Мирон. — Опять квасу!?
— Не что, а кто! — глаз Клыка хищно сверкнул, и он пальцем указал на забившуюся в угол Настеньку. — Она нам нужна! А квасу потом подашь, на восстановление наших сил!
Дядька Мирон подскочил к Митьке, расставил руки, загораживая собой племянницу:
— Господин старшин полицейский!.. Не надо!.. Не…
Клык без разговоров ловко стукнул дядьку Мирона прикладом автомата по голове, и тот рухнул на пол, как подкошенный.
Тётка Феклуша смертельно побледнела и, чтобы не упасть, прислонилась к стене.
— Господи, — дрожащим голосом прошептала она. — Да вы же не люди, вы — звери…
— Я тебе сейчас покажу «звери»! — не на шутку взъярился Клык. — А ну, выметайся из хаты!..
Он поднял автомат, повёл стволом в сторону двери, показывая, куда должна была исчезнуть Фёкла Полежаева.
— Кому я сказал: пошла вон, старая карга!
Тётку Феклушу и не приходящего в сознание дядьку Мирона крепко-накрепко заперли в сарае. Клык и Дитрих пошли в хату, Васечку оставили на входе.
— Смотри у меня, сопля безмозглая! — предупредил его Клык. — Живо отправлю на тот свет вслед за Верцей, если оставишь пост у дверей! Понял?
Васечка, теперь уже совершенно протрезвевший, стоял у порога с винтовкой в руках и беззвучно плакал. В нём сейчас, именно в эти минуты, боролись два человека, две личности, совсем противоположные, не похожие друг на друга. Один говорил, кричал ему: иди в хату, не допусти того, что должно было там сейчас случиться, не дан надругаться над девушкой, которая тебе совсем не безразлична! Другой же шептал: нет, не ходи, потому что первый твой шаг в эту дверь станет твоим последним шагом — Клык не пожалеет тебя, убьёт, как последнюю собачонку, и не закопает, а ты ведь и на свете-то не жил ещё совсем…
Сердце. Васечки трепыхалось, колотилось и билось, как дикий зайчонок в клетке, и он, не зная, что же ему сейчас, в эти проклятые минуты, делать, чуть не сходил с ума. Он уже сорвал было с плеча винтовку, решив стремительно ворваться в хату и прикончить всех сразу — и ненавистного Клыка, и холёного Курта Дитриха, но… страх оказался намного сильнее его: он, Васечка, даже не поднял винтовку на плечо — не было сил, он безвольно сел на завалинку, и плечи его затряслись в беззвучных рыданиях.
В хате отчаянно закричала Настенька, отчаянно и обречённо. А в дверь сарая, также безнадёжно крича, била кулаками тётка Феклуша. Васечка закрыл руками уши, начал, сидя, раскачиваться, как маятник на часах-ходиках, шепча что-то неслышное. А затем быстро вскочил, снял с правой ноги сапог, поставил винтовку прикладом на землю, ствол её упёр в свою грудь. Большим пальцем ноги достал курок…
Когда Дитрих и Клык выскочили на улицу, быстро стекленеющие глаза Васечки уже не видели синего неба, а уши его не слышали приближающейся канонады.
Митька сплюнул со злостью:
— Ну и хрен с ним!.. Пацан!..
… Дверь сарая, освобождая родственников, открыла сама Настенька — вся растрёпанная, в изорванном платье, с дико неподвижными глазами.
— Господи! — закричала тётка Феклуша. — Доченька моя, племяшечка милая! Да что ж они с тобой, окаянные, сотворили!.. Да за что же нам такие наказания?!
Настенька молчала, по-прежнему невидяще смотря перед собой. Потом сказала:
— Давайте перенесём дядю в хату, там ему лучше будет…
Они с трудом занесли уже начавшего приходить в себя дядьку Мирона в хату, уложили его на кровать.
— Тётя, — сказала Настенька, — я принесу свежей водицы, холодненькой…
— Иди, милая, иди… Принеси водицы, — согласилась тётка Феклуша, сменяя мокрую тряпицу на голове мужа.
Настеньки, хотя колодец был рядом, долго не было, и тётка Феклуша начала тревожиться. Она вышла во двор. Около крыльца стояло ведро с холодной водой. Настеньки не было…
— Да куды ж она, родимая, подевалась? — ещё сильнее запереживала тётка Феклуша. — Горемычная ж ты наша!.. Да как же они тебя обидели!..
Когда тётка Феклуша ненароком зашла в сарай, её доброе сердце чуть не разорвалось от внезапной боли: под самой крышей безвольно висело тело её племянницы…
РЕКОМЕНДАЦИЯ РОТМИСТРОВА
Ночь опустилась на Прохоровскую землю плавно и беззвучно, словно парашют без парашютиста с неба слетел. И было тихо. Только кое-где на краях пшеничного поля перекликались между собой перепёлки да внушали-то ли сами себе, то ли людям в военных гимнастёрках и комбинезонах, — что, мол, спать пора, спать пора!.. Но людям в эту чудную, в эту великолепную июльскую ночь было вовсе не до сна. Как и тогда, совсем недавно, перед маршем, в сегодняшнюю ночь на двенадцатое июля во всех частях и подразделениях шли партийные и комсомольские собрания. Павел Алексеевич побывал на нескольких из них и остался доволен произведённым на него впечатлением от этих собраний. Собрания, с точки зрения генерала, продемонстрировали высокий боевой дух гварденцев-танкистов, их непоколебимую решимость во что бы то ни стало выполнить поставленные перед ними задачи, и это генерала радовало.
Он. в сопровождении группы офицеров проходил от одного подразделения к другому и вдруг около одного из танков остановился. Остановился, потому что услышал знакомую фамилию. Её носил человек, в последнее время всё чаще и чаще встречающийся на его пути. Этого человека звали Владимиром Кошляковым.
Лейтенант, взволнованный, стоял перед товарищами и, как они, вслушивался в текст своего заявления с просьбой принять его в члены ВКП(б). Текст зачитывал политрук Якутии. Окончив чтение, он обратился к собравшимся:
— Ну, что скажете, товарищи коммунисты, по поводу заявления комсомольца Котлякова? Какие будут мнения?
— Принять… Заслуживает… Нормальный парень… — сдержанно загудели собравшиеся.
— Я думаю, — поднялся с травы комбат, майор Чупрынин, что Владимир Кошляков имеет полное право гордо носить высокое звание коммуниста. Честный, порядочный, он не запятнает имени большевика.
— Полностью согласен со словами майора Чупрынина, — сказал политрук. — Но, для того, чтобы лейтенанта Котлякова принять в ряды ВКП(б), необходима ещё одна рекомендация. Кто её даст?
— Я! — раздался громкий голос со стороны, — и все невольно вздрогнули. — Я дам рекомендацию лейтенанту!
Владелец громкого голоса уверенно шагнул из темноты, и все, увидев генеральские погоны, мгновенно вскочили: перед ними стоял сам Ротмистров.
… Уже позже, принимая поздравления от командующего армией, Владимир с благодарностью в голосе трогательно сказал:
— Я никогда не забуду этого, товарищ генерал!..
Ротмистров шёл далее и видел, и слышал, как командиры и политорганы вверенной ему армии в последние перед предстоящим и непредсказуемым сражением часы стремились довести до каждого своего бойца важный боевой приказ. Они — командиры и политруки — зачитывали в подразделениях обращение Военного совета армий к личному составу. А ещё до этого, на совещаниях с командным составом — вплоть до командиров танков, ещё и ещё раз обсуждались и детализировались приёмы и способы ведения скорого боя, ещё и ещё раз напоминались уязвимые места боевой техники гитлеровцев.
Чуть позже утомлённый до невозможности Ротмистров сидел на каком-то топчане и, прикрыв усталые глаза, сосредоточенно думал о предстоящем бое. И думал он, естественно, не один. Не умолкая, все звонили и звонили телефоны в полевом управлении армии; приезжали и уезжали в войска, привозя донесения и увозя необходимые распоряжения офицеры связи; то и дело перед командующим армией — перед ним — с утомлённым, осунувшимся лицом и воспалёнными от недосыпания глазами появляйся начальник штаба армии генерал Баскаков и докладывал последние данные об обстановке…
К четырём часам утра все вроде бы угомонились: уже было подписано и отправлено боевое донесение о том, что армия заняла исходное положение для контрудара и готова для выполнения задачи.
Ротмистров приказал адъютанту принести холодной воды и, когда Земсков исполнил приказ, Павел Алексеевич с удовольствием сполоснул лицо и шею.
— Прекрасно! — проговорил он, вытираясь полотенцем. — Хорошо!
И тут его окликнул офицер-связист:
— Товарищ генерал, вас к телефону!
— Кто?
— Командующий фронтом.
Ротмистров взял труб/ку:
— Здравствуйте, товарищ командующий фронтом. Чем обязан столь раннему звонку?
— Скорее, столь позднему, Павел Алексеевич. А звоню я вот по какому поводу: необходимо срочно направить ваш резерв в полосу действий 69-й армии.
— Что же там случилось, товарищ командующий?
— Случилось непредвиденное: противник, введя в сражение главные силы 3-го танкового корпуса оперативной группы «Кемпф», отбросил части 81-й и 92-й гвардейских стрелковых дивизий…
— Ч-чёрт! — сорвалось у Ротмистрова.
— Вот, вот, Павел Алексеевич!.. Немцы в результате этого наступления овладели важными населёнными пунктами: Ржавец, Рындинка, Выползовка. Вы и сами должны понимать, товарищ генерал, что в случае дальнейшего продвижения подвижных частей врага на север, создастся угроза не только левому флангу, но и…
— Но и тылу моей, 5-й танковой армии, — подсказал Ротмистров.
— Вот именно: и тылу вашей армии, и, кроме этого, наверняка нарушится устойчивость всех войск левого крыл, а Воронежского фронта. Поняли меня, Павел Алексеевич?
— Так точно, товарищ командующий фронтом! — взволнованно ответил Ротмистров, положил трубку и тут же потребовал связать его с генералом Труфановым.
Услышав знакомый голос, Ротмистров прокричал:
— Я вам приказываю, товарищ генерал, — немедленно, форсированным маршем, двинуть подчинённые вам части в район прорыва противника на участке 69-й армии!
— Не расслышал, повторите! — попросил Труфанов: в трубке действительно шипело и трещало. — Повторите, где?
— На участке 69-й армии! И там совместно с её войсками вам надлежит остановить немецкие танки. И запомните, генерал Труфанов, вы должны, обязаны ни в коем случае не допустить их продвижения в северном направлении.
— Вас понял!..
… Ночь кончалась. Ночь шла на убыль. И наступал рассвет. И пока ещё не кровавый…
ПЕСНЯ ФЁДОРА ПОЛЕЖАЕВА
Фёдор Полежаев лежал на замызганной до безобразия фуфайке, раскинув широко ноги, руки он подложил под голову. Вперив взгляд в ночное июльское небо, он пристально и неутомимо разглядывал бесконечно далёкие звёзды, весело подмигивающие ему.
— Интересно, — ни к кому особо не обращаясь, проронил Фёдор, — есть ли на звёздах жизнь? Живут ли там люди или, допустим, существа, нам подобные… Интересно…
Валентин Кошляков, сидя у самого танка, думал о Фаине. Василий сказал, что она передавала ему привет. Вот Валентин и морочил себе голову — с чего бы эта… эта дерзкая и противная девчонка опять ищет его расположения? Нет, он — Валентин — человек гордый, он не унизится до того, чтобы пойти на примирение. Оскорблённые и обманутые мужские чувства всячески противились этому. Однако, сердце — распроклятое сердце, кричало о другом, о том, что он — лейтенант Кошляков, любит и очень даже любит эту взбалмошную вертихвостку по имени Фаина. И сердце лейтенанта звало, манило к обманувшей его, но всё равно желанной девушке.
Очнулся от дум Валентин по самой что ни есть простой причине: кто-то самым безапелляционным образом дёрнул сто за рукав.
— Товарищ лейтенант, вы что, спите? — вопрошал его Фёдор.
— Я? Нет, я не сплю. Тьфу, дьявол, напугал ты меня…..
— Товарищ лейтенант…
— Ась?
— Как вы думаете, есть жизнь на звёздах?
— Фёдор, ну откуда я могу это знать? — вздохнул Валентин, недовольный тем, что прервали ход его мыслей. — Тебе сподручнее в сто раз это знать.
— Мне? Почему?
— Да потому, что ты в Бога веришь. А Бог, если верить священному писанию, всё сотворил сам. Значит, он знает, где есть жизнь и цивилизация, а где — нет. Вот и спроси у него, помолись…
Фёдор на некоторое время замолчал, обидевшись на Котлякова, а затем глуховато попросил:
— Товарищ лейтенант, почитайте стишки. Свои…
— Нет, Полежаев, мне неохота.
— Тогда спойте чего-нибудь, у вас это хорошо получается.
— И петь я, Фёдор, не буду. Нет настроения.
Фёдор помолчал.
— Воля ваша, — наконец выдохнул он, — не хотите, как хотите. А у меня есть настроение, и я спою.
— Валяй, — согласился Валентин, — пой!
Фёдор слегка откашлялся и тихо запел;
Валентин, собравшийся было снова помечтать о Фаине, передумал это делать; песня была ему совсем незнакомой, но очень уж хорошей, и он невольно стал вслушиваться в слова её и в душевную мелодию.
Подошли Василий и Владимир, осторожно и тихо присели около брата. А Фёдор продолжал песню.
Фёдор не успел закончить последнюю строку, как его прервал чей-то голос:
— Вы почему это поёте в такое время?
Все обернулись на голос. Луна высветила бледное лицо Никанора Зенина.
— Я спрашиваю: почему вы поёте?
Полежаев вскочил, вытянулся в струну:
— Виноват, товарищ капитан! — неловко отчеканил он.
— А в чём, собственно, дело, капитан? — недоумевающе спросил Валентин.
— А в том, товарищ лейтенант, что петь сейчас нельзя. Тишина вон какая стоит, немцы рядом. Прислушаются — и враз накроют. И не одного певца, а… Короче, соблюдайте тишину.
Валентин хотел было ответить Никанору резкое, злое, по Владимир удержал его.
— Не надо, братуха, пусть он себя почувствует небольшим начальником, — сказал он. — Зенин у нас — ка-пи-та-ан!
Зенин зло сплюнул на ядовитое, замечание Владимира и зашагал прочь. А. Владимир улыбнулся;
— Пусть топает Никанорка и не лезет в дела нашего боевого экипажа… Да, я тут письмо написал…
— Маме? — перебил его Валентин.
— Не-ет! — замялся Владимир. — Леночке Спасаевой я написал…
— А маме? — наивно спросил Валентин.
Владимир густо покраснел, но, спасибо, была ночь и никто не увидел эту его краску смущения. А Василий сказал:
— Маме обязательно надо написать. И это мы сделаем утром, а то сейчас темень…
— Конечно! — обрадованно подхватили братья. — Непременно напишем!.. — А Валентин к Полежаеву повернулся: — А ты, Фёдор, домой писать будешь или как?
Фёдор вздохнул:
— Наверное, «или как». Чего ж мне писать, когда мой хутор в десяти километрах от Прохоровки находится!.. Я, наверное, домой заеду. Прямо на танке.
И он тихо засмеялся.
— А вы, товарищи лейтенанты, вместе со мной ко мне в гости поедете?
— Ха, прекрасный вопрос! Что ж нам, выходить из танка придётся? — усмехнулся Василий. — Шустрый ты, мужичок полежаевский, но нас не обшустришь. В гости все вместе поедем, только вот фрицам здесь жару зададим — и поедем!
— То-то же! — засмеялся Фёдор. — Я часом подумал, побрезгуете, откажетесь. А вы, оказывается, люди негордые.
МАНШТЕЙН ДУМАЕТ
Генерал-фельдмаршал Манштейн, возглавляющий группу армий «Юг», заметно нервничал. Он снова и снова вглядывался в донесения и рапорты, доставленные ему в последние дни, сурово хмурил брови и все данные из этих самых донесений и рапортов сопоставлял с аккуратно вычерченной оперативной картой.
Особенно его тревожило положение 4-й танковой армии, которая ещё утром-5 июля — перешла в наступление из района севернее Белгорода. Генерал-полковнику Готу, который командовал этой армией, было приказано нанести главный удар на Обоянь и Курск. И он уверенно движется вперёд, если судить по его донесениям. Но старый вояка Манштейн как бы подспудно чувствует, что, видимо, не совсем уверен в своих силах прославленный Гот. А вот почему такая мысль закрадывается в голову генерал-фельдмаршалу, он и сам сказать не может,
Манштейн снова берёт в руки донесения командующего 4-й танковой армией. Гот пишет, что второй танковый корпус СС в жестоких боях отразил атаки русских на свой восточный фланг. Собственное продвижение на северо-запад имело полный успех, но в вечерние часы было прекращено. Танковая дивизия «Мёртвая голова» отбросила назад, через Донец, атакующего врага с тридцатью танками. Это произошло западнее Вислого. Так, где это Вислое на карте? Ага, нот оно…
Что далее? Гот докладывает, что в течение всего дня дивизия «Райх» участвовала в напряжённых оборонительных боях на лини Лучки-Тетеревино; на неё — с востока, северо— востока и с севера — накатывались всё новые и новые волны русских. Эта же самая «Райх» и ударная группа «Адольф Гитлер» после ожесточённого танкового боя, в атаке на северо-восток, заняли хутор Весёлый и высоты в трёх километрах севернее него.
Манштейн потёр усталые, покрасневшие от недосыпания глаза. Сам себе проговорил:
— Это донесение Гота от 8 июля. А где же за 9-е?… Так, вот оно…
Генерал-полковник докладывал, что при отражении не значительных вражеских атак на позиции участка Тетеревино — Лучки в ночное время переводилась вся танковая дивизия «Мёртвая голова. Делалось это для того, чтобы в ранние часы повести наступление в северо-западном направлении.
Манштейн ещё раз протёр глаза. Следующая запись генерал-полковника ему не нравилась. Он писал, что поздно снявшись с позиции, 1-й усиленный полк с отделением танков только в 10 часов сомкнулся с обеими дивизиями: справа — с «Мёртвой головой», слева — с «Адольфом Гитлером».
«Так, так, — подумал генерал-фельдмаршал раздражённо, — вот тебе и досадные мелочи, которых никак нельзя допускать при ведении боевых действий. А тут ещё и правая полковая группа «Мёртвой головы» совершила большое опоздание: заняв Васильевку и Козловку, она встретила сильное сопротивление русских и до темноты не смогла выполнить задание по созданию плацдарма через Псел…».
Манштейн встал, нервно заходил по комнате. Сводку на 10 июля он знал почти наизусть. И она не очень его успокаивала. В четыре двадцать авиаразведка «Мёртвой головы» донесла, что севернее Тетеревино обнаружила тридцать танков, которые при появлении самолёта-разведчика пустили дымовую завесу. Танковая гренадерская дивизия «Райх» обеспокоена шумом танковых моторов восточнее высоты К-47, услышанном в пять утра. Без пяти семь: юго-западнее Лучек — артобстрел дивизии «Мёртвая голова». Семь тридцать: Грязное занято сильным противником. Без пяти восемь: из лесного массива западнее совхоза «Комсомолец» тридцать танков и пехота наступают на наши боевые порядки, расположенные в двух километрах на северо-восток от Тетеревино.
«Да, чёрт побери, — подумал Манштейн, — положение наше — бесспорно — лучше, чем у русских, но всё равно… Всё равно мы допускаем много ошибок. И это может отразиться на ходе всей боевой операции в целом».
Он снова сел за стол. Снова вперил взор в донесения,
Чтобы создать предпосылки для продолжения наступления на северо-восток — в направлении линии Прохоровна — Береговое — и своевременного создания плацдарма через реку Псел, дивизия «Мёртвая голова» ударной группой ночью наступает для взятия высоты 226,6. Но перед сильно укреплённой и разветвлённо-господствующей высотой и под огнём не менее семи вражеских батарей из района восточнее Весёлого дивизия прекращает бесполезнее наступление. Ей остаётся только ждать подкрепления… А тут ещё погода — то солнце, то дождь.
А перед всем участком дивизий «Райх, по сообщению начальника штаба, наблюдаются оживлённые вражеские передвижения, танковые и пехотные прорывы. И особенно это заметно на участке южнее и севернее Беленихино. Не к добру это…
Вспоминая сегодняшний день, 11 июля, генерал-фельдмаршал поёжился: много часов подряд местами шли сильные дожди, только перед вечером улучшилась погода — облачность уменьшилась, ветерок усилился. Погода во многом подвела доблестную группу армий «Юг», возглавляемую им, Манштейном. И — русские… Предусмотренный переход реки в ночь на 11-е дивизией «Мёртвая голова» затянулся: русские вели бешеный артобстрел, и сапёры с мостостроительным устройством вынуждены были укрыться в балке и лишь утром объявиться па указанном для них месте. Из-за этого проклятого случая наступление было передвинуто. Правый фланг 2-го танкового корпуса СС, куда входила наступательная группа дивизии «Адольф Гитлер» с фланговым прикрытием дивизии «Райх», продолжал наступление в заданном направлении и в восемь тридцать залёг перед укреплёнными вражескими позициями с противотанковым рвом на высоте 352,2 в трёх с половиной километрах на юго-западе от Прохоровки. А ровно в полдень правым охватом высота была взята, и корпус пошёл в атаку на совхоз «Октябрьский», который был сильно укреплён. В двадцать пятнадцать в ожесточённом бою совхоз был взят.
В семнадцать доложили: 1-й гвардейский полк дивизии «Адольф Гитлер» с другими частями взял половину территории леса восточнее Сторожевого. Бои здесь шли до сумерек, и к половине одиннадцатого ночи юго-восточная и восточная окраина леса была достигнута; был взят и совхоз «Сталинский».
Манштейн оторвался от карты. Что там он думал недавно о погоде, скверной погоде? А думал-то он вот о чём, о неприятностях по вине проклятой погоды! Ещё в четырнадцать двадцать ему доложили, что через реку Псёл — севернее Вогородицино были установлены два моста. Однако дивизия «Мёртвая голова» — 11 июля с плацдарма наступать не могла. Не имела никакой возможности! Прошедший дождь до такой степени размыл дороги и местность и, самое главное, береговые откосы, что даже мощные танки останавливались, не говоря уже о другой технике.
Генерал-фельдмаршал встал со стула, снова прошёлся по комнате. Вслух сказал:
— Что ж, обстоятельства принуждают нас к тому, чтобы срок наступления передвинуть на двенадцатое июля, — и, помолчав, негромко крикнул: — Принесите чаю!..
Адъютант появился почти мгновенно: ловко держа поднос со стаканом сладкого напитка, он заученно и умело щёлкнул каблуками. Манштейн взял стакан.
— Через пять минут соедините меня с генералами — Готом и Хаузэром, — сказал он, не глядя на адъютанта.
Адьютант опять щёлкнул каблуками и, чётко повернувшись, красиво вышел вон.
Манштейн, сделав глоток чаю, сел на стул и устало прикрыл глаза…
НА НАБЛЮДАТЕЛЬНОМ ПУНКТЕ
Валентин пристально взглянул на часы: половина шестого утра; да, бежит быстротечное времечко, торопится изо всех сил. А куда и зачем торопится — непонятно ему. А если сказать по-честному, то и понимать особо не хочется: настроения сейчас ну никакого нет.
Кошляков оглянулся на мирно посапывающих братьев, на уткнувшегося лицом в свой шлем Фёдора Полежаева и, невольно усмехнувшись, подумал, про себя: «Храпят ребята. Как-будто и войны нет… Удивительно, конечно, но как всё — таки человек ко всему быстро привыкает: и к войне проклятой, и, в том числе, к неизбежным жертвам на этой самой войне.
Валентин глубоко и тревожно вздохнул, ещё раз перечитал письмо, только что им написанное маме. Вроде бы обо всём ей сообщил в скупых строчках — и о братьях — Владимире и Василии, и о себе, и о военной жизни танкистекой… Что же ещё он не успел написать, о чём?… Ах, да!
О самом главном-то чуть было и не вылетело из головы! Необходимо маму поздравить с днём рождения, ей на днях шестьдесят лет исполняется.
Он снова взялся за карандаш и, то и дело слюнявя его, вывел:
А под стихотворением в конце письма Валентин поставил дату — 12 июля 1943 года.
… Вдалеке промчалось несколько легковых автомашин. Валентин без труда узнал среди них «виллис» Ротмистрова. Куда и зачем в такую рань направлялось руководство армией, Кошляков не знал, да ему и незачем было знать, какими проблемами занимается сейчас высший офицерский состав.
Ротмистров же с группой офицеров направлялся в это время к командному пункту 29-го танкового корпуса. Прибыл он на КП почти ровно в шесть часов утра.
Почему именно этот командный пункт — среди множества остальных — избрал Павел Алексеевич своим наблюдательным пунктом? Странный вопрос и, наверное, несколько наивный. И не следует его задавать наобум; просто, нужно увидеть КП 29-го танкового корпуса близко и воочию, и тогда всё самому сразу же станет понятно. Нынешний, ещё не обжитый Ротмистровым, наблюдательный пункт располагался на довольно-таки приличном по высоте холме-кургане, выросшем юго-западнее Прохоровки по дороге в сторону села Береговое. С этого чудесного холма просто прекрасно просматривалась раскинувшаяся в сторону Петровки, Прелестного и совхоза «Комсомолец» местность. И местность эта — именно сейчас — интересовала командующего 5-й гвардейской танковой армией больше всего на свете. Почему интересовала? Да тут и дураку ясно: на этой самой местности с минуты па минуту должна было развернуться страшное и мощнейшее сражение с применением большого количества стальных машин.
Адъютант Ротмистрова Василий Земсков привычно распахнул дверцу «виллиса»:
— Прошу вас, товарищ командующий!
— Спасибо.
— Пройдёте в блиндаж? Или…
Павел Алексеевич заинтересованно повёл взглядом на прочно построенный блиндаж. Земсков перехватил его взгляд.
— Он — надёжен! — сказал адъютант. — Сделан, как говорится, на совесть. Солдатики постарались…
Когда-то на этом холме, выбранном сегодня для наблюдательного пункта командующего армией, беззаботно рос и пышно цвёл прекрасный яблоневый сад. Сейчас же сад наполовину был сожжён пожаром войны и вырублен. Ротмистров горько усмехнулся, подумав: «Ах, война!.. Никого ты не щадишь — ни людей, ни сады…» — и тут же согнал с себя проявившуюся мимолётом сентиментальность.
— Товарищи офицеры, — скомандовал он сопровождавшим его военным, — пройдёмте в блиндаж!
И первым двинулся вперёд. Сопровождающие прошествовали за ним.
В блиндаже на удивление было более-менее просторно. Из его амбразуры открывался чудесный и широкий обзор равнины — беспорядочно всхолмлённой, покрытой немногочисленными зелёно-серыми перелесками и коварными оврагами. Совсем недавно вынырнувшие из-за горизонта первые лучи солнца приятно и нежно золотили тучную ниву хлебов, уродивших в этом году на славу. За жёлтым спокойным морем пшеницы неплохо просматривалась из командармского блиндажа тёмная опушка большого лесного массива.
— Немцы, Павел Алексеевич, обосновались в том лесу! — показал на массив генерал Кириченко. — Совсем рядом затаились, рукой можно подать.
Ротмистров молча кивнул головой, щуря глаза, пристально всматривался вдаль, а Кириченко продолжал:
— Хочу доложить, товарищ командующий армией, что нынешняя ночь прошла, скажем так, относительно спокойно.
— То есть, как это «относительно»? Расшифруйте, пожалуйста! Прошу вас.
— А так: гитлеровцы, боясь темноты, всю ночь без отдыха пускали осветительные ракеты, ну и ещё — вели редкий артиллерийский огонь. Не прицельный, а так, на всякий случай.
— Ясно, товарищ Кириченко. И это всё ваши новости? — спросил Ротмистров, не отрывая взора от расстилавшейся перед ним местности.
— Никак нет, не всё, товарищ командующий. Хочу доложить, что наши разведчики слышали — довольно явственно! — рокот многочисленных моторов.
— По-видимому, уважаемый Иван Фёдорович, противник наш, несмотря на темноту, всё-таки выводил на исходные позиции свои танки.
— Так точно, Павел Алексеевич, вы, как всегда, правы: н тапки свои немец выводил, и моторизованные части!
Ротмистров крепко задумался. Молчали и остальные офицеры, словно боясь в этот девственный час рождающегося дня нарушить утреннюю тишину, словно боясь спугнуть её ненароком. И лишь ничего на свете сейчас не боялись, исполняя свой воинский долг, неутомимые телефонисты и радисты, как рассудительные кроты разместившиеся в окопах, окружающих блиндаж, и чуть дальше, в неглубоком овраге, где ожидали своего святого часа тщательно замаскированные мотоциклы и бронемашины связи.
И всё-таки тишина эта июльская казалась призрачном! и обманчивой. А всё потому, что по всем признакам, которые ощущали буквально всё — от рядового бойца до генерала — чувствовалось, что недалёк тот проклятый час — да какой там час?! — недалека та минута, когда эту напряжённую и какую-то совсем неестественную тишину внезапно разорвут, разверзнут до основания невыносимым адским грохотом сотни смертоносных орудий, тысячи и тысячи свистящих и шипящих бомб и снарядов, а пулям — и счёту не будет. И разорвавшаяся напрочь девственная тишина всколыхнёт древнюю землю Дикого поля, вмиг заставит её кипеть бушующим до небес сине-красным огнём и засеет несчастную, бомбами и снарядами вспаханную землю мириадами металлических осколков…,
— Товарищ командующий, — доложили Ротмистрову, — над нами появились «мессершмитты»!
Павел Алексеевич машинально взглянул на часы: половина седьмого утра. Спешат немцы, торопятся: «мессеров» вот, стратеги окаянные, запустили, чтобы расчистить воздушное пространство. А для чего им, скажите, небо чистым делать? А для того, чтобы нанести нам, русским, бомбовый удар. Тут всё ясно, и к налёту тяжёлой авиации надо подготовиться — не очень-то приятно голову свою единственную под небесную, смерть подставлять!
Через полчаса, то есть, где-то около семи часов, Ротмистрову доложили, что с запада, на смену «мессерам», наплывают «юнкерсы». Павел Алексеевич прислушался: точно; в уши вплывал, вызывая откуда-то из глубины души подленький страх, монотонный гул тяжёлых немецких самолётов. «Юнкерсы» летели бомбить. И не кого-нибудь там, а именно их — 5-ю гвардейскую танковую армию!
Бомбардировщиков было несколько десятков, и от их занудливо-уверенного гула становилось как-то не по себе, и тошнота предательски подкатывала к горлу. «Юнкерсы», словно хищные птицы из высокого поднебесья, выбирали себе цели-жертвы, а выбрав — сразу же перестраивались в удобные для них позиции и, тяжело кренясь на крылья с нарисованными на них крестами, переходили сразу же в смертоносные, наводящие ужас на всё земное, пике. И земля дрожала, как при извержении проснувшегося вулкана — содрогалась своим беззащитным телом от страшных разрывов.
Наблюдательный пост Ротмистрова был очень тщательно замаскирован, и немцы с воздуха не видели его. Педантичные во всём немцы сбрасывали бомбы пока что по населённым пунктам, лежащим окрест, по отдельным рощам, выглядевшим оазисами жизни среди жёлтых хлебов. Местами уже жарко горел, полыхал этот самый зрелый хлеб, а багровые стрелы яростных вспышек безжалостно и мощно прорезали и разрывали на мелкие части и кудрявые облака дыма, и высоченные плотные фонтаны земли, вздыбленной и обесчещенной. И попавшие в самый эпицентр бомбардировки воины очень хотели бы оказаться в эти растреклятые минуты в аду, в самом, что ни есть, его пекле, где, наверное, сейчас было значительно лучше, чем здесь, на земле, под безгрешной и несчастной Прохоровкой…
— Чёрт побери! — выкрикнул в ярости Земсков. — Где же наша авиация? Я ничего не понимаю, Павел Алексеевич!
Ротмистров ничего не ответил возбуждённому и полыхающему справедливым гневом адъютанту, лишь продолжал пристально вглядываться в сплошь оккупированное немцами небо. Что мог он сказать адъютанту, если сам постоянно мысленно повторял; «Где же вы, истребители?… Где же вы?…» И вдруг, словно прислушавшись к молчаливому вопросу генерала, в небе появились наши самолёты — несколько звеньев юрких советских истребителей. И воздух — всё пространство над территорией предстоящего танкового сражения — стал ареной жарких небесных схваток.
Наблюдая за причудливыми и захватывающими воздушными поединками, Василий Земсков нервно покусывал губы и то сжимал, то разжимал кулаки. Ротмистров тоже, внешне не выдавая этого, волновался. Волновался даже тогда, когда «юнкерсы» не выдержали натиск стремительных «ястребков» и, развернувшись, потеряв строй, торопливо уходили назад, восвояси, беспорядочно и где попало сбрасывая свой смертоносный груз.
— Ну, — оживлённо потёр руки генерал Кириченко, — теперь паши пойдут! Так я говорю?
— Что вы сказали? — переспросил Ротмистров.
— Я говорю, что теперь наши бомбардировщики в атаку пойдут.
И, действительно, Кириченко оказался прав: как бы откуда-то из невидимого пространства внезапно — выпорхнули, заполонили воздух наши бомбардировщики, которых чётко и со всей возложенной на них обязанностью сопровождали юркие истребители; бомбардировщики тяжеловесно и грозно плыли на юго-запад, восхищая укрывшихся в спасительных окопах советских воинов и заставляя дрожать немецких.
— Красиво летят соколы генерал-лейтенанта Красовского! — ни к кому лично не обращаясь, сказал Ротмистров. — Эти ребята — из 2-й воздушной армии. Они мне знакомы: на марше нашу 5-ю армию с воздуха поддерживали. Да ещё как и поддерживали!
Ротмистров поднял было руку с часами к глазам, но тут снаружи грохнуло так мощно, что, казалось, блиндаж высоко подпрыгнул вверх и теперь вот опускается вниз — стремительно и неотвратимо, как подбитый самолёт.
— Наши! — оптимистически прокомментировал генерал Кириченко. — Наши саданули! Армейская артиллерия! Крепко ударили!
— Да, — согласился Ротмистров, — это наши! Залп, между прочим, дали артиллерийские батареи непосредственной поддержки танков. Перед богами войны поставлена строго определённая цель — вести огонь по предполагаемым районам скопления танков противника и, конечно же, по огневым позициям его артиллерии.
Ротмистров на какое-то время замолчал, словно бы обдумывая что-то, затем вздохнул:
— Видите ли, товарищи офицеры, у нас, к сожалению, не было нужного количества времени для того, чтобы точно установить, где же в самом деле расположены вражеские батареи, где же сосредоточились вражеские танки…
— Вы хотите сказать, — донеслось из глубины блиндажа, — что… именно сейчас определить эффективность огня — артиллерийского огня — не представляется возможным?
— Боюсь, что это именно так, — ответил Ротмистров. — Но всё же, я думаю, что наша доблестная артиллерия тратит снаряды не зря, не в белый свет стреляет.
Едва командующий произнёс эти слова, как артиллерийскую канонаду ощутимо перекрыл другой шум — шипящевоющий, и в сторону позиций противника понеслись смертоносные огневые смерчи: это вступили в бой полки гвардейских миномётов.
— «Катюши» запели! — восхищённо воскликнул адъютант Ротмистрова. — «Катюши»! Вы слышите?
— Да, это «катюши», — растягивая слова, произнёс Павел Алексеевич. — И их залпы, между прочим, означают начало нашей атаки!
Он поискал близорукими глазами начальника своей радиостанции Константинова и, найдя, громко приказал:
— Товарищ младший техник-лейтенант, приказываю вам передать в эфир сигнал начала атаки!
— Слушаюсь, товарищ командующий армией! — последовал чёткий ответ, и в эфир тут же ушло и неоднократно повторилось всего лишь одно слово: «Сталь»… «Сталь»… «Сталь»…
И словно эхо расплеснулось от мужественного слова «Сталь», которое у всех ассоциировалось с другим мужественным словом — «Сталин»: мгновенно последовали сигналы командиров танковых корпусов, бригад, батальонов, рот и взводов. Одно слово «Сталь» привело в движение огромную армию, в состав которой входило не только огромное количество людей, но и огромное количество мощнейшей техники. Началось сражение…
ДВЕНАДЦАТОЕ ИЮЛЯ
Валентин успел-таки отдать письмо, только что им написанное матери, политруку Якутину. Успел и сказать ему, что так, мол, и так, товарищ политрук, вы уж постарайтесь, не потеряйте — ради Бога — солдатскую весточку, — и тут раздалась команда, зычная и давно ожидаемая всеми: «По маши-на-а-ам!».
Валентин быстро и ловко запрыгнул в люк; Владимир, Василий и Фёдор Полежаев уже были наготове.
— Начинается! — возбуждённо выкрикнул Василий. — Ребята, начинается!
— Вот и ладненько! — в тон ему ответил Владимир. — А то, чего уж скрывать, застоялись мы уже, как жеребцы племенные. Валька, ты письмо-то политруку отдал?… Вот и хорошо.
Фёдор Полежаев никакого участия в разговоре не принимал: он самыми тихими и самыми страстными словами шептал одному только ему известные молитвы и при этом яростно крестился.
И вот по рации раздалась команда комбата Чупрынина; Валентин хищно усмехнулся, рванул рычаги, и «тридцатьчетвёрка», напрочь сбрасывая с себя маскировочную зелень, мощно прыгнула вперёд.
— Ну что, братцы, — хохотнул он, — устроим гансам Бородинское сражение?
Василий пристально смотрел в наблюдательную щель и видел ещё досель невиданную лично им, танкистом, чересчур уж впечатляющую картину. Повсюду: и слева от них, и справа, и сзади, и, спереди — выходили, выскакивали из укрытия советские танки. Они. сразу же набирали большущую скорость и устремлялись вперёд, в загадочную и коварную неожиданность, которая уже поджидала их, ждала, потирая в предвосхищении руки, в зловещем лесном массиве. И эта самая коварная неожиданность, и правда, выразилась самым что ни есть непредвиденным образом. Василий даже глаза протёр в удивлении, совершенно отчётливо думая, что всё это ему просто-напросто лишь мерещится. Но это ему не мерещилось и, тем более, не снилось: навстречу им, неистово вздымая пыль, неслась огромная лавина немецких танков.
«Откуда они вынырнули? — удивился Василий. — Почему мы не знали об их близком и таком массовом скоплении?»
Он по рации предупреждающе выкрикнул Чупрынину:
— Товарищ комбат, вы видите противника?
— Вижу, Василий, ну и что из этого?
— Не многовато ли немцев для нас? Как вы думаете?
— Не дрейфь, Кошляков; пойми ты, у нас ведь более выгодная позиция. Сейчас начнём их, крестобрюхих, щёлкать как грецкие орехи]
Позиция у советских танкистов и впрямь была в это время более выгодной. Казалось, что и само солнце находилось на стороне «тридцатьчетвёрок»: оно только что — ну просто совсем недавно — поднялось на востоке и теперь своими лучами ярко, как на киноэкране, высвечивало зловещие контуры фашистских танков, слепило до черноты глаза немецким танкистам.
Прошло буквально несколько минут с того момента, как в эфир понеслась долгожданная команда «Сталь», а танки уже накрепко сцепились, закрутились в немыслимой огненной коловерти. Первый эшелон танков 29-го и 18-го корпусов сильным лобовым ударом, стреляя на ходу, вклинился в боевые порядки наступающего противника, неожиданно и резко пронзив их, словно острым дамасским мечом.
Не только для гвардейцев 5-й танковой армии оказалось неожиданным большое скопление танков противника; немцы, видимо, тоже не ожидали встретить на своём пути такую массу боевых машин русских, и не только массу танков, но и их стремительную атаку. Невольно растерявшись, они позволили гвардейцам войти в нужный им ближний бой, совершив этим самым непоправимую ошибку: чёткое управление в передовых частях и подразделениях немецких войск было непредсказуемо нарушено, и «тигры» и «пантеры», лишённые сейчас самого главного — своего огневого преимущества, которым до сих пор они превосходно пользовались в столкновении с другими советскими танковыми подразделениями, теперь — не по свей воле — стали отличными мишенями для наших танкистов. И «тигры», и «пантеры» с самых коротких дистанций поражались не только юркими танками Т-34, но и не столь поворотливыми танками Т-70.
«Тридцатьчетвёрка» братьев Кошляковых уже несколько минут носилась по пылающему полю сражения почти что вслепую: экипаж безостановочно стрелял по противнику, уклонялся от столкновений с другими танками, маневрировал. Да, впрочем, как там маневрировать-то?! Всё громадное поле под Прохоровной клубилось цыганисто-чёрным и густым дымом, пыль сплошной высокой завесой висела в дрожащем воздухе, а сама — неповинная ни в чём и безгрешная — матушка-земля содрогалась от мощных взрывов. Полыхали ярким пламенем тапки и самоходки, обильно смоченные в солярке, факелами метались в горящих на теле комбинезонах танкисты, безуспешно пытаясь сбросить, сбить с себя вышедший из-под контроля огонь.
— Владимир! Володька! — задыхаясь от гари и обильно льющегося пота, кричал Василий. — Посмотри вправо!..
— Что! Что ты говоришь?
— Справа подбитый «тигр», видишь его?
— Вижу, брательник, вижу!
— Наводи на него пушку: ом ещё действующим! Стреляет, зараза!
Владимир прицелился в бок стоящему с перебитыми гусеницами «тигру», который всё еще продолжал изрыгать смертельным огонь из своего чрева.
— Фёдор, ядрёна вошь, зарядил?
— Так точно, товарищ лейтенант!
— Прекрасно! Валентин, притормози-ка чуток!.. Хорошо!.. А теперь — огонь!
Прицел был точен, и немецкий танк, крупно вздрогнув, вдруг вспыхнул, словно восковая свеча.
— Ур-ра! — рявкнул возбуждённый до предела Фёдор Полежаев. — Ай да мы! Ай да молодцы!.. Выбирайте теперь следующего зверя!
А немыслимое сражение принимало всё более и более крутой поворот: всё смешалось в кромешном хаосе и уже никак нельзя было разобрать в этом самом хаосе — где свои, а где чужие. Боевые порядки обеих враждующих сторон перемешались до неузнаваемости, а огонь, дым и пыль насколько только могли, настолько и усугубляли и так препаршивейшее положение. Из-за этого хаоса и неразберихи остались вне удел — в самом прямом смысле — артиллеристы обеих сторон: непредвиденный оборот сражения перепутал все карты и козыри, и боги войны не знали теперь, куда и как стрелять, боясь обрушить шквальный огонь на своих.
Это же самое препаршивейшее положение коснулось и авиации — и нашей, и немецкой: лётчики не знали, не могли придумать — куда же всё-таки сбрасывать свой смертоносный груз? И, не находя никакого выхода, самолёты, как клещи, сцепливались в воздухе, ведя яростные схватки не на жизнь, а на смерть. И частенько непередаваемый грохот танковой битвы на земле усиливался жутким воем объятых пламенем и несущихся к земле — в свой последний путь — самолётов.
Валентин — поэт и романтик, бросал «тридцатьчетвёрку» то вправо, то влево и ругался самым отборнейшим магом, потому что никак не мог вырваться из адского пекла, из этого гигантского по масштабам, всепоглощающего водоворота: и «тридцатьчетвёрки», и Т-70, и «тигры», и «пантеры», и «фердинанды» — всё смешалось, всё изворачивалось, всё стреляло, всё горело, всё гибло! А срывающиеся с машин танковые башни взлетали в воздух так, словно они были легче спичечных коробков…
Непредсказуемый поток боя вышвырнул «тридцатьчетвёрку» братьев Котляковых к самому берегу реки Псел, И тут-то ли Снарядом, то ли миной — танку порвало гусеницу.
Василий, мокрый и грязный, с лицом, напоминающим физиономию аборигена Африки, выглянул наружу через верхний люк. Бой шёл чуть в стороне, и шум его был поистине страшен.
— Ребята, — скомандовал Василин, — всем выйти наружу— и быстренько: давайте отремонтируем гусеницу!
Владимир, Валентин и Фёдор вылезли из танка, как из преисподней — чумазые, как черти. И, глотнув первым делом свежего воздуха, бросились к искорёженной и слетевшей с катков гусенице.
Василин отошёл к краю хлебного поля, сорвал созревший колосок, растёр его, понюхал: ах, как прелестно и мирно он пахнул! Лейтенант попробовал зёрнышки на вкус и от удовольствия на какое-то время даже прикрыл глаза. Господи! Мирное поле и злаковые с жёсткими щекочущими, усиками!.. А рядом, — чёрт бы его побрал! — в двухстах-трёхстах метрах это же поле, но уже с сожжённым, затоптанным в пух и прах хлебом.
Василий открыл глаза, сделал по хлебному полю несколько шагов и вдруг увидел гнездо. В нём лежали маленькие, голубые в крапинку яички. А рядом — птица: пронзённый то ли пулей, то ли осколком жизнелюбивый жаворонок.
Лейтенант нагнулся, потрогал мёртвую птицу пальцем. Тельце жаворонка было ещё тёплым. Значит, совсем недавно, всего несколько минут назад война оборвала жизнь этой жизнерадостной пичужки. И теперь не её голос разносится над пшеничным полем, а голос страшного, всё сметающего на своём пути танкового сражения. И кто знает, выживут ли они, люди, в этом сражении, или же их судьба уподобится судьбе этой славной, но уже мёртвой, пичужки.
Василий круто повернулся, быстро пошёл к своему танку.
— Ну что, — спросил он, — как идут дела?
— Ещё минут семь, — ответил за всех Фёдор, — танк будет готов к бою. Серьёзно.
— Чёрт возьми! — буркнул негромко и недовольно Василий. — Не долго ли вы возитесь с одной гусеницей, ребята? Так ведь…
Ему не дали повозмущаться: из оврага, словно акула из океанских вод, вынырнула дымящаяся «пантера» и, проползи несколько метров и не видя кошляковского Т-34, остановилась. Прокопчённый до безобразия экипаж через нижний люк выскочил из танка и, сняв комбинезоны, принялся ими сбивать пламя с башни.
— Ребята, у кого из вас оружие с собой? — крикнул приглушённо Василий.
— Ч-чёрт! — выругался Владимир. — Наше оружие в танке осталось! Подождите, я мигом…
— Но «мигом» не получилось: немецкие танкисты увидели братьев Котляковых и Фёдора, и, залопотав что-то по— своему, бросились на них в рукопашную.
— Ну, ребята, держись! — выкрикнул Валентин и угрожающее занёс над головой огромный гаечный ключ. — А ну, гады, кому тут мозги подкрутить?!
Схватка была жестокой и короткой: двух немцев танкисты сразу же положили насмерть, двое — сбежали. И их никто не бросился преследовать. Не до этого было. Валентина же один из убитых немцев ранил ножом в плечо. И он сейчас морщился, обнажая плечо для перевязки.
«Тридцатьчетвёрка» с натянутой уже на катки гусеницей начала медленно отъезжать от реки и только сунулась было на взгорок, как прямо перед самой башней взметнулся в небо огненный смерч, приправленный сухой июльской землёй.
— Валька! — заорал Валентин. — Засеки, откуда по нам палят?
— А хрен их знает! Сейчас соображу…
— Соображать некогда! — вмешался Владимир. — Смотри, на нас «тигр» прёт на всей скорости!
— Где?… А, точно! Ну-ка, брательник, наведи на него своё орудие!
— Дьявольщина!.. Не могу, Васька, не могу! Что-то заклинило наше орудие…
— Ах, Володька, вечно ты…
— Замолчите! — закричал им Валентин. — У нас нет времени на пререкания! И вообще — у нас ни на что нет времени! Я иду на таран!.. — Как вы… Согласны?…
Василий и Владимир промолчали, а Фёдор истово закрестился:
— С нами Бог! Он нам поможет! На святое дело идём: за Родину, за…
Страшной силы удар потряс танк, вздыбил его вверх как игрушку. И весь экипаж «тридцатьчетвёрки» мгновенно провалился в мёртвую тишину…
Владимир, тихо постанывая, выполз из танка, огляделся. Мощный и «неуязвимый» немецкий «тигр» лежал неуклюже на боку и дымился. Их же танк Т-34 бесстыже вздыбленным передком придавливал его к земле, словно бы не желая более пускать это чудовище в схватку. И снова была разорвана гусеница…
Владимир по одному вытащил из танка братьев Василия и Валентина, заряжающего Фёдора Полежаева, уложил их на травке. Они, оглушённые встречным тараном, были без сознания.
А страшный бой продолжался и всё приближался к «разутой» «тридцатьчетвёрке» Кошляковых. Василий в ярости колотил кувалдой по проклятой гусенице, но один он ничего не мог сделать, да и вообще Т-34 надобно было сначала стягивать с опрокинутого «тигра», иначе ремонт гусеницы был бы бесполезен. И слёзы бессилия — вместе с обильным потом — катились по щеке танкиста.
Откуда-то со стороны Берегового вынырнула машина — «полуторка». Из кабины её выпрыгнула Фаина с сумкой медикаментов.
— Что? Что случилось? — на ходу закричала она. — Где Валентин, Владимир? Где он?
Владимир молча указал на лежащих без сознания танкистов. Фаина быстро осмотрела их и, облегчённо вздохнув, сказала, что они скоро очнутся, а сама склонилась над Валентином. Разглядев его ножевую рану, с которой соскочила повязка, она достала пакет, начала перебинтовывать плечо.
— Ах ты, мой миленький, — приговаривала она, — ах ты, мой родненький! Ну потерпи, потерпи немного… Я сейчас…
Со стороны хлебного поля показался пылающий танк Т-34. С него, выскочив из верхнего люка, спрыгнула одинокая фигурка. А металлический факел продолжал самостоятельно нестись к реке. До берега он не доехал: взорвались боеприпасы и башня «тридцатьчетвёрки» в одну секунду улетела далеко в сторону.
Увидев эту страшную картину, Фаина ещё сильнее прижала к себе ещё не пришедшего в сознание Валентина.
— Господи! — стонала она, орошая лицо Валентина слезами. — Да что же это такое творится!.. Мамочка ты моя родненькая!.. Помоги нам, господи!..
Владимир, ошеломлённый увиденным и оглушённый до сих пор тараном, молча, будто бы контуженный, смотрел на пылающий костёр «тридцатьчетвёрки», на приближающегося танкиста, минуту назад выпрыгнувшего из бронированной машины, которая теперь совсем не была похожа ни на танк, ни на что-либо другое.
— Зенин?… Никанор?… — Владимир вглядывался в подошедшего танкиста и с трудом узнавал его. — Это ты?
Тот криво усмехнулся:
— Я, конечно, а кто же ещё… Воды у тебя нет? Пить хочу — просто ужас!
— В фляге нет, кончилась… Да вот же, Никанор, река… Вот берег!
— Пойдём, Володя, попьём. Да умоемся. Устал я…
Они попили из Пела, сполоснули лица, и только тогда Зенин спросил:
— Видел, как меня?!
Владимир молча кивнул головой.
— Суки фашистские! — сквозь зубы сплюнул Никанор. — Чуть заживо не изжарили! А за что, спрашивается? За то, что я коммунист и исправно выполняю партийные поручения?…
— Не горюй, Никанор, мы вот тоже… Но разминулись…
— И… что? Все — насмерть?
Владимир улыбнулся:
— Не угадал, Никанор! Мы — Кошляковы — живучие! Смотри левее, вон гуда, за куст: лежат-отлёживаются гвардейцы, в себя приходят…
Зенин проследил за пальцем Владимира и тут же громко вскрикнул:
— Фаина?… Владимир, это же Фаина, а?… Фаина!..
А Фаина в это время была занята застонавшим, приходящим в себя Валентином. Она, низко наклонившись к нему, слегка, касалась губами его шеи, щёк, закрытых глаз, губ и что-то бессвязно шептала, сама плотно сомкнув веки.
— Фаина! — снова, но уже в отчаянии, воскликнул Никанор. — Фаина, посмотри на меня!
Фаина чуть приподняла лицо и, мельком взглянув на капитана напрочь отсутствующим взглядом, снова перевела взор на Валентина.
— Что?… — вдруг шёпотом спросил Никанор. — Что с нею случилось? Володька, зачем она так, ведь мы с ней… Зачем? Что случилось?
Владимир смахнул пот со лба, отвёл глаза в сторону.
— Знаешь, Зенин, по-моему, у вас с Фаиной было обыкновенное фронтовое увлечение.
— Что ты? Что ты мелешь, Кошляков?
— Я не мелю, а говорю тебе, кажется, всю правду.
— Какую правду? Ты что, дурак? Ты спятил? Какую ты мне правду говоришь?
— А такую: у вас с Фаиной, Никанор, было обыкновенное увлечение, а у Валентина с ней — настоящая любовь. Я только сейчас начал понимать это, но понимать — всем сердцем.
— Ты — дурак! — вскипел, переходя на крик, Никанор. — И городишь чушь! Понял: чушь! Сейчас ты в этом убедишься!
Он торопливо, спотыкаясь на каждом шагу, подскочил к Фаине, державшей по-прежнему на своих коленях голову Валентина, и выкрикнул:
— Фаина, посмотри мне прямо, в лицо! Скажи, ты кого любишь — меня или Вальку?
Фаина подняла на него глаза: тихо, но твёрдо сказала:
— Прости, Никанор, я ошибалась насчёт наших отношений.
— Что?!..
— Я поняла, что по-настоящему люблю только его, — Фаина нежно погладила волосы Валентина. — А теперь — иди…
Капитан Зенин, побледнел как полотно, скрипнул зубами и, грубо схватив Фаину за шиворот, рывком; поднял её с земли.
— Повтори! — прохрипев он. — Я не совсем понял, что ты сказала: повтори!
— Уходи, — повторила Фаина, — я не люблю тебя. Я. люблю только Валентина.
— С-сука! — задохнулся он и сильно оттолкнул её от себя.
Фаина на ногах удержалась, не упала, и это окончательно взбесило Зенина: Никанор выхватил из кобуры пистолет, щёлкнул предохранителем.
— Молись, сука! — яростно процедил он. — Я не позволю…
— Перестань! — схватил Зенина за руку подоспевший Владимир. — Перестань, Никанор! Будь мужчиной…
Зенин с непередаваемой злостью вырвал руку и в бешенстве обрушил рукоять пистолета на голову Кошлякова. Владимир вскрикнул и, прежде чем он беспомощно осел на землю, прежде чем хлынувшая из раны кровь застлала глаза, он увидел, как, выплёвывая свинец, судорожно дёрнулся в руке Никанора пистолет — раз… другой!.. — и ещё он увидел, как вдруг широко раскрылись удивлённые бездонные глаза Фаины, и как она, прикусив губу и схватившись одной рукой за живот, начала медленно падать, оседать на землю…
Владимир от удара по голове очнулся быстро и смахнув с глаз кровь, увидел поспешно переправляющегося через реку Зенина. Фаина лежала недалеко от Валентина, жалко свернувшись калачиком и не. подавала никаких признаков жизни.
— Стон, Зенин! Сволочь, стой! — закричал в отчаянии Кошляков и, выхватив из кобуры Фаины пистолет, бросился вслед за убийцей…
… Первым пришёл в себя Василии, за ним и все остальные. Валентин сразу же кинулся к лежащей без движения Фаине.
— Что с тобой? Фаина! — он повернул её лицо к себе. — Ты ранена? Ты…
Жизнь уходила из молодого и сильного тела девушки, и печать смерти уже постепенно окрашивала в свой специфический цвет её глаза. Фаина пошевелила губами, и Валентин близко наклонился к ней.
— Валя. — еле слышно донеслось до него. — В меня… Стрелял… Никанор…
— Что? Что ты говоришь? — вскричал, не веря услышанному, Валентин. — Ты не ошибаешься, Фаина?
— Нет… Я не брежу… Владимир… Отправился… В погоню. За ним…
— Чёрт! — скрипнул зубами Валентин. — Что же делать, Вася?
— Ах! — досадливо закрутил головой Василий. — Здесь действительно разыгралась нешуточная трагедия, но мы, брат, не должны забывать и о нашем важном, непосредственном деле. Этот «тигр», — он кивнул головой на немецкий танк, — нам всю кашу испортил… Давай-ка, Фёдор, опять примемся с тобой за ремонт гусеницы. А Валька…
— Постойте, а как же быть с Фаиной? — в отчаянии спросил Валентин. — Она ж ведь… тяжело ранена!
Ребята ничего не успели ему ответить. Фаина огромным усилием воли подняла руку, провела ею по щеке лейтенанта.
— Я… люблю… тебя….. Прости…
Судорожная дрожь пробежала по телу прекрасной Фаины, и дыхание её остановилось.
Фёдор Полежаев опустил голову.
Вот и ещё одна молодая душа отлетела к Господу на небеса, — произнёс он печально. — Переселилась она на вечное Место жительства. Ну а тело… Тело надо похоронить…
— Да, — согласился Василий, — давайте похороним её по-человечески. А потом уж и за гусеницу примемся…
— А бой совсем рядом гремел, и с каждой минутой напряжение его неумолимо нарастало, закипало с потрясающей всех яростью и силой. И, казалось, что никому никакого спасения никогда и не видать. А в этом Богом проклятом сражении самая тяжёлая участь выпала на долю 29-го танкового корпуса генерала Кириченко, под началом которого и воевали братья Котляковы.
СТРАТЕГИЯ ДНЯ
Поле перед наблюдательным пунктом генерала Ротмистрова теперь уже просматривалось плохо, и переутомлённые покрасневшие глаза командующего армией предательски слезились. Он то и дело подносил к ним тщательно отутюженный платочек, протирая и их, и стёкла очков.
— Н-да, — шептал он сам себе, — возможность наблюдения, за полем боя практически сводится к нулю. Спасибо связистам и радистам: только благодаря им я узнаю о том, как в самом деле идёт сражение. Командиры корпусов пока чётко докладывают о действиях своих подразделений.
Да, командиры корпусов действительно не ленились слать подробные донесения о любых своих решениях, о превратностях местных боёв, а Ротмистров, раскладывая всё это по полочкам в своей умной голове и разрисовывая стрелами оперативную карту, уже представлял себе общий ход встречного танкового сражения.
Да, он согласен — полностью и бесповоротно, — что самый сложный и тяжёлый удар на себя приняли воины 29-го танкового корпуса генерала Кириченко, на командном пункте которого разместился его — Ротмистрова — наблюдательный пункт. Генерал Кириченко сейчас наступал вдоль железной дороги и, одновременно, вдоль шоссейной. Наступление корпуса сильно осложнялось тем, что против него генерал-фельдмаршал Манштейн бросил основные силы гаиковых дивизии СС «Адольф Гитлер» и «Мёртвая голова». Сошлись две гранитных горы, два могучих айсберга: немцы упрямо стремились к намеченной ими цели — во что бы то ни стало прорваться к Прохоровке, достичь её любой ценой. Корпус генерала Кириченко тоже проявлял упрямство и не хотел уступать гитлеровцам ни пяди уже обильно политой кровью земли.
Недавно докладывал командующему армией о нелёгкой обстановке полковник Линёв, возглавляющий 32-ю танковую бригаду, которая действовала в самом центре боевого порядка. Правда, Линёв не плакался на выпавшую ему долю, хотя и не хвалился, но Павел Алексеевич по его голосу понял — на этом участке гвардейцы не дрогнут, даже если им придётся умереть.
Батальоны 31-й танковой бригады, которой командовал полковник Моисеев, ожесточённо сражались справа от железнодорожного полотна. Им тоже было невыносимо трудно.
Разговаривая с Моисеевым по рации, Ротмистров спросил его:
— Товарищ полковник, насколько я помню, в вашем соединении должна воевать колонна танков «Москва»? Ну та самая, в которой танки построены за счёт средств, собранных тружениками Краснопресненского района.
— Есть у нас такая колонна, товарищ командующий, — ответил полковник, — и танки из столицы оправдывают вложенные в них средства краснопресненцев.
— Вот и хорошо, — улыбнулся Павел Алексеевич, а сам— уже снова водил карандашом по карте, прикидывая — что и как.
А картина бушующего огненного сражения на данный момент представлялась генералу так. Подразделения 25-й танковой бригады, возглавляемой полковником Володиным, вели наступление на гитлеровцев во втором эшелоне. Их довольно-таки успешно поддерживал 1446-й самоходно-артиллерийский полк гвардии капитана Лунева. Несмотря на большие сложности, упорно продвигался вперёд 18-й танковый корпус генерала Бахарова. Бахаров только что доложил, что детально изучил особенности местности и пришёл к решению построить боевой порядок своего подразделения в три эшелона. Корпус Бахарова — и это очень понравилось Ротмистрову — наращивал силу удара, вплотную прижимаясь своим правым флангом к восточному берегу древнего Псла, занимая и закрепляясь на выгодных ему рубежах. В первом эшелоне корпуса фашистов атаковали 181-я и 170-я танковые бригады. Ими командовали два полковника — Пузырёв и Казанов. Во втором эшелоне были задействованы подразделения 32-й гвардейской мотострелковой бригады подполковника Стукова и 36-й отдельный гвардейский танковый полк. 110-я танковая бригада гвардии полковника Колесникова полностью составляла третий эшелон боевого порядка корпуса генерала Бахарова.
Ротмистрова оторвали от трудных раздумий над картой:
— Товарищ командующий, вас генерал Труфанов спрашивает!
— Соединяйте! — не поднимая головы, бросил Ротмистров.
— Павел Алексеевич, — сквозь шум и треск раздался знакомый до боли голос Труфаиова. — Вы в курсе, что на левом фланге положение у нас довольно-таки сложное? Мне только что доложили, что около семидесяти немецких танков, овладев Ржавцом и Рындинкой, крепко жмут 92-ю гвардейскую стрелковую дивизию 69-й армии. Гитлеровцы рвутся на север споро и со страшной силой.
— Что ж вы собираетесь предпринять, генерал? — сухо спросил Ротмистров. — Положение у нас, действительно, очень серьёзное.
— Я уже сосредоточил свой отряд в Больших Подъяругах, но, Павел Алексеевич, мне кажется, что этих сил для остановки противника явно недостаточно.
— Хорошо, я приму необходимые меры. И немедленно.
Ротмистров решил посоветоваться по этому поводу с Василевским. Маршал Советского Союза внимательно выслушал его.
— Я думаю, Павел Алексеевич, — сказал он, — что генералу Скворцову и полковнику Бурдейному следует поступить вот таким образом…
И маршал посоветовал следующее. Командир 5-го гвардейского Зимовниковского механизированного корпуса генерал Скворцов после совета Василевского получил приказание направить из района села Красное — для совместных действий с Труфановым — 11-ю и 12-ю гвардейские механизированные бригады; командир 2-го Тацинского танкового корпуса полковник Бурдейный обязан был спешно развернуть 26-ю гвардейскую танковую бригаду полковника Нестерова: развернуть в районе Плоты фронтом на юг и надёжно прикрыть левый фланг армии.
Ротмистров почему-то волновался за левый фланг. Волновался даже сейчас, когда подкреплять его ушли боевые подразделения из корпусов Скворцова и Бурдейного. Он хотел было на какое-то время расслабиться, как ему тут же позвонил командующий Воронежским фронтом генерал армии Ватутин.
— Павел Алексеевич, я приказываю вам немедленно объединить части резерва 5-й гвардейской танковой армии и 11-ю и 12-ю гвардейские механизированные бригады, а также 26-ю гвардейскую танковую бригаду в одну, в особую бригаду. Вы поняли меня?
— Слушаюсь, Николай Фёдорович! На кого прикажете возложить командование?
— Я думаю, на генерала Труфанова! Ватутин, немного помолчал. — Поймите и намотайте себе на ус: эта бригада, совместно с 81-й и 92-й гвардейскими дивизиями 69-й армии должна окружить и уничтожить противника в этих чёртовых селениях — Ржавце и Рындинке! Вы поняли меня? А к исходу дня — это тоже приказ! — бригада Труфанова должна, обязана даже выйти на рубеж Шахово-Щелоково.
К середине дня голова у Ротмистрова пошла кругом: и из-за несмолкаемого шума и грохота идущего боя, и из-за принятия многочисленных рапортов и сообщений. Павел Алексеевич уже всерьёз и с тревогой подумывал о том, что он больше не выдержит такого бесподобного испытания и непременно сегодня же сойдёт с ума. Но вскоре пошли более приятные донесения из корпусов. Его очень, например, обрадовало то известие, что на главном направлении — и именно к середине дня — уже чётко обозначился успех. Нанося немцам большие потери и в живой силе, и в технике, первый эшелон 5-й гвардейской танковой армии яростно теснил и теснил противника.
— Что же, — обрадованно думал Ротмистров, щуря глаза, — по-моему, мы уже выполнили самую главную задачу — во встречном сражении сумели остановить и смять ударную группировку сильного врага, который рвался на Прохоровну вдоль железной дороги. Конечно, территорию мы выиграли незначительную, но в данный момент это не суть как важно — Важно то, что танковый клин противника, надломленный ещё под древней Обояныо, здесь, под Прохоровкой, сломлен окончательно!».
Павел Алексеевич потёр щёки, потянулся к оперативной карте, пальцем — игнорируя карандаш — провёл по ней. Так:
18-му танковому корпусу удалось выйти на рубеж в — двух километрах восточнее Андреевки; 29-й танковый корпус совместно с подразделением 53-й мотострелковой бригады подполковника Липичева, перебив хребет частям танковых дивизий СС «Мёртвая голова» и «Адольф Гитлер», вырвался к совхозу «Комсомолец»; бригады 2-го гвардейского. Тацинского танкового корпуса гвардии полковника Бурдейного, сметая со своего пути части дивизии СС «Райх», стремительно наступали в направлении Виноградовки и Беленихино; 2-й танковый корпус генерал-майора Попова активными действиями обеспечивал стык между 29-м и 2-м гвардейским Тацинским танковыми корпусами. Дальнейшая задача корпуса Попова — развить успех этих двух корпусов.
Ротмистров нервно встал, несколько раз прошёлся по блиндажу. У него снова начало падать настроение. И было отчего: очень волновало генерала тяжёлое положение, сложившееся на правом фланге его армии. Хитроумный Манштейн, не добившись ожидаемого успеха в центре — на Прохоровском направлении — сделал неплохой манёвр: силами 11-й танковой дивизии 48-го танкового корпуса он обошёл наш 18-й танковый корпус и нанёс сильный и неожиданный удар по 33-му гвардейскому стрелковому корпусу генерала Козлова из 5-й гвардейской армии. Вражеским танкам к часу дня удалось прорвать боевые порядки 95-й и 42-й гвардейских стрелковых дивизий на участке Красный Октябрь — Кочетовка и продвинуться в северо-восточном и восточном направлениях до рубежа Весёлый-Полежаев.
«Н-да», — подумал Павел Алексеевич, по-прежнему измеряя шагами просторный блиндаж, — в ближайшее время нам предстоит решить нелёгкую задачу: во-первых, ликвидировать — и немедленно! — угрозу правому флангу и тылу армии; во-вторых, оказать посильную помощь соседу — генерал-лейтенанту Жадову, командующему 5-й гвардейской армией. У Жадова — увы! — совершенно нет своих танков и у него слишком мало средств артиллерийского усиления. И, кроме всего этого, объединение это вступило п сражение буквально с ходу, и главные силы развёртывало под воздействием уже наступавшего противника. А это, чёрт побери, не очень интересно и выгодно в тактическом отношении».
Ротмистров снова сел, пододвинул к себе карту, побарабанил по ней пальцами. Да, резерв; 5-й гвардейской танковой армии уже был задействован, и Павлу Алексеевичу приходилось выделять для помощи генералу Жадову силы из главной группировки, что было, конечно же, нежелательно. Но ничего не попишешь! И он направил 24-ю гвардейскую танковую бригаду гвардии полковника Карпова в район совхоза имени Ворошилова. Бригаде было приказано — во взаимодействии с правофланговыми частями 18-го танкового корпуса и пехотой 5-й гвардейской армии — разгромить противника у хутора Полежаева! Одновременно 10-я гвардейская механизированная бригада под командованием полковника Михайлова спешно выдвигалась к району хутора Остренький. Хутор этот расположен в девяти километрах северо-восточнее Прохоровки. Задача перед бригадой Михайлова ставилась следующая: не допустить продвижения противника и северо-восточном направлении. Манёвр этих бригад в указанные им районы — стремительный и мощный — и решительный удар по прорвавшимся гитлеровским танкам сразу же выровнял, стабилизировал положение на смежных флангах 5-й гвардейской танковой и 5-й гвардейской армий. Войска противника, несмотря на сильное сопротивление, вынуждены были здесь отступить и перейти к обороне.
А сражение кипело, стремясь к своему апогею, и близкие разрывы то и дело сотрясали блиндаж, из которого мощной стальной армией Страны Советов умело руководил Павел Алексеевич Ротмистров.
ГОТ ДОКЛАДЫВАЕТ
Генерал-фельдмаршал Манштейн нервничал. Он ожидал донесения от Гота, а донесения всё не было. И это наводило командующего на довольно-таки грустные мысли.
Наконец-то сообщили, что Гот на связи.
— Я слушаю вас, генерал! — прокричал в трубку Манштейн. — Доложите оперативную обстановку!
— Господин генерал-фельдмаршал, — послышался голос Гота, — извините за опоздание, но на это были объективные причины.
— Ближе к делу! — потребовал Манштейн.
— У нас наблюдается оживлённая деятельность вражеских самолётов, особенно севернее Лучек Северных. Танковая группа продвигается для захвата высот вокруг Правороти. Прорвавшийся русский с оружием и ранцем обстрелял посты командного пункта…
— Это не делает вам чести, генерал Гот! — холодно подчеркнул Манштейн. — Что с этим… русским?
— Он ушёл!
— Очень приятно, генерал! — зло бросил Манштейн. — Докладывайте дальше!
— Враг пытался сильными соединениями пехоты в сопровождении многочисленных танков прижать как фронт дивизии «Адольф Гитлер», так и, прежде всего, плацдарм дивизии СС «Мёртвая голова». Бросается в глаза наступление увеличившейся, сравнительно с первой неделей, пехоты. Правое крыло дивизии «Райх» на прежних позициях, левое — в развороте на юго-восток.
— Понятно! — сказал Манштейн.
Гот продолжал:
— В настоящее время наблюдается местный прорыв танков и пехоты противника на правом отрезке дивизии «Мёртвая голова». Но, я считаю, что эго не опасно.
— Вы так считаете?
— Так точно! Наши воины показывают чудеса храбрости.
— Даже так? — усмехнулся Манштейн.
— Я приведу пример. Унтерштурмфюрер СС Ганс Меннель — командир взвода 6-го танкового полка дивизии «Райх» — во главе своего взвода своим танком, выходя за рамки приказа, в районе Калинин-Тетеревино-Лучки подбил восемь танков восьмого июля, у Грязного — десять танков и две надцатого июля на участке Калинин-Ясная Поляна — шесть вражеских танков…
— Подготовьте наградной лист! — приказал Манштейн, и тут связь прервалась.
Манштейн ругнулся и бросил трубку на рычаги…
… Сражение продолжалось.
БЕРЁЗА ДЛЯ ВЛАДИМИРА
Вода в реке — быстрая и чистая — доходила Никанору до груди, и он, чтобы не замочить пистолет, поднял его высоко над головой. Уже перед самым берегом, торопясь изо всех сил, он споткнулся об упавшее дерево и с головой окунулся в прохладную воду. Сразу же вынырнув, он чертыхнулся, потому что невольно выпустил из руки пистолет. Хотел было поискать его в иле, но, обернувшись, увидел быстро бегущего за ним с искажённым от ярости лицом Владимира; и Никанор, плюнув смачно и с омерзением в его сторону, выскочил на противоположный берег Псла. Берег здесь был заросшим густой осокой, лозняком и пышными вербами, а чуть дальше, в небольшом просвете между деревьев, на еле заметной возвышенности виднелись аккуратные домики какого-то хутора. Это и был хутор Полежаев, родной хутор танкиста Фёдора, по этого капитан Зенин никак не знал. Как не знал названия хутора и преследующий его и обезумевший от ярости лейтенант Кошляков.
Зенин бежал, прихрамывая на стёсанную о дерево ногу, петляя между деревьями и больше не оглядываясь назад, и уже с наступающим облегчением думал, что оторвался наконец-то от своего разъярённого преследователя, как вдруг задыхающийся голос Владимира — откуда-то сбоку и неожиданно — приказал ему:
— Стой, Никанор! Стой, сволочь!
И Никанор, словно вмиг парализованный хриплым голосом Кошлякова, тотчас повиновался ему. Он остановился, бессильно прислонился к дереву, шумно и прерывисто выдохнул:
— Ну, чего тебе? Чего тебе надо?
Владимир, наставив пистолет на Зенина, пытаясь отдышаться после этой немыслимой погони, молчал. Зенин исподлобья взглянул прямо в глаза Кошлякову и криво усмехнулся.
— За брата будешь мстить? — спросил он с издёвкой. — За то, что подругу я у него увёл? А?…
Владимир по-прежнему молчал, не сводя с Никанора глаз.
— Чего молчишь, Кошляков? Ну, чего молчишь, а? А ведь это не по-мужски будет, если за брата, от которого женщина ушла, мстить будешь?
Владимир медленно вытер кровь, сочившуюся со лба.
— Я никогда не вмешиваюсь ни в чьи любовные конфликты, Никанор, и ты это прекрасно знаешь. И я не собираюсь мстить за брата.
— Так в чём же дело, лейтенант?
— Я отомщу, Зенин, за только что пролитую кровь женщины. Девушки!.. Которую ты убил… Незаслуженно убил.
Зенин зло прищурил глаза и вдруг, быстро схватив с земли увесистый сук, со страшным воплем стремительно бросился на Владимира. Лейтенант даже не шевельнулся. Лишь три раза хладнокровно нажал на спусковой крючок пистолета… Из пробитой головы Никанора резко вырвался неуправляемый фонтан крови, и капитан Зенин, выпустив из рук уже не нужный ему увесистый сук вербы, навзничь рухнул к кусту боярышника
Владимир пристально смотрел на сразу же успокоившееся тело бывшего однополчанина, и в нём, откуда-то из потаённых глубин широкой души, начало расти, подниматься вверх чувство жалости к Никанору. Он как-то неровно сделал шаг в его сторону, медленно и даже с опаской присел перед ещё тёплым телом капитана, неуверенно протянул руку к его полевой сумке… И тут страшный удар по голове резко бросил его на землю, мгновенно оглушил, заставил потерять сознание.
Очнулся Владимир Кошляков в хуторе и сразу же увидел себя привязанным к обгорелой высокой берёзе. Какой-то плотный мужик с чёрной повязкой на глазу небрежно лил на его гудящую от боли голову студёную воду из обшарпанного ведра. Владимир, неловко глотнув воды, закашлял.
— Ну что, — участливо спросил одноглазый, — очухался?
Владимир несколько раз глубоко вздохнул, приходя в себя, встряхнул головой. Огляделся. Кроме одноглазого мужика возле него стояли два эсэсовца, а чуть в отдалении— несколько человек хуторян. Хуторяне, в основном женщины, смотрели на него печально и то и дело вжимали головы в плечи, когда недалеко разрывались снаряды, да бросали косые взгляды туда, где— рвались эти самые снаряды. Совсем недалеко полыхал, бился в сильнейшей агонии кровавый бой. Это шло встречное танковое сражение…
К Владимиру подошёл насмешливый моложавый и уверенный в себе эсэсовец.
— Господин лейтенант, — произнёс он на ломаном русском языке, — вы есть наш пленний. Я — унтерштурмфюрер Курт Дитрих, это, — он показал на пожилого немца, — это есть оберштурмбанфюрер Вернер Хорст, а это, — палец Дитриха ткнул воздух в сторону одноглазого мужика, — наш полицейский Митья Клык.
— Очень приятно, — криво усмехнулся Владимир. — И что же дальше?
— В другой обстановка, — продолжал унтерштурмфюрер, — ми би вас допросить, как и полагайтьс, но… — он сделал вид, что очень внимательно к чему-то прислушивается, — но идёт большой сражений, и у нас нема времьени.
Владимир поднял голову кверху, глаза его заскользили по небу. Сини неба — не было. Солнце, стоящее сейчас в самом зените, скрывалось за чёрным смрадным дымом, как азиатка за паранджой. И он вздохнул глубоко и разочарованно.
— Ми вас расстреляйт! — картавил дальше Курт Дитрих. — В назиданий этим быдла!
Он небрежно указал на молчаливых и испуганных хуторян, сбившихся в кучку.
— Но перед тем как лейтенант умрёт, ми хотелъ бы узнать ваш имья. Кто ви?
Владимир хотел было гордо выпрямиться, назло немцам, стать поудобнее, но верёвки крепко притягивали его к тёплому стволу обгоревшей берёзы.
— Меня зовут лейтенант Кошляков, — громко, чтобы слышали хуторяне, сказал он. — Запомните — Кошляков!.. А родом я — из Подмосковья… Товарищи, вы слышите этот страшный грохот боя? Через несколько часов наши войска будут здесь! Потерпите немно…
Унтерштурмфюрер и Митька Клык выстрелили одновременно.
Когда довольные собой и жизнью немцы и полицейский, ушли, дядька Мирон и тётка Феклуша отвязали молодое мёртвое тело Кошлякова от берёзы и закопали его в огороде. Рядом с племянницей Настенькой.
— Полежите, детки, — прошептал, смахивая слёзы, дядька Мирон, — скоро за вас отомстят… Ох, скоро!
НОЧЬ ПОСЛЕ ДВЕНАДЦАТОГО
Кошляковы и Фёдор, засучив рукава, вновь возвратили к жизни свою лихую «тридцатьчетвёрку». Поставили они её «на ноги» уже к вечеру. Ожидая, когда же появится Владимир, они успели похоронить на левом берегу Псла красивую Фаину.
Владимир же к танку так и не вернулся…
Василий, связавшись по рации с комбатом Чупрыниным, получил приказ немедленно прибыть в расположение батальона, чтобы дозаправиться, и приготовиться к дальнейшим боям. И к самому ближайшему — к завтрашнему. И они прибыли в указанное им место.
Фёдор Полежаев угрюмо молчал. Он думал и о Владимире, который непонятным образом куда-то запропастился совсем недалеко от его хутора: может, ранили его, сердечного, и лежит он в лесочке или в болоте под Полежаевым, а может, и стукнула его в грудь шальная пуля, убив наповал; думал он и о родном хуторе, и об отце и матери: как они там — живые или уже мёртвые, думают ли о нём или уже давно перестали думать. Нынешнее сражение вплотную подошло к хутору, возможно, что завтра заполыхает он горячим костром и вообще исчезнет с лица земли. Господи, да отведи ты беду от хутора и от всех его жителей!
Сумрачными и невесёлыми выглядели и братья Котляковы. Они сейчас были заняты мыслями только о без вести пропавшем брате Владимире. Они совсем не верили, что его могут убить немцы: не такой он человек, чтобы вот так запросто расстаться с жизнью. Не мог его, тем более, убить и Никанор Зенин. Ума у Зенина не хватит, чтобы сделать, это! И сноровки…
Каждый член экипажа сейчас думал о своём, о близком и кровном, о том, что его тревожило в данный момент. И им было не до того, что к исходу дня двенадцатого июля противник усилил сопротивление на Прохоровском направлении, а повлияло на это введение гитлеровцами в бой своих вторых эшелонов и резервов. Они — и Кошляковы, и Полежаев— не знали, что немцы ввели в бой свежие танковые части; не знали, что в условиях, когда гитлеровцы добились явного превосходства в танках, Ротмистров категорически решил, что наступать сейчас нецелесообразно; не знали они, что тот же Ротмистров, с разрешения представителя Ставки Василевского, приказал всем корпусам закрепиться на достигнутых рубежах; не знали, что командующий армией приказал подтянуть поближе артиллерийские противотанковые полки и отбивать атаки противника огнём танков, и артиллерии. Но зато и братья Кошляковы, и Фёдор Полежаев знали, всем сердцем чувствовали и догадывались, что назавтра им предстоит такое же по мощности и размаху — если ещё не больше! — сражение. Танкистам предстояло дозаправить машины горючим, пополнить боеприпасы, хорошенько поесть. Без этого в сражение вступать нельзя!..
А ночь уже наступала, распластывая неслышно свои бесконечные и тёмные крылья над ужасным на вид полем битвы стальных титанов. Было душно — и не столько от июльского, ещё дневного воздуха, как от гари порохового дыма и всё ещё оседающей с немыслимой высоты пыли. И было тихо. Отдыхали уставшие немцы. Отдыхали уставшие русские. И было ещё — тревожно…
— Где же сейчас Володя? — уже который раз вслух задавал себе вопрос Валентин и каждый раз тяжело вздыхал, не находя на него ответа. — Я ж ведь письмо сегодня маме отправил, написал, что все живы…
Василий не отзывался на бесполезные вопросы брата, а, широко раскрыв глаза, всё смотрел и смотрел в небо, где зажигались и становились всё ярче далёкие звёзды. А небу берегов и не было, и сколько звёзд уходило туда, куда не проникал взор Василия Кошлякова, он и не мог себе даже представить. Когда-то в детстве ом спрашивал у взрослых, сколько, мол, звёзд на небе, и ему отвечали — столько, мол, сколько волос на голове. Гм, а сколько же тогда волос на голове, удивлялся тогда маленький Васятка и получал ответ: столько, сколько звёзд на небе. И он тогда всерьёз задумывался над тем, что, дескать, волосы на голове за какое-то длительное время всё равно можно посчитать, а вот возможно ли пересчитать в этом безбрежном космическом океане все-все-все звёздочки?…
Полная, без щербин, луна холодно и тускло, даже словно бы с испуганным недоумением смотрела со своей неприкосновенной высоты на поле сегодняшнего, беспримерного до сих пор в этой войне, боя. Поле неузнаваемо было изуродовано нынешним сражением, и до сих пор полыхали ещё зловещим в ночи огнём нескошенные нивы, нагретые июлем леса, близлежащие к западу и юго-западу от Прохоровки деревни — Прелестное, Юдинка, Кострома…
Фёдор Полежаев, очнувшись от своих мыслей, прислушался:
— А что это за взрывы у немцев в тылу? Ничего не понимаю…
— Это, Фёдор, — пояснил Василий, — немцы делают доброе и полезное для себя дело: танки свои подбитые подрывают.
— Зачем?
— Чтобы нам не достались.
— И не жалко им?
— Наивный ты парень, Полежаев: мы ведь тоже при отступлении всё уничтожаем: и тапки, и мосты.
— А надо ли это делать, товарищ лейтенант? Уничтожать… Ведь столько труда люди вложили в строительство! И времени сколько на это угрохали. А взорвать-это за одну секунду можно! Запросто!
Василий ничего не ответил заряжающему. Промолчал, прислушиваясь к мочи. А ночь, несмотря на кажущуюся тишину, не молчала. Откуда-то доносились до Кошлякова приглушённые голоса, сдавленное урчание автомобильных моторов, нечаянное позвякивание металла о металл.
«Не спят солдатики, — подумал Василий, — не всем ночью положено отдыхать. Да и то, правда! Надо же кому-то помощь раненым оказывать, собирать на поле боя и хоронить убитых, танки подбитые отбуксирывовать в тыл… А сапёры!.. Да они ж ведь самые, что ни есть, настоящие ночные труженики войны!».
Раздумья Василия о ночных бойцах войны прервали самым неожиданным образом — нахально дёрнули за рукав. Он резко повернул голову, чтобы отбрить какого-то слишком непоседливого однополчанина, но вместо предполагаемой небритой физиономии увидел лицо Алины. Он хотел раскрыть рот, чтобы спросить — она это или не она, но Алина осторожно и быстро приложила палец к губам-молчи, мол, — и шёпотом спросила:
— Я не помешала?
Василий мотнул головой:
— Ты что? Ты что говоришь-то, Алина?
Алина присела к Василию, осмотрелась.
— Что-то я Володю не вижу, где он? — спросила она, не видя его поблизости от кошляковского Т-34.
— Неизвестно… Пропал… — ответил Василий и тяжело вздохнул. — Погнался за одним гадом и… пропал!
— Пропал? Вот совпадение! А у нас Фаина пропала тоже, нигде не можем её отыскать.
— Фаину мы, Алина, похоронили… Убита она…
Василий хотел было сказать, что убил Фаину — самым что ни есть предательским образом — Никанор Зенин, но потом решил промолчать: пусть Алина думает, что её подруга погибла геройски.
— Пусть земля ей будет пухом! — прошептала Алина. — Вася, а у нас ещё и Веру убило — помнишь её? Снарядом ноги оторвало и… живот весь разворотило…
— Алина! — перебил шёпот девушки Кошляков.
— Что, Васенька?
— Ты береги себя, ладно?!
— Ладно, милый… А ты знаешь, мне ведь пора…
— Почему? Почему уже пора?
— Я ведь на минуточку к тебе забежала…
Она нежно обхватила голову Василия, прижала её к груди:
— Васенька, дан нам Бог остаться в живых! Дай Бог!..
Молча и внимательно слушавший их шёпот Фёдор, услышав эти самые просящие о жизни слова Алины, почему-то вдруг крупно вздрогнул, на — его глаза навернулись слёзы жалости и нежности к этим молодым людям, и он, незаметно для Алины и Василия, перекрестил их.
Кошляков, проводив Алину, улёгся около танка и тут же уснул. Его примеру последовал Валентин, а затем и Полежаев.
Сон их был недолог. Его буквально как рукой сняло, когда землю что есть силы встряхнул первый взрыв тяжёлой авиабомбы. А что началось дальше твориться, — ни братья Кошляковы, ни Фёдор пересказать уже не могли. Да они б и не сумели это сделать даже под приказом.
— Вот это утренний подъемчик! — старался перекричать ужасающий вой стремящихся вниз авиабомб Полежаев. — Разбудили не так, как петухи в нашем хуторе будят!
— Эта утренняя гимнастика теперь минут тридцать будет питься! — отозвался Василий, плотнее вжимаясь в землю.
— А потом фрицы и в наступление попрут! — тоже прокричал не зная кому Валентин. — Ну и пусть наступают: мы их заставим «Гитлер капут!» кричать!
А взрывы тяжёлых авиабомб продолжали мощно и жутко сотрясать ни в чём не повинную Прохоровскую землю. Начинался рассвет тринадцатого дня жаркого июля…
ПРИЕЗД ЖУКОВА
Павел Алексеевич тоже вскочил с лежанки, где он прикорнул пару часов — не раздеваясь, когда земля вдруг содрогнулась от соприкосновения с тяжёлыми немецкими авиабомбами.
«Ну, началось!» — подумал он с тихой злостью, а сам уже начал связываться с командирами корпусов, требовать от них докладов о готовности войск к бою, рекомендовать им использовать как можно активнее — и особенно на флангах — противотанковую артиллерию. На неё сейчас много надежды возлагается!
Потом Ротмистров попросил адъютанта приготовить ему чай, и, пока Земсков занимался приготовлением крепкого бодрящего напитка, начал наблюдать за утренним небом, которое заполонили тяжело гружённые бомбами «юнкерсы». Но немцам недолго пришлось царствовать в небесах под Прохоровной: в небе вдруг появились стремительные советские истребители. Они бесстрашно ворвались в боевые порядки немецких бомбардировщиков, и закипел бой. «Юнкерсы» повернули вспять, в сторону запада, сбрасывая неиспользованные бомбы уже над своей территорией. «Ястребки» успели сбить несколько самолётов противника и ушли восвояси. А им на смену ринулись волной советские штурмовики и бомбардировщики, и град смертоносного груза обрушился на районы скопления мотопехоты фашистов и, особенно, танков.
Земсков подал чай, и Ротмистров, попивая его, подумал:
«А вообще-то, авиация у нас стала намного лучше, она начала чувствовать себя хозяином в воздухе! И нам какую помощь оказывает! Нам — танкистам!.. Пилоты 2-й воздушной армий генерала Красовского очень надёжно прикрывали нас от ударов фашистской авиации. Да что там прикрытие! Авиаторы Красовского умудрялись уничтожать танки гитлеровцев, применяя для этого противотанковые бомбы кумулятивного действия. Сколько таких бомб вмещается в бомбоотсеки штурмовика? По-моему, штук двести. Бомбы кумулятивного действия создают большую зону поражения и, естественно, урон врагу наносят довольно-таки ощутимый…»
— Василий! — Ротмистров поставил стакан с недопитым чаем на стол. — Скажи шофёру, пусть подгоняет «виллис»: я еду на свой командный пункт.
— Слушаюсь! Но… товарищ командующий, по-моему, не нужно спешить с выездом. Ещё очень опасно ехать.
— Это по-вашему не нужно спешить, а по-моему, уже пора выезжать. Действуйте!
— Слушаюсь, товарищ генерал!
На КП Ротмистрова встретил дежурный офицер.
— Товарищ командующий армией, — отрапортовал он, — вас ожидает заместитель Верховного Главнокомандующего Маршал Советского Союза товарищ Жуков!
— Жуков на моём командном пункте? — растерялся от неожиданности Ротмистров. — Почему же раньше не сообщили мне об этом?
Дежурный офицер снова козырнул:
— Товарищ командующий, с маршалом прибыл и член — Военного совета Воронежского фронта генерал-лейтенант Хрущев.
— Что-нибудь случилось? — спросил Ротмистров.
Дежурный офицер неопределённо пожал плечами.
Георгий Константинович Жуков находился явно не в духе и на Ротмистрова из-под насупленных бровей смотрел мрачно.
— Какова обстановка в полосе действий 5-й гвардейской танковой армии? Доложите! — приказал заместитель Верховного Главнокомандующего.
— Утром, после короткого артобстрела, более пятидесяти танков противника в сопровождении цепи мотопехоты первыми атаковали 18-й танковый корпус. Но здесь они просчитались: войска корпуса за ночь сумели подготовиться к встрече врага. Противотанковая артиллерия и наши танки, подпустив фашистов на дистанцию пятьсот-шестьсот метров, прямой наводкой…
— Я попрошу вас, Павел Алексеевич, не вдаваться в изложение мелких подробностей! — перебил Ротмистрова Жуков. — Прододолжайте!
— Прошу прощения, товарищ Маршал Советского Союза, но в моём докладе нет мелочей!
— Да? Что ж, тогда я внимательно вас слушаю!
— Огонь прямой наводкой был эффективен: много немецких танков было поражено. Оставшиеся в целости и сохранности продвигались вперёд, но нарывались на мины, расставленные ранее. Мотопехота немцев также продолжала движение вперёд, что было крайне не выгодно для нас. И тогда последовал залп 80-го гвардейского миномётного полка полковника Семченко. «Катюши» прекрасно сделали своё дело: противник вынужден был откатиться назад. 18-й танковый корпус, прикрывшись частью сил справа в связи с отходом левого фланга 5-й гвардейской общевойсковой армии, развил вступление на Андреевку и вскоре ворвался в это село. 81-я танковая бригада подполковника Пузырёва, входящая 18-й танковый корпус, внезапно атаковав колонну вражеских танков, продвигающуюся к Михайловке, на её плечах вошла в Васильевку.
Жуков строго взглянул на Ротмистрова, отрывисто бросил:
— Что вы скажете мне, генерал, о 29-м танковом корпусе?
— Части этого корпуса, товарищ Маршал Советского Союза, вели упорные бои с танковой дивизией СС «Мёртвая голова» в районе совхоза «Комсомолец». Эта дивизия, введя в сражение свой второй эшелон, потеснила нашу 53-ю мотострелковую бригаду. Пришлось приложить большие усилия для того, чтобы остановить немцев.
Георгий Константинович презрительно скривил губы:
— Как же, наслышан!.. Остановили немцев… в одном километре юго-восточнее совхозного посёлка «Сталинское отделение»!..
Ротмистров промолчал, а Жуков махнул рукой: продолжайте, дескать.
— Одна из бригад 2-го гвардейского Тацинского танкового корпуса была переброшена в полосу 69-й армии, но и без неё корпус после перегруппировки перешёл в наступление и к полудню силами 25-й гвардейской танковой и 4-й гвардейской мотострелковой бригад достиг западного берега реки Лога.
— И что же дальше, генерал Ротмистров? — Жуков прищурил глаза, трудно шевельнул тяжёлым подбородком, — Может, расскажете, как танковая дивизия СС «Райх», действующая в стыке между 2-м и 2-м гвардейским Тацинским корпусами, мощными фланговыми атаками захватила Сторожевое? И в придачу — северную окраину Виноградовки?
— Мне в данном случае нечего сказать в своё оправдание, — ответил Павел Алексеевич. — Именно здесь сейчас нависла угроза прорыва, и ликвидировать её мы должны срочно и сами.
Хрущев, обычно весёлый и разговорчивый, ни на кого не глядя, ковырял носком сапога ком чернозёма и молчал, не желая, видимо, вмешиваться в разговор мрачно настроенного заместителя Верховного Главнокомандующего и командующего армией. А Жуков опять тяжко бросил:
— Что с Зимовниковским корпусом?
— С этим корпусом всё обстоит более-менее нормально.
— А если без «более-менее»?
Ротмистров старался понять, какая муха укусила этого талантливого, но с крутым характером полководца, который не трепетал, как все остальные военачальники, даже перед Иосифом Виссарионовичем Сталиным. Однако, понять причину мрачного настроения Георгия Константиновича было чрезвычайно трудно, да и не было на это никакого времени.
— Войска 5-го гвардейского Зимовниковского механизированного корпуса, — продолжал Павел Алексеевич, — с рассветом выдвинулись в район Александровки-Большие Подъяруги, где сражался сводный отряд генерала Труфанова, состоящий из частей моего резерва и 69-й гвардейской танковой бригады 2-го гвардейского Тацинского корпуса. А в это же самое время полковник Борисенко искусным манёвром вывел свою 12-ю гвардейскую механизированную бригаду во фланг и тыл противника, которого сковали 11-я гвардейская механизированная и 26-я гвардейская танковая бригады.
— Вы не можете, генерал, докладывать покороче? — опять поморщился Жуков.
— Я уже заканчиваю. В заключение хочу сказать, что во второй половине дня Зимовниковский корпус, взаимодействуя с 92-й гвардейской стрелковой дивизией 69-й армии и при активной поддержке артиллерии и авиации, отбросил немцев в южном направлении, и, хочу подчеркнуть, закрепился на рубеже Щелоково-Рындинка-балка юго-восточнее Выползовки. Кроме того, товарищ Маршал Советского Союза, зимовниковцы прочно обеспечили смежные фланги 7-й гвардейской и 69-й армий. Бои были кровопролитные, и в их ходе потерпела поражение 19-я танковая дивизия 3-го немецкого танкового корпуса, а её 73-й и 74-й моторизованные полки разгромлены были полностью.
— Это всё? — спросил Жуков.
— Так точно! — ответил Ротмистров. — На данный момент мне не о чём вам больше сообщить!
— Хорошо. Поедемте со мной в 29-й танковый корпус!
— Слушаюсь, товарищ маршал! Вот Только…
Жуков пристально взглянул на Ротмистрова, недовольно спросил:
— В чём дело, генерал?
— Я хотел бы вас попросить сесть в мою машину…
— Товарищ Ротмистров, вы меня удивляете! Почему я должен ехать в вашей машине?
— Дело в том, что я только что прибыл от генерала Кириченко.
— И что из этого следует? местности много неразорвавшихся мин и снарядов, а мой шофёр прекрасно знает полевую дорогу и прекрасно довезёт нас в 29-й танковый корпус, по своим же следам.
— Как скажете, — пожал плечами Жуков, — я — человек негордый, могу прокатиться и на вашей машине.
И Георгий Константинович по-хозяйски направился к «виллису» Ротмистрова. Многочисленная охрана поспешила за ним и, как только он сел, вмиг густо облепила машину. Словно рой пчёл.
Ротмистров, взглянув на этот рой, невольно улыбнулся, а заметивший эту улыбку Жуков, тотчас спросил:
— По какому поводу веселье? А, Павел Алексеевич?
— Простите, но мы так не доедем до КП Кириченко, — ответил Павел Алексеевич, — рессоры на «виллисе» лопнут.
Жуков хмыкнул и молча, одним жестом руки, удалил охрану, оставив в «виллисе» лишь двоих адъютантов — своего и Ротмистрова. «Виллис» тронулся с места; за ним поспешила машина Никиты Сергеевича Хрущева с офицерами охраны.
Они проехали совсем немного, когда Георгий Константинович приказал шофёру остановить машину. Он вышел — и долго, и пристально рассматривал нелицеприятную картину только что сегодня, можно сказать, состоявшегося танкового сражения. Боже, Боже!!! Даже виды видавший маршал дрогнул сердцем и душою, увидев искорёженные и сожжённые танки, в пух и в прах раздавленные артиллерийские орудия, бронетранспортёры и автомашины, куски разорванных напрочь гусениц и целые горы— снарядных гильз!..
— Война!.. Чёртова война!.. Да здесь же ни одной зелёной былинки не осталось! — с болью в голосе прошептал маршал, а увидев разбитую «пантеру» и врезавшийся в неё танк Т-70? тихо сказал: — Вот что значит сквозная танковая атака…
— Товарищ Маршал Советского Союза, посмотрите, пожалуйста, вправо! — попросил Ротмистров.
Жуков повернул голову: чуть в отдалении, вздыбившись высоко в воздух, в стальных объятиях намертво схватились «тигр» и «тридцатьчетвёрка». Поражённый увиденным, маршал медленно снял с головы фуражку, обнажая лобастый череп, и крепко-накрепко зажмурил глаза…
Около командного пункта Кириченко, не доезжая до него метров двести, Жуков снова приказал шофёру остановиться — Он снова озабоченно вышел из «виллиса» и подошёл к танку, хозяин которого отдыхал, прислонившись к башне.
— Товарищ танкист! — окликнул его Георгий Константинович.
Задумавшийся танкист медленно повернулся и, увидев маршала и его блестящую свиту, попытался вытянуться в струнку и чуть было не упал с танка…
— Лейтенант Кошляков! — всё же вытянулся он по-уставному, отдавая честь маршалу:
— Владимир? — невольно воскликнул Ротмистров, пристально вглядываясь в прокопчённое лицо лейтенанта. — Это вы, Владимир?
Жуков повернул лицо к Ротмистрову:
— Вы знакомы?
— Так точно!
— Никак нет, товарищ генерал, мы не знакомы! — перебил его танкист. — Я — Валентин, тоже Кошляков. Я брат его… Владимира брат… Мы — близнецы…
— А… где же Владимир?
Валентин Кошляков опустил руку и сразу же упавшим голосом произнёс:
— Нет его… Пропал он сегодня… Без вести…
Жуков, услышав последние печальные слова лейтенанта, ничего не стал у него спрашивать, а круто повернулся и быстро зашагал к «виллису». Офицеры поспешили за ним…
Генерал Кириченко находился на КП и сразу же чётко и ясно доложил маршалу об обстановке в корпусе.
— Я благодарю вас, Иван Фёдорович, и в вашем лице благодарю весь личный состав корпуса за проявленное мужество в борьбе против немецко-фашистских захватчиков! — Жуков крепко пожал руку Кириченко.
— Служу Советскому Союзу! — выкрикнул тот, смущённо краснея.
— И прошу вас, генерал, в ближайший срок представить наиболее отличившихся к правительственным наградам!
— Слушаюсь, товарищ Маршал Советского Союза!
… Ещё где-то, примерно, с час Георгий Константинович Жуков находился на командном пункте комкора, вглядываясь в развернувшуюся перед ним картину боя. Но к тому времени обе воюющие стороны, исчерпав свои наступательные возможности, вели лишь огневой бой, и то — слабый. И поэтому редко около КП Кириченко рвались снаряды, только чуть почаще их посвистывали пули.
Жуков не выдержал:
— Всё, Павел Алексеевич, едемте на ваш командный пункт! — Кстати, я забыл вам сообщить, что я назначен представителем Ставки Верховного Главнокомандования на Воронежском н Степном фронтах. Так что прошу любить и жаловать!
— А как же Александр Михаилович? — поинтересовался Ротмистров. — Что с ним?
— Василевскому Ставка поручила координировать боевые действия Юго-Западного и Южного фронтов, — ответил маршал — Вам ясно?
— Ясно!..
ВТОРОЕ ПРИШЕСТВИЕ КОШЛЯКОВА
Они снова мчались в атаку. Мчались в обход по глубокой балке, с тем, чтобы выскочить внезапно фашистам во фланг и в упор расстрелять хвалёные немецкие танки в боковую броню, поддающуюся советским снарядам.
— Ребята, — взволнованно кричал Валентин, — поверите ли, нет, но я недавно — только что! — с самим маршалом здоровался. В двух метрах от него стоял!
Василий хохотнул неверяще:
— Во сне, что ли, брательник, тебе маршал руку пожимал?
— Причём здесь «во сне», и причём здесь «руку пожимал»?. Просто он остановился около меня — я его не видел, задом к нему стоял — и говорит таким голосом: «Товарищ танкист!»
— И говорит так маршал: «Товарищ танкист, повернись к немцам задом, а ко мне передом!» — смеётся вовсю Василий. Ну и умора! Тебе только в цирке работать, клоуном!
— Ты чего, Васька, не веришь мне? Да я клянусь!.. Окликнул меня так маршал, я обернулся — и чуть с танка не упал…
— Валентин, а что ж это за маршал к тебе здороваться подходил? Если всерьёз, не брешешь, конечно… Василевский, что ли?
— Да причём здесь Василевский? Тоже мне сказанул! Жуков ко мне подходил, Георгий Константинович!..
Василий прямо заржал:
— По-моему, брательник, у тебя сдвиг на поэтической волне! Сам Жуков почтил тебя высочайшим вниманием!..
— А орден вам этот маршал не нацепил случайно на мужественную грудь — поддержал Василия Федька Полежаев, чумазая морда которого тоже расплылась в ехидной ухмылке.
— Орден «Сутулова»! — заикал от смеха Василий.
— Вы что, ребята? — всерьёз недоумевал Валентин. — Вы совсем не верите мне, что ли?… Даже ты, Фёдор, верующий в Бога человек, сомневаешься в правдивости моих слов?
В наушниках послышался осипший голос комбата Чупрынина:
— Ну, орлы, приготовсь! Хватит банки травить! Выходим на ударную позицию! Все за мной! А-та-ку-у-ем!..
И Кошляковы, и Фёдор сразу же перестали препираться. Их танк вслед за другими рьяно вынырнул из глубокой бал— си и сразу же очутился с левого бока ползущих в сторону командного пункта 29-го танкового корпуса хищных и малоуязвимых фашистских «тигров».
— На абордаж, ребята! — прокричал Чупрынин, и его танк стремительно понёсся на— сближение с ещё ничего не подозревающими немецкими танками.
Через несколько минут сегодняшнее небо боя стало походить на вчерашнее — дым, огонь, взрывы, треск и писк в наушниках, где русские команды крепко переплелись с немецкими: всё это снова свалилось на головы несчастных танкистов. И снова танки ударного батальона окончательно ослепли, потеряв задуманный Чупрыниным строй и сражаясь с врагом сами по себе, слово дуэлянты-одиночки. И снова непредсказуемая карусель боя выкинула разгорячённый танк Кошляковых к левому берегу тихого Псла.
— Вижу!.. Вижу!.. Вижу!..
— Чего ты там видишь, Полежаев? — не оборачиваясь к Фёдору, поинтересовался Василий. — Интересное что-то или так просто орёшь, как поросёнок резаный?
— Да хутор же я свой вижу! Хутор! Понимаете?
— Где? — спросил Василий. — Где ты его видишь? Покажи!
— Да вон же! Смотрите правее!.. За лесочком!..
Заинтересовался объектом, вызвавшим неописуемую радость Фёдора, и Валентин. Он тоже скосил взор направо, но, признаться по-честному, ни черта не видел. Не увидел он из-за этого и крутого обрыва, прозевал его — начавшаяся на полном ходу «тридцатьчетвёрка», перекувыркнувшись два раза, грузно плюхнулась на обе гусеницы на самое дно оврага…
Валентин пришёл в себя первым. С разбитого лба обильно сочилась кровь, застилала глаза, и он ничего не видел.
— Васька! — позвал он почему-то шёпотом. — Фёдор!. — Где вы, ребята?
Никто ему не откликнулся. Валентин, постанывая, выполз наружу через нижний люк. Всё тело его страшно болело. Он хотел встать на ноги, но ноги его совсем не слушались. Совсем! И тогда Валентин, стиснув крепко зубы, пополз. Пополз по направлению к реке. А со всех сторон грохотало, над головой свистели пули и осколки, и до зубной боли скрежетал металл.
Валентин дополз до реки, окунул разгорячённую голову в воды Псла. Сразу, вроде бы, полегчало.
Он немного отполз от реки, лёг спиной на траву, раскинул руки и забылся. В голове его мелькали воспоминания из его небольшой и не богатой на какие-то чрезвычайные события жизни. Он вдруг отчётливо увидел себя ещё мальчишкой, играющим с братьями и соседскими пацанами в «Чапаева», увидел маму с иголкой в руке, штопающую их часто рвущиеся штанишки и рубашонки; увидел он и Фаину, нежно обнимающую и целующую его. А потом Валентин увидел ещё раз Фаину: она, вроде бы, пригласила его к себе домой; он пришёл, Фаина с мамой своей жила на первом этаже пятиэтажного дома, — позвонил, Фаина приоткрыла дверь и, не впустив его, сказала: подожди, мол, на улице. Он вышел во двор, а там, на скамеечке, сидели его знакомые девчата. И Валентин не на шутку перепугался — засмеют ведь, увидев его с Фаиной, всем об этом расскажут. Он снова вернулся в подъезд. Вышла Фаина, взяла его под руку и заглянула ему в глаза. И он сразу же забыл о знакомых девчатах, сидящих во дворе на скамейке, забыл обо всём. Фаина была такая нежная, такая женственная и внимательная к нему, что Валентин от прилившего к нему счастья чуть не заплакал, чуть не сошёл с ума!..
И тут он очнулся. И первым делом вспомнил о танке, об оставшихся в нём ребятах — брате Василии и Фёдоре Полежаеве. Как они там — живые ли, мёртвые? И ещё он подумал: «И как это башня не оторвалась, когда танк кувыркался в овраг? Не иначе, Фёдор успел молитву прочесть…»
Валентин перевернулся на живот, упёршись руками в землю, с трудом поднялся. Кровь из рассечённого лба липко и противно хлынула на лицо.
Валентин смахнул кровь с глаз и вдруг ясно, отчётливо увидел перед собой ствол немецкого автомата, направленный ему прямо в лицо. Автомат держал противного вида мужчина с чёрной повязкой на глазу. Он повёл автоматом в сторону и коротко выдохнул.
— Пойдём!
Валентин хотел было спросить «Куда?», но в этот миг сознание снова покинуло его.
Когда Валентин снова пришёл в себя, он был уже в небольшом хуторе и стоял, прислонившись к стволу обгоревшей берёзы. Чтобы он не упал, его крепко привязали к дереву верёвкой.
Перед ним стояли два эсэсовца и полицай. То, что одноглазый — прихвостень фашистов, Валентин сообразил сразу — По повязке нарукавной сразу догадался…
Старший по возрасту и званию эсэсовец что-то отрывисто и сердито пролаял младшему, а тот, в свою очередь повернулся к одноглазому.
— Митья, оберштурмбанфюрер требует, чтобы с пленний офьицер обходилься гут, хорьошо, — сказал он. — Обмойте лицьо лейтнант водой! Ми будем говорить с ним!
Клык автоматом кивнул тётке Феклуше, и та, прихватив ведёрко и тряпицу, начала обмывать залитое кровью лицо Валентина, и по мере того, как лицо его очищалось от крови, тётка Феклуша всё больше и больше округляла свои глаза. Перед ней стоял тот самый лейтенант, которого она с Мироном вчера похоронила на своём огороде, рядом с Настенькой.
Полез на лоб и единственный глаз Митьки Клыка. Растерялись и невозмутимые до сих пор эсэсовцы — Только вчера, именно здесь, на этом самом месте, они почти в упор расстреляли именно этого человека, а он, оказывается, жив!..
— Ты жив? — удивлённо спросил Клык, немного заикаясь.
— Пока жив! — ответил ему насмешливо Валентин. — Ещё и разговариваю…
— Ты — Иисус? — опять спросил Митька. — Ты воскрес?
— Я — комсомолец. А комсомольцы — не воскресают. Они — бессмертны!
— Чушь! — прошептал изумлённый полицейский. — Чушь!.. Изыди, сатана!..
Наконец-то, справившись с волнением, сделал робкий шаг вперёд Курт Дитрих:
— Как есть твой фамилий?
— Меня зовут лейтенант Кошляков! — громко ответил Валентин. — Я — Кошляков!
— Майн готт! — прошептал изумлённый унтерштурмфюрер, невольно отступая назад.
Вздрогнул поневоле Митька Клык; изумлённый шёпот прошелестел по толпе хуторян: никто не хотел верить в воскресение убитого вчера лейтенанта Кошлякова, в его второе пришествие!.. Но — факт был налицо: вчерашний лейтенант Кошляков стоял перед ними!
Дитрих судорожно рванул кобуру пистолета:
— Мы будем смотреть, воськресьнешь ли ти ешшо один раз?!
Выстрелы из пистолета были заглушены длиннющей очередью автомата Митьки Клыка.
… Дядька Мирон и тётка Феклуша к вечеру соорудили третий холмик на своём огороде…
ДОНЕСЕНИЕ СТАЛИНУ
Маршал Советского Союза Александр Михайлович Василевский, которому Ставка Верховного Главнокомандования доверила теперь своё представительство на Юго-Западном и Южном фронтах, сидел за столом, заваленным всевозможными картами, и составлял донесение Иосифу Виссарионовичу Сталину, где подробно излагал боевую обстановку в районе Прохоровки.
А писать ему было о чём. В сражении одновременно участвовало до тысячи двухсот танков и самоходных орудий. По количеству боевых машин немцы превосходили русских. И они заранее торжествовали свою победу. Но гитлеровцы не учли одного — мужественного героизма советских солдат, и эта ошибка дала о себе знать почти сразу же. Немцы понесли огромные потери: только за двенадцатое июля противник лишился свыше трёхсот' пятидесяти танков и потерял более десяти тысяч человек убитыми. И фашистская армада, строившая далеко идущие планы, споткнулась под Прохоровкой, забуксовала — Но насколько, на какое время — тогда этого ещё никто не знал…
Василевский кончил писать и начал перечитывать своё творение. Не дай Бог будут ошибки или помарки. Сталин этого категорически не любил. Маршал внимательно вчитывался в текст своего донесения:
«Согласно Вашим личным указаниям с вечера 9.VII.43 г. беспрерывно нахожусь в войсках Ротмистрова и Жадова на Прохоровском и южном направлениях. До сегодняшнего дня включительно противник продолжает на фронте Жадова и Ротмистрова массовые танковые атаки и контратаки против наступающих наших частей. Ликвидация прорыва армии Крюченкна, создавшая 11.VII серьёзную угрозу тылам главных сил армии Ротмистрова и корпусу Жадова, потребовала выделения двух мехбригад из 5-го механизированного корпуса и отдельных частей Ротмистрова в район Шахово, Авдеевка, Александровская. Ликвидация же прорыва армии Жадова в районах Весёлый, Васильевка, Петровка 12.VII.43 г. вынудила бросить туда остальные части 5-го механизированного корпуса. То и другое в значительной мере ослабило силы основного удара Ротмистрова со стороны Прохоровки в юго-западном направлении. По наблюдениям за ходом происходящих боёв и по показаниям пленных, делаю вывод, что противник, несмотря на огромные потери как в людских силах, так и особенно в танках и авиации, всё же не отказывается от мысли прорваться на Обоянь и далее на Курск, добиваясь этого какой угодно ценой. Вчера сам лично наблюдал к юго-западу от Прохоровки танковый бой наших 18-го и 29-го корпусов с более чем двумястами танков противника в контратаке. Одновременно в сражении приняли участие сотни орудий. В результате всё поле боя в течение часа было усеяно горящими немецкими и нашими танками.
В течение двух дней боёв 29-й танковый корпус Ротмистрова потерял безвозвратными и временно вышедшими из строя 60 проц. и 18-й корпус-30 проц. танков. Потери в 5-м механизированном корпусе незначительны. Назавтра угроза прорыва танков противника с юга в район Шахово, Авдеевка, Александровская продолжает оставаться реальной. В течение ночи принимаю все меры к тому, чтобы вывести сюда весь 5-й механизированный корпус, 32-ю мотобригаду и четыре полка ИПТАП. Учитывая крупные танковые силы противника на Прохоровском направлении, здесь на 14.VII главным силам Ротмистрова совместно со стрелковым корпусом Жадова поставлена ограниченная задача — разгромить противника в районе Сторожевое, севернее Сторожевое, совхоз «Комсомолец», выйти на линию Грязное-Ясная Поляна и тем более прочно обеспечить Прохоровское направление.
Не исключена здесь и завтра возможность встречного танкового сражения. Всего против Воронежского фронта продолжают действовать не менее одиннадцати танковых дивизий, систематически пополняемых танками. Опрошенные пленные показали, что 19-я танковая дивизия на сегодня имеет в строю около 70 танков, дивизия «Райх» — до 100 танков, хотя последняя после 5.VI 1.43 уже дважды пополнялась. Донесение задержал в связи с поздним прибытием с фронта.
2ч. 47 м. 14.VI 1.43. Из 5-й гвардейской танковой армии».
Василевский окончил чтение и свободно вздохнул: донесение Сталину можно отправлять.
ЧЬТО ЗА ПРОКЛЯТИЙ СТРАНА!
Василий с каким-то не свойственным ему остервенением колотил кулаками по крепкой броне танка, и слёзы отчаяния брызгали у него из глаз.
— Да что же это за жизнь такая! — выкрикивал он. — Почему я ничего не могу понять! Почему? Владимир пропал: где и как — неизвестно! Валька — только что был с нами, и вот его тоже нет!.. Куда он мог деться? Куда?…
Фёдор Полежаев задумчиво молчал и то и дело бросал сосредоточенные взгляды в сторону реки и дальше, на её противоположный берег. Псёл в этих местах был узок, ещё разлился он в полную мощь, как перед впадением в Днепр, не раздался в берегах. Псёл здесь только начинался. Начинался с родников, которые давали жизнь реке отсюда, от этого места километрах в шести выше.
Какая-то потаённая и необходимая именно сейчас мысль мелькала в голове Фёдора, но он всё никак не мог её уловить. Что-то в его крестьянском мозгу, пока ещё туманно и расплывчато, ассоциировалось вместе с танком, с рекой, с его родным хутором, примостившемся на том берегу Псла.
— Товарищ лейтенант! — тихо окликнул он Котлякова.
Тот отозвался не сразу: сначала перестал бить кулаки о броню, потом вытер глаза и лишь затем повернулся к Полежаеву.
— Чего тебе?
— Товарищ лейтенант…
— Зови меня Васей. Понял?
— Хорошо, товарищ лейтенант… Я вот подумал сейчас… Может быть, нам стоит пробраться в мой хутор? Вот он, рукой подать…
— Зачем, Фёдор?
— Понимаете, товарищ лейтенант…
— Зови меня Васей!..
— Хорошо, товарищ лейтенант!.. Ваши братья загадочно пропали именно здесь, в этом месте, недалеко от хутора. Я и подумал, вдруг в хуторе мы о них что-либо узнаем? Может быть, и живы они…
Василий долго раздумывал, наконец, спросил:
— На тапке мы, в хутор не проедем?
— Именно здесь, в этом месте, — нет. Тут почва болотистая, непременно застрянем. Есть мостик ниже по течению, но он под самым Прелестным. И я не уверен, что он сейчас цел и невредим.
— Хорошо, Фёдор, оставим танк здесь и быстренько смотаемся в твой хутор. Глядишь, и прояснится чего-нибудь насчёт Володьки и Валентина.
Они, прихватив оружие, быстро переправились через реку, прошли, разгоняя многочисленных лягушек, по болотистому, зыбкому берегу и окунулись в густой кустарник, обильно прокрапленный высокими вербами. На краю кустарника Фёдор остановился, пристально вглядываясь вперёд, где показались побелённые глиной и мелом стены хуторских домиков.
— Спокойно, товарищ лейтенант! — прошептал Полежаев. — Не надо торопиться,
— Ты чего остановился, Фёдор?
— Посоветоваться нужно.
— Насчёт чего?
— Я так думаю, товарищ лейтенант: вы побудете здесь, меня подождёте, а я осторожненько в хутор проберусь. Только никуда не уходите, прошу вас. Если всё спокойно окажется, я вам рукой махну. Ну, а если… неудача какая постигнет, отходить буду, — Фёдор любовно погладил ствол автомата — под музыку; а вы меня — прикроете.
— Фёдор, — горячо прошептал Кошляков, — будь осторожен, Фёдор! Ты ж ведь… один у меня остался…
— Бог нам поможет, товарищ лейтенант. Я в него верую. Ну, бывайте!..
Полежаев припал к траве и, извиваясь ужом, пополз по направлению к хуторским хатам. Кошляков залёг за деревом, удобно разместив в его развилке автомат.
«Что ж, я подожду тебя, Фёдор, — подумал он. — Ты иди и не волнуйся, парень: я тебя не подведу…»
Как не был чуток и насторожён Кошляков, но всё же он прозевал подошедшего к нему сзади человека. И только когда прямо за его спиной неожиданно треснула под чьей-то ногой сухая ветка, он резко обернулся. Позади него стоял, хищно раздувая побелевшие ноздри, мужчина с чёрной повязкой на глазу. Немецкий автомат в его руке был направлен прямо в лицо Василия.
— Загораешь? — насмешливо спросил одноглазый. — Солнышко-то печёт, как в аду. Да ещё с поля, с того, где шум и гам стоит, жаром несёт.
Кошляков молчал, не сводя глаз со злобной физиономий незнакомца. А тот опять насмешливо произнёс:
— Что, танкист, гадаешь, кто я такой и откуда взялся? Не гадай, не утруждай свои куриные мозги! Вот кто я!..
Митька Клык на какой-то миг отвёл автомат в сторону, чуть повернулся, показывая полицейскую повязку на рукаве. Именно такого момента и ожидал Кошляков: словно невидимая, но мощная пружина подкинула его с земли и бросила на одноглазого, но одноглазый оказался проворнее: прикладом автомата он сильно и расчётливо ударил Василия в висок, и тот без лишних движений рухнул на землю…
Когда Василий очнулся, полицай стоял перед ним уже с двумя автоматами.
— С пробуждением тебя, лейтенант Кошляков! — издевательски хохотнул Клык. — Вставайте с землицы, а то ненароком простудитесь!
— Откуда мою фамилию знаешь, иуда? — Василий встал, исподлобья посмотрел на одноглазого. — Я ж, по-моему, не давал тебе свои анкетные данные.
— Да как же мне не знать твоей фамилии, Кошляков? Я, увидев тебя, сначала прямо-таки опешил: грешным делом подумал — уж не свихнулся ли я?
Клык противно, как-то рассыпчато рассмеялся, не сводя своего горящего ненавистью взора с Кошлякова.
— А потом я понял: нет, Митька (Митька — это я), ты не свихнулся с ума и не бредишь в сраной горячке! Просто иногда на белом свете случаются всяческие чудеса. И в том числе — рождение прекрасных тройняшек. Как в сказке: три молодца — с одного лица!..
— Ты на что это, гад ползучий, намекаешь?
— А чего мне намекать? Я прямо тебе говорю: за два дня я уже двоих Кошляковых — на одну рожу схожих — собственноручно расстрелял! А тут, глянь — кось, и третий в мои руки попался! И тоже, небось, Кошляков, а? От одного и того же отца…
— Ты угадал, мерзкий крысеныш! — воскликнул Василий, наливаясь гневом и злобой от услышанного о братьях от их палача. — Я действительно Кошляков! И ты зря сказал мне о том, что собственноручно убил моих братьев… Сейчас ты в этом убедишься!
И он снова бросился на одноглазого. И на этот раз — удачно, хотя Клык и ожидал этого, его прыжка. Кулак Василия чётко вписался в зрячий глаз Митьки и сбил Клыка на землю. Кошляков не стал ожидать, когда полицай поднимется, а коршуном бросился на него. Они, сплетаясь в тесных объятиях, словно два сильных удава, покатились по траве — вскрикивая, стоная, изрыгая проклятья и хватая друг друга за горло, за уши, за шею.
Митька Клык оказался мужиком жилистым. Это Василий почувствовал уже через несколько минут жаркой и стремительной схватки. И ещё он почувствовал, как постепенно уступает одноглазому полицейскому, — ещё немного и силы Василия совсем покинут его — И что тогда?
Василий, собрав оставшиеся силы, рванулся, пытаясь сбросить насевшего на него Клыка, и… И, к его величайшему изумлению, это ему удалось! Причём, удалось очень даже легко: Клык вдруг как-то безвольно обмяк и неловко свалился на бок при первом же толчке лейтенанта. Кошляков схватил автомат, вскочил, и первая свинцовая очередь насквозь пронзила грудь и чёрное сердце одноглазого Митьки Клыка.
— Вот тебе!.. — прошептал, задыхаясь от нелёгкой схватки и от ярости, Василий и снова нажал на курок. — За братьев!.. За Вальку!.. За Володьку!..
Потом он стоял, ошеломлённый только что случившимся и услышанным чуть ранее от теперь уже мёртвого Клыка, — о братьях. И он не услышал сразу детского голоса, громко окликавшего его. А когда услышал, то обернулся. В нескольких шагах от него стоял десяти-одиннадцатилетний мальчуган с суковатой палкой в руках.
— Тебе чего, мальчик? — глухо и отрешённо спросил Василий.
— Мне?… Я… ничего… — смутился парнишка. — Просто…
— Что «просто»?
— Просто я вам помог, дяденька военный. С полицаем управиться…
— Ты? Как это ты мне помог? Не пойму…
Мальчуган в ответ поднял суковатую палку.
— А-а, понял, — сказал Кошляков, — так это ты его… этой твоей… вещью… по голове саданул?
Парнишка утвердительно кивнул головой.
— Молодец! А я думаю, чего это он весь обмяк так внезапно?… А ты его, значит палкой по кумполу!.. Тебя как зовут?
— Василёк.
— Тёзка мой, значит… Ты Полежаевых знаешь? Ну, Фёдор у них есть, сын, на войне сейчас… Вот и хорошо, сходи к ним, позови их сюда.
— Хорошо, дяденька военный, я сейчас, — с готовностью выкрикнул мальчуган, — я мигом!..
Василий сидел около убитого им Клыка, обхватив голову руками, и думал о братьях, которые теперь уже никогда — никогда не вернутся домой под свою родную крышу. Не вернутся, даже если война окончится сегодня. Ах, что же будет делать мама, когда узнает о таком невыносимом для неё горе?!
Он отнял руки от лица, медленно встал, и вдруг его затылок ощутил леденящее прикосновение холодной стали.
— Хенде хох! — сказали сзади по-немецки, а потом и по-русски. — Руки вверх, советски офьицер!
Василий поднял руки, а другие руки — чужие руки! — привычно обшарили его с ног до головы
— Повэрнитесь! — приказал тот же голос, и Кошляков, не опуская рук, натянуто повернулся.
Перед ним стояли два эсэсовца. Они в упор смотрели на несчастное, но, в то же время, не выражающее перед ними совсем никакого страха лицо Кошлякова. Наоборот, Василий, не опустивший перед ними глаз, увидел, как медленно, как постепенно покрываются смертельной бледностью лица гитлеровцев, как постепенно расширяются и начинают вылезать на лоб их изумлённые глаза — Василий услышал, как что-то в ужасе пробормотал старший по возрасту и званию — обер-штурмбанфюрер, и младший, в нашивках унтерштурмфюрера, заикаясь, спросил у него, у Василия:
— Лейтенант Кошляков?
— Да, я — лейтенант Кошляков! — хрипло ответил Василий. — А что?
— О, майн готт! — вскричал младший эсэсовец, хватаясь в испуге и отчаянии за голову. — Чьто за страна?! Чьто за люди?! Ми два раза убивайт, расстреляйт лейтенант Кошляков, а он снова жив!.. О-о, Россия — проклятий страна!
Он повернулся к старшему эсэсовцу и что-то залопотал ему по-своему. Оберштурмбанфюрер Вернер Хорст, а это был он, побледнел ещё больше, вскинул было пистолет, целясь из него в Кошлякова, но пистолет вдруг выпал из его трясущейся от страха руки. Немец неистового замычал, мотая головой из стороны в сторону, и, как пьяный, двинулся по направлению к реке. Его остановил резкий пистолетный выстрел. Хорст, испуганно сжавшись всем телом, замер, потом, поняв, что стреляли не в него, медленно обернулся. На траве навзничь, раскинув руки, лежал его сослуживец Курт Дитрих. Рядом ещё дымился его «вальтер». Рука у Курта не дрогнула…
Хорст, приглушённо застонав, обхватил голову руками и бегом бросился к берегу Псла. Он пробежал всего несколько шагов, но тут очередь из ППШ прозвучала справедливым приговором, и Вернер, так и не оторвав рук от головы, лицом вниз, рухнул на землю.
Стрелял Фёдор Полежаев, который в эти минуты был взбешён до безумия.
— Товарищ лейтенант! — хрипел он яростью и жаждой мести. — Они сестру мою… Настеньку… двоюродную… А она позже… повесилась… Вы понимаете, товарищ лейтенант? А? Настеньку они!..
Василий поднял лицо с посиневшими глазницами, строго взглянул на Полежаева.
— Помолчи, Фёдор! Они… братьев моих… тоже убили!.. Володю и Валю…
— Убили?… Откуда вы знаете?
Кошляков кивнул на застреленного им Клыка:
— Он рассказал… Перед смертью…
— Ясно… А мне, товарищ лейтенант, очень сестричку жаль… Лучше бы меня убило!..
Василий промолчал.
— Я к своим забегал, — продолжал Фёдор, — мать расплакалась: говорит, что я жив остался, лишь благодаря её молитвам да тому, что я в Бога верую…
— А почему тогда я до сих пор жив? Я ведь в существование Бога совсем не верю!.. Фёдор, ты действительно веришь в то, что тебе мать сказала?
— Как зам ответить, товарищ лейтенант… Маме я всегда верю. И во всём.
— Это ваше, Фёдор, дело, семейное: можете верить в Бога, можете не верить. Мне всё равно…
— Что же будем делать, товарищ лейтенант?
Кошляков повернул голову, глянул через плечо за реку, на поле, где ещё вспыхивали вовсю зарницы неистового боя, где горели хлеба и чёрный дым беспросветно коптил июльское небо.
— Нам, Фёдор, туда надобно, — вздохнул он, — там сейчас наше место. Вот только экипаж у нас, к сожалению, не укомплектован.
Фёдор вытер пальцами глаза, шмыгнул носом:
— Нам сегодня помогут.
— Кто?
— Отец мой — он тракторист отменный и с танком запросто справится— и Василёк.
— Постон, это не тот парнишка, который мне сегодня помог?
— Да — Его заряжающим поставим, — дело нехитрое.
Кошляков долго молчал, не зная, к какому же решению ему прийти в этом случае, потом махнул рукой.
— Ладно, пусть попробуют, денёк повоюют. Но где. они, Фёдор, помощники наши?
— Сейчас будут: харч в дорогу собирают…
РИСКУЯ СОБОЙ
— Товарищ подполковник! Павел Алексеевич!
Ротмистров нехотя поднял голову с руки, на которую опирался, надел очки и досадливо обернулся. За его спиной стоял адъютант.
— Ах, Василий, это ты? Извини, — задремал немного. Тебе чего?
— Чаю хотите, Павел Алексеевич? Горяченького…
— Чаю? Чаю хочу. А нет ли у тебя к этому божественному напитку чего-нибудь такого… вкусненького… пожевать?
— Найдём, товарищ командующий — Всё в наших руках, всё в наших силах.
— Гм, а чего это ты, товарищ Земсков, как-то загадочно улыбаешься?
— Я? Просто рад за вас, вот и улыбаюсь.
— Это почему же рад?
— У вас аппетит — тьфу, тьфу — не сглазить! — появился, а это значит, что дела в армии пошли на лад.
— Вот как? Да ты, Василий, оказывается, очень наблюдательный человек. Нат Пинкертон против тебя — ничто! Ладно, неси чего-нибудь покушать, будем живот отращивать.
Земсков исчез. А Ротмистров заглянул в свой дневник.
«… Сегодня уже семнадцатое июля. Бегут дни — денёчки, спешат. Сегодня уже и представить страшно, в каком напряжении прошли дни двенадцатого июля, тринадцатого! Просто ужас, что творилось на поле под Прохоровкой! Историкам в будущем работы здесь предстоит — по самое горло. И, кто знает, может, и сравнят эту страшную битву танкистов с битвами под Бородино или на поле Куликовом…
Четырнадцатого и пятнадцатого июля бои на поле также продолжались, но наибольшая их активность наблюдалась лишь па флангах армии. Немцы ещё по инерции тешили себя надеждой прорваться в наш армейский тыл. И не только тешили: на левом фланге танковая дивизия «Райх» да ещё с соединениями 3-го немецкого танкового корпуса мощно ударила — вдоль Северского Донца — по боевым порядкам 2-го гвардейского Тацинского корпуса и, чёрт побери, потеснила наши части. Еле выкрутились гвардейцы из этой катавасии!
Н-да, много крови пролито было за эти дни, много примеров героизма было показано — Вот, например, экипаж младшего лейтенанта Татаричова подбил четыре танка и четыре бронемашины. Хорошо это? Прекрасно! Конечно же, прекрасно!
К вечеру пятнадцатого числа немцы здорово выдохлись, и на всём фронте армии стояло совсем не ожидаемое никем затишье. Даже артогнём они нас не беспокоили. Выдохлись! Выдохлись, сволочи! Перелом наступил! Пе-ре-лом!!! Тогда ночью меня на КГ! генерала армии Ватутина вызвали. Николай Фёдорович меня, можно сказать, очень обрадовал, проинформировав, что немецкое командование, согласно данным разведки, только что приняло решение об отводе 4-й танковой армии и оперативной группы «Кемпф» на рубежи, с которых они начали своё неудачное наступление. Нашу, 5-ю гвардейскую танковую армию, тоже намечалось отвести с передовых позиций — в резерв. Потому что очень остро всплыла необходимость пополнить её личным составом и боевой техникой. И это — радовало! Честное слово — радовало!
Сегодня утром, после короткой, но мощной артиллерийской подготовки, мы снова наступали. Снова было трудно, и продвигались мы вперёд черепашьими шагами. Черепашьими, по-передвигались… Значит, враг пятился… Значит, враг — отступал…»
Земсков принёс покушать и, прежде, чем Павел Алексеевич приступил к трапезе, адъютант получил приказание— подготовить «виллис» командующего к поездке.
… Сражение полыхало и страшно гудело уже далеко за наблюдательным пунктом: гвардейцы, сами обильно истекая кровью, всё дальше и дальше на запад теснили прославленные дивизии ОС. Да, сражение ещё продолжается, но хребет стальной немецкой армады уже основательно надломлен и итог этого жуткого и крупнейшего танкового поединка, кажется, предрешён…
«Виллис» быстро мчался в сторону Берегового. Не доезжая до села километра два, Ротмистров приказал шофёру остановиться. И вот почему он это сделал: Павел Алексеевич увидел не совсем обычную картину — слева от дороги стоял подбитый советский танк. Ходовая часть его была искорёжена, ствол пушки, словно подпиленный сверху, уныло смотрел своим окончанием в покрытую пеплом землю. Но не вид танка заинтересовал и удивил командующего армией. Он был поражён, увидев на башне пожилого, одетого в гражданскую одежду мужчину и мальчугана лет десяти-одиннадцати.
— Здравствуйте! — поздоровался Ротмистров. — Я прошу прощения, но… мне интересно, почему это вы на танк забрались? Зачем? С чьего позволения?
— Мы по делу! — ответил мальчишка, лукаво прищурив глаз.
— По какому такому делу? Машина — военная, вы…
Тогда вмешался пожилой мужчина.
— Извините, товарищ генерал, но мы — экипаж этого танка.
— Как это — экипаж? — ещё больше изумился Ротмистров.
— А так! Временный экипаж, только на сегодняшний день. Василёк вот — он заряжающий. А я — за водителя.
— Ну и дела! — протянул Ротмистров, протирая очки. — А как же вас звать-величать?
— Мы родом из хутора Полежаева. Он недалече отсюда, за речкой. А зовут меня — Мироном.
— Ясно, но как же вы?… — Павел Алексеевич недоумевающе развёл руками и показал на танк. — Как в экипаж попали?… Где ваш командир?
Полежаев постучал прикладом автомата по башне:
— Хлопцы, вылезайте! Начальство вас требует! — и пояснил: — Они там ремонт делают.
Из люка вылезли Василий и Фёдор. Кошликов, сразу же спрыгнув на землю, вытянулся перед Ротмистровым:
— Товарищ генерал, экипаж танка…
— Отставить! — прервал его командующий. — Я всё вижу сам… Это вы, Владимир? Или я ошибаюсь?
Ротмистров пристально вглядывался в лицо Кошлякова:
— А сказали, что вы пропали…
— Никак нет, товарищ генерал. Вы ошибаетесь немного: я — не Владимир. Владимир не пропал…
— Не пропал?
— Он — погиб…
— А кто же тогда вы?… Постойте-постойте, если вы не Владимир, тогда вы… Тогда вас зовут Валентином! Правильно я говорю? Вы брат Владимира! Помните, как маршал Жуков…
— Простите, товарищ генерал, но я — увы! — и не Валентин.
— Как? И не Валентин? Но тогда где же он?
— Он тоже… погиб…
— Да-а?… Чёрт побери, тогда кто же вы? Разве не Котляков?
— Я — лейтенант Кошляков! Василий Кошляков — командир танка и брат… Владимира и Валентина. Мы — троешки-близнецы… Были…
Ротмистров долго молчал, опустив взгляд, и желваки стремительно заходили в его скулах. Наконец, он сказал:
— Лейтенант Кошляков, представьте членов своего экипажа!
— Слушаюсь, товарищ генерал! Вот это — сержант Фёдор Полежаев; он из нашего настоящего боевого экипажа. Мирон… — извините, забыл, как по отчеству, — его отец, отец Фёдора; Василёк — тоже из того самого хутора. Они временно заменяют Владимира и Валентина.
— Как они?… Впрочем, давайте отойдём немного в сторону! — Ротмистров взял лейтенанта под руку, и они неторопливо пошли по сожжённому огнём хлебному полю.
В отдалении громыхал бой, но случайные шальные снаряды и мины рвались и близко отсюда, поэтому никто сразу и не услышал противный и всё нарастающий вой приближающегося снаряда. Первым услышал надвигающуюся опасность адъютант командующего:
— Ложн-и-сь! — закричал он истошным голосом. — Ложи-и-сь!
А сам огромными прыжками помчался к Ротмистрову и Котлякову.
Василий растерялся всего лишь на какую-то секунду, затем бросился на генерала, смял его, сбил с ног и навалился на него всем телом сверху. Снаряд разорвался почти рядом с ними…
Подбежавший Земсков в горячке столкнул лейтенанта с генерала, поднял Ротмистрова:
— Павел Алексеевич, дорогой, целы? Бот и хорошо, вот и прекрасно! Никуда не ранило?
— Ранить не ранило, а вот помять — помяло. У лейтенанта силы-то, как у медведя! — пошутил Ротмистров. — Как прижал, даже дыхание перехватило! Ладно, Кошляков, вставайте, я не буду ругаться за нападение на, командующего!..
Василий игнорировал шутку, генерала Ротмистрова: он ничего не ответил на неё, он и не встал с земли. Он даже не пошевелился. Он лежал на левом боку, и угасающий взгляд его был направлен в сторону удаляющегося от Прохоровки сражения; в сторону, где погибли его любимые братья: в сторону, где ещё сражались с врагом его однополчане и его любимая и несравненная Алина, ещё не знавшая о его гибели…
Адъютант командующего, пробормотав — «Извини!» — наклонился к Кошлякову: спину отважного танкиста глубоко пробуравили два стальных с зазубринами осколка, третий невидимо зарылся в тело…
Подбежал Фёдор Полежаев, упал с ходу на колени, приподнял безвольную голову Василия, повернул её к себе.
— Вася!.. Вася!.. — неверяще прошептал он и вдруг, устремив глаза в небеса, дико закричал: — Господи! Да есть ли ты на свете?! Господи!.. За что невинным смерть посылаешь?…
Ротмистров, поняв, наконец-то, в чём дело, снял с головы генеральскую фуражку, молча стоял перед убитым лейтенантом, который только что отдал свою жизнь за него — за Ротмистрова, а по щекам его катились крупные мужские слёзы. Потом он поманил адъютанта.
— Василий, похороните лейтенанта с почестями. И… и всех братьев Котляковых представьте к награде… Посмертно… Я проверю… Лично!..
— Слушаюсь, Павел Алексеевич!
… Спустя некоторое время Ротмистров находился на своём командном пункте. Уже сгущались по-летнему серенькие сумерки, а он всё думал и думал о бесстрашных братьях Кошляковых и о тысячах других солдат и офицеров, которые погибли в эти жаркие июльские дни, погибли в расцвете сил, не увидев по-настоящему прекрасной жизни в набиравшей силу Стране Советов…
Растроганный воспоминаниями и тяжёлыми раздумьями, Ротмистров сам себе плеснул в стакан водки и выпил залпом, не закусывая.
— Павел Алексеевич, — заглянул к нему адъютант, — командующий войсками Воронежского фронта прибыл!
Николай Фёдорович Ватутин был усталый до бесконечности, но, как всегда, приветливый и обходительный. Пожимая руку Ротмистрова, он кивнул на початую бутылку:
— Что, Павел Алексеевич, припекло, если в одиночку эту жидкость употребляете?
— Припекло, Николай Фёдорович, — согласился Ротмистров, — сегодня вот вместо меня человека убило… Меня собой загородил, спас от снаряда, а сам…
— Понимаю, — тихо сказал Ватутин. — Что ж, Павел Алексеевич, налейте и мне. Вроде бы и всё на нашем фронте удачно складывается, а на душе — тревожно…
Они выпили не стукаясь. Ватутин вытер губы и предложил, чуть усмехнувшись:
— Наливайте, Павел Алексеевич, по второму! Не нужно большого перерыва между первым и вторым стаканами делать.
Ротмистров взглянул в усталые глаза генерала армии.
— Разве есть какой-то повод? — спросил он.
— Да, Павел Алексеевич, повод имеется. Я выполняю своё обещание. С разрешения Ставки ваша армия, Павел Алексеевич, выводится в резерв фронта. Давайте за это и выпьем!
Они выпили ещё раз.
Ротмистров молчал, но в душе у него уже поднималась затаённая до сих пор радость. Ватутин же подошёл к распростёртой по столу карте и очертил карандашом район Яковлево-Большие Маячки-Грязное.
— Что ж, милейший Павел Алексеевич, можете передавать занимаемый вами участок Алексею Семёновичу Жадову. Но передавайте участок только вместе со 2-м и 2-м гвардейским танковыми корпусами. Вы хорошо поняли меня? И как только вы сосредоточитесь здесь, — Ватутин снова повёл карандаш по очерченному им району — Яковлево-Большие Маячки-Грязное, — приводите немедленно армию в надлежащий порядок.
Ротмистров крепко пожал руку Ватутину.
… В район сосредоточения, указанный командующим фронтом, 5-я гвардейская армия — без 2-го гвардейского Тацинского и 2-го танковых корпусов, переданных 5-й гвардейской армии генерала Жадова отошла в ночь на двадцать четвёртое июля…
… КАК НА РУСИ ПОВЕЛОСЬ
В ноябре 1943 года любимая женщина лейтенанта Владимира Котлякова, геройски погибшего на огненном прохоровском поле, родила в Подмосковье трёх мальчиков. Заряжающий «тридцатьчетвёрки», оставшийся в живых один из экипажа, часто писал этой женщине, а именно — Леночке Спасаевой, письма. Писал он ей и с фронта, и из своего родного хутора Полежаева, — это уже после войны, после того, как он вернулся домой из далёкого фашистского Берлина, где умудрился в избытке радости от победы нацарапать несколько слов на стене поверженного, дымящегося и смердящего рейхстага. И Леночка Спасаева регулярно отвечала на его письма.
После Дня Победы прошло целых три года. В июле от Леночки Спасаевой пришло в хутор Полежаев письмо, в котором она рассказывала, как живёт, как воспитывает детишек; да ещё Леночка поздравила Фёдора с тем, что он чудом уцелел, выжил в той железно-огненной схватке, произошедшей пять лет тому назад; и ещё Леночка Спасаева приглашала его в гости на пятилетний юбилей своих тройняшек.
Фёдор всё ещё не был женат, особо отпрашиваться не у кого было, отец и мать дали «добро» на поездку сына, и он, поцеловав их на прощание, в ноябре этого же года сел в поезд до Москвы. Ехал он ночь, а к полудню был уже и в Подмосковье.
… Леночка Спасаева и Фёдор Полежаев сидели за столом перед начатой уже — ими же — бутылкой, и Фёдор подробно и с какой-то необъяснимой грустью рассказывал о братьях Котляковых, о том, как они воевали, чем жили во времена фронтового затишья, как вели себя в различных, порой непредсказуемых ситуациях.
Когда он вконец выдохся и замолчал, Леночка плеснула ему в стакан водки, налила и себе.
— Фёдор, мы с вами уже выпили за моих детей…
Но ни Спасаева, ни Фёдор в этот раз не успели выпить. За окном послышался шум подъезжающей машины, затем звонко хлопнули дверцы кабины и тут же кто-то громко и настойчиво застучал в дверь. Леночка Спасаева недоумевающе взглянула на Фёдора, дескать, кого это там ещё принесло, и громко сказала:
— Входите, не заперто!
Дверь распахнулась, и в горницу вошли четверо военных. Полежаев от неожиданности вскочил и, как прежде, в военные годы, вытянулся по стойке «смирно»: он сразу же среди вошедших узнал бывшего командующего 5-й гвардейской танковой армией Ротмистрова. Он несколько раз видел его и запомнил на всю жизнь. С Ротмистровым в горницу вошли ещё два генерала и полковник.
— Здравствуйте, люди добрые! Здесь живёт Елена Анатольевна Спасаева? — спросил Павел Алексеевич, протирая стёкла очков и близоруко щурясь.
— Да, — растерялась Леночка, — я — Спасаева…
— А я — Ротмистров! — и Павел Алексеевич протянул женщине руку. — Слышали о таком?
Леночка только охнула и тут же принялась раздевать и рассаживать неожиданных, но дорогих гостей.
… Потом все пили крепкую водку и клопами отдающий коньяк. Пили за всё — и за мёртвых, оставшихся навечно на полях сражений Великой Отечественной войны, и за живых, и за солдат и генералов, и за женщин, и за подростков, которым и в тылу досталось лиха не на много меньше, чем на фронте.
Разгорячённый крепкими напитками сержант запаса совершенно забыл, что сидит в компании высших офицерских чинов. Он налил всем коричневой жидкости в стаканы, и, подняв руку, попросил тишины.
— Товарищи, мне довелось повоевать с братьями Котляковыми, довелось вместе с ними бить немцев. Они, Кошляковы, были прекраснейшие ребята! И ещё — они любили петь. Давайте и мы споём!.. А?…
— Конечно, Фёдор, споём! Какой разговор?! — согласился Ротмистров. — Какую только? Короче, ты начинай, мы подпоём…
Полежаев, некоторое время подумав, так, стоя, и запел:
Песню, так же, как и Фёдор, встав за столом, подхватили Ротмистров и сопровождавшие его генералы и полковник:
Леночка Спасаева вдруг негромко всхлипнула и продолжала петь, теперь уже закрыв глаза:
Песня была прекрасная, жизненная. У всех поющих выступили на глазах слёзы, а Фёдор Полежаев, расчувствовавшись, с размаху кинул кулак на стол:
… Леночка Спасаева плакала навзрыд. Её осторожно, по— отечески, обнимал за плечи Ротмистров,
— Ну перестаньте, Леночка! — успокаивал он её. — Перестаньте! Всё будет хорошо, вот увидите!
Из соседней комнаты показались три пятилетних карапуза, и, плаксиво скривив рожицы, уставились на мать.
— Мама, не плачь, — протянул один из них, — а то и мы сейчас заплачем…
Леночка Спасаева, взглянув на детишек, моментально перестала плакать, только глаза прикрыла ладошками.
— Ах вы, мои несмышлёныши! — смахнув слёзы со щёк, трогательно прошептала она. — Маму они жалеют… Я уже не плачу, маленькие мои. Не плачу. Идите в свою комнату, играйтесь: вон сколько вам игрушек понадарили — целый мешок прямо!
Фёдор встал из-за стола, подошёл к мальчишкам, сгрёб их в охапку.
— Ну и богатыри! — воскликнул он. — Крепкие — как папа… И на лицо — не отличишь! Сразу видно — Кошляковы…
И тут же осёкся, смущённо пробормотав:
— Извините, Леночка… А всё-таки очень уж они похожи на братьев Кошляковых…
— Действительно, Лена, очень карапузы ваши похожи на их отца и его братьев! — подтвердил Ротмистров. — Я-то знаю…
Леночка Спасаева молчала, немножко с грустью и тихой радостью глядя на сыновей, деловито вырывающихся из рук нежно улыбающегося Фёдора Полежаева.
— Леночка, — неловко кашлянул в кулак Павел Алексеевич, — извините за вопрос, не совсем скромный и не совсем тактичный. Вы — одна?…
Леночка повернула голову к Ротмистрову.
— Почему же это я одна? — усмехнулась она. — Нас аж четверо!.. Вот, посмотрите!
— Я… в другом смысле. Вы замуж не вышли?… Не собираетесь?…
Леночка отвела взгляд от Ротмистрова, покачала головой:
— Да кто ж меня возьмёт с таким «хвостом», кто позарится?… Мужиков-то после войны осталось почти что совсем ничего… А те, что с фронта вернулись — на молодых больше смотрят, на бездетных… У них выбор после войны большой! Где уж мне с тремя ребятишками на руках о муже мечтать!..
И она, вдруг судорожно сглотнув, тихо-тихо заплакала; из-под ладошек, прикрывающих глаза, потекли солёные струйки горьких слёз, а плечи зашлись в каком-то ознобе. Ротмистров смущённо замолчал. Отводили глаза в сторону и его спутники. А Фёдор, оставив тройнят-ребятишек, медленно подошёл к Леночке.
— Лена, — он осторожно отмял её руки от лица, взглянул в бездонные, наполненные горечью глаза, — Лена, не плачьте, пожалуйста. Я… Я хочу вам сказать… Выходите за меня замуж!..
Леночка перестала плакать и с изумлением смотрела в растерянное, смущённое и доброе лицо Полежаева. С неменьшим изумлением смотрели на него Ротмистров, генералы и полковник.
— Леночка, вы не подумайте, что я сейчас пьян, и всё то, что я говорю — пьяный бред, — Фёдор не отрывал нежно-решительного взора от всё ещё изумлённых глаз Спасаевой. — Я, если хотите знать, и ехал сюда с этой целью… Я много думал об этом и… и решил обязательно сделать вам предложение… Выходите за меня замуж!..
Леночка Спасаева, всё так же изумлённо, во все глаза смотрела на Фёдора и молчала, не в силах сообразить-о чём же, в конце-концов, идёт речь!
Ротмистров осторожно поднялся со стула, сделал знак своим спутникам. Они тихо оделись и молча вышли на улицу. Через минуту машина, чихнув пару раз седоватым дымком, помчалась прочь от дома Спасаевой, помчалась по своему маршруту, известному только Павлу Алексеевичу Ротмистрову.
А Фёдор Полежаев всё так же, не отрываясь, смотрел в глаза Леночке Спасаевой. Он смотрел и видел, как высыхают в них слёзы, как оттаивает — медленно и с опаской — лёд в этих глазах, всё ещё изумлённых и не верящих ни во что. А за спиной Фёдора, то и дело поглядывая на него, шушукались ребятишки, сыновья его товарища — Владимира Кошлякова…
3 октября — 5 декабря 1994 г.
с. Береговое
Апогей, или смерть сержанта Никанорова
(рассказ)
50-летию танкового сражения под Прохоровкой посвящаю
Сержант Никаноров вытащил из планшетки помятую карту, аккуратно расправил её на коленях, медленно, с долгими остановками водил по ней прокуренным пальцем. Остановился палец под чётко обведённым красным карандашом словом «Прохоровка». Что такое Прохоровка?… Обыкновенное русское название какого-то обыкновенного русского населённого пункта, каких на территории Советского Союза бесчисленное множество. Но что сулит им, танкистам, эта самая Прохоровка, в районе которой завтра-послезавтра должен закипеть очередной бой… И бой нешуточный, как слышал из уст некоторых компетентных лиц сержант Никаноров: немцы здесь собрали приличный «железный кулак» из «фердинандов», «пантер» и новейших танков «тигр», да и живой силы нагнали неведомо сколько. Наших войск стянуто к Прохоровне тоже порядочное количество… Так что и дураку понятно — сражение будет не из рядовых, не какого там «местного значения».
Так думал сержант Никаноров. И мысли эти бешено крутились в его лобастой голове и никак не находили хоть какого-нибудь достойного выхода: с первых дней войны он участвует в самых различных сражениях, не раз горел в своих танках, но, правда, всегда с благополучным для жизни исходом (тьфу, тьфу, не сглазить!), не раз обдумывал ход прошедших боевых операций, но никак не мог своим крестьянским умом охватить общие замыслы командования — не то что Верховного (он боготворил Сталина), но и армейского, а то и рангом пониже. Вот и сегодня сержант крутил так и этак, предполагал ход предстоящих боевых действий своего танкового батальона в скоро предстоящем сражении, тут же опровергал их и, в конце концов, плюнул на всё: разработка боевых операций — дело штабных офицеров, вот они этим пусть и занимаются, пусть у них головы болят от мыслей, а не у него, всего-навсего лишь обыкновенного механика-водителя быстроходного танка «Т-34».
Как раз в этот момент командиров экипажей и механиков-водителей крикнули к комбату. Никаноров, сложив карту и сунув её в планшетку, привычно одёрнул комбинезон (комбат не любил неряшливых) и быстро пошёл к головному танку. Командир экипажа младший лейтенант Тришкин был уже там.
Комбат танкового подразделения майор Плетенюк, опершись о гусеницу грозной машины, задумчиво покусывал уже начинающую желтеть травинку и в этот миг, казалось, был очень и очень далёк от собирающихся подле танка его подчинённых, от предстоящего сражения и от всей войны вообще. Да это только казалось так: на самом деле командир' батальона в уме лихорадочно пытался охватить, хотя бы примерно, завтрашнее сражение, обдумать роль и действия в нём вверенного ему боевого подразделения.
Ещё пятого июля этого, 1943-го, года стало известно, что на Центральном и Воронежском фронтах завязались ожесточённые бои. В танковую армию прилетал командующий Степным фронтом генерал-полковник Конев. После этого по всем подразделениям 5-й гвардейской танковой армии пополз тревожный слушок: предстоит большое сражение — фашисты наносят на Курском направлении мощный удар. И наносят его из района Белгорода. Конев сообщил Ротмистрову, что в связи с создавшимся положением армия передаётся Воронежскому фронту, что все войска армии необходимо привести немедленно в полную боевую готовность и ждать распоряжений.
Как стало известно, через час после отлёта Ивана Степановича по связи ВЧ позвонил сам товарищ Сталин, поинтересовался планами передислокации войск, пожелал успеха.
Плетешок, выбросив изжёванную травинку, осмотрел собравшихся, ему подчинённых танкистов. Это он с ними седьмого июля, в половине второго утра, начинал форсирований марш, это он с ними глотал поднятую танками пыль, которая взмывала вверх таким толстым слоем, что через эту своеобразную завесу едва-едва просматривался багровый диск солнца, это он с ними задыхался от недостатка кислорода и мучился от жажды, то и дело отрывая от тела липучую от обильного пота гимнастёрку.
Майор вздохнул, потянувшись рукой к планшетке с картой. Подумал о том, что его гвардейцы надолго запомнят этот марш. И в особенности — механики-водители, положение которых всячески старались облегчить остальные члены экипажей. Он вспомнил, как утром 8 июля главные силы армии, а вместе с ними и его танковый батальон после напряжённого изнурительного марша вышли в район юго-западнее Старого Оскола. Это сколько же километров они отмахали за двое суток, а? Пожалуй, около 230–280 наберётся!.. А девятого июля, где-то в первом часу ночи, был получен приказ свыше — кровь из носу, но к исходу дня выйти в район населённого пункта Прхоровки и быть готовыми сразу же вступить в бой. И снова марш — стокилометровый. И, несмотря на усталость, соединения и части в установленный срок заняли район на рубеже посёлка Прохоровка и хутора Весёлый…
Майор Плетенюк вскинул руку с часами к глазам, негромко спросил:
— Ну что, все собрались?
— Так точно, товарищ майор! — козырнул его заместитель. — Все здесь…
— Добро! — поморщился Плетенюк; он почему-то недолюбливал своего зама за его щеголеватость, что ли, за педантичность.
— Добро! — повторил он. — Итак, как вы знаете, сегодня одиннадцатое июля 1943 года. Через сутки, а может быть, и через несколько часов нам предстоит участвовать в нелёгком сражении. Я не запугиваю вас, а всё говорю так, как оно есть…
Плетенюк поскрёб пятернёй щёку, согнав с неё настырного овода, продолжал:
— Вчера 5-я танковая гвардейская армия вошла, чтоб вы знали, в состав Воронежского фронта. Павла Алексеевича, я имею в виду Ротмистрова, вызвали в Обоянь, на КП командующего фронтом Ватутина. Там же был представитель Ставки Верховного Главнокомандования Василевский. Они нашему командующему всё, естественно, объяснили, ввели в курс дела. Ротмистров, в свою очередь, обо всём рассказал нам.
Майор на некоторое время замолк, рассеянно вертя в руках планшетку, затем обвёл усталым взором собравшихся:
— Итак, вот какую информацию довели до меня. Немцы перешли в атаку в шесть часов пятого июля из района севернее Белгорода. Главный удар на Обоянь и Курск наносит 4-я танковая армия генерал-полковника Гота, ему помогают дивизии группы армий «Юг», ими командует генерал-фельдмаршал Манштейн. Вы, наверное, слышали, что у этих генералов в подчинении лучшие танковые соединения — дивизии СС «Адольф Гитлер», «Райх», «Мёртвая голова»… Так вот, наступлению главной ударной группировки противника, как выяснилось, содействовала ударом в северо-восточном направлении, то есть на Корочу, оперативная группа «Кемпф». К сожалению, нашим пришлось тяжело и на Корочанском направлении они отступили от своих позиций на десять километров, на Обоянском — аж на тридцать пять. Но далее у фашистов всё застопорилось. И теперь они решили главный удар перенести несколько восточнее, вдоль железной дороги на Прохоровку. Сюда стаскиваются неимоверные силы противника… Короче, ребята, командование решило противопоставить эсэсовским танковым дивизионам нашу танковую гвардию.
Сержант Никаноров внимательно вслушивался в речь комбата и всё более и более изумлялся тому, как этот простой интеллигентного вида майор может так связно говорить и запоминать названия немецких дивизий, имена и фамилии немецких командиров. Да тут, прежде чем их выговорить, сам чёрт рога себе сломает!..
«Лобастый у нас майор, — сделал вывод сержант. — Путёвый мужик!..».
И снова начал вслушиваться в речь комбата, потому что она теперь касалась и его, механика-водителя. А Плетенюк говорил о том, что новые тяжёлые танки «тигр» и самоходные орудия «фердинанд» имеют сильную лобовую броню. Кроме брони, они имеют восьмидесятивосьмимиллиметровую пушку с большой дальностью прямого выстрела. И в этом их преимущество перед нашими танками, вооружёнными семидесятимиллиметровой пушкой.
«Да, — подумал Никаноров, — чтобы объегорить такого хищника, нужно идти только в ближний бой, да лучше маневрировать, да в борта «тиграм» снаряды засаживать…»
Мысли сержанта подтвердил своими словами Плетенюк, образно выразившись, что в предстоящем танковом сражении нужно идти в рукопашную схватку или, как выражаются моряки, взять противника на абордаж.
Комбат вскоре отпустил механиков-водителей, уже не приказав им на прощание, а попросив приложить все свои силы и умения в грядущем кровавом бою.
Младший лейтенант Тришкин кивнул Никанорову — иди, мол, к экипажу, я скоро буду, и сержант не спеша побрёл в сторону своего танка. Но вскоре остановился, увидев сквозь просвет лесополосы жёлтое море поспевающих хлебов.
Сержант Никаноров вошёл в жёлтую, по пояс вымахавшую пшеницу. Под лёгким дуновением ветерка она волновалась, и словно дрожь пробегала по ней. Совсем как у него, у сержанта, перед каждым боем. Но эта дрожь не была предвестником страха: просто перед надвигающимся сражением тело и дух готовились к предстоящему испытанию, сулившему неизвестность-то ли жизнь, то ли страшную рану, то ли мгновенную смерть.
— Иван? — прошелестел совсем рядом вопрошающий голос, и он, вздрогнув от неожиданности, обернулся. — Иван! — голос был женский и уже утверждающий, что он, Иван Никаноров, и на самом деле тот, кем он есть, за кого его принимают.
Не успел он что-нибудь подумать и разглядеть — кому принадлежал этот голос, как женская фигурка в солдатской гимнастёрке метнулась к нему: ласковые руки крепко обхватили его сильную шею, и тотчас губы его почувствовали страстное прикосновение других губ.
— Иван!.. Родной!.. Милый!..
Он неловко оторвался от прижавшейся к нему девушки и, не выпуская её из своих рук, долго, с минуту, наверное, вглядывался в её лицо.
— Валентина?… Ты ли это?…
Валентина Озерова была его землячкой. В одном селе родились, вместе в школу ходили. Только он на два года был её постарше. Когда Никаноров школу оканчивал, вспыхнула между ними горячая любовь, и во что бы она переросла — трудно сказать, возможно, и поженились бы, если бы не эта проклятая война!..
Он уходил на фронт. И эта синеглазая Валюха Озерова провожала его. Провожала и плакала, не вытирая слёз, льющихся из синевы. И обещала ждать его, лишь бы живым вернулся с войны.
Сержант Никаноров до боли в глазах всматривался в лицо Валюхи, веря и не веря, что перед ним стоит она, его любимая и единственная женщина.
— Ты как здесь оказалась? — наконец, хриплым от волнения голосом проговорил он.
— Как?… Как все. Окончила курсы медсестёр и… на фронт.
— Да как же это!.. Я не могу поверить!.. Честное слово…
И они замолчали. Не выпуская друг друга из объятий, жадно, с какой-то непонятной тревогой смотрели друг другу в глаза. Слов, таких необходимых именно сейчас, почему-то не находилось.
Их тревожное и радостное молчание прервал крик заряжающего Гончарова:
— Сержант Никаноров! Срочно к младшему лейтенанту Тришкину!
— А-а, чёрт! — прохрипел сержант и извиняющимся голосом добавил: — Слышишь, вызывают меня.
— Да, слышу.
— Мне можно попозже тебя увидеть?
— Зачем спрашиваешь? Конечно же, можно.
— А где?… Где найти-то тебя?
— Мы здесь, неподалёку, — начала объяснять Валентина.
— Товарищ сержант! — опять прокричал Гончаров. — Вас командир танка кличет!
Никаноров оторвался от девушки и, то и дело оглядываясь, поспешил на зов. Около Гончарова остановился, ткнул ему пальцем в пуговицу гимнастёрки:
— «Кличут!» Не глухой, и с первого раза тебя, зануду, услышал… Пошли, посыльный!
Младший лейтенант Тришкин вызывал сержанта вот зачем. После длительного марша он решил заставить экипаж своей «тридцатьчетвёрки» проверить танк — мало ли что могло случиться в организме стальной машины за такой много— соткилометровый пробег. Вот и пришлось Никанорову, Татарскому и Гончарову «колдовать» над танком до самого вечера. Сам Тришкин куда-то отлучился на это время, на прощание сказав разочарованным членам экипажа словами Суворова насчёт того, что, мол, трудитесь, ребятки, — тяжело в ученьи — легко в бою.
Когда Тришкин вернулся, танк к бою был уже готов, а рядовые — заряжающий Гончаров, наводчик Татарский и оставшийся за старшего механик-водитель сержант Никаноров в расслабленных позах полёживали на траве у «Т-34» и покуривали.
— Ну что, орлы, всё на мази? — спросил младший лейтенант.
— Так точно, — козырнул в ответ Никаноров. — Комар носа не подточит.
— Понял. Так что не стоит и проверять?
— Воля ваша: хотите — испытайте, не хотите — не нужно. Но поверить на слово вы нам должны, не для дяди чужого ведь делали, для себя.
— Ну-ну, сержант, не обижайтесь. Я хоть и молодой, но всё понимаю.
Никаноров вздохнул и посмотрел командиру прямо в глаза:
— Товарищ лейтенант, разрешите обратиться по личному вопросу?
— Разрешаю. Обращайтесь.
Сержант немного смутился:
— Понимаете, вопрос настолько личный, что нам необходимо переговорить, как выражаются французы, тэт-а-тэт.
— Ничего себе! — громко, с деланным изумлением прошептал на ухо Татарскому Гончаров, а Татарский даже присвистнул.
Тришкин укоризненно посмотрел на них и, взяв сержанта за локоть, повёл его в сторону. Отойдя на приличное расстояние, они остановились.
— Ну, чего вам, сержант?
— Понимаете, товарищ младший лейтенант, я сегодня случайно встретил свою землячку… Короче, невесту… Она в медчасти здесь, неподалёку. Три года не виделись…
— Понял, — сказал Тришкин и, поглядывая вверх, в безоблачное июльское небо, крепко задумался, словно забыв о стоящем рядом сержанте, о его смущённой просьбе.
— Понял, — повторил он и, взглянув на часы, построжавшим голосом произнёс: — Я вас отпускаю, сержант. Но отпускаю всего лишь на час. Вы поняли меня? На один час…
В расположении медчасти Иван Никаноров свою Валю-Валюху не нашёл: куда-то умчалась на машине-полуторке за медикаментами. Но девчата заверили его, что через пару часов она будет на месте, так что, сержант, подруливай попозже.
Никаноров шёл по кромке поля, то и дело поглядывая вправо, туда, где виднелся курган. Там, если верить слухам, находился наблюдательный пункт Ротмистрова.
«А что, — думал сержант, — неплохая высотка для наблюдения, с неё все, как на ладони, вокруг видать…»
От кургана вырулил в сторону Прохоровки «виллис» и, набрав скорость, вскоре промчался мимо Никанорова, а затем свернул в сторону Беленихино. Времени было около семи часов вечера.
Сержанта остановили два связиста с катушками за плечами.
— Землячок, закурить не найдётся?
— Отчего же не найдётся, — и Никаноров полез за кисетом, щедро сыпанул махорки бойцам.
— Что-то начальство мотается, — он кивнул головой в сторону промчавшегося «виллиса».
Сворачивая самокрутку, один из связистов словоохотливо объяснил:
— А чего же им не мотаться — сражение на носу. Это Ротмистров с маршалом Василевским проехали, исходные районы осматривают. Василевского сам товарищ Сталин прислал, приказал ему неотлучно находиться в 5-й гвардейской и в 5-й общевойсковой.
— Да? — удивился Никаноров. — И всё-то вы знаете!
— Служба, браток, у нас такая. Слышали мы, что командиры должны осмотреть позиции 29-го и 18-го танковых корпусов.
Другой связист раздражённо буркнул:
— Язык у тебя, Семён, что помело. Смотри, как бы не загремел ты из-за него под фанфары…
— Да брось ты, Яшка, везде тебе шпионы чудятся… Тебе только в СМЕРШе служить…
Не успел сержант дойти до расположения своего батальона, как «виллис» на бешеной скорости промчался обратно.
«Чего это он?» — подумал с недоумением Никаноров, но лишь позже от младшего лейтенанта Тришкина, узнал, что автомобиль с Ротмистровым и Василевским чуть не нарвался на подкрадывавшиеся к Прохоровке фашистские танки, которые затем остановили и заставили попятиться обратно.
В расположении танкового батальона, кроме Тришкина, сержанта поджидали майор Плетенюк и политрук Маматов.
— Ну что, сержант, как настроение? — спросил политрук.
— Обычное, боевое.
— Мы сегодня проводим в подразделениях собрания. А я слышал, что ты мечтаешь быть коммунистом. Так ли это?
Сержант вначале замялся, а потом ответил:
— Так точно. Хотелось бы пойти в сегодняшний бой коммунистом.
— Ну вот, — улыбнулся Маматов, — я другого ответа от тебя и не ожидал. Пиши заявление, а мы, в свою очередь, подготовим тебе рекомендации.
— Прошу прощения, товарищ политрук, но из нашего экипажа в ряды ВКП(б) хотел бы попасть ещё один танкист.
— Кто же он?
— Рядовой Татарский.
Майор Плетенюк при упоминании этой фамилии поморщился, словно от зубной боли, а Маматов посуровел лицом:
— Вы, сержант Никаноров, за себя расписывайтесь, а не за других. У рядового Татарского, к вашему сведению, очень уж подмоченная репутация. Вы знаете, кем был его отец?
— Нет, не знаю.
— А надо бы знать, сержант. Ну да ладно, пишите заявление о приёме и готовьтесь: будем вас принимать в члены партии.
Когда собрание завершилось, сержант Никаноров — теперь уже коммунист, — преисполненный произведённым на него впечатлением и совершенно новыми, доселе незнакомыми ему чувствами, долго бродил по расположению батальона.
Когда совсем стемнело, он вышел к небольшой рощице. И тут его из задумчивости вывели чьи-то приглушённые голоса — мужской и женский.
— Послушай, зачем ты сопротивляешься, — дышал часто мужчина. — Мы любим друг друга, а завтра я могу погибнуть.
— Не надо… Ну прошу тебя, не надо!..
— Перестань, дурочка… Не отталкивай меня…
— Пусти!.. Слышишь, пусти!.. Я ведь закричу!..
Женщина пыталась вскрикнуть, но, по-видимому, мужчина зажал ей ладонью рот, — так, по крайней мере, подумал сержант, — и в кустах отчаянно забарахтались. И тут Никаноров не выдержал, прыгнул в сторону барахтающихся тел, схватил мужчину за гимнастёрку, рывком приподнял его.
— А ну, гад, прекращай! — зло прошипел он, но тут мужчина локтем пребольно толкнул его в живот; и тогда сержант в бешенстве, со всего размаху ударил его в лицо.
Мужчина упал, а Никаноров нагнулся к женщине, подал ей руку:
— Вставай!
Женщина встала, и тут Иван Никаноров чуть не получил разрыв сердца. Перед ним была Валюха. Валюха Озерова…
— Ты?… Кто тебя пытался?… — и он снова саданул кулаком в лицо поднявшегося мужчину, но тот уже не упал, а отскочив в сторону, судорожно потянулся рукой к кобуре с пистолетом.
И тут сержант узнал мужчину: перед ним с разбитым в кровь лицом стоял политрук Маматов. А Валюха вдруг дико закричала, встав между ними и схватившись за голову руками:
— Иван!.. Серёжа!.. Перестаньте!.. Иван, уходи отсюда!..
И тогда Иван Никаноров всё понял…
Сержант Никаноров не спал. Ему было не до сна. Он крепко был расстроен непредвиденной стычкой с политруком. Но более всего Иван был потрясён поступком его невесты, его бывшей невесты Валюхи Озеровой. Как она могла, обещав ему, Ивану, ожидать его с войны, целоваться с другим мужчиной и, наверняка, не только целоваться… За три года Иван Никаноров насмотрелся, наслушался самого различного толка историй о ППЖ, о тех женщинах, которые напропалую спят с мужчинами и, в основном, с командным составом.
В сердцах, в горячке сержант хотел было сразу заявить и политруку, и комбату майору Плетенюку, что плевать он хотел на то, что его два часа назад приняли в ряды ВКП(б), что не хочет он быть в той партии, в которой состоят такие сволочи, как политрук Маматов. А затем сержант «оплылся»: господи, да разве партия большевиков состоит только лишь из подобных политруков!.. Нет, конечно, — хороших коммунистов в её рядах значительно больше. Это и Ленин, это и Сталин… Да и их непосредственный командующий генерал Ротмистров. А Тришкина взять, младшего лейтенанта: мужик ом — хоть куда, и тоже в членах ВКП(б) состоит…
Так думал в эту бессонную ночь сержант Никаноров. И не знал он, что не спят вместе с ним сейчас многие. В том числе и генерал Ротмистров. Генерал думал. Вчера противник пытался их упредить и захватить Прохоровку. Это на них, на немцев, он вчера с Василевским наткнулся… Обстановка внезапно осложнилась: ранее намеченный исходный район для контрудара оказался — увы! — в руках гитлеровцев. Всё теперь следовало проводить заново — выбор огневых позиций артиллерии, рубежей развёртывания и атаки, и всё прочее и прочёс, и всё для того, чтобы чётко и грамотно управлять войсками в вою. Задача, конечно, была сложная, но с ней все органы штаба армии, командиры и штабы корпусов, бригад и частей справились в самое короткое время, то есть в считанные часы. 13 боевом приказ были внесены необходимые коррективы. А именно: 18-му танковому корпусу генерал-майора Бахарова надлежало наступать на нравом фланге, и он усиливался полком противотанковых пушек. Корпус был обязан наступать вдоль реки Псел и атаковать позиции противника на рубеже Андреевки, что северо-западнее совхоза «Комсомолец». В центре наносил удар немцам 29-й танковый корпус генерал-майора Кириченко: его задача — совместно с самоходно-артиллерийским полком разгромить вражескую танковую группировку, действующую западнее железной дороги на Прохоровку. Ну а что же левый фланг? Здесь, с рубежа Беленихино, должен был наступать 2-й гвардейский Тацинский танковый корпус полковника Бурдейного. А резерву, возглавляемому генерал-майором Труфановым, ставилась задача сосредоточиться в районе Правороти и прочно обеспечить левый фланг армии. Но резерву не пришлось отдохнуть перед боем: в четыре утра постудил приказ Ватутина о том, чтобы срочно направить резерв в полосу действий 69-й армии: неприятель отбросил части 81-й и 92-й гвардейских стрелковых дивизий и овладел Ржавцом, Рындникой и Выползовкой…
… Конечно, сержант мыслил не так, как генерал, не в таких масштабах. И всё-таки, глядя на близко вспыхивающие зарницы — где-то шёл бой, — Иван Никаноров отвлёкся от тяжёлых раздумий о поступке Валюхи Озеровой, его мысли перескочили на предстоящее сражение, в котором непременно погибнут многие его друзья и, возможно, погибнет он.
Никаноров встал с земли, размахивая руками и приседая, расправил затёкшие члены, двинулся вдоль тёмных силуэтов «тридцатьчетвёрок», словно хищники, замерших в напряжении перед прыжком на свою жертву. Иван сделал буквально два-три десятка шагов и вдруг остановился, как вкопанный: прислонившись к гусеницам танка стояли, покуривая, комбат Плетенюк и политрук Маматов.
— Здорово он тебе врезал, — негромко гудел майор. — Все губы по физиономии размазал.
Политрук хмыкнул:
— Силы у него, как у буйвола… Я удивляюсь, как я его не пристрелил: уже и за пистолет схватился…
— А зачем?… За что его стрелять?… За то, что ты, политрук, с его невестой шашни завёл?… Ведь поиграешь и бросишь, так ведь?…
Маматов вздохнул тяжело и тоскливо:
— Нет, майор, не так. Я люблю её… По-настоящему…
— А Никаноров?… Никаноров её не любит?
Политрук помолчал, затем после долгих затяжек сплюнул окурок на землю.
— И Никаноров её любит… А Валентина — она растерялась, не знает, кто ей милее, с кем она будет счастливее.
Сержант осторожно ретировался, и, отойдя подальше от комбата и политрука, остановился.
«Каком же я осёл!.. Зачем я оскорбил её. Оказывается, они любят друг друга!.. Ну, а я?… Я ведь тоже Валюху люблю!.. Люблю и не отдам её этому… этому гаду за так, за здорово живёшь, без боя!.. Мы ещё посмотрим, кто кого возьмёт!.. Если, конечно, сегодня выживем…».
И ещё он подумал — где-то в глубине своей души — о том, что лучше было бы, если б этого чересчур грамотного политрука убило в сегодняшнем бою. Подумал об этом — и испугался…
Сержант, прислонившись к траку, на какое-то время задремал. Задремал и не увидел, и не узнал, что в шесть часов утра генерал Ротмистров с группой офицеров прибыл на командный пункт 29-го танкового корпуса, который он, Павел Алексеевич, избрал своим наблюдательным пунктом. И избрал, кстати, весьма удачно: с холма-кургана, находящегося между Прохоровкой и Береговым, очень хорошо просматривалась впередилежащая местность. Из надёжно и прочно построенного блиндажа в сожжённом и наполовину вырубленном яблоневом саду открывался широкий обзор, вплоть до опушки лесного массива, в котором укрылся враг…
Придремавший было сержант мгновенно проснулся, услышав зловещий гул самолётов: в небе шли «мессеры», и их прилёт, как уже знал по своему опыту Иван Никаноров. означал — скоро последует бомбовый удар вражеской авиации. Никаноров взглянул на часы — шесть тридцать.
— Чёрт! — возмущённо прохрипел Гончаров. — Ну никак не дадут вволю выспаться!.. И когда только война эта окончится!..
— Скоро! — хмыкнул Тришкин. — Жди!..
А Татарский, куражась, пропел:
— Да ну вас! — махнул рукой Гончаров и полез под танк. — Когда авиация отбомбится — разбудите меня. Пожалуйста…
Около семи часов послышался монотонный гул немецких самолётов, и вскоре десятки «юнкерсов» словно бы заполонили собой летнее небо. «Юнкерсы», выбрав цели, быстро перестраивались и, хищно сверкая на солнце стёклами кабин, тяжело и словно бы неуклюже кренились на крыло, переходя в пике. Многочисленные бомбы, визжа и воя, неслись к земле, вздымая затем вверх зелёные рощицы, крестьянские хаты, покрывая всё вокруг дымом, багровыми языками вспышек, пожарами.
— Мама родная! — затыкая уши и всё сильнее вдавливаясь в вырытую накануне щель, кричал Гончаров. — Смотрите, что делается!.. До сна ли сегодня!..
— Навек запомнишь двенадцатое июля! — кричал ему в ответ Никаноров.
— Смотрите, наши! — пыряя пальцем в небо, орал Татарский. — Наши самолёты!..
В воздухе действительно появились советские истребители, и сразу же в небе, над головой танкистов, завязались жаркие схватки. И тут же один за другим, запылали подбитые самолёты и, оставляя за собой густые шлейфы чёрного дыма, понеслись к истерзанной металлом земле, чтобы нанести ещё и ещё одни долгозаживающие раны. А затем в юго-западном направлении поплыли вперёд наши бомбардировщики. И, спустя какое-то время, грянули первые залпы армейской артиллерии, вслед за ними заговорили огненным языком гвардейские миномёты — «катюши».
— Вот это мощь! Вот это сила! — прокричал в восхищении младший лейтенант Тришкин и скомандовал: — Всем в машину!
Оказывается, Тришкин знал, что работа гвардейских миномётов — это начало атаки — Знал, но до поры до времени молчал, потому что и ему это было сообщено через десятые руки, и ещё ему было сказано, чтобы язык свой — насчёт начала атаки — он крепко бы держал за зубами. Мало ли что!..
… Танки стремительно понеслись вперёд, навстречу неизвестности…..
Но неизвестность эта была, оказывается, совсем рядом. Навстречу лавине «тридцатьчетвёрок» вдруг неожиданно вынырнула вторая лавина стальных машин, лавина вражеских танков. Их было великое множество. Сержант, видя их, вначале даже растерялся.
— Ничего себе! — присвистнул он.
— Вперёд, сержант, не дрейфь! — выкрикнул Тришкин.
А из стволов уже рванулись молнии, и тут же клочья земли взмыли вверх, напрочь перечеркнув видимый для механика-водителя обзор.
— Идём на сближение! — раздался в наушниках яростный голос комбата Плетенюка.
И на поле пал хаос. Уже ничего нельзя было разобрать где свои, где чужие. Оглушительно ревели моторы танков, полыхали в огне и многострадальная земля, и июльское небо, кружились на местах подбитые танки, изрыгая из своих чревов железную смерть, выскакивали из пылающих башен танкисты, бросались на землю, пытаясь сбить с комбинезона пламя и корчась от боли и ужаса. В трещавших наушниках уже ни черта нельзя было расслышать и что-нибудь понять.
— Соколов!.. Соколов!.. Прикрой меня с левого борта!..
— Андрей, мать твою так!.. Что же ты делаешь!. Заходи с фланга!..
— О, майн гот!.. Форвертс!..
— Дьявол!.. У меня заклинило…
— Шнеллер!.. Шнеллер!..
Никаноров осатанел, лавируя между действующими и пылающими танками. В наушниках прорезался голос политрука Маматова:
— Тришкин!.. Тришкин!.. Мой танк горит!.. У тебя с правого борта «тигр», лавируй!..
— Куда к чёрту лавировать!.. Ничего не вижу!..
— Тришкин, иду на помощь!.. Нам всё одно погибать!.. Иду на таран!..
— Политрук, перестань!..
— Ничего… Передай Никанорову, чтобы берёг Валентину!..
Сбоку рвануло огнём и железом: это Маматов бросил свой пылающий танк в бок громадного «тигра».
— Политрук, зачем?… — заскрежетал зубами Никаноров. — Зачем?…
А огненная карусель всё более и более набирала силу, захватывая в свой стремительный и ужасный водоворот и технику, и людей: рвали крепкую броню снаряды, рикошетили: от неуязвимых мест под немыслимыми углами; лопались и рассыпались, словно игрушечные, гусеницы; вылетали со стремительной скоростью катки, взрывались внутри машины боеприпасы, напрочь отбрасывая в сторону танковые башни.
— Командир! — обливаясь потом, кричал сержант Тришкину. — Командир!.. По-моему, мы куда-то отклонились от маршрута!!..
— Хрен его знает!.. Я сам, как слепой котёнок, ничего не вижу! — орал в ответ младший лейтенант. — Надо, наверное, люк открыть!..
— Бросьте, младшой! — вмешался Татарский. — Там же, снаружи, чёрт знает что творится! Вмиг укокошат!..
— Ничего, Татарский, от судьбы не уйдёшь…
— Командир! — снова истошно заорал Никаноров. — Сидите и не высовывайтесь, как-нибудь разберёмся.
И рванул рычаги. Танк даже подпрыгнул и с ходу бортанул проползающий мимо «фердинанд»: тот опрокинулся, словно игрушечный, и тут же загорелся. Гончаров для уверенности прошёлся по нему пулемётной очередью.
Но тут что-то сильно ударило в башню; танк так тряхнуло, что Никаноров больно ударился головой о стену, рассёк лоб, и кровь заструилась по лицу. А ноздри сержанта сразу же учуяли дым.
— Ребята, по-моему, мы горим!..
— Сейчас проверим, Никаноров. Притуши ход; Гончаров, за мной!
Младший лейтенант и заряжающий через верхний люк выскочили на башню, размахивая тряпьём, сумели погасить не успевший набрать силу огонь.
Гончаров первым нырнул в спасительный люк «тридцатьчетвёрки». Тришкин на какое-то время задержался, окидывая взглядом поле боя. И то, что он увидел, повергло его в глубокое изумление. Всё вокруг горело и пылало, скрежетало и стонало, свистело и шипело. И нельзя было Тришкину понять, на чьей же стороне перевес — на стороне русских или немцев. А как раз было время, когда первый эшелон 5-й гвардейской танковой армии упорно и настойчиво теснил противника, нанося ему большие потери и в живой силе, и в боевой технике. Кроме того, Тришкин ещё не знал, что он и другие танкисты сделали сегодня самое-самое главное — в жестоком встречном сражении остановили и смяли ударную группировку врага, наступавшую вдоль железной дороги на Прохоровку, таким образом сломав острие танкового клина противника.
Тришкин ещё раз взглянул на поле боя и, собираясь нырнуть в люк башни, головой поймал пулю. Упав на руки Гончарова, он только и успел сказать, что старшим вместо себя назначает Никанорова и что экипажу танка следует направиться на правый фланг, в сторону рубежа Полежаи.
— Там жарко, но там есть река, — прошептал он и умер.
На правом фланге армии в тот миг действительно сложилось очень тяжёлое положение. Не добившись успеха в центре, противник дивизией танков обошёл наш 18-й танковый корпус и нанёс удар по 33-му гвардейскому стрелковому корпусу. Где-то к часу дня вражеским танкам удалось прорвать боевые порядки 95-й и 42-й гвардейских стрелковых дивизии на участке Красный Октябрь, Кочетовка и продвинуться в северо-восточном и восточном направлениях до рубежа Весёлый, Полежаев.
Гончаров и Татарский вытащили тело младшего лейтенанта, уложили в воронке от снаряда.
Их танк, стреляя и уклоняясь от вражеских выстрелов, упорно продвигался к правому флангу страшнейшего сражения. И тут разрывом снаряда с «тридцатьчетвёрки» сорвало гусеницу.
— Татарский! Ты меня слышишь? — прохрипел Никаноров. — Оставайся в танке, если что — стреляй. А мы с Гончаровым попытаемся натянуть гусеницу…
— Слушаюсь, сержант!
Иван Никаноров и Гончаров выскочили из тапка, но тут из ближайшего кустарника по ним сыпанула и тут же заглохла автоматная очередь. Гончаров со стоном упал около повреждённой гусеницы. Сержант наклонился над ним:
— Гончаров!.. Ты слышишь меня, Гончаров!.. Ты ранен?…
— Убит… — еле слышно прошептал тот…
Никаноров длинно и грязно выругался и, услышав хриплое дыхание позади себя, резко обернулся. На него мчался здоровенный рыжий немец-танкист с бешено-стеклянным взглядом и занесённым над головой автоматом. Иван еле успел увернуться, и удар пришёлся ему по голове вскользь, но и от этого удара он чуть не потерял сознание.
Они схватились, как два снежных барса в смертельной схватке, упали на землю, покатились по ней, не выпуская друг друга из тесных объятий.
Сержант чувствовал, как силы медленно и неотвратимо покидают его. Рыжий немец подмял его под себя, и руки немца, страшные и волосатые, уверенно продвигались к горлу сержанта.
«Всё, конец!» — мелькнуло в угасающей памяти Ивана, и тут фашист вдруг как-то обмяк и мешком свалился с него на землю. Никаноров, напрягая последние силы, шатаясь встал. Его мутный взор остановился на спасителе.
— Это ты? — хрипло выдавил он, увидя перед собой растрёпанную медсестру, свою бывшую невесту Валюху Озерову с пистолетом в руке.
— Я, Ваня, я, — ответила она и, вдруг обернувшись, вскрикнула: — «Тигр»!.. «Тигр»!<.
Тяжёлый танк зловеще полз прямо на них, угрожающе поводя стволом орудия по сторонам.
Сержант застонал и, обратя взор в сторону своей «тридцатьчетвёрки», страшно захрипел:
— Татарский, стреляй!.. Стреляй, дьявол тебя возьми!..
Тигр» был уже совсем рядом, когда Татарский выстрелил ему прямо в бок. Стальная громадина вспыхнула и в последней агонии прыгнула на «тридцатьчетвёрку». Страшный взрыв откинул в сторону и Ивана Никанорова, и Валюху Озерову…
Когда он очнулся, Валюха, плача, перевязывала ему голову.
— Ты чего… плачешь?… Не надо…
— Бедные вы, бедные мужики… Да за что же на вас такая напасть… Сколько вас уже побило-покалечило… А сколько ещё побьёт…
Из-за пылающих танков на скорости выскочила самоходная установка «фердинанд» и устремилась в их сторону. Сержант тоскливо осмотрелся вокруг и, заметив кем-то брошенную и неиспользованную гранату, поднял её.
— Поцелуй меня! — сказал он Валюхе и, когда она это сделала, добавил: — Ложись в воронку и жди… Я его сейчас… укрощу…
И пополз навстречу «фердинанду»…
Когда он встал и размахнулся гранатой, пулемётная очередь пронзила его тело. Он падал медленно-медленно, угасающим сознанием уходя куда-то в длинный-предлинный коридор, в конце которого виднелось яркое пятнышко света — Ему, Ивану Никанорову, уже не дано было знать, что 12 июля 1943 года был апогей сражения, которое продолжалось ещё несколько дней. Не дано ему было знать, что в этом сражении одновременно участвовало 1200 танков и самоходных орудий. Не дано ему было знать, что на следующий день на КП Ротмистрова приезжали заместитель Верховного Главнокомандующего Маршал Советского Союза Жуков и член Военного совета Воронежского фронта генерал-лейтенант Хрущев. И вообще, многое теперь не дано было знать сержанту. Потому что он, прошитый пулями, медленно падал на землю с крепко зажатой в руке противотанковой гранатой. Бросившаяся ему на помощь Валюха Озерова не успела: граната ударилась о землю, вырвала из рядов живых и саму Валюху…
… А сражение продолжалось…
21-27 апреля 1993 г.
с. Береговое — п. Прохоровка