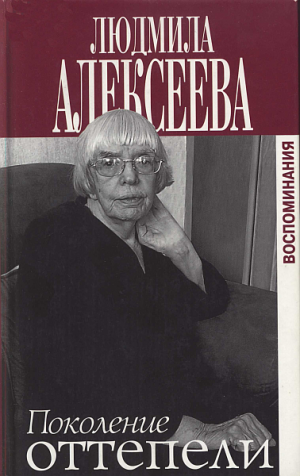
Предисловие к русскому изданию
Эта книга впервые вышла пятнадцать лет назад, в 1990 году, не на русском, а на английском языке, и не в СССР, а в Соединенных Штатах Америки (издательство Литтл Браун). Почему так? Потому что задумана она была не для моих соотечественников, а для американского читателя, но подвигли меня взяться за книгу для американцев события на родине.
К 1985 году вымерли все генеральные секретари ЦК КПСС, стоявшие у кормила власти в Советском Союзе, и эту должность занял Михаил Сергеевич Горбачев. Я к этому времени уже восемь лет находилась в эмиграции (участие в правозащитном движении грозило завершиться серьезным тюремным сроком, и это было причиной отъезда). Я с замиранием сердца следила из американского далека за происходившим дома: есть ли надежда на выход из маразматического застоя, в котором Советский Союз пребывал во времена Брежнева и который продолжался при генсеках — его преемниках — Андропове и Черненко? Наверное, внутри страны те, кто ждал какого-то дуновения свежего ветерка, почувствовали его раньше, чем я в Америке, — ведь цензура поначалу была такой же непробиваемой, как прежде, а слово «перестройка» первое время сам новый лидер расшифровывал как «ускоренное развитие», прежде всего в экономике на основе обновления ее технической базы. Меня же, как все поколение оттепели, к которому я принадлежу, интересовала более всего свобода слова и степень участия граждан в принятии решений, определяющих условия их жизни. Время от времени в словах и поступках Михаила Горбачева проявлялась склонность к переменам и в этом отношении, но проблески надежды гасили его заявления, такие, например, как заявление, что в СССР нет политических заключенных (он сказал это в Париже в феврале 1986 года).
Мое тогдашнее отношение к новому советскому лидеру можно было охарактеризовать как осторожный оптимизм. Американцы же, даже те немногие, кто следил за событиями в СССР, знали об этом еще меньше, чем я. Они у меня постоянно спрашивали, что я думаю о новом генсеке и о том, куда он направит страну. Лишь разрушение Берлинской стены приковало внимание широкой американской публики к происходящему в СССР. Это событие было встречено как нежданное чудо. Все в одночасье поверили в окончание «холодной войны» по мановению волшебной палочки, которую держал в руках Горби — так любовно стали называть американцы этого посланца небес. На меня обрушился шквал приглашений на выступления в самых разных аудиториях. Телефон звонил непрерывно. Все — и знатоки СССР, и просто любопытные американцы — хотели знать, кто такой этот Горби, откуда он взялся в стране, где никогда не слыхали слова «свобода» и где она никому не нужна: так они представляли себе мою родину.
Я каждый раз объясняла, что в России никогда не умирало стремление к свободе, что на протяжении веков в каждом поколении были люди, посвящавшие свою жизнь борьбе за свободу и жертвовавшие ею ради свободы. И Горби (которого я ценю и которому благодарна за многое) все-таки не сделал бы того, что сделал, если бы и в стране, и даже в партии рядом с ним не было людей, рвущихся к свободе. Для тех дней это были шестидесятники — поколение оттепели. Все они, а не только диссиденты, составлявшие их малую часть, ринулись в узенькую щелочку дозволенного, приоткрывшуюся благодаря перестройке, и своим напором расширяли эту щелочку день за днем, месяц за месяцем, чтобы в образовавшуюся брешь хлынул поток инициатив и требований, который увлек за собой генсека Горбачева, превратив его в Горби, ставшего для американцев символом нашей свободы.
Я повторяла это ежедневно по много раз иногда по-русски, но чаще — по-английски. И мне пришла в голову мысль: не написать ли об этом? Не исследование, нет, а книжку для широкой публики, раз это многим стало интересно. Если так, то писать нужно было не только просто, но и в привычной для американцев, но в не свойственной мне манере. Необходим был соавтор, владеющий такой манерой. Издательство Литтл Браун, выразившее готовность выпустить такую книгу, предложило мне на эту роль знаменитого автора нескольких книг о Советском Союзе. Но я отказалась от лестного предложения, сулившего большие тиражи, опасаясь, что при авторе-знаменитости окажусь лишь поставщиком фактического материала, не влияющим на его интерпретацию.
Я пригласила в соавторы молодого журналиста Пола Голдберга. Выбор оказался правильным. Пол (по-нашему Павел) родился в Москве. Его родители эмигрировали вместе с ним в США, когда мальчику было четырнадцать лет. В Америке он закончил школу и престижный университет Дюка. Превратившись из Павла в Пола, он сохранил отличный русский язык, но думал уже по-английски и усвоил американский журналистский стиль. Пол хорошо помнил Москву и Россию. Я познакомилась с ним, когда он был еще студентом. Он хотел стать журналистом, и у меня возникла идея приохотить его писать о Советском Союзе и о происходящих там событиях, о которых не писала официальная советская печать. В Америке была явная нехватка журналистов, пишущих на эти темы. Я рассказывала Полу о диссидентах, о преследуемых верующих и участниках национальных движений в СССР. Мои усилия имели успех: Пол написал (на грант Фонда Форда) книгу «Final Act», то есть «Заключительный акт» (русский перевод «Заключительного акта» вышел в 2006 году, одновременно с переводом «Поколения оттепели»). Это книга о той среде, в которой в 1976 году возникла независимая правозащитная организация Московская Хельсинкская группа, и о первых девяти месяцах ее работы. Со своей задачей Пол справился блестяще: «Заключительный акт» основан только на фактах, с привлечением соответствующих документов, но, будучи чистой нон-фикшн, книга читается как детектив — впрочем, материал этому способствовал.
В работе над «Поколением оттепели», имея соавтора, я обрекла себя на роль сказительницы. Я рассказывала Полу все по порядку на присущем мне русском языке, он по ходу рассказа что-то вносил в компьютер, уже по-английски. Потом превращал введенный текст в соответствующую главу, оставляя из рассказанного только то, что казалось ему интересным и понятным для американского читателя, и отдавал написанный кусок мне на растерзание. Вторично я расправлялась с текстом уже готовой книги. Именно расправлялась, потому что пригодное, по мнению Пола, для американской публики не всегда нравилось мне. Во-первых, в написанном Полом тексте все было гораздо проще, чем в моем повествовании, исчезали какие-то важные для меня оттенки и подробности. Я понимала, что так и надо писать для читателей, не знающих наших реалий, но мне было трудно с этим смириться. Так, например, рассказывая о том, что мне было особенно интересно в отечественной истории, я говорила о декабристах, о Герцене, о шестидесятниках XIX века, о народниках и народовольцах, о земцах и либералах и т. д., вплоть до меньшевиков и большевиков. А Пол оставил только декабристов. Почему декабристов? Конечно, исторические аналогии между временем декабристов и временем диссидентов просто напрашиваются, но такие аналогии возможны и по отношению к кадетам, например, которые намного ближе к нашей эпохе. А Пол убеждал меня: все это читателям будет очень трудно объяснить. Так и остались в этой книге одни декабристы как непосредственные предшественники диссидентов послесталинского времени.
Были у меня с Полом и стилистические несогласия. Я стремилась «подсушить» слишком сентиментальные, с моей точки зрения, эпизоды. В русской литературной традиции сентиментальность не является признаком хорошего вкуса. Американцы на этот счет более снисходительны. Пол уверял меня, что в книге, рассчитанной на массового читателя, некоторая сентиментальность просто обязательна. Еще больше, чем сентиментальность, меня пугала этакая победная интонация в эпизодах, где описывалась пусть самая малая удача моя или симпатичных мне персонажей. Я и без Пола знала, что американцы стремятся в любой ситуации выглядеть успешными людьми, и это очень привлекательная для меня черта их национального характера. Но я так и не научилась так себя подавать, и в книге меня это коробило.
В сражениях с Полом иногда я ему уступала, иногда он мне. Но я ему безусловно благодарна за то, что он сумел придать книге, написанной от моего имени, мою интонацию. Я понимаю, что это непросто сделать.
Но главная трудность была в невозможности получить необходимые для книги материалы из СССР — не хватало даже не столько письменных материалов, сколько возможности поговорить с людьми, принадлежащими к поколению оттепели. Ведь эта книга о тех, кто пережил годы сталинского террора и воспрянул после разоблачения сталинских преступлений в докладе Никиты Хрущева на XX съезде КПСС (февраль 1956 года). Таким образом, следовало объяснить американскому читателю, что пережили люди этого поколения, начиная с детских лет. Только тогда будет понятно, почему стало для них поворотным моментом официальное признание сталинского террора преступным. Я должна была описать, как складывались судьбы шестидесятников на протяжении всей их жизни вплоть до появления на исторической сцене Горби. Но я не так уж много об этом знала и не все, что знала прежде, помнила в конце 1980-х годов. Восполнить же пробелы возможности не было: меня в СССР не пускали, даже телефонные звонки из Америки были редкой удачей. А книгу эту по самому ее замыслу следовало выпустить в свет как можно быстрее. Поэтому она поневоле оказалась более автобиографичной, чем мне бы хотелось.
Моя биография довольно типична для моего поколения, и этот материал лучше всего мне известен. Немало сведений, важных для характеристики поколения оттепели, открылось позднее, уже после выхода в свет книги, а кое-что известное тогда лишь узкому кругу лиц было неизвестно мне. Это особенно касается экономистов и партийных работников, принадлежавших к шестидесятникам. Их идеи и деяния знали лишь близкие и некоторые коллеги — так же, как о диссидентах знали очень немногие. В «Поколении оттепели» они смогли быть описаны лишь потому, что это была известная мне среда. Да и память оказалась не очень надежным помощником — немало важного для характеристики поколения шестидесятников в книге упущено. Не написала я о многих известных мне тогда замечательных людях, определивших характерные черты этого поколения, придавших ему его неповторимость. Это замечательный философ Григорий Померанц, известный социолог Юрий Левада, литератор Юрий Карякин, поэты Владимир Корнилов и Юрий Левитанский, журналисты Лен Карпинский и Отто Лацис, театральные режиссеры Олег Ефремов (театр «Современник»), Юрий Любимов (театр на Таганке), Анатолий Эфрос (театр на Малой Бронной), Марк Розовский (его я знала как режиссера Студенческого театра МГУ) и др. — всех не перечесть. Каждый из них оказал огромное влияние на окружающих. Они не упомянуты в «Поколении оттепели» — или я в тот момент о них не вспомнила, или рассказала не так, и Пол решил, что это не будет понятно и интересно американцам. Нет упоминаний о тех шестидесятниках, которые ярко проявили себя в годы перестройки, когда книга уже была написана, — например, Егор Яковлев, сделавший незаметную газетку «Московские новости» главной газетой перестройки; Александр Яковлев — соратник Горбачева, больше всех в его окружении сознававший необходимость демократизации советского авторитарного строя; яркие политические фигуры начала перестройки Гавриил Попов, Юрий Афанасьев, Леонид Баткин; экономисты Евгений Ясин и Татьяна Заславская. И тут всех перечесть невозможно, кого очень не хватает в книге о «поколении оттепели». Но дописывать эту книгу для русского читателя через пятнадцать лет после ее написания — невозможно. Просто нужна книга (и, наверное, не одна) об этом поколении, написанная не в Америке, а в России, и не для американской публики, а рассчитанная на отечественную аудиторию. Но это уже задача для другого автора или других авторов.
«Поколение оттепели» имело успех в Америке. Книга хорошо разошлась и даже была включена в список литературы для тех, кто намеревался побывать в России, — ее читали дипломаты, профсоюзные деятели, журналисты и просто туристы.
Меня неоднократно спрашивали, не думаю ли я о переводе ее на русский язык. Пол тоже не раз предлагал заняться этим. Однако я была решительно против русского издания. Исходя из вышеперечисленных соображений, я просто боялась отдать книгу на суд соотечественников. Повторю эти доводы: 1) в книге слишком просто, может быть, даже примитивно трактуются очень сложные проблемы; 2) для книги о поколении шестидесятников там слишком много меня самой, а для целого ряда заслуживающих внимания судеб там не нашлось места; 3) события, попавшие в книгу, Пол отбирал в расчете на американского читателя, а читатель отечественный заметит, что кое-что первостепенно важное здесь упущено, а некоторые второстепенные события подаются как самые главные. Я ведь рассказывала Полу как помнилось, и это было очень субъективно. Да к тому же еще налет сентиментальности и «победные» интонации! Нет, эта книга была задумана для американцев, пусть они ее и читают.
Но шло время, и пару лет назад аспирантка из провинции, работавшая в архивах московского «Мемориала» над диссертацией по истории правозащитного движения в СССР, прочла эту книгу. Оказалось, ей все это очень интересно. Потом ее прочла очень интеллигентная молодая москвичка. И тоже утверждала, что это ей интересно. Поскольку выяснилось, что молодым соотечественникам это может быть интересно, я уже не была категорически против перевода. Но организовать его, наверное, так и не собралась бы, если бы не добрые ангелы — мои американские друзья Эндрю Блейн и Эдвард Клайн, которые нашли деньги на перевод и даже переводчицу!
С переводчицей мне повезло не меньше, чем с соавтором. Зоя Евгеньевна Самойлова отнеслась к этой работе с такой любовью, с таким энтузиазмом и с таким усердием, что стала практически соавтором русского текста. Она не просто добросовестно переводила, а замечала огрехи в английском тексте, и они были поправлены в русском переводе. Она разыскивала упоминавшиеся в книге документы, цитаты и т. д., чтобы дать их не в обратном переводе, а по оригиналу, и благодаря ей даты, имена или что-то еще указанное неверно было исправлено.
Читая уже готовый перевод, я тоже делала некоторые исправления — иногда вычеркивала утверждения, достоверность которых трудно сейчас проверить. Кое-что, наоборот, в русском тексте добавлено. Так, в 1989 году, когда закончилась работа над книгой, я не решилась писать об участии в диссидентском движении моего старшего сына Сережи — родственники его жены Люды жили в Москве, и мы опасались еще их «засветить». Были и другие изъятия, вставки и поправки, поскольку уже можно было проверить детали, обращаясь к участникам описываемых событий. Таким образом, русский перевод не полностью соответствует первоначальному английскому тексту. Но все-таки книга не переделывалась, а была всего лишь несколько доработана. Новой стала последняя глава — понятно почему. Со времени выхода в свет «The Thaw Generation» прошло пятнадцать лет. Зачем обрывать 1989 годом книгу, издаваемую в 2006-м, если поколение, в ней описанное, не сошло со сцены?
Мне пришла в голову счастливая мысль использовать в русском издании возможность, отсутствовавшую у меня пятнадцать лет назад — дать слово самим шестидесятникам. Пусть это будет их взгляд на свое поколение в историческом ракурсе, из сегодняшнего дня.
Моими собеседниками стали Яков Михайлович Бергер и Сергей Адамович Ковалев. Они оба достойно представляют поколение оттепели и в жизни, и в этой книге. Мы обсудили, кого мы считаем шестидесятниками, чем отличается наше поколение от предшествовавших и последующих и каков вклад шестидесятников в российскую историю и в современность. Расшифровка магнитофонной записи этой беседы составила заключительную главу вместе с заметками на эти же темы известного экономиста Евгения Григорьевича Ясина, тоже по праву причисляющего себя к шестидесятникам.
Для особо любознательных читателей в русском издании добавлено приложение. Это отрывок из статьи Виктора Михайловича Воронкова «Аналитическое обозрение». В этом приложении я соблазнилась представить отечественному читателю взгляд на поколение оттепели исследователей, то есть взгляд профессионалов.
Наконец, расширен справочный аппарат. Кроме именного указателя (который имелся и в «The Thaw Generation»), русское издание снабжено биографическим указателем и комментариями. Над справочным аппаратом работали сотрудник Московской Хельсинкской группы Николай Костенко и сотрудники исследовательского центра «Мемориала» Геннадий Кузовкин, Дмитрий Зубарев, Алексей Макаров и Семен Чарный; кроме того, Николай Костенко, Геннадий Кузовкин, а также Наталия Ларичева участвовали в подготовке к публикации текста книги — огромная им за это благодарность.
Благодарю еще раз за неоценимую помощь в подготовке русского издания Зою Евгеньевну Самойлову. Хотелось бы выразить искреннюю признательность профессору Эндрю Блейну, которым первым подал идею перевести книгу на русский язык и с деятельным интересом вникал в подробности реализации этой идеи. Глубокая благодарность Издательству имени Чехова за финансовую поддержку работы над переводом. Благодарю Сергея Адамовича Ковалева и Якова Михайловича Бергера за содержательную беседу о шестидесятниках. Благодарю Евгения Григорьевича Ясина и Виктора Михайловича Воронкова за любезно предоставленные собственные труды, включенные в русское издание. Благодарю Яну Зыкову и Татьяну Локшину, прочитавших «The Thaw Generation» и убедивших меня в том, что пришло время для русского издания этой книги. Благодарю Владимира Матлина, Наталью Николаевну Садомскую и Александра Юльевича Даниэля, сделавших ценные исправления и добавления в русский текст; директора архива «Мемориала» Татьяну Михайловну Хромову за предоставление ряда фотографий для русского издания; Наталью Костенко и сотрудников Московской Хельсинкской группы Ирину Горшкову, Юлию Габидулину, Нину Таганкину, Анастасию Асееву и Ирину Сергееву за помощь в подготовке русского издания к печати. Благодарю Игоря Валентиновича Захарова за любезное согласие издать «Поколение оттепели» на русском языке.
Введение
В юные годы будущие советские руководители и будущие диссиденты сидели за партами в одинаковых классах, слушали учителей, преподававших по стандартной методике одни и те же предметы, и каждый день видели перед собой образ Сталина. Не было школы, где не стояли бы его бюсты и не висели портреты. На знаменитой фотографии 1936 года улыбающийся в усы Иосиф Виссарионович держит огромный букет и темноволосую девочку в матроске. Сияющая малышка обнимает вождя как отца родного: «Спасибо товарищу Сталину за наше счастливое детство!»
Я родилась в 1927-м, через три года после его прихода к власти. В 1937-м, когда мне было десять лет, из нашего дома в Москве начали исчезать люди. Я не видела в этом ничего особенного и не задавала вопросов. Я не знала другой жизни.
Поворотные вехи в истории моего поколения можно обозначить точными датами, иногда даже часами и минутами. Первое на моей памяти историческое событие произошло 22 июня 1941 года, ровно в 4 часа утра, — Германия напала на Советский Союз. В школе нам говорили, что наша армия непобедима. Теперь эта армия отступала к Москве, теряя сотни тысяч солдат. И у нас впервые зародилось сомнение — неужели учителя могли ошибаться?
Война окончилась, но сомнения остались. Не ослабевало смутное ощущение: что-то не так. Я не чувствовала себя счастливой и не видела вокруг людей, которых можно было назвать счастливыми. Если революция 1917 года совершалась ради счастливого будущего, то где оно, это будущее? В чем же дело? Что-то не то с системой или с нашими руководителями? А может, я какая-то не такая? Откуда у меня эти мысли? Ими даже поделиться не с кем.
5 марта 1953 года радио объявило о смерти Сталина. Как и большинство людей, я расплакалась. Плакала от беспомощности, оттого, что не могла представить, что́ теперь с нами будет. Плакала, потому что чувствовала — к лучшему или к худшему, эпоха закончилась.
Не имея представления о другой жизни, мы оказались совершенно не готовы к периоду либерализации, получившему впоследствии название «оттепель», по одноименной повести Ильи Эренбурга.
25 февраля 1956 года, когда мне было около тридцати, Хрущев потряс делегатов XX съезда Коммунистической партии и весь народ разоблачением Сталина. Великий вождь оказался преступником. Этот съезд положил конец одиноким попыткам подвергнуть сомнению советский строй. Люди переставали бояться, начали высказывать свои мнения, делиться информацией, обсуждать волнующие их вопросы. По вечерам мы собирались в тесных квартирах, читали стихи, предавались воспоминаниям, обменивались новостями. В результате возникала реальная картина того, что происходит в стране. То было время нашего пробуждения.
Руководителей и наставников у нас не было, мы могли учиться только друг у друга. «Оттепель» стала для нас временем поиска альтернативной системы ценностей, собственного мировоззрения. Пережив сталинизм, мы уже не смогли бы принять никакое «прогрессивное» учение, навязываемое сверху.
Стремясь избавиться от сталинской доктрины коллективизма, мы постепенно осознавали, что мы не винтики в государственной машине, не безликие члены «коллектива». Каждый из нас — единственный в своем роде, и каждый имеет право быть самим собой. Не спрашивая разрешений у партии и правительства, мы стали рассуждать и делать выводы: писатели имеют право писать, что они хотят, читатели имеют право выбирать, что им читать, и каждый из нас имеет право говорить то, что думает.
Не мы изобрели стремление к свободе, мы только заново открыли его для себя, в своей стране. По милости «вождя и учителя» мы даже не знали, что на Западе подобные идеи существовали веками. Мы почти ничего не знали о политической философии, отличной от большевистского варианта коммунизма.
Люди начинали жить по новой морали, и делали это ради самих себя. Правительство продолжало упорствовать в своей приверженности коллективизму. По мере того как каждый из нас обретал свою индивидуальность, общество постепенно все больше отдалялось от властей. Тем не менее мы оставались лояльными гражданами. Я не знала ни одного противника социализма в нашей стране, хотя нас и возмущала негуманность нашего общества. Мы подхватили лозунги чехословацких реформаторов, которые вели свою борьбу со сталинизмом. Мы разделяли близкую нам идею «социализма с человеческим лицом». Надежды «пражской весны» нашли отклик в Москве.
Ночью 21 августа 1968 года советские войска вошли в Чехословакию — подавляя реформы в братской стране, власти спасали коммунистическую идеологию у себя дома. Вторжение ознаменовало конец «оттепели». Теперь каждый из нас должен был сделать выбор: следовать линии партии и делать профессиональную карьеру; забыть о карьере и тихо ждать следующей «оттепели» или продолжать жить как при «оттепели» со всеми вытекающими отсюда последствиями — сломанной карьерой и участью отверженных.
Немногие выбрали третий путь, и я горжусь тем, что была среди них. Отвергнутые и властями и обществом, мы жили в своем маленьком замкнутом кругу. Мы не сразу заметили, что наша борьба за свободу личности от государства стала борьбой за права человека — не только для нас самих и наших друзей, но и для всех сограждан. Многие дорого заплатили за эту борьбу, проведя годы в тюрьмах и лагерях. Некоторые были вынуждены эмигрировать, и я — в их числе. И все же я убеждена, что наша судьба была не хуже, чем у большинства современников, которые провели эти годы, продвигаясь по служебной лестнице и соглашаясь с неизбежностью компромиссов, или у тех, кто просто ждал, пытаясь жить «по правилам», не принимая ни ту, ни другую сторону. За эти годы некоторые из моих бывших друзей предпочли перестать думать, другие просто спились, а кое-кто отказался от старых идей.
Тех, кто боролся за права человека, стали называть диссидентами. «Диссидент» — значит «несогласный». Этого слова не было в русском языке; впервые его использовал кто-то из переводчиков зарубежной радиостанции, чтобы избежать труднопроизносимого «инакомыслящий». Впоследствии в советской прессе нас стали презрительно именовать «так называемыми диссидентами». В конце концов слово «диссидент» вошло в русский язык наряду со словом «инакомыслящий».
Диссиденты обличали всех партийных бюрократов, не делая различий между поколением Брежнева и нашими ровесниками — последние в нападках на диссидентов были так же безжалостны, как и их старшие товарищи. Мы не верили, что человек может оставаться преданным идеалам «оттепели» и одновременно получать чины и звания в такой циничной и коррумпированной организации, как Коммунистическая партия. Поначалу, в конце шестидесятых, общественное мнение было на стороне диссидентов, но год от года эта поддержка ослабевала, и к середине восьмидесятых, когда большинство инакомыслящих оказалось или в тюрьмах, или в изгнании, о нас просто забыли.
В 1985 году, когда к власти пришел Горбачев, никто и предположить не мог, что он воспользуется нашими идеями двадцатилетней давности. Скорее можно было ожидать, что он останется в плену своего многолетнего опыта партийного функционера, сводящего на нет любые благие намерения. Распознать шестидесятника в новом советском руководителе было нелегко. Однако с приходом Горбачева многие функционеры выступили в поддержку реформ, напоминавших «пражскую весну». Генерального секретаря поддержала и интеллигенция — те, кто молчал двадцать лет после вторжения в Чехословакию, сохраняя нейтралитет и ожидая своего часа. Но никто из диссидентов не присоединился к его команде. Слишком велик был раскол между отверженными и истеблишментом; наше духовное различие было непреодолимо.
В феврале 1986 года Горбачев заявил, что в СССР нет политзаключенных и что Андрей Сахаров — душевнобольной. Позже он признал, что кризис советской экономики нельзя преодолеть без реорганизации политической системы и единственный путь осуществления реформ лежит через соблюдение прав человека и верховенство закона. Этими заявлениями он фактически разрушил опоры советского строя. Временами он пользовался нашими лозунгами и заимствовал наши идеи, но мы не держим обиды на Горбачева и его соратников за то, что они не ссылались на нас как на первоисточник. Наши идеи обрели новую жизнь.
Теперь мы знаем, что такие идеи общеизвестны на Западе, да и в российском прошлом иногда бывали слышны. Мы зажгли огонек свободы и поддерживали его все двадцать лет брежневского правления. Мои сверстники, те, кто сохранил свои души в годы застоя, присоединились к перестройке. Все мы пережили горечь сталинской эпохи, и наш общий опыт давал надежду, что это потепление будет чем-то большим, чем оттепель в середине зимы.
Глава 1
На моем столе — фотография родителей, сделанная в 1926 году. Им по девятнадцать лет. По революционной моде оба одеты в косоворотки. Они вышли из бедных семей, были комсомольцами. Революция дала им возможности, которых никогда не было у их предков: отец изучал экономику, мама — математику. Можно сказать, моим родителям повезло.
Я росла в уверенности, что награждена судьбой жить в счастливой стране, где дети окружены отеческой заботой вождя. Правда, родители никогда его при мне не славили, но я постоянно слышала о «мудром, родном и любимом» — и по радио, и на детских утренниках — повсюду:
Помню, как однажды, еще дошкольницей, я глядела на котенка и думала, какая я счастливая, что я человек. Было бы ужасно родиться котенком, жить только инстинктами, не иметь мыслей. Это привело меня к дальнейшим рассуждениям: а что, если бы я родилась в капиталистической стране, где все несчастны? А если бы я родилась у других родителей? К концу этих умственных упражнений я почувствовала себя счастливой. Не только потому, что родилась человеком, но и потому что мои родители, Михаил Славинский и Валентина Ефименко, — самые лучшие в мире родители. А моя страна, Союз Советских Социалистических Республик, — самая лучшая, самая прогрессивная страна в мире. Я — избранница судьбы.
В 1935 году, вскоре после того как я поступила в первый класс, отец принес домой карту мира. Она была огромна. Должно быть, у Сталина и Гитлера были такие же. Карта закрыла всю стену над моей кроватью. Я взяла у мамы булавки, привязала к ним красные ленточки и стала отмечать линии фронта в Испании, где «наши» боролись с фашизмом. Я спала под этой картой и мечтала о славных битвах в далеких краях с романтическими названиями: Мадрид, Толедо, Валенсия, Барселона, Герника, Теруэль. Я знала, что Испания — это поле боя мировой революции, и после нашей победы испанские дети станут такими же счастливыми, как я. Когда вам восемь лет и вы живете в лучшей в мире стране, вам хочется поделиться своим счастьем с другими.
Каждое утро мои родители открывали «Правду» и читали военные репортажи, после чего мы — разочарованные — сдвигали булавочные флажки вверх, к французской границе. «Наши» несли потери, но я продолжала надеяться, что наступит день, когда мы передвинем флажки на карте вниз. В то время я ходила в красной пилотке-«испанке», точно такой, какие носили республиканцы.
Мама работала в Институте математики Академии наук, и я посещала драмкружок для детей сотрудников. Мне дали роль испанской девочки Аниты. Она произносила одну фразу: «Лучше умереть стоя, чем жить на коленях». Во дворе, где мы с ребятами играли в казаки-разбойники, и «казаки», и «разбойники» при встрече поднимали правую руку со сжатым кулаком и выкрикивали: «Но пасаран!» («Не пройдут!»).
В школе мы читали повесть о пионере-герое Павлике Морозове. Обнаружив, что его отец, председатель сельсовета, сговорился с кулаками утаивать часть зерна от инспектора по продразверстке, Павлик сообщил об этом властям. Враги народа убили Павлика. Я не могла представить себя на его месте. Не только потому, что знала: мои родители — честные советские граждане, но и потому, что даже вообразить страшно, как можно доносить на родителей.
Не знаю, понимал ли это товарищ Сталин, но советский человек — новая разновидность людей, лишенных пережитков буржуазного индивидуализма, — воспитывался, как правило, бабушкой. Пока наши мамы учились в университетах и сидели на комсомольских собраниях, бабушки с нежностью качали внуков в колыбелях и напевали песни, которые они слышали от своих матерей в те времена, когда большевики еще только появлялись на свет. В души детей исподволь проникали вечные ценности, зачастую прямо противоречившие символам новой эры. Тому пример — мое инстинктивное неприятие Павлика Морозова.
Мое раннее детство прошло в Останкино. Тогда это была далекая окраина Москвы. В двухэтажных деревянных бараках, наспех построенных километрах в двух от трамвайной линии, жили рабочие завода «Калибр»; большинству было немногим за двадцать. Они уехали из деревень в начале коллективизации и, найдя работу и жилье в городе, перевезли своих матерей — ухаживать за детьми.
Бабушкам тогда было лет под сорок. Моей было сорок два года, когда я родилась, и сорок шесть, когда она переехала к нам в Москву. Звали ее Анетта Мариэтта Розалия Яновна Синберг. Она была из эстонских крестьян, но родилась в Крыму, где ее предки поселились во времена Екатерины Великой, когда Крым был присоединен к России. В девятнадцать лет она вышла замуж за украинского коробейника Афанасия Ефименко. Осталось невыясненным, как они смогли договориться о женитьбе. Бабушка не говорила ни по-русски, ни по-украински, а мой будущий дед ни слова не знал по-эстонски. Конечно, ключом к разгадке может служить ее внешность — была она высокая и стройная, с тяжелой каштановой косой, с неторопливой и плавной походкой.
Бабушке нравилась «власть Советов» по своим личным соображениям. В 1913 году, когда ей было двадцать девять, дед скончался от гангрены, оставив ее вдовой с тремя детьми. У нее не было ни профессии, ни надежды дать детям образование.
«Если б не революция, кто бы выучил моих детей?» — не раз повторяла она. После революции мама стала математиком, а ее сестра Женя, моя тетя, — инженером.
Большую часть своей замужней жизни бабушка провела в Джанкое. В этом крымском городке с разноязычным населением она научилась великолепно готовить кебабы и чебуреки, борщи и голубцы, бешбармак и фаршированную рыбу. Всех, кто приходил к нам в квартиру, поражала царившая в ней чистота. Даже над кухонной плитой стены сверкали белизной. И все благодаря бабушке: она регулярно белила потолки и стены, быстро — на глаз — приготовив раствор из известки, клея и синьки. В идеальной чистоте содержалась вся одежда. Простыни и скатерти похрустывали от крахмала, как и мое белое платье в оборочках. Бабушка над ним долго трудилась, прежде чем выпустить меня погулять. Когда, надев это произведение искусства, я появлялась во дворе, то, должно быть, напоминала видение из прошлого.
Я любила бабушку, любила родителей, мне нравилось выходить на прогулку в белом накрахмаленном платье. Вокруг меня были реальные люди и реальные предметы, которые составляли мой мир. По сравнению с ними Павлик Морозов воспринимался лишь как портрет в книжке, а «коллектив» казался чем-то абстрактным, что не поддавалось воображению. Ребенок, воспитание которого было предметом безраздельного внимания Анетты Мариэтты Розалии Яновны Синберг, став взрослым, никогда не смог бы быть просто винтиком в государственной машине. Как и множество других детей, которые росли под неусыпным присмотром своих бабушек. Наверное, каждый по-своему пытался приспособиться к системе, но в конце концов понимал: приноравливаться, чтобы быть как все, — получается плохо, лучше оставаться самим собой.
В 1937 году, когда мне было десять лет, мы переехали в центр Москвы, в 1-й Николощеповский переулок, дом 4/20. Это был пятиэтажный дом с высокими потолками и большими кухнями. По первоначальному проекту предполагалось также наличие балконов, но по неизвестным причинам их так и не установили, и фасад здания «украшали» торчащие из стены стальные балки.
Квартиру, в которую мы переехали, раньше занимал ответственный работник Центросоюза — ведомства, регулирующего экономические связи между городом и деревней. Отец тоже там работал. Прежнего жильца арестовали, а его квартиру разделили. В одной комнате осталась его жена с десятилетней дочкой, а две другие предоставили нам.
Мне нравилось жить в новой квартире. В отличие от барака здесь были водопровод и туалет со смывным бачком.
На кухне — новая плита, которую не надо топить дровами, достаточно зажечь газ. Из окна комнаты, в которой разместились мы с бабушкой, открывался прекрасный вид, и я часами могла смотреть на баржи, плывущие вниз по Москве-реке.
Вскоре после переезда отец принес домой трехтомник Александра Герцена «Былое и думы». Я полюбила первый том — воспоминания Герцена о юности, прошедшей в Москве в двадцатых годах девятнадцатого века. Первые главы послужили мне путеводителем по лабиринту арбатских переулков. После революции старые особняки превратились в огромные коммунальные квартиры. Высокие окна без портьер, из форточек свисают сетки с продуктами — масло, сыр, колбаса, а между рамами хранятся бутылки с молоком и кефиром. Если прищуриться и не замечать эти импровизированные «холодильники», улица потеряет ясные очертания, и можно легко вообразить, как по ней движутся черные экипажи, из них выходят лихие офицеры и дамы в бальных платьях. Можно даже представить прогуливающихся по вечерней улице Пушкина или Герцена: вот они прошли мимо и скрылись в подъезде особняка с изящными венецианскими окнами.
Однажды ночью пришли за соседкой, женой арестованного чиновника. Смутно помню звуки тяжелых шагов в коридоре, хлопанье дверей, плач девочки. Хотя и сквозь сон, я все это слышала, но на следующее утро, когда соседская комната опустела, я по-прежнему была уверена, что живу в лучшей в мире стране. Время раздумий еще не пришло. В освободившуюся комнату поселили семью из пяти человек. В том году подобные переселения произошли еще в двадцати девяти квартирах нашего дома. Это был пик сталинских репрессий против членов партии.
Газеты предлагали некоторое объяснение фактам исчезновения граждан. Печатались рассказы о плохих людях, которые не хотят, чтобы наша страна успешно выполнила свою историческую миссию — освобождение рабочего класса от эксплуатации капиталистами. Эти негодяи работали сообща: англичане, американцы, немецкие фашисты, японцы, буржуазные поляки. Они поручали свои грязные дела полчищам шпионов, террористов и наемных убийц, орудовавших внутри страны.
Не помню, думала ли я, что исчезнувшие соседи по дому тоже были плохими, я просто не воспринимала их отсутствие как что-то чрезвычайное. Я не знала другой жизни. К тому же мне казалось, что силы истории в чем-то подобны силам природы. Классовая борьба — как шквал: вздымает прошлое, отнимает жизни, разрушает дома, даже целые города и уносит их в океан. Какие моральные критерии можно применить к шквалу? Наверное, чтобы я начала задавать вопросы, должно было бы случиться что-то экстраординарное, не меньше чем арест родителей. Я бы не поверила, что мои родители плохие люди, немецкие шпионы, диверсанты или враги народа. Как и все в то время, я без объяснений чувствовала, что каждого подстерегает опасность, а вопросы могут только приблизить ее. Интуитивно не задавая вопросов, я тем самым оберегала и себя и своих родителей.
В 1937 году страна отмечала столетие со дня смерти Александра Сергеевича Пушкина. К этой дате Академия наук издала полное собрание сочинений великого поэта. Мы с отцом придумали игру: он читал две строки из «Евгения Онегина», я подхватывала и продолжала читать, пока меня не останавливали. Я знала наизусть все восемь глав.
В том же году я заметила, что дети во дворе избегают меня, не хотят играть или разговаривать. Может, причина была во мне, но столь же вероятно, что это был дух времени. Взрослые вели себя очень осторожно, почти не общались друг с другом, и дети следовали их примеру. Было бы наивно ожидать, что дети, жившие в доме 4/20 по 1-му Николощеповскому переулку, могли быть какими-то особенными. Но их поведение часто казалось довольно странным. Например, как только игры заканчивались, все разбегались, будто из какого-нибудь унылого учреждения в конце рабочего дня.
Почти все в нашем дворе прочитали «Три мушкетера» Александра Дюма. Эта книга открыла нам иной мир. Мы могли часами воображать себя в другой стране, в другое время, снова и снова разыгрывая дуэли, путешествия по Франции, балы в Лувре. Сначала мне досталась роль мадам Де Шеврез, но я схватила палку и, размахивая ею как рапирой, отвоевала себе право на роль Атоса. Из всех персонажей он нравился мне больше всех: благородный, смелый, скромный. Остальные мушкетеры не производили такого впечатления: Портос — груб, Арамис — сноб, д’Артаньян — безрассуден.
Игра заканчивалась, и я оставалась одна. Почему у меня нет друзей? Я винила себя — я слишком высокая, неуклюжая, совсем не хорошенькая. Я была какая-то не такая, а хотелось быть как все.
Однажды мама, увидев, как я рассматриваю себя в зеркале, сказала: «Не заглядывайся, ты совсем не красавица». Я не могу упрекать ее за жестокие слова, она просто старалась воспитать во мне скромность. Если девочка будет думать, что она лучше всех, ей будет трудно жить и работать в коллективе.
Родители купили пианино и предприняли отважные попытки учить меня музыке. Я продвинулась настолько, что разучила итальянскую песенку из «Детского альбома» Чайковского. Каждый день не меньше часа я сидела за пианино, установив на пюпитр «Войну и мир», «Анну Каренину», «Айвенго» или «Мадам Бовари», и играла по памяти, но в разном темпе, от адажио до престиссимо, в зависимости от того, что больше подходило к тому месту в книге, которое я в данный момент читала. Все это делалось для того, чтобы бабушка на кухне слышала, как я стараюсь.
При каждом удобном случае мы с отцом «путешествовали» по нашей карте, и нередко гидом нам служил Жюль Верн. Так я узнала об эвкалиптах, растущих в Австралии, где земля красного цвета, а животные носят детенышей в сумках. В голове у бледной впечатлительной девочки все перемешалось — Атос, Портос, Арамис, Пушкин, Герцен, Анна Каренина, мадам Бовари и маленькая испанка Анита. Книги для нее были реальностью. Красная земля и кенгуру, скачущие по эвкалиптовым лесам, были более интересны (и менее опасны), чем то, что происходило в доме 4/20 по 1-му Николощеповскому переулку.
Почему-то запомнился один вечер, когда отец рассказывал мне об Исландии: гейзеры, суровая земля вулканического происхождения, древние саги, передающиеся из поколения в поколение. «Столица Исландии — Рейкьявик. Я ничего не знаю об этом городе, но, должно быть, он прекрасен. Послушай, как звучит: Рейкь-я-вик». Через пятьдесят лет, подлетая к этому северному городу в самолете «Пан Американ», я поймала себя на том, что повторяю: «Рейкь-я-вик».
Весной 1937 года отец перестал ходить на работу. По утрам он не брился, не одевался, лежал в пижаме, повернувшись к нам спиной и уставившись в спинку дивана. Возвращаясь из школы, я заставала его в той же позе. Шофер, возивший его на служебной «эмке», больше не появлялся.
Дело было в том, что председателя Центросоюза, И. А. Зеленского, арестовали, и в ходе расследования он сознался, что создал в Центросоюзе подпольную фашистскую организацию, в которую вовлек около трехсот членов партии, своих сотрудников. Эта вражеская организация устраивала встречи во время банкетов в загородном доме отдыха Центросоюза. Банкетов там и в самом деле проводилось множество: в годовщину Великой Октябрьской социалистической революции и в годовщину основания Центросоюза, в День международной солидарности трудящихся и в День Сталинской Конституции, в канун Нового года, а также по случаю юбилеев и выходов на пенсию. Подвыпившие чиновники пели хором о непобедимой Красной Армии и защите Родины в прошедших и будущих войнах. Отец никогда в этом не участвовал. Он не переносил алкоголь, пьянея даже от глотка вина, и понимал, что сотрудник, уклоняющийся от выпивки, сразу потеряет уважение коллег и начальства. Чтобы скрыть свою несостоятельность как собутыльника, он просто избегал банкетов.
Следствие установило, что отец не присутствовал на собраниях и, значит, не был членом фашистской подпольной организации. Зеленский и еще 297 работников Центросоюза были отправлены в лагеря или уничтожены в подвалах Лубянки, тогда как отец отделался увольнением с работы и исключением из партии «за потерю бдительности».
Интересно, о чем он думал долгие месяцы, пока лежал дома, глядя на обивку дивана. Наверняка он понимал, что его товарищи по Центросоюзу, люди, которых он хорошо знал, не были ни шпионами, ни диверсантами, и мучился вопросом, почему этот социалистический эксперимент, частью которого был он сам, принял столь искаженный характер. Через год отец нашел работу заместителя директора небольшой московской фабрики, а через два года его восстановили в партии.
1 июня 1941 года мы с бабушкой погрузились в отцовскую «эмку» и отправились на Курский вокзал. Было холодно и пасмурно. Мы ехали уже по Земляному Валу, до вокзала оставалось несколько кварталов, как вдруг на ветровое стекло стали падать огромные белые хлопья. Они кружились в воздухе и медленно оседали на землю. Это был снег, снег в июне.
— Ой, не к добру это, — сказал водитель. — Не было б войны.
Мы отдыхали в Феодосии; я обычно спала на раскладушке в саду. 22 июня, в пятом часу утра меня разбудил какой-то гул. Его издавал аэроплан. Я не видела знаки на его крыльях. Да и причин разглядывать их у меня не было: если самолеты летают в небе у меня над головой, значит, это наши самолеты. В школе нас учили, что советские границы «на замке», а если вдруг случится война, то мы победим «малой кровью и на чужой земле». Об этом даже песня была. Я повернулась на другой бок и снова заснула.
В полдень по радио передали речь наркома Молотова, и мы узнали, что началась война: «Наше дело правое. Мы победим». История, конечно, была на стороне прогрессивных масс.
Позднее в тот же день бабушка слышала, как на рынке рассказывали: три немецких бомбардировщика пролетели над городом после того, как бомбили нашу военно-морскую базу в Севастополе. Я увещевала бабушку не верить тому, что болтают на рынке. К вечеру мы получили телеграмму от родителей: «Немедленно возвращайтесь».
— Бабушка, ну зачем уезжать, каникулы только начались, — ныла я. — Через несколько дней эти самолеты отсюда прогонят, вот увидишь.
Бабушка согласилась, и в Москву полетел ответ: «Мы остаемся». Родители ежедневно слали нам телеграммы, но мы продолжали упорствовать. Второго июля фашистская бомба попала в ангар якорного завода, и все обитатели Феодосии сбежались на место происшествия. Увидев развороченный булыжник и то, что осталось от ангара, бабушка усомнилась в моей политической мудрости, и третьего июля мы сели в поезд, отправлявшийся в Москву. Это оказался последний состав, увозивший людей из Крыма.
Поезд шел только днем, по ночам нас высаживали на какой-нибудь станции, где мы — в полной темноте — дожидались рассвета. При приближении немецких самолетов поезд останавливался, и люди разбегались в стороны, наклоняясь к земле и прикрывая головы руками. Путешествие продолжалось более трех суток, вдвое дольше обычного.
Вернулись мы шестого июля. Отца дома не было. Перед нашим приездом он добился направления на военную службу, отказавшись от брони. Все окна в квартире были крест-накрест заклеены полосками бумаги; вечером мы опускали темные шторы.
— Дочурка, я иду защищать советскую власть, — сказал отец 14 июля, когда его отпустили из казармы попрощаться с семьей.
Меня, вместе с другими детьми сотрудников Института математики, увозили в эвакуацию в Казахстан.
В одно из писем с фронта отец вложил письмо своего командира. Тот писал, что другого такого политрука, как мой отец, нет на всех фронтах от Белого моря до Черного. Отец ведь не пил и ежедневно отдавал командиру свою порцию водки. В другом письме отец рассказал, что убил немецкого пилота, который приземлился с парашютом в чаще леса. Они столкнулись лицом к лицу. Отец выхватил пистолет и выстрелил.
«Я убил его, иначе он убил бы меня», — писал он. Это звучало как оправдание.
В течение нескольких месяцев по радио передавали одно и то же: «Наши Вооруженные силы отступили на заранее подготовленные позиции». В октябре 1941 года, через четыре месяца после вторжения, немцы были уже в Химках, в двадцати километрах от Москвы. Я знала, где это — там жили бабушкины друзья, и мы ездили к ним в гости на трамвае.
Красная Армия — оплот всего прогрессивного человечества. Она непобедима. Так говорили родители. Так говорили учителя. То же самое говорилось в бесчисленных песнях, речах, кинофильмах. А теперь вражеская бронетехника с ревом движется через Химки, нацелив на Москву стволы орудий.
Я должна была действовать. Действовать как самостоятельная личность. Все мы должны. Страна в опасности. Мы нужны ей.
Мне было четырнадцать лет. Что могла я сделать в этом возрасте, разве что простаивать возле репродуктора, с ужасом представляя, как фашисты топают по Арбату, проходят мимо дома, где Пушкин жил с молодой женой, мимо дома Герцена, мимо зоомагазина, где я часами любовалась хомяками и попугайчиками.
Я дала себе клятву: если Москва падет, я убегу из Казахстана, чтобы бороться с фашистами. В своих фантазиях я видела, как убиваю одного из них. Я не знала, как именно нужно убивать и чем, но эти детали можно обдумать потом.
27 января 1942 года я открыла «Комсомольскую правду». В глаза бросилась фотография — труп молодой девушки и подпись: «Партизанка Таня, замученная немецкими фашистами в деревне Петрищево». О ней почти ничего не было известно, только то, что она называла себя Таней из Москвы. В начале декабря 1941 года она пришла пешком в подмосковную деревню Петрищево и подожгла конюшню, где стояли, как было написано в газете, «немецкие лошади». Ее схватили фашисты. Во время допроса избивали, не давали пить, надрезали кожу пилой, водили раздетую по морозу. Местным жителям, по утверждению газеты, удалось кое-что подслушать, когда шел допрос.
— Кто вы?
— Не скажу.
— Это вы подожгли конюшню?
— Да, я.
— Ваша цель?
— Уничтожить вас.
— Где Сталин?
— Сталин на своем посту.
Немцы сколотили виселицу, положили под нее ящики и созвали деревенских жителей — казнь должна была состояться при свидетелях. Вокруг виселицы ходил немецкий офицер с фотоаппаратом, снимая со всех сторон девушку с табличкой «Поджигатель» на груди и петлей на шее. Таня обратилась к жителям: «Эй, товарищи! Чего смотрите невесело? Будьте смелее, боритесь, бейте фашистов, жгите, травите! Мне не страшно умирать, товарищи! Это счастье — умереть за свой народ!»
Комендант стал торопить фотографа, но Таня успела сказать немцам: «Вы меня сейчас повесите, но я не одна. Нас двести миллионов, всех не перевешаете. Вам отомстят за меня. Солдаты! Пока не поздно, сдавайтесь в плен: все равно победа будет за нами!»
Когда палач уже начал затягивать веревку, девушка крикнула: «Прощайте, товарищи! Боритесь, не бойтесь! Сталин с нами! Сталин придет!»
Читая историю партизанки Тани, я спрашивала себя: а как бы я вела себя под пытками? Способна ли я пожертвовать жизнью с таким самообладанием и с такой честью?
В конце концов я пришла к заключению, что если бы немцы схватили меня одну, как Таню, то, возможно, и сломили бы меня. Одна я не выдержала бы пыток. Но если б я была с группой и нас пытали вместе, я бы выстояла. Перед лицом товарищей я бы не сломалась. Так, значит, я человек не очень-то храбрый. Могу быть героем, только если на меня смотрят.
Тем временем появлялись новые сведения о Тане. Ее настоящее имя — Зоя Космодемьянская. Восемнадцатилетней девушкой она вступила в партизанский отряд, действовавший в тылу врага. Имя Таня взяла в честь Тани Соломахи, красной партизанки, которую пытали и убили казаки во время Гражданской войны; о ней Зоя читала еще в детстве.
«Вы можете сколько угодно избивать меня, — говорила Таня Соломаха своим мучителям. — Вы можете убить меня, но Советы не умерли — Советы живы. Они вернутся».
Когда ее уводили на казнь, Таня Соломаха сказала остающимся в камере: «Прощайте, товарищи! Пусть эта кровь на стенах не пропадет даром! Скоро придут Советы!»
Зоя строила жизнь по Тане. Я хотела строить свою жизнь по Зое.
Тем летом я работала на колхозном поле. Резинка на моих лыжных брюках растянулась, и я закалывала их булавкой. Когда я наклонялась, булавка расстегивалась и впивалась мне в бок. При каждом движении она двигалась внутри раны. Я представляла, что меня пытают, и таким способом проверяла, способна ли вытерпеть боль.
«Положение сейчас такое, что, может быть, несколько месяцев я не смогу тебе писать», — прочитала я в письме отца с Северо-Западного фронта в июне 1942 года.
Письма перестали приходить, и я поняла, что он находится где-то не в регулярных войсках. Должно быть, прячется в тылу врага, а может, присоединился к партизанскому отряду. Его могут взять в плен… Я гнала от себя мысли о худшем.
Зимой 1942 года я переехала к маме в Ижевск. Позже к нам приехали бабушка и тетя Женя с двумя детьми. Все мы жили в одной комнате. Я спала на одной койке с мамой. Однажды ночью проснулась, почувствовав, что она плачет.
— Что случилось, мама?
— Да ничего.
— Ты плачешь?
— Нет. Конечно, нет.
В детстве я проводила больше времени с бабушкой, и мама оставалась для меня загадкой. Я знала только, что она редко рассказывает о себе и что я ее люблю. Теперь в Ижевске мне предстояло узнать ее ближе.
Раз мы с мамой целый день простояли в очереди за колбасой. Холод был зверский. Стоять на улице можно было только поочередно, сменяя друг друга каждые полчаса. Пока одна из нас стояла, другая могла где-нибудь погреться. Когда мы вернулись домой, я первым делом отрезала себе хороший кусок колбасы. Мама тоже отрезала, тонюсенький кусочек.
— Почему ты берешь так мало?
— Мне нравится потоньше. — Я продолжала жевать.
— Мама, почему ты не ешь?
— Да я уже поела.
Однажды, когда мама возвращалась со станции, неся сетку с хлебом, на нее набросился подросток, видимо, учащийся ремесленного училища. Он попытался вырвать сетку. Мама не отпускала. Он продолжал тянуть. Она держала изо всех сил. У него был выбор: ударить ее так, чтобы лишить сознания, или убежать. Он убежал. Рассказав нам о случившемся, мама добавила: «Если б я жила одна, я отдала бы ему хлеб». И я поняла, каким мучительным испытанием обернулось для нее перетягивание сетки в борьбе с голодным парнем.
Когда в город приходили санитарные поезда, школьники помогали переносить раненых к трамваю, который вез их в госпиталь. Чаще переносили детей. Бывало, на носилках лежали рослые мужчины в зимних пальто поверх гипса; тогда приходилось останавливаться и ставить носилки на утоптанный снег, чтобы немного передохнуть.
Ночь напролет мы разгружали поезд, а утром надо было не опоздать в школу. После занятий шли в госпиталь, помогали перевязывать раненых. В первый раз — от стонов и запаха гниющей плоти — я потеряла сознание. В следующий раз мне опять стало плохо. Но я — гражданин своей страны и должна выполнять свой долг.
Моя страна в опасности, не могу же я бездействовать. В седьмом классе, в возрасте четырнадцати лет, я бросила учебу и пошла работать в Ижевский райком комсомола. Я не стала спрашивать у мамы разрешения, просто поставила ее в известность.
— А если ты не вернешься в школу?
— Я вернусь, вернусь, — уверяла я.
Мама не противилась моему решению. Она понимала меня.
Мои обязанности на работе ограничивались в основном печатанием на машинке и ведением документации, но поскольку в комитете нас было всего трое, мне еще поручали проводить собрания. В конце учебного года я сдала школьные экзамены, и меня перевели в восьмой класс. Я записалась на курсы медсестер в надежде, что меня пошлют на фронт. Но мне не было восемнадцати лет, и меня не взяли.
Весной 1943 года мы с мамой вернулись в Москву. Большая часть наших вещей и почти вся библиотека пропали.
— Не сердитесь, мне надо было выжить, — извинялась соседка Александра Петровна.
Она сказала, что книги, которые не смогла продать, жгла в печке, чтоб хоть как-то согреться зимой. Костюм отца да шеститомник Пушкина — все что осталось.
В школу я не пошла. Обратилась в комсомольскую организацию с просьбой направить меня на фронт или на предприятие военной промышленности. Направили меня на строительство станции метро «Сталинская» (теперь она называется «Семеновская»). Моя работа заключалась в выталкивании вагонеток с отвалом породы из строящегося туннеля. Это был изнурительный труд, но воспринимался он как требование времени.
Как ни странно, я перестала чувствовать себя не похожей на других. Кругом все работали, всем было тяжело, и я понимала, что я — одна из многих.
Когда человек голоден, а еды нет, он пьет воду. Можно еще попробовать заснуть в надежде увидеть сны. Сны мне тогда снились цветные: вот я в далекой стране, среди молодых, здоровых и красивых людей. Сияет солнце, кожу ласкает свежий ветерок. На небе — радуга, а люди — в красивой одежде всех цветов спектра. Они радостны, они целы и невредимы, а отношения между ними такие же теплые, как климат в той стране. Я — одна из них, и мне приятно это сознавать. Мы поем песню без слов, песню без нот. Ее мелодия не похожа ни на какую другую. Как хотелось бы воспроизвести ее сейчас!
Вокруг меня ни одного даже смутно знакомого лица. Той песни, которую я с такой легкостью подхватила, на самом деле не существует. Окружающие меня звуки и образы — это воплощение всего, что кажется мне прекрасным. И пока сплю, я знаю, что избавляюсь от голода, избавляюсь от войны.
В часы бодрствования у меня был другой способ убежать от действительности — поэзия. В Ижевске тетя Женя познакомила меня со стихами Сергея Есенина. По ночам, когда все уже спали, а в печке мерцал последний уголек, она читала шепотом:
В одно из последних писем с фронта отец вложил вырезку из газеты:
Написал эти стихи Константин Симонов, поэт, военный корреспондент. Большинство хороших поэтов, о которых я успела узнать, давно умерли. Теперь же газеты печатали фронтовые стихи наших современников — Алексея Суркова, Бориса Слуцкого, Семена Гудзенко, Александра Твардовского, Симонова. Это была искренняя поэзия — о войне, о реальных людях, а не о «классах». Стихи были человечны и, в лучшем смысле этого слова, патриотичны.
Поначалу отсутствие писем от отца не вызывало у меня беспокойства. Он же предупреждал, что не сможет писать, вот он и не пишет. Прошел почти год, когда я начала понимать, что он оказался в каком-то безвыходном положении. Теперь, что бы я ни делала, я думала: вот в этот самый момент — когда я читаю книгу, делаю уроки, стою в очереди или просто иду по улице — мой отец пытается выжить, а я, его дочь, ничем не могу ему помочь. Эта мысль так невыносимо терзала душу, что я переносилась в область фантазий. Была б с ним рядом, все бы сделала — вынесла его раненого с поля боя, заслонила своим телом от вражеской пули. Если б только я могла верить в Бога, то молилась бы за него и тем бы спасала. Но в Бога я не верила…
Спустя много лет после войны я узнала, что в январе 1942 года Второй армии, в которой служил отец, было приказано прорваться в блокадный Ленинград. По мере продвижения она должна была встретиться с Четвертой, Пятьдесят второй и Пятьдесят четвертой армиями. Однако те двигались медленнее, и Вторая армия оказалась отрезанной в тылу врага — в сотне километров от линии фронта, в лесах и болотах близ Старой Русы. Приказом Сталина отступать было запрещено…
К июлю Второй армии не существовало. Ее командир, генерал-лейтенант Андрей Власов, сдался немцам. Позднее он надел нацистскую форму и стал воевать против Советов.
Никто не рассказывал нам, как погиб отец — от бомбы, снаряда или пули. Если от пули, то это могла быть пуля из его собственного пистолета. Сталин приказал солдатам стоять насмерть, и они стояли до последнего. Мог он и сгореть заживо — нацисты подожгли лес, чтобы уничтожить очаг сопротивления. Сначала отец числился в списках без вести пропавших, затем «погибших в военных действиях». Операция обернулась кровавой мясорубкой. Местные жители называют это место Мясной Бор; они даже не собирают грибы, в изобилии растущие в тех краях, — под каждым кустом могут оказаться черепа и кости. Специальные отряды до сих пор ведут там поиски останков погибших, чтобы захоронить их с воинскими почестями в братских могилах.
Как-то в апреле 1944 года я отправилась на поэтические чтения в Концертный зал имени Чайковского. От нашего дома это в двадцати минутах ходьбы. Был прекрасный весенний день. Я прошла мимо Планетария и уже собиралась перейти Садовое кольцо, когда увидела группу мотоциклов, движущихся в крайнем ряду, они прокладывали путь колонне военнопленных. Казалось, их было несколько тысяч. На тротуаре стала собираться толпа.
— Вояки! Непобедимые! Да их соплей перешибешь! — сказал кто-то в толпе.
— Перевешать их всех, а не кормить даром, — предложил другой.
— Ублюдки! Задушил бы их голыми руками.
Не помню, как долго я стояла и смотрела на процессию. Пленные двигались с трудом — хромые, босые, раненые, с запекшейся кровью на грязных повязках. Может, один из них стрелял в моего отца, а другой пытал Таню. Теперь они выглядели жалкими — несчастные, униженные, побежденные. У меня была масса причин ненавидеть фашистов, но ненависти к этим людям я не испытывала.
Вслед за колонной пленных появились поливальные машины, разбрызгивая воду по обочине Садового кольца. Это выглядело символично, и в толпе начали смеяться, но я не могла выдавить даже улыбку. Я злилась на себя — за то, что неспособна разделить гнев своих соотечественников. Я не могла называть этих немцев «ублюдками», не хотела их вешать или душить собственными руками.
— То, что я называю жалостью, на самом деле — просто отсутствие решительности, — сказала я себе. Война заканчивалась, и я снова чувствовала себя не такой, как все.
Во время и сразу после войны Москва была просто раем для любителей стихов. Отделы поэзии в букинистических магазинах на Арбате были полны сокровищ из собраний московских библиофилов. Книги приносили на продажу они сами, спасаясь от голода, или их родственники и соседи, если хозяева библиотек находились в эвакуации, на фронте или отошли в мир иной.
Я часами простаивала у прилавков, открывая для себя поэтов, о которых раньше и не слышала. Многие книги были изданы в двадцатых годах. Когда впервые мне в руки попала тонкая книжечка под названием «Белая стая», имя автора — Анна Ахматова — ни о чем мне не говорило.
Ахматова, кто бы она ни была, понимала все трудности моей жизни, как будто находилась здесь, в нашей комнате, где мама говорила мне, что я совсем не красавица. Как будто понимала мои попытки быть похожей на всех, быть похожей на Зою.
Что происходит с нами, что со мной происходит? Почему я не такая, как все? Почему остаюсь другой, хотя так стараюсь ничем не отличаться? Я пыталась сформулировать ответ, но нужных слов не находилось.
Я ничего не знала об Ахматовой, где она живет, жива ли она вообще. Но я точно знала: будь у меня дар писать стихи, они были бы точно такие, как у нее.
В четыре часа утра 9 мая 1945 года мама прошептала мне на ухо: «Людочка, вставай, война кончилась».
Я вскочила и бросилась к окну. В многоэтажном доме напротив светились два или три окна. Наспех одевшись, на бегу взглянула на соседний дом: свет горел уже во всех окнах. На улице — много возбужденных людей. Все спешат поделиться радостью друг с другом. Каждому хочется кого-то обнять — даже незнакомого. Отдельные моменты этого лихорадочно-радостного дня запечатлелись в памяти сильнее любого другого воспоминания детства.
Красная площадь. Мужчина в военной форме, со слезами на глазах, протягивает мороженое прохожим — он скупил весь лоток: «Товарищи! Мы победили! Победили! Поздравляю, товарищи!»
Возле посольства США — толпа, на балконе — десяток служащих. Все улыбаются. Распахивается дверь. Женщина в темно-синем платье и белом накрахмаленном фартуке выходит к толпе. На серебряном подносе — высокие изящные бокалы. Шампанское. Люди, оказавшиеся рядом, осторожно берут бокалы. Смотрю на балкон — мужчины поднимают бокалы. Все кричат что-то радостное, хотя слов не разобрать.
Сумерки. Ветер. Я возвращаюсь домой. Ноги так устали за день, что я сняла туфли и держу их в руках. Навстречу медленно идет женщина. Она кажется мне старой, как любой взрослый, когда вам семнадцать. Женщина плачет.
— Не плачьте. Не сегодня, — прошу я.
— Я от счастья плачу. И от горя… Муж и три сына…
У каждого из нас была своя маленькая победа, и вместе они складывались в одну большую Победу. Каждый завершил свою личную битву с врагом. До войны нас учили не любить себя, а почитать Павлика Морозова; каждый должен был быть советским, как все. Но коллектив безликих людей не смог бы выиграть войну. Зоя не была безликой, и мой отец не был безликим. Они поступали как граждане. Им не нужны были приказы и распоряжения, чтобы идти до конца. А это дорогого стоит.
Война закончилась. В этот день, 9 мая 1945 года, казалось: все, что было раньше, все — правильно. И нам предстоит правильная, прекрасная жизнь.
Глава 2
Московский государственный университет готовился возобновить работу. Во время войны он был закрыт; преподавателей эвакуировали в Свердловск, а многих видных профессоров — в Казань, вместе с Академией наук. На старшие курсы вернулось совсем немного молодых людей — человек по пять на каждый факультет. Среди четырехсот первокурсников исторического факультета оказалось всего четырнадцать юношей.
— Если сложить их вместе, то целых наберется не больше десяти, — горько пошутила одна студентка.
Это были фронтовики: кто с повязкой на глазу, кто в перчатке, скрывающей протез, бывший танкист — с сильно обожженным лицом.
Забылись старые студенческие песни. Я помнила только первую строчку из «Гаудеамус Игитур», средневековой застольной песни, ставшей гимном европейских студентов: «Итак, будем веселиться, пока мы молоды…» Вместо нее мы пели «Бригантину»:
Песню эту написал студент Московского университета Павел Коган, явно подражая Николаю Гумилеву — поэту, офицеру, путешественнику и исследователю. Гумилева обвинили в причастности к контрреволюционному заговору и расстреляли в Петрограде в 1921 году. Коган был убит на войне в 1942-м.
У студентов появлялись свои традиции. Раз в месяц, обычно первого числа, в день получения стипендии, мы доставляли себе удовольствие полакомиться мороженым в кафе на улице Горького. Иногда заказывали стаканчик красного вина послаще и поливали им мороженое.
Через неделю занятий в университете меня выбрали комсоргом группы. Должность не слишком важная. Тем не менее вскоре мне заявили, что на выборах, мол, не было кворума и что комсоргом группы должен быть фронтовик. Я не испытывала радости, когда меня избрали, и не печалилась, когда сместили.
Конечно, я не осознавала тогда, что сама постановка вопроса — комсоргом должен быть фронтовик — являлась деталью продуманной системы. Доля фронтовиков в университете возрастала: демобилизованных из армии принимали даже в середине учебного года. Девушкам при поступлении нужно было выдержать жесткий конкурс — до пятнадцати человек на место. Фронтовикам же достаточно было просто подать документы.
На исторический факультет охотно шли фронтовики особой породы — те, кто в армии стали комсомольскими и партийными функционерами. Война привила им вкус к власти. Оказавшись после войны в Москве, где они намеревались жить всю оставшуюся жизнь, они в большинстве своем стремились к одной и той же карьерной лестнице: университетский диплом (как правило, по специальности «история СССР» или «история КПСС») ради получения должности в партаппарате. Исторической наукой они не интересовались, жгучих вопросов себе не задавали, критически мыслить были неспособны. Учились, чтобы стать руководителями. Даже любовную записку не могли написать как следует. Одна моя подруга получила на вечеринке такое послание: «С этой лентой в волосах ты еще красивше…» Простонародное словечко решило судьбу записки — она пошла по рукам как образец лирики наших фронтовиков.
Серьезнее было то, что за фронтовиками всегда оставалось последнее слово. Как много значит власть, они познавали, находясь в экстремальной ситуации, перед лицом смерти. Если у некоторых и был поначалу юношеский максимализм, они потеряли его на полях сражений. А многие потеряли и способность к состраданию. Для них комсомол и партия означали власть, а власти можно добиться старанием. И они старались. Чтобы быть замеченными старшими товарищами в МГУ, фронтовики возбуждали «персональные дела», обвиняя однокурсников в нелояльности, потере бдительности и тому подобных грехах. На одного из студентов нашего курса завели персональное дело за то, что он вовремя не вернул транспарант, с которым группа ходила на демонстрацию. Он пытался извиниться, говорил, что просто оставил его где-то, но фронтовики расценили случившееся как идеологический вызов. Парня исключили из комсомола, а значит, и из университета.
Структура советской власти менялась. Приближался день, когда университетский диплом станет необходимым условием для политической карьеры. Механика преемственности поколений была несложной. Революционеры, современники наших бабушек и дедушек, были уничтожены Сталиным в тридцатых годах. Их сменили малообразованные выдвиженцы, назначаемые партийные функционеры, большинство которых было в возрасте моих родителей. Они удерживали власть до смерти Черненко в 1985-м. Только тогда на смену им пришли мои сверстники, как правило, профессионалы с высшим образованием.
В сороковых — пятидесятых годах никто из нас и вообразить не мог, куда приведет нас наше образование. Посмотрим на Михаила Сергеевича Горбачева и его окружение на юридическом факультете Московского университета. Сосед по общежитию, студент из Чехословакии Зденек Млынарж, стал одним из лидеров «пражской весны» 1968 года. Однокурсник, украинец Левко Лукьяненко, применил полученные знания по юриспруденции на практике — составил проект, в котором обосновывалось конституционное право Украины на отделение от Советского Союза. За свои аргументы он заработал пятнадцатилетний срок. В 1976 году, вскоре после освобождения, Лукьяненко стал одним из девяти членов-организаторов Украинской Хельсинкской группы, а через год снова был арестован. Еще один сокурсник Горбачева, Лев Юдович, став адвокатом, защищал диссидентов на судебных процессах, позднее эмигрировал и преподавал советскую юриспруденцию американским военным в Западной Германии.
В бытность мою студенткой Московского университета там училась дочь Сталина Светлана. Знала я Владимира Шамберга, бывшего зятя члена Политбюро Маленкова, и Алексея Аджубея, зятя Хрущева («университет зятьев» — так прозвали студенты крупнейший вуз страны). Среди моих сокурсников был Тим Райан, внешне очень похожий на своего отца, лидера Компартии США Юджина Денниса. У своей университетской подруги Марины Розенцвайг я встретила двух врачей-евреев, которых через несколько лет обвинили в заговоре с целью отравления товарища Сталина. Моей однокурсницей была Тата Харитон; настанет время, когда ее отец Юлий Борисович Харитон под давлением высокого начальства уволит ведущего сотрудника своего института Андрея Сахарова. Спустя годы после окончания МГУ, опять же благодаря университетским связям, я познакомилась с Юлием Даниэлем, тогда малоизвестным писателем.
Во время учебы в университете было много разных знакомств, но мало какие из них можно назвать дружбой. Университет, как и общество в целом, был раздроблен на отдельные элементы, атомизирован. Как правило, круг близких друзей ограничивался двумя — тремя лицами. Расширить его — означало увеличить вероятность того, что любое твое непроизвольное высказывание станет известно властям. Понадобился поэт, чтобы описать это неописуемое время:
Еще на первом курсе я сформулировала такую простенькую теорию: в партию проникли люди, лишенные нравственных принципов, единственной их целью является личная выгода. Хорошие коммунисты, такие люди, как мои родители, никогда не рвались к власти. Теория объясняла, почему университет напоминает гадючник, и предоставляла мне на выбор два варианта поведения. Первый — держаться как можно дальше от партии. Второй — вступить в партию и реформировать ее изнутри. Первый вариант был одновременно и бегством, и капитуляцией. Второй давал надежду, что наступит день, когда всех бессовестных карьеристов вытеснят порядочные люди и партия вернется к истинным принципам марксизма-ленинизма. Однако я не могла представить себя в одной компании с фронтовиками и выбрала первый вариант.
Как комсомолка я должна была выполнять какую-то общественную работу. Я нашла дело, не связанное с университетом, — проводить политинформацию для рабочих, строивших московское метро. Это были хорошие, искренние люди, далекие от интриг, и я с удовольствием шла к ним в общежитие на занятия, которые по существу сводились просто к беседам на любые темы, интересные им да и мне тоже.
Еще одним способом бегства стала для меня археология. Когда пришло время выбирать кафедру, я предпочла эту, наиболее удаленную от политики, область исторической науки, хотя меня очень интересовала история революционного движения в России. Но этот предмет я решила изучать самостоятельно и прочла все, что только могла найти, в том числе о декабристах, первых русских революционерах и их друге Александре Сергеевиче Пушкине.
Сами собой напрашивались аналогии. Всего несколько лет назад страна — родина декабристов — одержала победу в войне с Наполеоном. На полях тех сражений не было места функционерам, войну выиграли граждане. С триумфом вернувшись из Парижа, отважные гусары и гренадеры вновь попали в тиски бюрократии и косности. Побывав на Западе, они уже не могли не стыдиться отсталости России и в особенности такого оплота российской экономики, как крепостное право. Но война закончилась, и самодержец не собирался выслушивать их мнения. Режим больше не нуждался в гражданах, граждане стали досадной помехой. Они требовали реформ, власти Закона, а 14 декабря 1825 года бросили открытый вызов государству. Я понимала, что привело этих молодых людей на Сенатскую площадь, — разочарование, похожее на то, которое испытывала я, наблюдая, как фронтовики устраивают разбор персональных дел своих сокурсников. Война закончилась. Но в мирное время нашим правителям были нужны не граждане, а нечто более управляемое.
Познакомившись с декабристами, я перешла к изучению двух главных направлений общественной мысли, расколовших российскую интеллигенцию в середине девятнадцатого века, — славянофильства и западничества. Славянофилы видели спасение России в прошлом, идеализируя патриархальную эру, предшествовавшую попыткам Петра Великого приблизить отсталую Россию к Европе.
Мои симпатии были на стороне западников. Они рассматривали будущее России в контексте общеевропейской культуры. Меня как «западника» привлекали личность и творчество Герцена. К тому времени я полностью прочитала «Былое и думы» и другие его сочинения. Юноша с Арбата стал писателем, философом, революционером и, в конце концов, эмигрантом. Поселившись близ Лондона, он основал Вольную русскую типографию, где печатались запрещенные стихи Пушкина, воспоминания декабристов и газета «Колокол», критиковавшая самодержавие и крепостничество. За границей Герцен впервые опубликовал оду «Вольность» — поэтический призыв к установлению конституционного правления. В России она была издана лишь пятьдесят лет спустя, в 1906 году, — через 89 лет после написания.
Намного позднее я поняла, что западники ни в коей мере не были людьми западными. К тому времени, когда в России разгорелись споры между западниками и славянофилами, на Западе уже несколько поколений людей были знакомы с Декларацией прав человека и гражданина, а Великая хартия вольностей была известна уже несколько столетий. На Западе человек рождался в условиях гражданских свобод и равенства перед законом, воспринимая их как должное. В России ни права, ни свободы никому от рождения не гарантировались; для российских западников это были только идеалы. Мы жили в бесправной стране. Мы не были европейцами. Мы были советскими людьми.
Моих одноклассников призвали в армию в 1945 году. Война шла к концу. Командиры устали и ожесточились, занятия по военной подготовке проводились небрежно. Мальчишки попадали на фронт, едва умея стрелять. Вернулись немногие. Юношей постарше, призванных в начале войны, вернулось еще меньше. Так что мне и моим ровесницам не приходилось долго выбирать женихов, надо было всерьез рассматривать любое предложение.
Валентин Алексеев, симпатичный и спокойный, казался надежным мужчиной, к тому же был физически цел и невредим. Он хорошо танцевал, говорил на правильном русском языке и любил читать. На шесть лет старше меня, он был вполне зрелым человеком, с перспективами служебного роста. Когда он сделал мне предложение, я дала согласие.
Мы познакомились, когда мне было шестнадцать. Валентин вместе с несколькими товарищами-офицерами водил дружбу с маминой троюродной сестрой, которая у нас тогда жила. Это была красивая эстонка, похожая на мою бабушку. После ее отъезда молодой человек продолжал к нам заходить.
Когда началась война, Валентин учился на третьем курсе Киевского технологического института. Его призвали, но на фронт не послали, а направили на учебу в Военно-воздушную инженерную академию имени Жуковского. Он был примерным офицером, старостой курса. Беда только в том, что армию он не любил. Ему больше подошло бы стать ученым или инженером и углубиться в исследовательскую работу. Однако уйти из армии по собственному желанию было практически невозможно. После войны приоритетной задачей военно-промышленного комплекса стало создание советской атомной бомбы. Для работы над секретным проектом привлекались ученые; возникли новые потребности в подготовке специалистов. Молодому военному инженеру удалось демобилизоваться, но с обязательным условием перевода в аспирантуру на физический факультет Московского университета.
Поначалу Валентин никак не проявлял своего интереса ко мне. Я жила своей жизнью: зачитывалась стихами, ходила на стройку метрополитена, готовилась к вступительным экзаменам — и не подозревала, что он выжидает, когда я стану старше, перейду ту психологически важную черту, которая отделяет школьницу от первокурсницы.
В сентябре у меня начались занятия в университете. Валентин стал появляться чаще, приносил цветы, приглашал в театр. Через несколько месяцев он сделал предложение. Если б не война, если б было больше молодых людей и можно было выбирать, я бы вряд ли согласилась. Но с реальностью нужно было считаться.
Весна 1945-го, окончание войны — это было время эйфории, все взывало к жизни, к ее естественному продолжению. К осени многие женщины обнаружили, что беременны. После четырех лет холода, голода, смертей и страданий зарождение новой жизни воодушевляло и примиряло с действительностью. Мне тоже хотелось иметь детей. Я росла единственным ребенком в семье и решила, что у меня будет по крайней мере трое.
Разочарование, которое я испытала в первый год учебы в университете, побуждало искать какой-то выход. Того, что я уже придумала, было недостаточно, чтоб заполнить жизнь. Нужно было что-то личное, только мое. Появилась перспектива создать семью, я решила выйти замуж и убедила себя, что влюблена.
В августе 1946 года в «Правде» было опубликовано Постановление о журналах «Звезда» и «Ленинград», направленное на борьбу с безыдейностью и аполитичностью в литературе. Секретарь ЦК партии Жданов называл Анну Ахматову «представительницей пустой, салонной поэзии, реакционного литературного болота», «старорежимной барынькой» и даже «полумонахиней-полублудницей».
К тому времени я уже знала, что Ахматова выросла в Царском Селе, где Пушкин учился в лицее и где размещалась летняя резиденция царской семьи. Ахматова была замужем за Гумилевым. После революции могла эмигрировать, но не уехала, осталась. И дорого заплатила за это. С 1923-го по 1940 год ее почти не печатали. И вот теперь на страницах «Правды» тонкую, грациозную, неповторимую Ахматову, эту балерину строфы и рифмы, ядовито шельмуют последними словами и обвиняют во всех смертных грехах.
Я достала с верхней полки три тонких томика: «Четки», «Белая стая», «Anno Domini». Стихи эти я знала наизусть, часто повторяла их про себя. Если они опасны, то не более чем, скажем, облака в весенний день. Но опасно теперь держать их здесь. Я убрала дорогие мне книги в ящик письменного стола, на самое дно, заложив сверху бумагами. Если б я знала хоть одну молитву, может, мне стало бы легче…
Обвинения Жданова в адрес Ахматовой и писателя-сатирика Михаила Зощенко положили конец современной литературе.
Уже с тридцатых годов в библиотеках проводились чистки. Изымались книги, написанные немарксистами и «врагами народа», а также книги, в которых таковые упоминались без должного осуждения. Лет за десять библиотечные полки опустели. Невозможно было найти первоисточники для глубокого изучения русского революционного движения. Книги по русской философии и общественной мысли периода с 1860-го по 1940 год были буквально выметены. Не осталось и следа от политических партий России, даже материалы о большевиках начинались с 1940 года.
Теперь все газеты, журналы и книги были посвящены прославлению товарища Сталина, Коммунистической партии, Советской Родины, великого русского народа и наших доблестных Вооруженных сил. Ни одна книга не должна была быть безыдейной. Просто любовная история, лирическое стихотворение или приключенческая повесть не имели больше права на существование, если не несли в себе идеологический заряд. Отвлеченные от идеологии литературные произведения к печати не принимались и расценивались как «буржуазный ревизионизм».
В то время я еще ничего не читала из Цветаевой, Гумилева, Мандельштама. Зарубежные авторы тоже были запрещены, они попали под другую кампанию — «низкопоклонство перед Западом». Эта кампания выходила за рамки литературы. В один прекрасный день страна обнаружила, что «французская» булка теперь называется «городской». «Меню» заменили неблагозвучным словом «разблюдовка», а конфеты «Американский орех» превратились в «Южный орех».
Моему мужу нравилось расхваливать летательный аппарат Можайского, который был изобретен раньше, чем самолет братьев Райт. «Замечательная машина, — говаривал Валентин. — Прекрасная машина. Только одна проблема — не летает». Официально утверждалось, что радио изобрел Попов, электрическую лампочку — Яблочков, а паровой двигатель — Черепановы. Зарубежные изобретатели не упоминались даже в учебниках. Оказывается, и танк был изобретен славянами — еще в тринадцатом веке они запрягали лошадь в деревянную телегу. Позже эту идею украли и использовали на Западе.
Подобные утверждения породили серию анекдотов.
Русского, француза и немца попросили написать книги о слонах. Немец трудится над обстоятельным исследованием в трех томах под названием «Все о слонах». Француз сочиняет роман «Слоны и любовь». Русский пишет брошюру «Россия — родина слонов». В другом анекдоте Иван Грозный фигурировал как изобретатель рентгеновского аппарата, ведь это он говорил боярам: «Я вас насквозь вижу». Был еще рассказ об ученом, который защищал диссертацию, основанную на теории «великого физика Однокамушкина». Фамилия великого физика звучит вполне по-русски, но это буквальный перевод с немецкого фамилии «Эйнштейн». Не знаю, был ли это анекдот или реальный случай. Ходили слухи, что защита проваливалась, если в диссертации приводилось слишком много ссылок на работы зарубежных ученых.
Однажды я забежала к своей школьной подруге Беллочке Зинкевич.
— Как твоя сестра? — поинтересовалась я.
— Плохо, ее мужу дали десять лет лагерей за анекдот.
И она рассказала этот анекдот.
Встречаются два москвича в 2000 году. «Где ты пропадал так долго?» — спрашивает один. «Я все это время был на Красной площади, рассматривал виселицы», — отвечает другой. «Зачем?» — «Да просто чтоб не забыть форму буквы „Г“. Все остальные я уже забыл».
Сталинская кампания по созданию человека нового, социалистического типа охватила все сферы жизни, так что логично было предположить, что очередной ее мишенью станет русский алфавит. Я рассказала анекдот мужу, он рассказал близким друзьям. Я рассказала анекдот двум — трем подругам, они в свою очередь рассказали своим друзьям. Каждый из нас рисковал получить десять лет лагерей.
Несмотря на анекдоты, мы продолжали верить, что марксизм — самое прогрессивное учение, а социализм — светлое будущее человечества. Я верила, потому что слышала это от своих родителей. Я же не ровня Карлу Марксу, чтоб предложить что-то другое, получше. Я не создатель новых учений.
Узнав, что я беременна, Валентин отказался от гражданского статуса. Содержать жену-студентку и младенца недешево, и лучше получать стипендию аспиранта военной академии, а не Московского университета. Зная его нелюбовь к армии, я понимала, какая это огромная жертва с его стороны. Понимала и очень ценила. Весь год после рождения Сережи я металась между занятиями в университете и домашними делами, пытаясь и лекции не пропускать и успевать стирать пеленки. Я постоянно испытывала или голод, или сильную усталость, а чаще и то и другое одновременно. Шел второй год после войны, у нас на столе ничего, кроме картошки и макарон, не было. При таком питании обычные материнские заботы так меня изматывали, что часто я засыпала во время кормления. Зато на какое-то время я могла забыть о русском революционном движении, социальной справедливости и недостойных людях, проникших в ряды партии ради карьеры.
Подобные заботы вернутся через год, но к тому времени к ним добавятся и мои сомнения относительно человека, за которого я вышла замуж.
— Нельзя жениться на ком попало, — как бы шутя говорил Валентин друзьям. — Нужно найти первоклассницу, воспитывать ее, помогать делать уроки, а когда она подрастет, жениться. Иначе хлопот не оберешься.
Это только наполовину была шутка. Он действительно ждал, когда я подрасту. Он пожертвовал ради меня своими интересами. И теперь хотел спокойной семейной жизни.
Не могу сказать, что у меня были какие-то поводы для недовольства. Валентин был хорошим отцом, хорошим семьянином. К тому же находил время читать книги, которые я советовала. А это требовало немалых усилий от занятого учебой и работой аспиранта. Его искренне интересовало, что я думаю о прочитанных книгах. Он никогда не спорил, просто принимал мое мнение, впитывал его как губка, а потом высказывал как свое собственное. В этом не было бы ничего плохого, если б он невольно не искажал то, что я думаю. Нередко, сидя где-нибудь в гостях, мне приходилось выслушивать свои собственные замечания в таком выхолощенном виде, что они вызывали у меня раздражение.
Когда я пыталась сказать кому-нибудь из друзей, что не чувствую себя счастливой, все реагировали совершенно одинаково: «Ты с ума сошла! Он не пьет, не курит. По бабам не бегает. Он военный!»
К концу третьего года совместной жизни, когда Сереже только исполнилось два года, я сказала Валентину, что ухожу.
Его ответ был обезоруживающим:
— Могу я спросить, куда же ты собираешься уходить?
Я продумывала варианты. Поскольку это моя идея, я и должна думать, как быть. Валентин останется в этой комнате. А куда деваться студентке с двухлетним ребенком на руках? Он проявил великодушие и старался забыть мой глупый порыв. Ничего не изменилось. Семья сохранилась.
У меня не было способов с ним бороться, за исключением тех редких случаев, когда мы вместе куда-нибудь выходили. Я надевала лодочки на каблуках и становилась выше его ростом; он это ненавидел. Наши отношения в последующие десять лет можно проследить по моей обуви. Когда мы ладили, я носила низкие каблуки. Если что-то шло не так, я в знак протеста надевала туфли на высоких каблуках. В конце концов Валентин получил звание полковника и стал носить высокую папаху из серого каракуля; в ней он был выше меня, даже если я надевала самые высокие каблуки, какие только могла найти.
Свои политические взгляды я попыталась обсудить с дядей Борей — младшим братом отца. Но это ни к чему не привело.
— Ты говоришь о принципах социализма, — вещал дядя Боря низким баритоном, — но ведь не в этом дело. Принципы — для таких ученых дур, как ты.
Затем, с выражением, добавлял:
— Правильно! Нет принципов. Нет социализма. Есть просто шайка паханов. Они захватили власть и удерживают ее. Вот и все. Повтори за мной: нет принципов, нет социализма, только паханы, шайка паханов.
Дядя Боря, хоть и родной брат отца, в отличие от него, пил, как сапожник. При этом умудрялся не пьянеть. Был он высокий, довольно мрачный, почти не имел друзей. До войны, приезжая в Москву, он останавливался у нас с молодыми, нельзя сказать чтобы изысканными, женщинами, чем каждый раз шокировал родителей; в Ленинграде у него оставалась жена. Он обладал способностью ставить людей в неловкое положение. Бывало, слушает молча, как бы прицениваясь, и вдруг прервет на полуслове своим грохочущим: «Ну-у». Это означало: «Я понимаю, что ты пытаешься сказать. Хватить балабонить. У меня есть что ответить».
Его объяснения всегда были одинаковы: это паханы, они во всем виноваты. Дядя Боря никогда не говорил, что заставило его прийти к такому мнению. Он был членом партии, вступил в то же время, что и мой отец, когда революция была молодой, а будущее светлым. Не знаю, что привело его в партию: юношеский максимализм или только необходимость — морской офицер не мог не быть членом партии. Во время войны он служил механиком на подводной лодке. Он любил свою субмарину. Там все ясно и понятно. Люди в этом замкнутом мире зависят друг от друга, и он чувствовал себя на своем месте. На земле у дяди Бори все шло не так гладко. Его первая жена происходила из аристократической семьи, что делало его подозрительным в глазах начальства. Вторая жена была свояченицей адмирала, которого вскоре после войны посадили. Дядя Боря с ним дружил, и немало вечеров они провели за бутылкой водки, обмениваясь мнениями о «паханах». Эта связь делала дядю Борю еще более подозрительным.
Был и еще повод для подозрений. В 1943 году фашисты потопили его подлодку, дядя Боря и остальные члены экипажа несколько часов держались на поверхности воды в открытом море, пока их не подобрало датское рыболовецкое судно. Власти, казалось, все раздумывают, не превратился ли он за то время, пока был без надзора, во вражеского агента. Дядя ждал, что его назначат на другую подводную лодку, но время шло, а его все держали в Заполярье на ремонтных работах. Почти двадцать лет он регулярно приезжал в Москву, встречался с друзьями в военном ведомстве, надеясь, что они помогут с назначением. Перестал ездить только в 1967-м, когда у него случился инфаркт.
С точки зрения дяди Бори, я задавала неправильные вопросы, но по крайней мере я о чем-то спрашивала, и одно это уже делало меня достойным собеседником. Он охотно выслушивал мои аргументы и с огромным удовольствием их разбивал, одерживая верх в споре.
— Я постоянно слышу о процветающем социалистическом сельском хозяйстве, но вижу одну только бедность. Крестьянам не платят по труду. Разве это социализм? — удивлялась я.
— Социализм. Социалистическое сельское хозяйство. Каждому по труду. Это все для ученых дур, вроде тебя, — ворчал дядя Боря. — Хочешь знать правду? Там — шайка паханов. Они захватили власть. Вот и вся правда.
Как-то я спросила дядю Борю об антисемитизме: это же отклонение от интернациональных принципов марксизма-ленинизма!
— Принципы интернационализма. Марксизм-ленинизм. Это тоже для дураков, — ответствовал дядя Боря. — Есть шайка. Паханов. У них власть. И они ею пользуются.
— Он замечательный человек, но мыслит примитивно, — говорила я Валентину после ухода дяди.
Сейчас уже не могу вспомнить, как звали моего однокурсника по фамилии Жаворонков, но отчетливо помню, как он выглядел: хорошее русское лицо, кудрявые волосы, голубые глаза. Одухотворенный вид, как у поэта. Мне даже казалось, он похож на Сергея Есенина. Жаворонков всегда носил перчатку. На войне ему оторвало кисть левой руки. Это увечье не останавливало молодых женщин, и они бросали недвусмысленные взгляды в сторону красавца, стремясь познакомиться поближе. Однако, как только он открывал рот, девушки быстро ретировались. Он был не только глуп, но был еще и ярым антисемитом.
Шел 1949 год, мы были на четвертом курсе. Для Жаворонкова настало его время. Кампания борьбы с «низкопоклонством перед Западом» переросла в кампанию борьбы с «космополитизмом». Космополитом могли объявить любого, кого заподозрили в недостаточной преданности матушке-России, но главным образом кампания была нацелена на евреев.
Именно в то время товарищ Сталин организовал убийство Соломона Михоэлса, выдающегося актера и режиссера, руководителя Московского государственного еврейского театра, известного блестящими ролями короля Лира и Тевье-молочника. Обстоятельства смерти Михоэлса точно не известны. Согласно одной из версий, его жестоко избили, выстрелили в голову и бросили под проезжавший «студебекер». Человека сбила машина. Машина времени. После убийства Михоэлса были арестованы актеры и сотрудники Еврейского театра.
Тогда же университет уволил профессора Ацаркина, моего любимого преподавателя, которому удавалось превратить историю партии в увлекательный предмет. Невысокий, с вьющимися волосами и живыми глазами, он читал лекции на прекрасном и точном русском языке, повествуя об идеологических расхождениях Ленина с одним из основателей РСДРП Георгием Плехановым, с меньшевиком Юлием Мартовым и большевистским соратником Львом Троцким. В лекциях Ацаркина оппоненты Ленина всегда были неправы, но никогда не были врагами.
На кафедре этнографии один из фронтовиков пытался организовать дело по увольнению двух профессоров за отголоски «космополитизма» в их лекциях. Я помню его простонародную речь, со свистящим смягченным «з» в многократно повторяющемся суффиксе «изм»: космополитизьм, антисемитизьм, империализьм, социализьм. Но когда он приступил к цитатам из лекции профессора-еврея, якобы свидетельствующим о неуважении к терпению великого русского народа, один из студентов поднял руку: «В моих записях этого нет». Раздался дружный шелест страниц, студенты листали тетради. «В моем конспекте тоже нет ничего подобного», — заявил другой студент. Профессор был спасен, а обвинитель выставил себя напоказ как нерадивый слушатель.
Чувствуя приближение погромов, Жаворонков становился все крикливее. Пока комсомольские вожаки заверяли, что критикуют «космополитов», а не честно трудящихся «лиц еврейской национальности», Жаворонков пошел дальше. В вестибюле и коридорах, среди толпы студентов, он громогласно произносил: «жиды проклятые» и тому подобное. Пока комсомольские вожаки заявляли, что сионизм и антисемитизм — две стороны одной медали, и обе одинаково предосудительны, Жаворонков твердил одно и то же: «удавить их всех». Он так разошелся, что привел в замешательство самих комсомольских лидеров, и в апреле на комсомольском собрании четвертого курса исторического факультета ему официально объявили выговор за антисемитизм с занесением в личное дело.
В июне того же, 1949 года, на очередном комсомольском собрании слушалось персональное дело студентки вечернего отделения Стеллы Дворкис. Ее обвиняли в распространении заведомо ложных слухов о существовании антисемитизма в СССР. Свидетелем обвинения выступала Людмила Шапошникова, поведавшая собравшимся: Стелла Дворкис говорила, что ее первоначальным выбором был не исторический факультет, а Институт восточных языков.
— Что же ты туда не поступила? — спросила Шапошникова.
— У меня не приняли документы.
— Почему?
— Потому что я еврейка.
Как истинная комсомолка, Шапошникова сообщила в бюро ВЛКСМ о возмутительных высказываниях Дворкис: якобы та утверждала, что в Советском Союзе евреев не считают полноценными гражданами и дискриминируют при поступлении в высшие учебные заведения. Подобное заявление подразумевает, что антисемитизм поддерживается государством и, следовательно, играет на руку мировому сионизму. В ходе дальнейших расспросов выяснилось, что у Дворкис есть друзья среди арестованных актеров Московского еврейского театра.
После того как было зачитано обвинение, граждане «еврейской национальности», обучавшиеся на нашем факультете, должны были высказать категорическое осуждение сионизма. Возможно, в глубине души они действительно осуждали сионизм, но в тот момент речь шла не о мировоззрении, а о выживании. Боль унижения читалась в их глазах, когда один за другим они выходили оправдываться и осуждать Стеллу. Эта нелепая процессия напомнила мне немецких солдат, ковылявших по Садовому кольцу в 1944-м. И те и другие были пленными и ранеными.
Настала очередь Стеллы давать показания. Маленькая девушка, которую я никогда раньше не видела, не признавала своей вины и не собиралась отдавать себя на милость судей. Вместо этого она приводила энергичные и убедительные аргументы в свою защиту. Сейчас не воспроизвести все детали, но я определенно помню, что она цитировала Ленина.
Собрание тянулось уже третий час. От июньской жары и монотонных речей клонило ко сну. Аудитория, человек двести, оживилась, когда прозвучал приговор: исключить Стеллу Дворкис из комсомола и ходатайствовать перед администрацией об исключении из университета. Здесь мое терпение лопнуло, я подняла руку.
— Славинская, — объявил Петр Лаврин, секретарь комитета ВЛКСМ курса, фронтовик.
После ранения в голову половина лба у него осталась вдавленной в череп, и правый глаз почти не открывался.
— Вы считаете такое наказание логичным? — выпалила я, вставая. — Вы говорите, что антисемитизм и сионизм — это две стороны одной медали! Да, так и есть. Но на позапрошлом собрании мы дали выговор Жаворонкову за антисемитизм; теперь, через два месяца, Стеллу Дворкис исключают из комсомола и из университета за сионизм. Но если это действительно две стороны одной медали, значит, и Дворкис надо дать выговор и ничего больше. Давайте будем последовательны.
Мои однокурсники проснулись, поднялся шум.
— Кого ты защищаешь? — кричали обвинители.
— Вы ее не поняли, — кричали мои сторонники.
— Мы еще выясним, сама-то ты кто такая, — кричал Лаврин.
Большинство проголосовало за исключение Стеллы Дворкис из комсомола, что означало автоматическое исключение и из университета.
Меня не особо волновала угроза Лаврина покопаться в истории моей семьи. Моя девичья фамилия Славинская может быть и русской, и польской, и даже еврейской. Мать моего отца была еврейкой, а его отец поляком; их брак был заключен в католической церкви. Отец моей матери был украинцем, а ее мать эстонкой; они венчались в русской православной церкви. Мой польский дедушка не говорил на идиш, а бабушка-еврейка не говорила по-польски; мой дедушка-украинец не говорил по-эстонски, а бабушка-эстонка по-украински. Все они говорили по-русски. Несмотря на смешение кровей, моих родителей воспитывали в русских традициях; в детстве они читали Пушкина, Гоголя и Толстого; русский был их родным языком, на других языках они не говорили.
Понятие «национальность» юридически нигде не фигурировало до двадцатых годов, когда советским гражданам стали выдавать паспорта. Каждый должен был назвать свое этническое происхождение, и мои родители сказали, что они русские. Они считали себя русскими и были русскими, потому что так считали.
Когда мне исполнилось шестнадцать и надо было получать паспорт, выбор передо мной не стоял — я должна была принять национальность родителей, указанную в их паспортах. Никаких юридических оснований назвать себя полькой, еврейкой, украинкой или эстонкой у меня не было. К счастью, я сама считала себя русской. И никому не посоветовала бы это оспаривать.
Как-то весной 1949 года мама вернулась из магазина с пустыми руками, лицо покрылось красными пятнами.
— Я только что накричала на женщину в очереди, — сообщила она, ошеломленная несвойственным ей поведением. — Та сказала: «Вот, эти евреи процветают, а мы, русские, только ишачим».
Этого моя обычно тихая мама не могла стерпеть.
— Кто это «мы»? — спросила она.
— Мы — русский народ. Кто же еще?
— Не смейте говорить «мы»! — воскликнула мама. — Я русская, но за меня говорить вы не имеете права. Я не антисемитка, как вы.
Последние месяцы были для мамы очень напряженными. В МВТУ имени Баумана, где она работала, кампания антисемитизма шла своим ходом. Ее начальника, еврея, сместили с должности заведующего кафедрой. Маме предложили занять эту должность, но она отказалась. Ее совсем не привлекала перспектива стать администратором и председательствовать на заседаниях, где решается вопрос об увольнении коллег. Но деканат и партком рекомендовали ее кандидатуру: русская, кандидат физико-математических наук, член партии — и в сложившихся условиях ей пришлось согласиться.
В новой должности маме приходилось по первому вызову являться в партком и администрацию, выслушивать наставления о необходимости искать «ошибки», которые допускают профессора-евреи.
— Я не замечала никаких ошибок, — говорила она всякий раз. — Они прекрасно справляются с работой.
После таких собеседований она встречалась с сотрудниками, и они вместе обсуждали линию поведения, чтобы удержаться на работе.
Тем летом я оставила двухлетнего Сережу с родителями Валентина и поехала в археологическую экспедицию под Брянск. Туда можно добраться поездом из Москвы за полдня, но мы ехали в товарном вагоне, так как везли большую поклажу для экспедиции, и поездка заняла почти неделю. Времени для разговоров было достаточно. Должно быть, мои заявления в защиту Стеллы Дворкис побудили моего однокурсника Володю Кабо быть со мной откровенным. И пока мы сидели рядом, свесив ноги в открытый проем товарного вагона, он излагал свои неортодоксальные взгляды.
Фактически в советской системе все неправильно, говорил Кабо. Страной управляют бюрократы и дураки. Если и был какой-то смысл в революции, то сейчас он или предан, или забыт. И доказательства этому — на каждом углу. Он говорил что-то о деньгах, которые присваивают функционеры, о бессмысленной практике посылать студентов в колхозы — и крестьянам от этого никакой помощи, и студенты теряют время.
— Почему ты так открыто говоришь со мной? — спросила я. — Ты меня не знаешь. Что если я донесу на тебя?
— Я знаю, что ты этого не сделаешь, — засмеялся Кабо.
Мне совсем не хотелось обсуждать свои взгляды с этим человеком. В его аргументах не было и намека на переживание, только презрение к партии. К тому же — эти высокомерные нотки в голосе, как будто я оказалась единственным собеседником, и он снизошел до разговора на равных. Все в нем начало меня раздражать — и пренебрежительный тон, и привычка все время делать замечания, и даже его внешность. Но главное — я не могла с ним согласиться по существу.
Насколько я понимала, советская система была правильной, марксизм-ленинизм — самой прогрессивной идеологией в мире, а все проблемы — из-за карьеристов, в огромном количестве хлынувших в партию ради личной выгоды.
Следующие два месяца мы вели раскопки на месте крепостных сооружений древнерусского городка Вщиж, разрушенного татарами в тринадцатом веке, и жили в деревне, до сих пор носившей то же название. Нас, семнадцать человек, разместили в помещении школы; электричества не было, еды не хватало. В июле под запряженной лошадью телегой, перевозившей дополнительный груз для нашей экспедиции, рухнул мост. К счастью, никто не пострадал, но большая часть продуктов пропала.
По вечерам мы валялись на матрасах в здании школы и от нечего делать разговаривали и читали стихи. Чтение начиналось спонтанно. Объявлять автора и название необходимости не было; многие хорошо знали русскую классику и могли подхватить стихотворение с любого места. Однажды я начала читать «Демона»;
Здесь вступил один из моих друзей, без паузы заскользив по волшебным лермонтовским строкам:
Мне запомнился этот прекрасный вечер — слишком прекрасный, чтоб заподозрить, что среди нас был осведомитель.
В мой двадцать второй день рожденья, 20 июля, появился Валентин с бутылочкой «Салхино», красного сладкого грузинского вина. Я пригласила всех, купила в деревне картошку, большую миску земляники и устроила стол в пустой избе. Каждому из восемнадцати человек досталось по глотку вина. После нехитрой трапезы мы перешли к пению. Пели «Бригантину», другие популярные песни, а также песню об австралийском пионере:
Эту глупую песню можно было услышать у любого студенческого костра, но лучше бы мы не исполняли ее в тот вечер.
Прошел почти месяц пребывания в экспедиции. За это время моя неприязнь к Кабо только усилилась. Однажды он подошел ко мне и нашей общей подруге Наташе Членовой, отозвал нас в сторону и сообщил, что получил из дома посылку и предложил нам разделить с ним продукты. Меня это возмутило до глубины души. Продуктовую посылку нужно делить со всеми участниками экспедиции, а не только с парой друзей. Мой праведный гнев был так силен, что я высказала ему все, что о нем думаю, потом повернулась к зданию школы и объявила: «Кабо получил посылку и пожирает ее в одиночестве». Недели две все бойкотировали Кабо. В середине августа, за две недели до окончания экспедиции, он слег с температурой и вернулся в Москву.
Наступило 1 сентября 1949 года. Пятый курс. Последний учебный год в университете. Меня вызвал Петр Лаврин.
— Ты знаешь Кабо, верно?
— Да.
— У вас с ним были какие-то разговоры, так?
— Были.
— Помнишь, о чем вы говорили?
— О чем могут разговаривать парень с девушкой? — ответила я вопросом на вопрос.
Несмотря на мое отношение к Кабо, я не собиралась обсуждать его с Лавриным. Если удастся свести разговор к чему-то вроде «мальчики-девочки», может, больше и не будет вопросов.
— О политике говорили?
— Нет, насколько я помню.
— Иди домой и подумай. Когда вспомнишь, придешь и расскажешь.
На следующий день Лаврин снова вызвал меня к себе в кабинет. Те же вопросы — те же ответы. Через несколько дней я начала интересоваться, где Кабо. Его нигде не было видно. Я вспомнила, что он встречался с одной из студенток, Неллой Хайкиной, и спросила у нее.
— А ты что, не знаешь? Его арестовали.
Я не в первый раз слышала об арестах, но этот случай привел меня в ужас: ведь это я отравила бедняге последние дни на свободе. «Я хотела бы знать, как все случилось», — попросила я Неллу. Она рассказала, что, когда Кабо вернулся из экспедиции, к нему зашел друг, Сергей Хмельницкий, со своим приятелем. Я не знала Хмельницкого. По словам Неллы, он тоже учился в МГУ, вечно рассказывал анекдоты, писал хорошие стихи и всегда держался с превосходством, как и Кабо, которому — вполне возможно — он и помогал формулировать неортодоксальные взгляды. Видимо, Кабо не решался пускаться в разговоры при незнакомце, но Хмельницкий заверил его в надежности своего приятеля. На следующий день Кабо, все еще больной, с повышенной температурой, был взят под арест.
Меня снова вызвал Лаврин. У него еще оставались вопросы о нашей экспедиции.
— Что вы там делали в свободное время?
— Гуляли, за грибами ходили, пейзажами любовались.
— А стихи читали?
— Читали.
— Какие?
— Пушкин, Лермонтов.
— А еще?
— Некрасов.
— Еще кого?
— Маяковского.
— Еще?
— Суркова.
— Еще?
— Симонова.
— Ахматову читали?
— Нет, — твердо ответила я.
Ахматову вслух я читала, но только при одном свидетеле, Наташе Членовой. Я знала, что Наташа не выдаст.
— А ты вспомни. Читала Ахматову?
— Не читала.
— А Юля Синельникова говорит, что ты читала, у костра.
— Она ошибается, — спокойно возразила я.
Синельникова училась на втором курсе. Милая, но не очень интеллигентная девушка, она легко могла перепутать и поэтов, и поэмы.
— Теперь о твоем дне рожденья. Вы выпивали?
— Да.
— Что вы пили?
— Бутылочку «Салхино», 375 граммов, на восемнадцать человек.
— А потом что делали?
— Потом пели.
— И что вы пели?
— «Бригантину».
— Что еще?
— Не помню.
— Вы пели «На берегу родной реки»? — Лаврин употребил нарочито искаженное название песни про австралийского пионера.
— Нет, я не пела «На берегу родной реки», я пела «На берегу одной реки».
Отличие на одну букву решительно меняло смысл: родная река протекала, конечно же, на родине пионера, то есть члена Всесоюзной пионерской организации, а не какого-то австралийского первопроходца. Повествование о том, как пионер рубит головы, могло квалифицироваться не иначе как злостная клевета.
— Я пела «одной реки».
— Ты уверена, что не «родной»?
— Абсолютно уверена. «Родной» не имеет смысла, ведь это песня австралийского пионера, у него не могло быть родной реки в Австралии. Эту страну заселяли изгнанники и ссыльные. У них могла быть родная река в Англии, Шотландии или Ирландии, но не в Австралии. Это было бы нелогично.
— Ты хочешь сказать, что эта песня не о юных пионерах?
— Эта песня об австралийских пионерах — британских каторжниках, высланных в Австралию.
— Юля Синельникова говорит, что слышала, как ты пела «родной».
— Может, она пела «родной», а я пела «одной».
— Иди домой и подумай как следует. Потом придешь и расскажешь.
Я подумала. Обвинение в клевете на юных пионеров было настолько бессмысленным, что не стоило внимания. Но вот насчет Ахматовой — надо понять, откуда это взялось, ведь я никогда не декламировала ее стихи публично. Никто в здравом уме не стал бы этого делать. Почему же Синельникова утверждает, что я читала то, чего я не читала? Чтобы ответить на этот вопрос, надо проникнуть в мозги осведомительницы, представить себя на ее месте. Итак, если бы я была Синельниковой, много ли стихов Ахматовой могла я знать наизусть? И с чем могла их спутать? К вечеру у меня был готов ответ.
Синельникова наверняка прочитала постановление, осуждающее творчество Ахматовой, в котором Жданов цитировал одно из ее стихотворений, дабы наглядно показать — вот она, помесь монахини и блудницы:
Должно быть, Синельникова помнила, что было какое-то стихотворение Ахматовой, в котором кто-то в чем-то клялся, а также упоминались небеса и любовь. Я пошла к Лаврину и попросила созвать заседание комитета комсомола. Я собиралась задать вопрос Синельниковой.
— Юля, ты не против, если я прочитаю тебе стихотворение? Останови меня, когда узнаешь Ахматову.
Юля кивнула.
— Да, вот это, — сказала Юля без тени сомнения.
Лаврин, как от удара, сгорбился в своем кресле. Читать Лермонтова еще не запретили. Дело явно разваливалось, но о прекращении не могло быть и речи. Комсомольская организация исторического факультета МГУ должна была наказать меня за защиту Стеллы Дворкис, и ничто не могло ее остановить.
Слушание моего персонального дела назначили на первое же комсомольское собрание в новом учебном году. За несколько минут до начала ко мне подошел один из комсомольских активистов, Леонид Рендель.
— Ты понимаешь, что в сложившихся обстоятельствах мы не можем доверять тебе работу по политпросвещению, — заявил он.
Это означало, что мне больше не разрешается проводить политинформацию для рабочих — строителей метрополитена. Я стала неблагонадежна.
Рендель не был фронтовиком, просто примерный солдат на своем воображаемом поле битвы. Сверх меры политизированный Леонид Рендель. Через несколько лет он станет политзаключенным, и наши дороги снова пересекутся.
Мое дело стояло последним в повестке дня. Синельникова заявила, что я читала Ахматову; я сказала, что читала Лермонтова; Синельникова утверждала, что я пела «родной реки»; я говорила, что пела «одной реки».
Слово взял фронтовик Коля Соколов.
— Кое-кто здесь мог бы сказать: «Зачем портить жизнь девушке? Ну пела она глупую песню; ну читала глупые стихи; это легкомысленно, ну и что?» Но я вам скажу, товарищи, наш долг — быть бдительными, реагировать со всей решительностью и наказывать за такое поведение. Наш долг — пресечь его в корне, подавить в зародыше, пока оно не расцвело. Потому что сегодня, товарищи, она поет песенку или читает стишок, а завтра… завтра, товарищи, она может пойти и взорвать военный завод.
— Дурак, — не выдержала моя подруга Майя Новинская.
Мне влепили выговор за «аполитичное поведение, выразившееся в пении безыдейных песен и чтении стихов Анны Ахматовой». На следующем собрании на месте подсудимой стояла Майя Новинская, ее обвиняли в «потере бдительности». К счастью, она тоже отделалась выговором. Мы обе смогли закончить университет и получить дипломы.
Глава 3
Фронтовики отнюдь не были настоящими коммунистами. В этом я была совершенно уверена. Они просто использовали партию для личной выгоды. И не они одни.
Возникал естественный вопрос: что должен делать честный человек перед лицом зла? Я понимала, что мне не удастся долго играть в прятки и искать спасения в личной жизни, как я делала это четыре года в университете. Но фронтовики представляли серьезную силу, они вцепились в партию и комсомол мертвой хваткой, так что порядочный человек просто не мог им ничего противопоставить. Работа рядом с ними оскорбляла мои эстетические чувства. В результате они просто загнали меня в апатию.
К окончанию университета я начала задумываться, имею ли я моральное право оставаться равнодушной. Мой отец, погибший за советскую власть, не одобрил бы такой уход в сторону, ведь это, по сути, отдавало страну в руки оппортунистов. Но как справиться с ними? Возможностей было не так много. Свой первый выбор — притаиться в личной жизни — я была почти готова отвергнуть. Такой шаг, как создание подпольной организации, даже не приходил в голову. Позднее я узнала о деятельности считаных ячеек сопротивления с роковыми последствиями для их участников. Но даже если бы о них было известно раньше, я бы не вступила ни в одно из тайных обществ — скрытая деятельность противоречит моей натуре. Оставалось последнее — вступить в партию и попытаться реформировать ее изнутри.
Я решила: как только получу диплом, подам заявление о вступлении в партию. Более того, я чувствовала, что просто обязана убедить всех порядочных людей, которых знала, последовать моему примеру. Они же, в свою очередь, должны убедить всех порядочных людей, которых они знают, последовать их примеру. Тогда все честные, бескорыстные коммунисты, действуя сообща, вытеснят оппортунистов. И если даже все наши усилия не увенчаются успехом, совесть будет чиста — мы выполнили свой долг, мы действительно попытались что-то изменить.
Сегодня эти планы могут показаться наивными. Некоторые полагают, что они звучали наивно уже в пятидесятые годы. Но мне тогда было двадцать два, меня беспокоила окружавшая несправедливость, мучила собственная неспособность что-то изменить, быть гражданином. У меня не было доступа к книгам, которые могли бы помочь прийти к решению, сделать выбор. Среди старших, более опытных знакомых я не находила мыслящих авторитетных людей.
Конечно, был дядя Боря, но его ответы всегда были предсказуемы: партией управляет шайка паханов, очень мощная шайка отпетых паханов. Моя мама в дискуссии подобного рода не вступала, она была математиком, не политологом-теоретиком. Мой муж и его друзья по военно-воздушной академии были настроены скептически. «Наше вступление в партию ничего не изменит», — отвечали они на мои призывы к активности. И добавляли: «Карьеристы там слишком глубоко окопались».
Друзья мужа были старше меня на пять — семь лет. Военные инженеры, они видели изнутри, как работает система, и, в отличие от меня, знали, о чем говорят.
Да, моя вера в то, что партию можно реформировать изнутри, была не чем иным, как иллюзией, которую я воздвигла, чтобы вырваться из дома, найти другой смысл своего существования, а с ним и место в общественной жизни. После долгих разговоров мне удалось убедить Валентина, что он как честный человек имеет моральные обязательства и тоже должен подать заявление в партию. Он стал потребителем всех моих теорий, даже если они были притянуты за уши.
Я с нетерпением ждала окончания университета — тогда, наконец, не придется ежедневно сталкиваться с фронтовиками. Я даже не пошла на вручение дипломов, чтобы не делить с ними момент их торжества. Забрала свой диплом в канцелярии и получила назначение на работу — учителем истории в московское ремесленное училище № 4.
Как выпускница Московского университета с высокими оценками я могла бы получить работу намного лучше, чем преподавать подросткам, признанным негодными для обучения в средней школе. Это опять же было мне наказанием за Стеллу Дворкис и Анну Ахматову. Но по закону я не могла отказаться и должна была отработать по распределению три года — своего рода плата за высшее образование.
Первое сентября 1950 года стало моим днем независимости. Я начинала новую жизнь. Мне предстояло превратить этих отверженных в полноценных советских граждан. По ходу дела я тоже должна стать полезным членом коллектива. И поскольку я преувеличивала политическое сознание масс, то была уверена, что остальные порядочные люди должны следовать моему примеру.
Среди преподавателей ремесленного училища № 4 не было политически активных личностей. Большинство не интересовалось ни предметом, который они преподавали, ни процессом обучения. Многим не хватало терпения, они могли даже ударить ученика. Были и любители крепко выпить. Обстановка в этом учебном заведении просто взывала принять какие-то меры по ее нормализации.
Моими учениками были мальчики от двенадцати до пятнадцати лет. Их воспитание и поведение оставляли желать лучшего: разболтанные, неразвитые, а некоторые и склонные к уголовным преступлениям, дети из трудных семей, многие не знали своих отцов. Раз в году по крайней мере один ученик из каждой группы попадал в тюрьму. Преступления случались самые разные — от взлома телефона-автомата или попытки вытащить авторучку из кармана у пассажира в метро до изнасилования всемером сорокалетней женщины.
Во время урока я требовала полной тишины. Даже шепот на задних партах лишал меня спокойствия. Я установила правило: если мы не успели пройти на уроке весь запланированный материал, все остаются после занятий. В результате я каждый день задерживалась часа на два, а то и дольше.
— Людмила Михайловна, что вы от нас хотите? — спросил однажды кто-то из учеников. — У вас на уроках мы сидим тише, чем у других. Кроме Василия Ивановича.
— Я хочу, чтобы вы сидели так же тихо, как у Василия Ивановича.
— Ну, это уж слишком. Он же нас бьет.
После уроков я вела исторический кружок, встречалась с родителями неуспевающих учеников. Однажды, придя в рабочий барак, чуть не споткнулась о пьяного, лежащего на пороге.
— Да просто перешагните через него, Людмила Михайловна, — сказал мой ученик, открывший дверь. Он провел меня в комнату, где жил вдвоем с матерью. Стол был завален грязной посудой и остатками еды, в углу валялась груда тряпья, на которой они спали.
— А где ты делаешь уроки?
— Да прямо здесь, — сказал мальчик, усаживаясь на пол и положив тетрадь на единственный в комнате табурет.
Другой мой ученик жил в ванной комнате большой коммунальной квартиры. По каким-то необъяснимым бюрократическим причинам его мать и отчим потеряли комнату, но остались прописанными в квартире. На ночь они клали на ванну щит, сбитый из досок, и спали там втроем. Утром помещение надо было освобождать, чтобы соседи могли помыться и постирать.
Каждый раз, когда приходилось задерживаться в школе допоздна, я выходила вместе с учениками. Они провожали меня до троллейбусной остановки.
— Здесь по дороге — дом ЦК, вас могут затащить в подъезд и изнасиловать, — пугали они меня. — Сынкам начальства за это ничего не будет.
Не знаю, существовала ли такая опасность на самом деле или ребята пытались заигрывать с молодой учительницей. Но я до сих пор помню, как этим юным хулиганам хотелось выступить в благородной роли защитников.
У меня появилась общественная работа. В качестве агитатора избирательного участка я должна была проверять списки избирателей, прописанных в старом доме, когда-то принадлежавшем какому-то купцу. Теперь там жили не менее пятидесяти человек. Когда я приходила, все собирались на огромной общей кухне. Поскольку выдвигался только один кандидат, мы не тратили время на разговоры о выборах, а обсуждали все, что людям было интересно, как и с моими подопечными метростроевцами. Помню, кто-то попросил объяснить, из-за чего началась война в Корее, другой спрашивал о плане реконструкции Москвы. Как-то возник разговор об итальянском кино, и я прочла небольшую лекцию о неореализме, после чего пригласила всех посмотреть фильм «Похитители велосипедов». Однако обвинения Витторио де Сика в адрес капиталистической системы не произвели впечатления на моих подопечных. Бедность и унижения, увиденные на экране, напоминали им их собственную жизнь. «У них капитализм, а простой человек ничего не имеет. У нас социализм, но у людей тоже ничего нет, — сказал один из участников бесед на кухне. — Все мы бедняки».
Мне нравились эти люди, и я чувствовала их расположение. «Повезло нам с агитатором», — говорили женщины друг другу в моем присутствии. Уроки и долгие разговоры за жизнь вызывали у меня обострение хронического тонзиллита, и мужчин предупреждали, чтобы они не курили:
— Вы что, не видите, Людмиле Михайловне от этого плохо?
Перед каждыми выборами меня заверяли:
— Не беспокойтесь, Людмила Михайловна, мы первые придем на участок, все вместе, как одна семья.
И они приходили. Поэтому в отличие от других агитаторов, зачастую до полуночи ожидавших, когда проголосуют все до последнего избирателя по их спискам, я освобождалась уже к двенадцати дня.
Вышла из печати биография Сталина. Вслед за книгой появилась директива, предписывающая учителям истории организовать кружки по ее изучению. Это означало дополнительные часы занятий, но было обязательным и для учителей, и для учеников.
Биография была написана ужасным сухим языком. Каждая фраза походила на формулу, раз и навсегда установленную и не подлежащую изменениям. Я представила, как читаю этот опус подросткам, засыпающим под шелест страниц. Нет, такое задание требует творческого подхода, нужно найти что-то более живое, похожее на лекции профессора Ацаркина («Ну вот, приходит Зиновьев к Ленину с Троцким и говорит…»).
Я отправилась в библиотеку, но нашла всего пару хвалебных произведений, из которых никаких сведений о детстве и юности товарища Сталина почерпнуть не удалось. Тогда я попыталась представить волевого темноглазого мальчика, жившего в дореволюционной Грузии, в маленьком городке Гори. Прочитав все, что только смогла найти, о Грузии и Гори, я старалась нарисовать в своем воображении этот старинный городок, семью будущего вождя, его отца — сапожника, который трудился с утра до вечера. Что оказало влияние на этого мальчика? Конечно же, церковь: он посещал семинарию. Видимо, не нашел там правды и, решив поискать ее в другом месте, присоединился к революционному движению.
Вместо того чтобы читать казенный текст, я рассказывала биографию своими словами, рисовала образ мальчика, описывала место и время. Ученикам было интересно, и они легко усваивали материал. Первые занятия прошли успешно, и я продолжала пользоваться «методом Ацаркина», чтобы оживить биографию. Через несколько месяцев в класс явился представитель ЦК комсомола и сел за заднюю парту. Когда занятие окончилось, он подождал, пока ребята уйдут, и поздравил меня. Вскоре в газете «Московский комсомолец» появилась статья обо мне и о моем замечательном кружке.
Между тем несколько учителей из других ремесленных училищ заявили, что книга слишком сложна для подростков. Рискуя потерять работу, они направили официальное предложение прекратить занятия по биографии Сталина в ремесленных училищах. Комсомол, ссылаясь на мой пример, доказывал, что идея организации кружков вполне выполнима. Так я невольно стала штрейкбрехером — вспоминать об этом стыдно до сих пор.
Осенью 1950 года меня зачислили в лекторскую группу Московского обкома комсомола. Это стало еще одной моей общественной работой. Через несколько месяцев руководитель группы оставил свой пост, получив отпуск для написания диссертации. Видя огонь в моих глазах, он предложил мою кандидатуру на свое место. Мне выдали список лекций, подходящих для политического просвещения масс.
Что касается моих собственных лекций, то я выбрала тему, которую никто не хотел брать: Зоя Космодемьянская. К тому времени Зое посмертно присвоили звание Героя Советского Союза, и она превратилась в икону наподобие Павлика Морозова. Из-за многократного повторения интерес к ее истории иссяк. Появились неофициальные версии событий, произошедших в Петрищево. По одной из них, в «немецкой» конюшне, которую пыталась поджечь Зоя, находились колхозные лошади, реквизированные немцами. Возмущенные колхозники решили отомстить и выдали Зою фашистам. Возникли и анекдоты на эту тему, порой весьма циничные («на веревочке болтается, на „З“ начинается»), этого я даже слышать не могла, не то что пересказывать.
Тем не менее я начала сомневаться в правдоподобности газетной информации о последних минутах жизни Зои. Вряд ли немцы могли спокойно стоять и слушать, как она прославляет Сталина и предрекает падение Третьего рейха.
На лекциях, стоя перед собравшимися рабочими, шахтерами, колхозниками, я размышляла вслух. Какова природа героизма? Что именно заставляет героя делать то, что он делает? Как объяснить, что честь для человека становится важнее самой жизни? Героизм бывает разный. Есть героизм солдата, когда он из окопа бросается в атаку. Он не один — рядом с ним бегут его товарищи. Все в опасности, и назад не повернуть, потому что надо выполнять приказ.
Но никто не понуждал Зою ехать из Москвы в лес близ села Петрищево. Она могла бы благополучно переждать войну в эвакуации. Никто не выталкивал ее на мороз той декабрьской ночью. С первого же момента, когда фашисты ее схватили, она была обречена. Она оказалась целиком в их власти. И они могли делать с ней все что хотели — пытать, казнить. Рядом не было товарищей, чтобы придать ей сил, но она держалась до конца. А что сделала Зоя? Ну, подпалила пару лошадей. Даже если не пару, а больше, разве стоило ради этого умирать? Я была уверена, что — да, стоило, потому что есть ситуации, когда невозможно высчитывать, за что стоит умирать, а за что не стоит. Победа складывается из множества таких непросчитанных решений.
Многие в аудитории скорее всего никогда об этом не задумывались. Я делилась с ними своими мыслями, они молча слушали. Я чувствовала, что возникает контакт и людям интересно. Все мы пережили войну, и для нас вопрос о природе героизма не был абстрактным. Каждый лично знал героев — прославленных или неизвестных, живых или мертвых.
В декабре 1951 года меня попросили выступить на торжественном собрании, посвященном памяти Зои Космодемьянской и приуроченном к десятилетию со дня ее гибели. Собрание проводилось во Дворце пионеров, носящем ее имя, в городе Верея, неподалеку от которого находится село Петрищево. Главным гостем была мать Зои, Любовь Тимофеевна Космодемьянская. Я должна была выступать после нее.
Мать Зои, в сером костюме, с маленьким пучком седых волос, с глазами, не выражающими ни горя, ни радости, выглядела типичной советской учительницей. Я попыталась с ней заговорить, но Любовь Тимофеевна не была расположена к беседам.
Пока мы ехали в Верею, я смотрела в окно машины на гигантские, покрытые снегом ели и думала, как жутко было дочери этой женщины пробираться одной через сугробы. В этих пустынных местах, да еще в темноте, было страшно и без немцев.
Что происходит в мозгу матери, которая видит растиражированную газетами фотографию своей мертвой дочери? В последний месяц войны эта женщина получила извещение о том, что ее сын Александр, командир танка, «погиб смертью храбрых в борьбе с немецкими захватчиками». В июне 1941 года у Любови Тимофеевны было двое детей. Теперь все, что ей осталось, это хранить две Звезды Героя и навещать две могилы.
Во Дворце пионеров имени Зои Космодемьянской Любовь Тимофеевна подошла к микрофону и начала свой рассказ: Зоя всегда была послушная, уважала старших, она была правдивая и решительная… Должно быть, этот рассказ повторялся на каждой остановке начертанного комсомолом маршрута ее выступлений. Говорила она не как живой, много переживший человек, а как автомат, не меняя интонацию. Может, на первых выступлениях рассказ звучал живее и искренней. Может, и на десятый раз у нее еще оставались какие-то эмоции. Но за десять лет статус матери двух погибших героев стал самодостаточным, вытеснив черты индивидуальности. Я не судила ее, мне просто вдруг стало страшно от мысли, что и мои выступления начнут звучать, как заезженная пластинка.
Когда я начинала читать лекции, они шли прямо из глубины души. Но сколько повторений может выдержать душа? Мне удавалось удерживать внимание слушателей, я даже чувствовала их сопереживание. Я готовила лекции, не пользуясь вырезками из «Правды», а вновь и вновь возвращалась к вопросам, которые формировали мои взгляды. По ходу работы возникали новые вопросы, следуя естественной логике взросления. Я начала сравнивать мужество воина и мужество гражданина. На войне человек может стать героем в один момент, когда делает то, чего требуют от него обстоятельства. Его храбрость на войне еще не означает, что он будет мужественным в мирное время. Я не раз встречала увешанных орденами участников войны, которые трепетали перед мелкими чиновниками. Они были хорошими солдатами, но не лучшими гражданами.
Возникал и другой вопрос: а я сама как гражданин лучше тех фронтовиков? Мое бегство в поэзию и семейную жизнь, не является ли оно капитуляцией перед карьеристами? Да, является, честно признавала я. Столкнувшись со злом, я уклонилась от борьбы с ним. Но интуиция подсказывала, что подобные мысли — не для публики. Было бы слишком большим упрощением сказать, что моя внутренняя цензура появилась из-за страха репрессий. Скорее она была следствием осознания общественного устройства с его правилами и табу и поддерживалась инстинктом самосохранения. Сдерживало меня и стадное чувство — я боялась оторваться от других, от коллектива.
В 1951 году меня приняли в партию. Агитация и пропаганда, развернутые на домашнем фронте, принесли свои плоды, и муж тоже стал членом партии. Для меня это был личный триумф. Я продолжала свое образцовое преподавание истории, читала лекции, работала агитатором.
Прочитав газеты утром 13 января 1953 года, я решила изменить содержание предстоящего урока.
— Ребята, если вы просмотрите сегодняшнюю газету, то увидите много еврейских фамилий среди врачей, которых обвиняют в заговоре с целью убийства товарища Сталина, — начала я.
Нетрудно было понять, что разворачивающаяся кампания против «убийц в белых халатах» может легко привести к массовому психозу и даже погромам. И тогда учащиеся ремесленного училища № 4, не отличающиеся критическим мышлением, присоединятся к разбушевавшейся толпе.
— Если эти врачи виновны, их накажут, если нет, их оправдают. Но их вина — это только их вина и больше ничья. Это не должно отразиться на всем еврейском народе. Евреи сыграли важную роль в нашей революции, они дали миру Карла Маркса…
— А разве не они распяли Христа? — перебил один мальчик.
— Это их внутреннее дело. Он был еврей и они были евреи…
— Иисус Христос был еврей?!
— Да.
— Вы уверены, Людмила Михайловна?
— Да, это так, даже если верить в непорочное зачатие — его мать была еврейкой. Они жили в Иудее, в маленьком городе Назарете.
— Людмила Михайловна, а что, Дева Мария была еврейкой? Если я это бабке расскажу, она ж меня убьет!
— Да, она была еврейкой.
— Людмила Михайловна, вы вправду уверены?
— Уверена.
— С ума сойти! Да бабка меня убьет!
Проработала я так два года, но система, которую я намеревалась реформировать изнутри своим участием, не подавала никаких признаков изменений. Я преподавала в школе, на общественных началах читала лекции и агитировала, я была занята по двенадцать часов в день, но люди, которым я старалась помочь, оставались такими же несчастными, как и прежде.
Какая разница, что жители дома, где я была агитатором, первыми приходили на избирательный участок? Чем могла я им помочь, кроме сочувствия? А что я могла сделать для своих учеников? Даже в ближайшем окружении, в школьной парторганизации, атмосфера оставалась такой же затхлой, какой она была при моем первом появлении.
Я понимала, что моя активная деятельность может пойти на пользу только мне самой. Я могла бы преуспеть в карьере, получить квартиру получше и зарплату побольше. Но это не то, к чему я стремилась. Я хотела, чтобы хорошие люди вытеснили плохих из партии. Но, увы, что-то не видно было потока честных людей, потянувшихся вслед за мной в КПСС.
Не припомню, чтобы я переживала какой-то поворотный момент или на меня снизошло откровение. Я просто взрослела, и после двух лет утомительной работы позволила себе на время углубиться в самоанализ. Пока я была студенткой, я оставалась инфантильной. Теперь я сама преподаватель. Мой кругозор расширился, и мои взгляды больше не укладываются в простую формулу «победа хороших людей над карьеристами».
Я начала размышлять о том, какие побудительные мотивы движут партией в построении «нового общества». Необходимость революции сомнений у меня не вызывала. Царская Россия была нищей страной с несправедливым правлением. Я слышала об этом от моих бабушек и дедушек. Я знала это из русской истории и литературы, от Пушкина до Толстого. Я могла согласиться даже с тем, что кровопролитие было неизбежной составляющей революции и последующей классовой борьбы. Но ведь после этого общество не стало справедливее. И наша жизнь не становилась лучше. Может, мы идем не в том направлении? Должно быть, где-то сделан неверный поворот. Чтобы разобраться, в чем ошибка, нужно начать с первоисточников. И я решила прочитать Ленина от корки до корки.
В университете я, конечно, читала Ленина, но это были отдельные работы, подобранные преподавателями к определенной теме, для обоснования того или иного текущего решения партии, для оправдания ее политики в наши дни. Мне же хотелось оценить Ленина как личность, составить представление о его политической тактике, понять его замыслы при создании партии.
Полное собрание сочинений Ленина состояло из двадцати девяти томов. Надо прочесть их все, решила я, — от первого до последнего, тогда я смогу проследить развитие его мысли и эволюцию взглядов. Единственное, что необходимо, это найти время для чтения.
В ту пору я и предположить не могла, что люди, которые так много будут значить в моей жизни — Анатолий Марченко, Юрий Орлов, Петр Григоренко, — также относят начало своего инакомыслия к тому моменту, когда они перевернули первую страницу первого тома собрания сочинений Ленина…
В личной жизни я тоже сделала шаг к зрелости. Я перебрала в памяти все знакомые мне семейные пары и сравнила их брак со своим. Выяснилось, что такого брака, какой мне хотелось бы иметь, в моем окружении не существует. Мы с Валентином по крайней мере не напивались, не ругались и не обманывали друг друга. Валентин, можно сказать, был образцовым мужем, если не принимать во внимание тот факт, что я его не любила. Оказывается, любовь это что-то редкостное и неземное. Люди вокруг меня просто жили вместе, тянули лямку и время от времени ссорились.
Списав со счетов любовь как мечтания юных дев, я решила, что пора заключить перемирие с Валентином, купить несколько пар туфель на низких каблуках и подумать о втором ребенке. Сереже уже почти пять лет. Замечательно, если у него появится брат или сестренка. Я составила обстоятельный план жизни: нужно готовиться к поступлению в аспирантуру, изучать Ленина и родить второго ребенка — к тому времени я уже отработаю по распределению в ремесленном училище.
На рассвете 5 марта 1953 года меня разбудили звуки аллегретто из Седьмой симфонии Бетховена. Умер Сталин. Я плакала, но не от любви к Сталину, а от страха. Я думала о тех безликих функционерах, которые стояли рядом с ним на трибуне Мавзолея во время парадов. Я никогда не могла отличить их друг от друга. Теперь один из них станет великим вождем.
Через два дня мы с Миррой Самойловной Малкиной, матерью моей ближайшей университетской подруги Марины, отправились прощаться с вождем в Колонный зал Дома Союзов, где был установлен гроб с его телом. Я пошла потому, что в детстве не раз слышала рассказы о похоронах Ленина и толпах народа, провожавших его в последний путь. Но это было в 1924 году, за три года до моего рождения. Теперь происходило такое же эпохальное событие, и я не могла его пропустить. Я должна увидеть все своими глазами, чтобы потом рассказывать детям и внукам.
Мирра Самойловна — спокойная, интеллигентная женщина, врач, заведующая отделением одной из градских больниц. Я не раз бывала у них в доме, познакомилась там с ее коллегами Елизаром Марковичем и Гиндой Хаймовной Гельштейн. Они дружили еще со времен совместной учебы в медицинском институте. Встречала я и их дочерей, Вику и Майю, от которых слышала столько рассказов, что, казалось, могла бы написать историю их семьи.
Теперь супруги Гельштейн сидели в тюрьме вместе с другими «участниками заговора с целью убийства советских лидеров по заданию немецкой разведки и мирового сионизма». Мирра Самойловна знала, что ее друзья не убийцы, а прекрасные уважаемые врачи, и понимала чудовищность выдвинутых против них обвинений. Почему она хотела посмотреть на мертвого тирана, по воле которого ее ближайшие друзья оказались за решеткой, не знаю, и не мне ее судить. Мое поведение было не лучше. На четвертом месяце беременности следовало бы понимать, как опасно находиться в огромной толпе.
Мы отправились пешком, и минут через сорок пять уже приближались к Пушкинской площади. С каждым шагом толпа становилась плотнее, пространство вокруг меня сжималось, и вот уже поток людей нес меня к чугунной решетке Тверского бульвара. Я почувствовала, как меня прижимает к холодному металлу, и тут услышала:
— Помогите беременной женщине!
Это Мирра Самойловна кричала конному милиционеру. В следующий момент я оказалась в воздухе. Милиционер буквально выдернул меня из толпы и со словами: «А ты тут зачем, дура?!» — опустил на землю по другую сторону бульварной решетки.
В один прекрасный вечер в апреле 1953 года Елизара Марковича и Гинду Хаймовну привезли домой те же самые люди, которые их арестовывали. От Гинды Хаймовны осталась половина — так она похудела. Цветущая, благополучная дама превратилась в старуху с обвислыми щеками. Лишь глаза, как и прежде, сияли. Она рассказывала о заключении без подробностей: «Дурное обращение, такое жестокое. И нет никакой возможности доказать свою невиновность». Елизар Маркович стал инвалидом. Еще до ареста у него было три инфаркта, теперь он почти не выходил из дома.
Позднее, летом, по улице Горького загрохотали танки, двигавшиеся по направлению к Кремлю{1}. Сразу же распространился слух, что в стране переворот. Той ночью Хрущев, при поддержке части членов Политбюро, арестовал Берию, главу госбезопасности.
Месяца через два Валентин не вернулся вечером на дачу, которую мы сняли на все лето. Поскольку он не пил и не гулял, оставалось предполагать худшее — аварию или несчастный случай. Я не спала, пытаясь отогнать мысли о том, как одна буду растить двоих детей. В шесть утра муж появился, приехав первым поездом.
— Выйдем, надо поговорить, — прошептал он мне на ухо. Очевидно, он не хотел, чтобы нас слышала няня.
Накануне по пути на вокзал Валентин заехал на работу за какими-то бумагами. В Академии в период летних отпусков почти никого не было, и он попался на глаза секретарю парторганизации. Тот приказал немедленно отправляться на собрание городского партактива в качестве представителя Академии. Хотя Валентин был рядовым членом партии, а не активистом, ему пришлось выполнять партийное поручение.
На собрании, затянувшемся до позднего вечера, обнародовали подробности злодеяний Берии. Оказалось, что он арестовал тысячи людей только по причине личной неприязни. Он сам принимал участие в пытках арестованных. Когда его автомобильный кортеж двигался по улицам Москвы, он высматривал женщин и указывал своим приспешникам, какая ему понравилась. Несчастную тут же хватали и доставляли к нему в кабинет. После ночи, проведенной с министром госбезопасности, женщины бесследно исчезали, а он пополнял свой список жертв и коллекцию бюстгальтеров.
Из того, как это рассказывалось, можно было подумать, что сообщников у Берии не было. Но кто поверит, что в пьяной оргии участвует один человек? Кто поверит, что все суды и тюрьмы, уничтожившие множество невинных людей, работали по злому умыслу единственного преступника? Я ловила себя на том, что перед глазами неотвязно вставала картина: наши вожди восседают за уставленным бутылками столом и замышляют, кого убивать следующим.
— Дядя Боря прав, — сказала я мужу. — Это шайка паханов.
В обкоме комсомола и слышать не хотели о том, чтобы я оставила работу лектора. Еще раньше заведующий отделом агитации и пропаганды Московского обкома предлагал мне работу инструктора обкома. Я отказалась. Теперь последовало другое предложение — хорошо оплачиваемое место какого-то начальника в обществе «Знание».
— Но я уже сдала экзамены в аспирантуру, — возражала я.
— Куда?
— В Московский экономико-статистический институт, на кафедру истории партии.
— Но ты не обязана сразу начинать учиться.
— У меня грудной ребенок.
— Какие проблемы? Будут деньги, возьмешь няню.
— Но я уже решила.
— Подумай. Вы все живете в одной комнате в коммуналке. А пойдешь на эту работу, получишь квартиру.
Но и этот аргумент не сработал. Казалось бы, я должна радоваться: моя теория «оттеснения» карьеристов вроде бы оправдывалась. Но к тому времени я уже понимала: в тот момент, когда стану партийным чиновником, я потеряю даже ту маленькую свободу, какая у меня есть. Я должна буду жить как они, в их кругу. Должна буду одеваться, как они, говорить, как они. Я лишусь возможности не участвовать в особо идиотских мероприятиях. Должна буду повторять, что «жить стало лучше, жить стало веселей», осуждать космополитизм, Ахматову, низкопоклонство перед Западом. «Колебаться вместе с линией партии», участвуя во всех кампаниях, какие только она ни придумает в будущем.
По сравнению со всем этим жизнь в тесной комнате представлялась намного привлекательней.
В 1953 году в нашей трехкомнатной коммунальной квартире один за другим родились четыре младенца, и общее число обитателей возросло до пятнадцати человек, а вместе с нашей няней стало шестнадцать. В одной из комнат жила семья из восьми человек, включая двух новорожденных. К тому времени у всех трех семей были стиральные машины, правда, довольно примитивные: они стирали, но не отжимали и не сушили белье. В ванной комнате всегда тарахтела одна из машин, а две другие ждали очереди в коридоре. Ванная была все время занята, и детей приходилось купать через день — по расписанию, вывешенному в коридоре.
На кухне постоянно сушились пеленки. Они во множестве свисали с натянутых веревок, и чтобы пробраться к плите, надо было согнуться в три погибели. Четыре конфорки не выключались целыми днями, чтоб ускорить сушку, но все равно пеленки оставались чуть влажными.
Происходившие наверху изменения не замедлили сказаться на городском фольклоре. Трудно оценить достоверность ходивших по Москве рассказов, но, как и всякие городские байки, они развлекали людей. Одна из первых услышанных мною историй повествовала о генерале госбезопасности:
«У моего двоюродного брата на работе одна женщина замужем за генералом МГБ. Она рассказывала, что как-то ночью проснулась от крика. Ее муж, весь в холодном поту, кричал во сне: „Простите меня, Дмитрий Иванович!“ Она стала его трясти, разбудила и спрашивает, кто такой Дмитрий Иванович. Но генерал ничего не ответил. С тех пор каждую ночь генерал метался во сне и кричал, так что даже стал бояться ложиться спать. Через несколько недель он начал уже наяву разговаривать с невидимым Дмитрием Ивановичем. В конце концов его поместили в психушку. Жена у всех спрашивала, кто такой Дмитрий Иванович. Оказалось, это тот человек, которого в тридцать седьмом году генерал расстрелял из собственного револьвера».
В период с 1953-го по 1956 год были освобождены десятки тысяч политических заключенных. Первыми стали выходить старые большевики, которых знали в ЦК и правительстве. После ареста их сбросили со счетов, и вот теперь они здесь, на улицах, как ходячие мертвецы. По их поводу московские шутники сочиняли сказки о предательстве и покаянии. Тысячи людей утверждали, что их друг или дальний родственник своими глазами наблюдал поистине замечательную сцену: освобожденный политзаключенный сталкивается на улице со следователем, который пятнадцать лет назад засадил его в тюрьму. Следователь останавливается как вкопанный, будто видит привидение Дмитрия Ивановича. Потом падает на колени и умоляет: «Прости, что отправил тебя в тюрьму ни за что. Прости меня, друг, прости».
Странное было время. Политзэки могли посылать письма в Кремль. Одному старому большевику, Алексею Снегову, удалось передать письма членам Политбюро Хрущеву и Микояну. В результате его вызвали в качестве свидетеля на закрытый процесс по делу Берии.
— Ты еще жив! — воскликнул Берия.
— Не досмотрела твоя машина, — парировал Снегов.
После процесса Хрущев хотел найти Снегова, но ему сказали, что старый большевик снова отправлен в лагерь на Колыму. Хрущев велел его освободить, восстановил в партии и сделал вторым человеком в Комиссии по освобождению осужденных по политическим статьям.
Эта история широко циркулировала по Москве, и я решила, что она из той же серии, что и рассказы про мучившегося бессонницей генерала и кающегося следователя. Но оказалось, что все произошедшее со Снеговым — чистая правда. От анекдотов до реальной жизни не так уж и далеко.
В 1956 году Хрущев создал более девяноста комиссий для наблюдения за освобождением политических заключенных. В каждую комиссию входил представитель прокуратуры, представитель ЦК партии и один из реабилитированных членов партии. Сотрудников органов госбезопасности в них не было.
Вернувшись на волю, политзэки продолжали говорить на языке лагерников и петь тюремные песни. Не расставались и с приобретенными в зоне привычками, например, после еды сметали со стола крошки хлеба и отправляли их в рот.
В подвальном этаже Ленинской библиотеки, в курительной комнате, всегда крутился народ. В любое время там можно было застать человек десять — двенадцать, главным образом мужчин. Стены там были какого-то особенно ядовитого желтого цвета, потолок почернел от дыма, а пепельницы всегда переполнены.
Со временем я стала узнавать некоторых завсегдатаев в лицо, а кое-кого знала по именам. В основном там собирались аспиранты, научные работники, журналисты — те, у кого ненормированный рабочий день и кто может позволить себе потратить время на разговоры. Однако формальных представлений там избегали.
По средам, когда выходила «Литературная газета», народу собиралось больше, иногда делились на две — три группы — каждая в своем углу. Раз в месяц выходил «Новый мир», и народу собиралось еще больше. В каждом номере появлялись смелые публикации, и было что обсудить. Обычно я заглядывала в курилку на часок, два — три раза в неделю.
В октябре 1953 года в «Знамени» напечатали эссе Ильи Эренбурга «О работе писателя». Эренбург, считавшийся одним из фаворитов Сталина, знал толк в метафорических высказываниях. Рассуждая о развитии общества, он отмечал, что бывают периоды творческого подъема, которые можно сравнить с полднем, когда солнце в зените… Сейчас же советское общество переживает часы раннего утра. Другими словами, ночь кончилась со смертью Сталина, и восходит солнце…
Завсегдатаи курительной комнаты осторожно соглашались.
В декабре 1953-го «Новый мир» напечатал статью с невинным названием «Об искренности в литературе». Ее автор, малоизвестный писатель Владимир Померанцев, обвинял литературный истеблишмент в «лакировке действительности», в поощрении надуманных, шаблонных произведений, рисующих всеобщее благоденствие. Я была согласна с каждым пунктом статьи, как и все присутствовавшие.
— Ленин тоже предупреждал о бюрократизации литературы, — заметила я.
Мне хотелось больше узнать о Померанцеве, и я стала расспрашивать курильщиков. Мне рассказали, что он средних лет, с больным сердцем, живет в Москве, а раньше работал в Сибири.
На писательских собраниях и в прессе Померанцева подвергли суровой критике.
«Он ставит искренность выше преданности партии», — возмущался поэт Алексей Сурков.
Курильщики с этим соглашались, но с невысказанной оговоркой, что превыше всего — честность. Раздавались и другие голоса: «Вы говорите о самовыражении, а подразумеваете анархию» или «Любое отклонение от партийной дисциплины служит контрреволюции» и тому подобное.
«Конечно, любая точка зрения имеет право на существование» — таков был ответ из нашего угла. Сталинистские воззрения имели право на существование, но не более того. Они уже не были истиной в последней инстанции. Теперь они опустились в категорию явлений, которые можно терпеть при наличии чего-то более гуманного.
В 1954 году внимание курильщиков привлекла «Оттепель», новая повесть Эренбурга. Менее года назад он определил сталинскую эпоху как темную ночь советской литературы; теперь, развивая метафору, сравнивал послесталинский период с оттепелью.
Курильщики из Ленинской библиотеки сошлись во мнении, что оттепель это еще не весна. Весна необратима, за ней следует лето с той же непреложностью, с какой ночь сменяется днем. А оттепель — это что-то эфемерное, ненадежное. В любой момент может ударить мороз.
Я прочла «Оттепель», правда, без особого удовольствия — из-за нарочитого ее символизма. Прочла и забыла. В то время не пришло в голову, что эта повесть даст название важному периоду нашей жизни.
Дядя Боря отнесся к моей идее прочитать Ленина от корки до корки без особого интереса.
— Это все теории, а жизнь намного проще, — сказал он.
Но я продолжала читать, старательно следуя за каждой мыслью. От моих подчеркиваний и пометок на полях чуть ли не все страницы выглядели как поле боя.
Ленин не писал для потомков. Он сочинял партийные документы, руководящие указания членам партии и многословные обвинения в адрес оппонентов, при этом всегда стремился убедить всех в своей исключительной правоте. Меня больше всего интересовали аграрная политика большевиков и «национальный вопрос» — проблемы управления многонациональной империей.
Когда дело доходило до крестьянства, казалось, что Ленин исполняет какой-то затяжной пируэт. Сначала он говорил, что крестьяне — мелкие собственники. Они должны объединяться в кооперативы, которые будут обрабатывать национализированную землю. Затем, накануне революции, позаимствовал положения программы эсеров, которые призывали отдать всю землю крестьянам. Это означало отказ от идеи коллективизации. Отсюда его главный лозунг: «Мир — народам, земля — крестьянам, власть — Советам!»
Между тем на партийных съездах Ленин не скрывал своего решения заменить первоначальную аграрную программу большевиков соответствующими положениями из программы эсеров с целью привлечь крестьян на сторону большевиков. В стране, где большую часть населения составляет крестьянство, без его поддержки власть не удержать. Ленин изменил курс, но не расстался со своим убеждением, что социализм возможен только при условии, что крестьян заставят отказаться от частных хозяйств. Своим соратникам он разъяснял, что вернется к прежней аграрной программе, как только это станет политически возможно.
Как марксист Ленин действовал под лозунгом «Пролетарии всех стран, соединяйтесь!». Для него пролетариат не имел ни этнических особенностей, ни национальной принадлежности. Когда пролетарии объединятся, последует мировая революция, после чего национальные границы станут ненужными и исчезнут. Еще Ленин полагал, что наша страна, как первый бастион мировой революции, должна оставаться в прежних границах Российской империи. Отделение любой территории было бы равнозначно разрушению этого бастиона, а этого допустить нельзя.
Между 1917 и 1918 годами Польша, Финляндия, Литва, Латвия, Эстония, Украина, Армения, Грузия, Азербайджан объявили независимость, и Ленин видел свою задачу в том, чтобы их вернуть. В 1922 году большинство этих территорий объединились в федерацию, названную Союз Советских Социалистических Республик. Каждой республике было обещано самоуправление внутренними делами и право на отделение. К тому времени, когда я начала читать Ленина, только одна Финляндия сохранила независимость. Конституционные гарантии остались сами по себе, а на деле ни одна из республик не имела шанса отделиться или хотя бы самостоятельно решать свои внутренние вопросы.
Из сочинений выявлялась и личность самого Ленина. Можно было почувствовать, что он действительно думал о людях, о человечестве. Я ощущала его напор, стратегию и цели. Игрок, который мыслил в терминах «классовой борьбы», «исторических формаций» и других марксистских абстракций. Мир, который ему рисовался, был упорядоченным, но бесплодным — живым людям в нем места не находилось.
Ни намека на реальную озабоченность судьбами солдат, рабочих и крестьян, но и ни тени сомнения — он был убежден, что знает точно, чту нужно делать в данный момент, и готов был злобно наброситься даже на тех, кто не соглашался с ним только в незначительных деталях. Лишенный сомнений, не обремененный сочувствием, он шел напролом — в светлое будущее, каким оно ему представлялось.
Я не могла отделаться от сомнений в правильности начертанного Лениным пути к коммунизму. Страну, которую он создал, нельзя назвать счастливым местом. По крайней мере вокруг меня не видно счастливых людей. Даже те, кто оказались на вершине пирамиды и едят икру ложками, не выглядят счастливыми. Они — наши хозяева, но в то же время и чьи-то слуги. А те, кто исключил из университета Стеллу Дворкис и отправил меня преподавать в ремесленное училище, разве они счастливы? Некоторые внешне кажутся довольными, но стоит им выпить, начнут рассказывать, какие они подонки и как хорошо это понимают. Пока я добралась в чтении трудов Ленина до 1917 года, я поняла, что потеряла к нему всякое уважение.
— Ты прав, — сказала я дяде Боре. — Это шайка паханов. Паханы нового типа, но паханы.
— Поговорим, — предложил Коля Демидов, когда мы вышли из Московского экономико-статистического института после партийного собрания.
Была весна 1956 года, и я знала Демидова уже третий год. Мне он казался каким-то скоплением стереотипов: низкого роста, коренастый фронтовик, много пьющий, успеваемость ниже средней.
— Для тебя, наверное, явилось откровением то, что ты услышала сейчас на собрании, — произнес он, когда мы подходили к скамейке в парке. — А для меня нет.
То, что мы только что слушали, было четырехчасовым докладом на Двадцатом съезде партии, в котором Хрущев обвинял Сталина в поощрении культа личности, нарушении партийной демократии и неправомерном преследовании множества коммунистов. Доклад зачитывали по всей стране на заседаниях партийного актива, потом на партийных собраниях, и в конце концов он просочился в комсомол и профсоюзы.
Человек, управлявший страной почти тридцать лет, оказался преступником. Нельзя сказать, что это откровение меня потрясло. Оно просто подтвердило мои взгляды, формировавшиеся уже с 1953 года. Но мне было удивительно слышать подобные признания от руководителя Коммунистической партии. После дела Берии я знала, что Сталин бандит, окруживший себя бандитами помельче, и вместе они разрушают страну и нашу жизнь. Это главное, остальное — детали.
— Знаешь, что я делал в прежней жизни? — спросил Демидов, когда мы уселись на скамейку. — Я был прокурором. По уголовным делам.
Демидову хотелось исповедаться.
— Моей работой было отправлять людей в тюрьму. Люди все появлялись и появлялись, а я все отправлял и отправлял. Мне было их жаль, и я начал пить. Я ничего не мог для них сделать. Я обязан был требовать полные сроки, как положено по закону. Я ведь прокурор, назначенный партией. Жестокость это, бессмысленная жестокость.
Пока лилась исповедь, мы оказались за столиком в кафе, взяли водки. Я пригубила и отставила рюмку. Демидов продолжал пить и рассказывать. Он прошел войну, поступил на юридический факультет как фронтовик. Закончил с трудом. Как молодой специалист должен был отработать по распределению три года, но и после этого его не отпустили. Партийная организация приказала остаться. Еще пять лет, как прокурор, он требовал максимальные сроки и все больше пил.
Единственным выходом могла стать аспирантура. Он начал готовиться к вступительным экзаменам. По вечерам, после работы, штудировал историю, философию, иностранные языки. Поступил с третьей попытки, но сейчас не был уверен, что напишет диссертацию.
— Это не для моих мозгов, — жаловался он.
Пришла моя очередь исповедаться. Я рассказала, что думаю о Коммунистической партии и ее истории. Мы сидели в какой-то пельменной, два чужих человека, и откровенно разговаривали друг с другом. Еще несколько недель назад это было просто немыслимо. Теперь же подобные беседы стали не только возможны, но и необходимы.
По правилам аспирантуры я должна была провести четыре семинара по истории партии со студентами. Им недавно сообщили, что товарищ Сталин — не такой уж и великий вождь. Хотя я была не намного старше, во мне они видели представителя партии, и потому засыпали меня вопросами.
— Как вы могли нас обманывать? — кричали студенты. — Почему вы нас так долго обманывали?
Официальная установка предписывала осуждать лично Сталина, подчеркивая, что партия ни в чем не виновата. Культ личности Сталина — это отклонение от ленинских норм партийной жизни, сами же нормы — правильные. Несмотря на ошибки Сталина, советский народ построил социализм и продолжает вести человечество к коммунизму по пути, начертанному Лениным.
Такое объяснение оставляло желать лучшего, и я придержала его при себе. Как же мне хотелось сказать молодым людям, что я разделяю их негодование, объяснить, что по сути Сталин продолжал дело Ленина! Но все четыре семинара я молча выслушивала упреки — этого требовала отведенная мне роль — и чувствовала себя так, как будто меня публично высекли на площади.
После занятий я заявила мужу, что не буду заканчивать диссертацию и не стану преподавателем истории партии, как предлагали мне в институте.
— Если с тобой что-нибудь случится и мне надо будет одной кормить детей, я лучше пойду на панель. Это будет честнее.
Глава 4
В современном русском языке выбор слов для обращения к женщине весьма ограничен. Товарищ — бесполо, гражданка — безлично, девушка — это уже вторжение в тайны личной жизни. Один официант в ресторане «Прага» называл нас «девочки», и мы всегда старались сесть за его столик.
Лиду Фурсову я знала еще с младших курсов, но тогда мы почти не общались, а подружились уже после окончания университета. С Гелей Маркизовой Лида дружила давно. Теперь мы стали встречаться втроем. «Прага» открылась во время недолгого правления Маленкова, когда партия решила развивать сектор услуг населению. Расположенная в начале Арбата, в десяти минутах ходьбы от Ленинской библиотеки, она стала нашим любимым местом. Мы частенько заходили сюда днем. Заказывали салат, кофе с тортом и часа два разговаривали о своих делах и поклонниках, не забывая в то же время флиртовать с официантом.
— Мы уже дипломы получили, а он разговаривает с нами, как с десятиклассницами, — заметила Геля, усаживаясь за столик.
Забавно было наблюдать, с каким нескрываемым интересом посматривают посетители на изящную темноглазую Гелю. Она была из тех красавиц, чье присутствие в ресторане заставляет и мужчин и женщин нечаянно ронять вилки.
После легкого обеда я шла в Ленинскую библиотеку и около часа проводила за разговорами в курительной комнате, затем поднималась в читальный зал штудировать мало известный журнал «Былое». Он издавался с перерывами до середины двадцатых годов Обществом политкаторжан, в тридцатых исчез с полок, а после Двадцатого съезда снова появился. Я листала пожелтевшие страницы, вникая в воспоминания и диспуты российских революционеров добольшевистского периода.
В семидесятых годах девятнадцатого века, в разгар движения народничества, тысячи студентов из Москвы и Санкт-Петербурга отправились в деревни, к крестьянам. Они стремились просветить народ и, в частности, объяснить, что реформа 1861 года формально освободила крестьян от крепостничества, но так и не дала им земли. Поэтому, убеждали народники, крестьяне должны требовать более существенных изменений. Народ эти призывы не воспринял, а студентов царская полиция арестовала.
Потеряв надежду помочь народу мирными средствами, часть из этих бывших студентов обратилась к терроризму. В 1879 году возникла группа «Народная воля», которая ставила целью свержение самодержавия путем физического уничтожения царей, губернаторов, министров — всей правящей верхушки. Волна террора должна была катиться, пока не останется ни одного человека в здравом уме, который согласился бы взойти на престол, принять пост губернатора или взять на себя руководство министерством. Террор, по замыслу народовольцев, не оставит иного выбора властям, кроме как провести аграрную реформу и принять республиканскую форму правления.
Судя по документам, народовольцы были людьми образованными, и с их критикой самодержавия нельзя было не согласиться. Читая «Былое» и иногда останавливая взгляд на мозаичном портрете В. И. Ленина, украшавшем читальный зал, я размышляла о характере борьбы между государством и обществом, охватившей Россию после восстания декабристов.
Однажды весной 1956 года Лида спросила, знаю ли я, кто такая Геля. Я не поняла вопроса.
— Помнишь девочку в матроске? — спросила она.
Ну кто же не помнит девочку в матроске! Хорошенькую темноволосую девочку, которую товарищ Сталин держит на руках вместе с букетом цветов, — этот портрет висел во всех школах, детских садах, дворцах пионеров, детских домах и больницах. Скульптурный вариант композиции был установлен на станции метро «Сталинская», в строительстве которой я участвовала как доброволец. Девочка в матроске стала официальным символом счастливого детства на земле победившего социализма.
— Эта девочка — Геля, — сказала Лида.
Снимок был сделан 27 января 1936 года, на приеме в честь рабочих Бурят-Монгольской автономной советской социалистической республики. Прием организовали в Кремле руководители партии и правительства, они раздавали ордена и премии — часы и патефоны. Среди гостей был отец Гели, Ардан Ангадыкович Маркизов, нарком сельского хозяйства Бурят-Монгольской АССР. В тот день его наградили орденом Трудового Красного Знамени.
Отец договорился, что Геля в нужный момент преподнесет цветы товарищу Сталину и маршалу Ворошилову. Шестилетней девочке вскоре наскучило слушать речи, она встала и, объявив, что должна отдать цветы Сталину, направилась к сцене. Там ее остановил секретарь ЦК партии товарищ Андреев.
— Ты к кому, девочка? — спросил он.
Девочка повторила, что ей нужно вручить цветы товарищу Сталину.
— К тебе пришли, — сказал Андреев, поворачиваясь к Сталину.
Сталин поднял Гелю на сцену и взял оба букета.
— Девочка хочет сказать речь, — объявил Ворошилов.
— Это от детей Бурят-Монгольской республики, — звонким голоском сообщила Геля.
Передовики Бурят-Монгольской республики разразились аплодисментами. Геля гордо сидела на сцене. Услышав слово «подарок», она громко спросила: «А мне будет подарок?» — что заставило всех притихнуть.
К концу вечера Геле вручили маленькую красную коробочку.
— Дай-ка, — сказал Сталин, взял коробочку и открыл ее.
Внутри были часы. Сталин поинтересовался, нравятся ли они Геле. Часы Геле нравились.
— Ну, а патефон ты не донесешь, — произнес Сталин.
— Я позову папу, — нашлась Геля.
Тем вечером ее отец уже получил в подарок один патефон. Теперь ему предстояло подняться на сцену за другим.
Наутро все газеты поместили фотографию товарища Сталина с огромным букетом и улыбающейся девочкой в матроске. Весь день Геля ходила по гостинице с газетой в руках и, показывая ее каждому встречному, повторяла: «Смотрите, это я».
В декабре 1937-го отца Гели арестовали, обвинив в сотрудничестве с японцами и участии в заговоре с целью убийства Сталина. Семье сказали, что он осужден «на десять лет без права переписки». Геля написала письмо Сталину и приложила фотографии с памятного приема. В письме говорилось, что ее отец — пламенный большевик, преданный партии и лично товарищу Сталину, он воевал в Гражданскую войну и помогал организовать Бурят-Монгольскую республику. Были и другие подтверждения его идеологической верности: полное имя Гели — Энгельсина, от Энгельса, а ее брата назвали Владилен — сокращение от Владимир Ильич Ленин.
Сталин не ответил. Вскоре арестовали мать Гели. Через два года, когда ее освободили, она забрала детей и переехала в Казахстан. Однажды ее нашли мертвой в больнице, где она работала. Ей было тридцать два года. В 1956-м Геля узнала, что формулировка «десять лет без права переписки» означала немедленный расстрел.
Несколько лет спустя Геля показала мне часики и патефон. На обоих подарках была надпись: «Геле Маркизовой от вождя партии И. В. Сталина. 27.I.36».
— Когда-нибудь я расскажу всю историю, — пообещала она.
Я напомнила ей об этом обещании в 1976 году, когда готовился выпуск самиздатского журнала «Память», но она отказалась:
— Еще не время.
В июле 1988-го, в интервью корреспонденту газеты «Труд», Геля говорила: «Я рада, что скоро появится памятник жертвам сталинского террора. Он не поможет погибшим, но будет помогать живым». Интервью вышло с фотографией, на которой Геля, ставшая уже бабушкой и пенсионеркой, держит снимок товарища Сталина с девочкой в матроске на руках.
Как-то раз в 1956 году я встретила Наташу Садомскую. Мы вместе учились, но близко знакомы не были. Тем не менее за несколько минут она поведала мне, что ее брак с нашим однокурсником Моисеем Тульчинским не удался, мама умерла, она работает учителем в школе, но мечтает поступить в аспирантуру. Я в свою очередь рассказала, что мне надоела аспирантура, я решила не защищаться и бросила писать диссертацию о союзе рабочего класса и крестьянства, а что касается коммунизма, то пусть его строят без меня. Наташа предложила встречаться у нее дома. У нее была комната в коммуналке, где можно устраивать вечеринки, но на это нет денег. У меня их было побольше, но я жила в одной комнате с мужем и двумя детьми. Наташина комната была местом сбора компании более или менее постоянного круга знакомых, которые, как и мы, искали возможности послушать музыку, потанцевать, немного выпить и проговорить до рассвета. Почти каждый был вхож и в другие компании, и между компаниями шел постоянный обмен.
Обычно я заканчивала работу в библиотеке в шесть часов, по дороге домой покупала продукты, простояв в очередях не меньше часа, потом готовила ужин, кормила семью, мыла посуду и, покончив с домашними делами, около десяти выбегала из дома и ехала на метро в любой конец Москвы, где в одной из компаний намечалась очередная встреча с интересными людьми.
В середине пятидесятых компании возникали мгновенно, какое-то время бурлили, потом распадались. Ни до, ни после ничего подобного в России не наблюдалось. Компании появились в определенный период как социальный институт, востребованный обществом. У нашего поколения была психологическая, духовная, а возможно и физиологическая потребность открыть свою страну, свою историю и самих себя. В то время это можно было сделать только одним способом — посредством живого общения.
Компании развивали свои собственные формы литературы, журналистики, музыки, юмора. Они выполняли множество функций, часто заменяя людям несуществующие, недоступные или по разным причинам неприемлемые учреждения — издательства, лектории, выставки, доски объявлений, исповедальни, концертные залы, библиотеки, музеи, юридические консультации, кружки вязания, кройки и шитья, торговые палатки, бары, клубы, рестораны, кафе, службы знакомств, а также семинары по литературе, истории, философии, лингвистике, экономике, генетике, физике, музыке и изобразительному искусству.
Почти каждый вечер я оказывалась в каком-то доме, проходила по темному коридору коммунальной квартиры и открывала дверь в прокуренную комнату, переполненную людьми — с некоторыми я была знакома, других никогда раньше не видела, а кого-то встречала, но не знала по именам. Здесь старые политзэки что-то выкрикивали молодым филологам, физики среднего возраста сцеплялись в жарких спорах с юными поэтами, а какие-то незнакомые пары проделывали замысловатые танцевальные па под звуки исцарапанной пластинки Гленна Миллера.
В те дни московская интеллектуальная элита широко пользовалась лагерным жаргоном, называя, к примеру, милиционеров — «мусор», и распевала блатные песни: «Таганка», «Будь проклята ты, Колыма», «По тундре, по железной дороге…».
Неважно, в какую из компаний меня пригласили, по какому коридору надо было пройти и какую дверь отворить, — везде я встречала близких мне по духу людей. Они читали Пушкина и Ахматову, не любили Павлика Морозова, игнорировали партийных активистов и считали себя аутсайдерами. Выросшие с ощущением, что они какие-то не такие и не вписываются в «здоровый коллектив», теперь они обнаружили, что они не одни — многие люди похожи на них, а отклонения-то на самом деле были у товарищей Ленина, Сталина, Берии и иже с ними — у тех, кто загонял всех и каждого в коллектив, как в стадо. В коллективе воля одного подчинялась воле группы. В компаниях ничего подобного не было — там собирались люди, которые нравились друг другу и которым хотелось общаться.
В компаниях выпивали, но умеренно — двух поллитровых бутылок обычно хватало на всех собравшихся, чтобы поддерживать разговоры от заката до рассвета.
— Не думаю, что мы когда-нибудь сопьемся, — сказала как-то Наташа. — Скорее, мы стреплемся.
Валентин никогда не ходил в компании. Они его не интересовали. У него всегда было много работы, и слушать чужие разговоры казалось ему пустой тратой времени. Теперь, когда у нас было уже двое детей, у Валентина появился более убедительный аргумент против развода.
— Давай, уходи, но тогда нам придется поделить детей. — говорил он. — Ты оставишь себе Сережу, а я заберу Мишу. Так должно быть по закону.
Несмотря на пятилетнюю разницу в возрасте, Миша и Сергей были очень близки. Может, они чувствовали отчужденность между родителями и больше нуждались друг в друге, в своей отдельной маленькой семье. Я не могла поверить, что закон разрешает подобное разделение детей, но и не верить Валентину не было оснований.
— Но их нельзя разлучать, — настаивала я.
— Прекрасно, я оставлю себе обоих.
Валентину не нравилось, когда я уходила в компании, но что он мог поделать — ведь я уже сказала, что собираюсь оставить его насовсем, так что не было смысла спорить, уходить или не уходить сегодня вечером. В те редкие дни, когда я приглашала гостей к нам, Валентин был сдержан, но вежлив. Мальчики тоже хорошо себя вели. В половине десятого я напоминала: «Ребята, спать», — и они безропотно уходили в свой закуток, отгороженный шкафом в углу восемнадцатиметровой комнаты. Дети должны привыкать засыпать под музыку и громкие голоса — иначе им просто не выжить.
Друзья, конечно, знали о предстоящем разводе, и некоторые не отказывали себе в удовольствии меня предостеречь.
— Ты знаешь, девять из десяти женщин ухватились бы за него руками и ногами! — восклицала Лида.
— Ну что поделаешь, если я десятая?
— Но это же ненормально. Заведи любовника. Ему придется с этим смириться. Он будет делать вид, что ничего не замечает.
Наташа Садомская решила, что разговоры о разводе — всего лишь разговоры:
— Перестань, надоело уже твое нытье. Ты ведь привыкла с ним жить. Тебе удобно с ним и с его зарплатой.
В ее словах был подтекст: если я буду слишком долго тянуть, то никогда не решусь на развод.
Один из завсегдатаев курительной комнаты, которого я знала как «физика», рассказал, что четверых его коллег уволили из Института теоретической и экспериментальной физики Академии наук. На закрытом партийном собрании, где обсуждался доклад Хрущева, они высказали то, что думали, что наболело: необходимо выработать гарантии для предотвращения нового культа личности, а для этого нужна гласность, нужна демократизация общества, не сталинский, а демократический социализм. Собрание аплодировало речам. Однако высказанные идеи выходили за пределы решений Двадцатого съезда, который осуждал Сталина, но не политику партии, и ни к какой демократизации не призывал.
В «Правде» от 5 апреля 1956 года появилась большая статья, посвященная чистоте коммунистической идеологии. Упоминалось в ней и о четырех членах партии из академического института, которые «поют с голоса меньшевиков и эсеров». Неясно, что в действительности скрывалось под этим сравнением, но звучало оно по-ждановски зловеще. Четверых ораторов исключили из партии и уволили с работы — «отщепенцы понесли наказание». У остальных отобрали партбилеты. Возвращали их только тем, кто письменно осудил антипартийные речи. Таких оказалось подавляющее большинство.
— Плохо, что их уволили, — сказал физик в курительной комнате. — Один из них, Юрий Орлов, очень перспективный ученый.
Имя запало мне в память. Оказавшись безработными, Орлов и его товарищи жили на пожертвования, собираемые коллегами из нескольких институтов Москвы, Ленинграда и Новосибирска. В их числе был и физик из Ленинской библиотеки. Еще несколько лет назад от политически неблагонадежных отказывались друзья и даже члены семьи — мало у кого хватало мужества помогать «врагам народа».
Через цепочку друзей мы с Наташей познакомились с компанией бывших политзэков, называвших себя «нищими сибаритами». До ареста все они были студентами. Встретившись в 1943-м и присмотревшись друг к другу, они без страха и сомнений сплотились в необычайно большую по тем временам группу из восьми человек.
Все происходили из семей, что называется, советской элиты. Леопольд Медведский был сыном генерала, заслужившего свое высокое звание на войне. Отец Юры Гастева, рабочий и поэт, примкнул к большевикам до революции, был в эмиграции, вернувшись в двадцатых годах, стал организатором и директором Центрального института труда. В период массовых чисток был объявлен «врагом народа» и расстрелян. Брат Юрия Алексей получил десять лет лагерей как сын врага народа, а их мать отбыла срок в ссылке как жена врага народа. Саша Волынский тоже был сыном видного большевика, его отцу посчастливилось умереть до того, как начался великий террор. Слава Грабарь — сын известного художника и искусствоведа Игоря Грабаря. Юра Цизин, Лева Малкин и Марик Шнейдер — из интеллигентных семей. Цизин был звездой химфака, а Малкин — вундеркиндом в математике.
Прадедушка Коли Вильямса Роберт Вильямс — американский инженер — строил мосты на первой в России железной дороге между Москвой и Санкт-Петербургом, а дедушка Василий Робертович Вильямс стал выдающимся ученым-почвоведом. В 1893 году он возглавлял российскую экспозицию на Всемирной выставке в Чикаго, а после революции приветствовал приход к власти большевиков. Коля рос в просторном двухэтажном доме близ Сельскохозяйственной академии, который после смерти деда-академика был подарен наследникам (на дарственной стояла подпись «И. Сталин»). Он говорил по-французски со своей бонной, привык с детства прямо сидеть за столом и пользоваться двумя серебряными вилками и двумя серебряными ножами. Даже когда у Вильямсов к обеду подавалась одна гречневая каша, стол сервировали по всем правилам.
Вскоре друзья стали неразлучны. Собирались обычно в квартире Славы Грабаря, неподалеку от университета. У каждого была прекрасная библиотека, так что всем им было доступно множество книг, в том числе изданных до революции или вскоре после нее. Медведский и Волынский были знатоками классической музыки. Грабарь серьезно изучал творчество «реакционного писателя и монархиста» Ф. М Достоевского. Вильямс и Гастев писали хорошие стихи. Малкин тоже писал, но плохие. Шнейдер отличался неумеренным интересом к женщинам и способностью попадать в неприятности с милицией. Цизин, слишком сосредоточенный на тайнах химии, чтобы вникать в мировые проблемы, обычно молча слушал.
Были у них и другие таланты. Медведский изобрел взрывчатое вещество и назвал его в честь изобретателя «ведьмедит». Потом изобрел более мощный «распиздит». Ненормативное название новой взрывчатки подразумевало полное разрушение цели. «Ведьмедит» опробовали на почтовых ящиках, а «распиздит» заложили внутрь гипсового бюста товарища Сталина. Небольшого количества хватило, чтобы превратить его в пыль. Если б следователи это раскопали, ребятам не миновать бы расстрела.
Эти действия, в сущности, не преследовали политических целей. Но вот на одной из вечеринок, 7 апреля 1945 года, ребята допустили серьезный просчет. Они придумали название группы — «Братство нищих сибаритов»{2} — и сочинили устав, в котором оговаривалось, что в Братство принимается лишь тот, кто может изобрести для его членов бесплатное развлечение. На эту встречу не смог прийти Грабарь, не было также Волынского и Шнейдера — они служили в армии. Всех остальных, пять человек, летом арестовали. Сидя в тюрьме на Лубянке, нищие сибариты с помощью перестукивания проголосовали за предоставление статуса почетных членов Грабарю, Волынскому и Шнейдеру. На закрытом заседании Московского городского суда 27 февраля 1946 года «Братство нищих сибаритов» было признано антисоветской организацией. Члены Братства получили от пяти до семи лет лагерей. Во время чтения приговора один из них воскликнул: «А Цизина за что? Он же просто химик».
Я познакомилась с нищими сибаритами в 1959-м. Прошло полтора десятка лет после принятия злополучного устава, но они по-прежнему оставались сообществом взаимного восхищения. И если вы встречали одного из них, то это означало, что вы услышите восторженные рассказы обо всех остальных.
Люди, попавшие в лагерь в юные годы, менялись только физически. Их характер, психология, душевный настрой сохранялись такими же, как были до ареста. И после лагеря они взрослели медленнее своих сверстников, избежавших этой участи, а многие так и оставались инфантильными до преклонных лет.
Когда мы встретились, нищим сибаритам было за тридцать, но вели они себя как мальчишки. Четверо испытывали какую-то упорную ностальгию по лагерям. Иногда казалось, что ни о чем другом они говорить не могут. Пятый, Цизин, впадал в другую крайность. Никогда, никому, даже собственному сыну, он не рассказывал, что был в лагере.
— Это было унизительно. Зачем говорить об унижениях? — объяснил он мне однажды.
Цизин и трое почетных сибаритов подхватили манеру речи, которой щеголяли остальные члены братства. Вильямс и Гастев выдвинули теорию, доказывающую, что словечко «бля» незаменимо для плавного потока русской речи. Оно отделилось от первоначального значения, и его можно вставлять в любое место предложения, например: «Я, бля, с бонной рос» или «Я, бля, с бонной, бля, рос» или «Я, бля, с бонной, бля, рос. Понял, бля?» и так далее. Иногда, слушая их, можно было подумать, что находишься в какой-нибудь захудалой пивнушке.
Сибариты любили читать наизусть сочиненную Вильямсом и Медведским антиутопию «ГНИИПИ» (сокращенное название воображаемого Государственного научно-исследовательского института половых извращений). Действие происходит в городе Гниипи, являющемся столицей государства Гниипи, расположенного на острове Гниипи, а сам остров представляет собой глубокую впуклость.
«Регулярно ровно в двенадцать часов ночи над Гниипи гремел набат. С городской колокольни падал вниз труп очередного сторожа, начинало иметь место социальное явление, называемое „гульба“.
Гульба состояла в том, что гнииповцы любого возраста и пола, ради выгоды или развлечения, резали друг друга ножами-финачами, рубили топорами, кололи колунами, кромсали бритвами, били кистенями, глушили тяжелыми мешками с песком и щебнем, пилили двуручными и лучковыми пилами, умерщвляли ударами массивной стальной пружины, спихивали в смрадные канализационные люки, душили руками и ногами, а также не брезговали любыми прочими методиками лишения жизни и нанесения увечий.
Тем не менее, невзирая на многообразие способов, на каждый находилась соответствующая статья гнииповского уголовного кодекса.
К пяти часам утра улицы до крыш заваливались трупами. Все стихало. Затем из лесов вокруг столицы дружно и урча выбегали собаки. К семи собаки поедали всю убоину и удалялись на отдых. Город начинал жить заново. И вновь наступала ночь. И вновь несся во всех направлениях по улицам победный клич: „Не уйдешь, гадина!“ И каждую ночь с сотворения мира Гниипи выгорал дотла».
Редкое застолье у сибаритов обходилось без того, чтобы один из них не зачитал поэму, написанную Гастевым в последний день памятного 1953 года:
Мы с Наташей были влюблены сразу во всех восьмерых сибаритов, и вскоре у нас образовалась компания, похожая на то братство, которое стоило сибаритам свободы. Излюбленный тост нашей компании очень походил на тост, предложенный Гастевым в одном из стихотворений: «Чтоб они сдохли!»
На Пасху мы собрались у Наташи, тогда я впервые увидела Малкина. Вошел высокий, прямой, чисто выбритый человек, внешне — вполне нового социалистического типа, как на рекламе «В сберкассе денег накопил — путевку на курорт купил». Его орлиный взгляд быстро окинул комнату и задержался на мне.
Малкин придвинул свой стул поближе к моему и начал пасхальную речь («Помню, раз сидим мы с Понтием Пилатом под безжалостным солнцем Иудеи. И вот приводят какого-то бродягу…»). Все это было мило, но меня интересовало другое. Малкину, единственному из сибаритов, продлили тюремный срок на четыре года. Мне хотелось знать почему.
— А, да я следователя задушил, — сказал Малкин, отламывая кусок хлеба.
— Что?
— Задушил следователя.
— То есть как?
— Насмерть.
Я уставилась на его руки. Вот этими руками, которыми он только что отламывал кусок хлеба, он схватил человека за горло и задушил. Следователи не вызывали у меня симпатий, но…
— Господи, вы еще хорошо отделались, четырьмя годами. Вас же могли расстрелять.
— Умница, — произнес Малкин, пытаясь погладить меня по голове. Я невольно отклонилась от руки убийцы.
— А он сопротивлялся?
— Да, но я оказался сильнее.
Позже вечером, когда после ухода гостей мы мыли посуду, я рассказала Наташе о деле Малкина. Она была поражена не меньше меня. Мы проговорили еще несколько часов о моральных аспектах: можно ли отнимать у человека жизнь, даже если этот человек — мелкая сошка в карательной машине? На следующий день мы сказали Гастеву, что знаем страшную тайну Малкина.
— Какую тайну? — удивился Гастев.
— Что он задушил следователя.
— Если он говорит, наверное, так и есть.
Мы решили, что даже Гастев об этом не знал. В считаные дни история о том, как элегантный Малкин душил следователя, распространилась среди друзей. Слава Левки росла, и это беспокоило остальных сибаритов. Они поручили Гастеву притормозить процесс.
— Девочки, я должен вам кое-что объяснить, — начал Гастев. — Вы знаете, Левка Малкин — замечательный парень.
Мы с Наташей согласно кивнули.
— Он блестящий математик, просто вундеркинд. Когда нас арестовали, ему не было и восемнадцати, но знали б вы, как он вел себя на допросах. Это художественная натура, совершенно особенный человек. Таким Господь Бог улыбается, — продолжал Гастев.
— А какой он мужественный! — подхватила Наташа.
— Конечно. Но, знаете, как бы это выразиться, иногда у творческих личностей… Ну, в общем, Левка… — Гастев сделал глубокий вдох. — Левка — натура артистическая. Он, как актер, иногда представляет себя в какой-нибудь роли и так перевоплощается, что уже не осознает, что на самом деле он не тот, кого изображает.
— Точно, — подтвердила я. — Мне до сих пор трудно представить, как он душит следователя.
— Видишь ли, Людочка, эта история… эта история о следователе… История, которую он рассказывал на прошлой неделе…
— Что «эта история»?
— Эта история…
— Ну что ты пытаешься сказать?
— Эта история, это-о-о… одна из его фантазий. Но вы должны понимать, что…
— Подожди, ты хочешь сказать, что этого не было, что все это ложь?!
— Но, девочки, я же говорю, Левка совершенно особенный, он — артистическая натура…
Я выбежала, схватила такси и, кипя от гнева, в слезах ворвалась к Малкину.
— Ой, Людочка, проходи, проходи. — Малкин стоял на пороге в трусах и расстегнутой рубашке.
— Извини, что я в таком виде, — пробубнил он, возвращаясь к гладильной доске.
У него собиралась компания, и единственные брюки нуждались в глажке.
— Как ты мог? Юра только что сказал нам, что все неправда про следователя. Это ложь!
— Что «это»?
— Он сказал, что этого не было, что ты не задушил следователя.
— Ну да, на самом деле не было.
Мой гнев испарился.
— Левка, это нечестно. Я весь вечер об этом думала. Ты взял кусок хлеба, а я сидела и думала: «Вот этими руками, которыми он берет хлеб, этими самыми руками он душил следователя». Потом ты погладил меня по голове, сказав «умница», а я продолжала думать: «Этими руками, этими самыми руками он лишил человека жизни!». Пожалуйста, никогда больше никому так не ври.
Примерно через год я встретила свою подругу Ирину. Она поведала, что недавно видела Малкина. Наши мнения о нем совпадали: и внешность привлекательная, математик блестящий, артистическая натура и вообще — гений.
— А ты знаешь, он задушил следователя, — сообщила Ирина.
— Не верь ему, Ирка. Я уже попадалась на эту удочку.
— Но как же…
— Это неправда.
— Не может быть.
— Увы, это так.
— Но… но ты знаешь, как он об этом рассказывал? Он говорил: «Вот этими руками — этими руками, которыми я беру хлеб, этими руками, которыми я глажу тебя по голове, — этими самыми руками я задушил следователя».
Мы устраивали вечеринку. К столу пододвинули диван, на котором могли поместиться четыре человека. По другую сторону стола соорудили скамейку, положив широкую доску на два стула; здесь тоже могли сесть четверо. Еще для двоих гостей придвинули по креслу к торцам стола.
Когда все расселись, Лена — преподаватель Московского университета — начала рассказывать о бойкоте студентами университетской столовой. Краем уха я слышала, что несколько лет назад, весной 1956-го, в МГУ был какой-то бойкот, но подробностей не знала.
Если есть учреждение, безусловно заслуживающее бойкота, то это студенческая столовая МГУ. За послевоенные годы в ней ничего не изменилось к лучшему. Цены были низкие, но еда напоминала лагерную: вонючие коричневые супы, салаты с подгнившим картофелем, на десерт — компот из сухофруктов, совершенное пойло. Дежурным блюдом были пирожки с творогом — твердые, как гипс, за что и получили прозвище «пирожки с лябастром». Год питания в такой столовой — и обеспечен гастрит, колит или язва желудка. На все жалобы — ответ был один: «А что вы хотите за те копейки, которые платите?»
У преподавателей была своя столовая — чистая, с вполне приличной едой, но студентов туда не пускали. Хотя я и непривередлива в еде, но студенческую столовую обходила стороной, такой там стоял невыносимый запах капусты, варившейся в непромытых чанах. Обед мне заменяли принесенные из дома бутерброды. Но большинству студентов, живущих в общежитии, приходилось довольствоваться сомнительными щами и твердыми пирожками. В конце концов эти пирожки и привели к бойкоту: кто-то отколол себе зуб, и терпение лопнуло.
Акцию организовал специально созданный для этой цели комитет, в который вошли студенты-иностранцы и несколько наших. Первым делом удостоверились, что чудовищное качество еды никоим образом не связано с ценами. Низкие цены поддерживались за счет субсидии, которой было бы вполне достаточно для приготовления нормальной пищи. Столовая в новом здании университета на Ленинских горах получала точно такую же субсидию, а качество еды при тех же ценах было несравненно выше. Студенты отпечатали листовки с объявлением о бойкоте и выстроились в пикет перед входом в столовую. В этот день столовая пустовала, пока не пришли студенты-китайцы. Они протиснулись через шеренгу пикетчиков, держась вместе, дружным коллективом. Как они объясняли, пикетирование — это хороший метод борьбы с эксплуататорами-капиталистами, но именно поэтому в социалистическом государстве такой метод неприемлем.
Как только о пикете стало известно, к месту событий прибыли представители университетской администрации и ответственные товарищи из горкомов комсомола и партии. Демонстрантов разогнали, организаторов подвергли проработкам. (Советских студентов отчислили из университета, но потом многих восстановили.) Тем не менее в столовой провели ревизию и обнаружили множество нарушений. Столовую закрыли, сделали ремонт, а когда она вновь открылась, там полностью поменялся штат, и меню значительно улучшилось.
Случись подобная акция протеста тремя годами раньше, и все оказались бы в тюрьме: пикетчики — за создание антисоветской организации, а остальные — за то, что не донесли об этом куда надо.
В наших компаниях каждый был экспертом в своем деле.
Наташа Садомская — специалист по этнографии. В университете она изучала Кубу, а в аспирантуре Института этнографии — Испанию. Ей всегда было что рассказать из прочитанного в англо- и испаноязычных научных журналах. К тому же она общалась с живущими в Москве испанцами, которых детьми в конце Гражданской войны вывезли из Испании в СССР.
В моем ведении находились истинная эволюция ленинизма, сжатый обзор партийных съездов, Герцен и народовольцы.
Среди нас были музыканты, искусствоведы, архитекторы, кинематографисты, философы. Некоторые даже читали Николая Бердяева, а кое-кто мог легко разрешить спор о замысловатой строфе из поэмы, никогда официально не печатавшейся. Мы жадно поглощали информацию, чего бы она ни касалась. Именно в компании я впервые услышала о судьбе «детей с известными фамилиями» — сыновей и дочерей репрессированных комиссаров и генералов. Отсидев в специальных лагерях, они стали «спецпоселенцами»{3}, многие осели в Казахстане, трудились разнорабочими или мелкими служащими.
Для многих наших писателей и поэтов публикации и общественное признание не были целью. Так, живший в Харькове поэт Борис Чичибабин предпочел работать бухгалтером в трамвайном управлении, где он ничем не был обязан системе. Философ Женя Барышников работал грузчиком, бросив философский факультет МГУ после первого курса.
— То, чему они учат, меня не интересует, — таков был его вывод.
Марксизм наводил на него скуку. Зато теперь он мог вдоволь заниматься изучением русской философской мысли до 1917 года, что в университетской программе напрочь отсутствовало.
Наташин муж, Борис Шрагин, философ, был знатоком Гегеля, Маркса, английских и русских эстетиков. Он работал в Институте истории искусств. Но истинной страстью Бориса были русские экзистенциалисты.
Всех без исключения притягивал ежемесячный журнал «Новый мир» — все, что в нем печаталось, а также все, что вокруг него происходило. Еще в самом начале «оттепели» его главный редактор Александр Твардовский потерял свой пост после публикации статьи Померанцева «Об искренности в литературе». Назначенный на его место Константин Симонов был отстранен от должности после публикации нашумевшего романа Владимира Дудинцева «Не хлебом единым». В конце 1958 года Твардовский снова возглавил журнал, и с каждым месяцем «Новый мир» становился интереснее.
Твардовский, блестящий поэт и выдающийся редактор, обладал сверхъестественной способностью откапывать таланты. «Новый мир» стал изданием, с помощью которого вчера еще никому не известный писатель делался знаменитостью. Твардовский являлся кандидатом в члены ЦК партии и прославился победами в нелегких битвах с цензурой. Часто журнал держал читателей в тревожном ожидании — неясно было, когда выйдет очередной номер. Но, получив майский номер в июле, никто не жаловался. Все понимали, что Твардовский сражается, и материал того стоит. А значит, стоит и того, чтобы ждать.
Бледно-голубая обложка «Нового мира», торчащая из кармана пальто, стала опознавательным знаком либерального интеллигента. Если рядом с вами в автобусе незнакомый человек читал «Новый мир», вы воспринимали его как своего. Вполне естественно было спросить, вышел ли, наконец, последний номер, и, поговорив несколько минут, обнаруживалось, что у вас с ним есть общие друзья.
В нашу компанию новости из «Нового мира» приносили Майя Злобина, литературный критик, работавшая в журнале по договорам, и Лена Копелева, жена одного из сибаритов, Славы Грабаря. Отец Лены Лев Копелев был внештатным редактором «Нового мира» и однажды получил от товарища по лагерю повесть, уже при беглом чтении которой стало ясно, что судьба публикации легкой не будет. Автора звали Александр Солженицын, а повесть, в конце концов напечатанная в «Новом мире», называлась «Один день Ивана Денисовича».
Наши бурные дискуссии, как и полагается в России, обычно сводились к двум вечным вопросам: «Кто виноват?» и «Что делать?». Мы делились на два соперничавших лагеря — физики и лирики. К лирикам необязательно относились представители гуманитарных профессий, а к физикам — точных и естественных наук. Типичные монологи «физиков» звучали примерно так: «Вы только на разговоры и способны. Все одна болтовня — социальная справедливость, демократия, равенство, народ. Вы вокруг оглянитесь — жрать нечего, в дерьме сидим по уши. А вы все ля-ля разводите». «Лирики» в долгу не оставались: «Ну и что? Вот вы подсчитали все ваши атомы, нейтроны, шмелетроны, а какой нам толк от этого? Как человеку жить-то?»
И «физики», и «лирики» гордо именовали себя интеллигенцией. Этот многострадальный термин возник в сороковых годах девятнадцатого века для описания тех представителей образованной элиты, кто испытывал глубокое чувство вины за свои привилегии, избегал государственной службы и посвящал жизнь улучшению положения простого народа. Повышенное самосознание привело некоторых интеллигентов к планам свержения царя. Часть искала спасения в сельских общинах или в возврате к русским корням. Были и те, кто мечтал, чтобы Россия развивалась по образцу стран Запада.
Спустя почти сто лет после появления слова «интеллигенция» Сталин дал ему новое определение: «прослойка между классом рабочих и классом крестьян». В «прослойку» попадал каждый, получивший хотя бы среднее образование. Будь эта дефиниция принята, Хрущев и нищие сибариты оказались бы частью одного социального слоя — идея, мягко выражаясь, абсурдная.
Интеллигенции в прежнем смысле слова больше не существовало, но нам хотелось верить, что мы сможем вернуть ее интеллектуальное и духовное величие. Мы ставили себе целью предъявить права на ценности, оставленные теми, кого преследовали цари и уничтожила революция: ведь два ключевых вопроса, вокруг которых бурлили наши споры, впервые были поставлены старой интеллигенцией — Герценом в романе «Кто виноват?» и Чернышевским в романе «Что делать?»
В то же время мы не были обременены чувством вины перед народом — мы были так же бедны и бесправны, как и наши менее образованные сограждане. И мы не собирались жертвовать собой ради «общего дела». Мы просто наслаждались свободным общением друг с другом, ставшим возможным в этот период хрущевской либерализации, и открывали для себя что значит — быть человеком.
Многие мужчины в нашем кругу отрастили бороды и носили свитера ручной вязки с разнообразными рисунками, авангардистскими или примитивистскими, а то и с языческими символами. Свитера эти вязались за разговорами в компаниях, у нас на глазах. Под свитер обычно надевалась клетчатая рубашка, получившая название «ковбойка». Друг к другу мужчины обращались не иначе как «старик». Это обращение вошло в обиход после знакомства с творчеством Хемингуэя, популярность которого среди интеллигенции стремительно росла. Почти в каждом доме висел его портрет с бородой и в вязаном свитере. Мы стали говорить отрывочными фразами, как герои романа «И восходит солнце».
Где-то в глухое советское время поэт Николай Глазков решил дарить друзьям подборки своих стихов. Если ваши произведения не спешат публиковать, почему бы не стать самому себе издателем? Складывая пополам лист бумаги, он печатал стихи на всех четырех сторонах, затем брал иголку с ниткой и прошивал по сгибу несколько листов. Получалось что-то вроде книжечки.
Внизу первой страницы печаталось: «Самсебяиздат», что напоминало всем известные аббревиатуры вроде «Гослитиздата» и других «издатов». Со временем из названия выпало притяжательное местоимение «себя», слово сократилось до «самиздат» и стало обозначать не просто «самодеятельное издательство», а уникальное явление общественной жизни.
Самиздат возник естественным путем как продукт жизнедеятельности компаний, без их питательной среды он не мог бы существовать. В этих компаниях помогали друг другу заполнять бесконечный информационный вакуум. Вскоре изготовление неофициальных публикаций в домашних условиях стало привычным ритуалом нашей жизни. Если какая-нибудь рукопись нравилась, ее брали на ночь и перепечатывали на машинке. Я обычно делала пять экземпляров: три отдавала друзьям, один — владельцу рукописи, а один оставляла себе. При всех своих достоинствах «Новый мир» мог опубликовать лишь малую долю того, что хотелось прочесть. В печать почти не попадали сведения о сталинских лагерях. Потрясшая читателей повесть Солженицына «Один день Ивана Денисовича» никакой новой информации не несла, ведь это было художественное произведение. Документальные свидетельства и даже доклад Хрущева на Двадцатом съезде не публиковались. Многие истории — Гели Маркизовой, нищих сибаритов, бойкота студенческой столовой — были просто неприемлемы для официальных журналов. Так что если мы хотели неподцензурной публицистики, истории, философии и литературы, нужно было печатать все это самим.
На первых порах самиздат занялся поэзией: стихи легче и запоминать, и копировать. Появились не публиковавшиеся ранее произведения Ахматовой, Гумилева, Мандельштама, Цветаевой. Наряду с поэзией шли воспоминания политзаключенных. Старые большевики, меньшевики, анархисты, эсеры торопились записать то, что могли вспомнить из времен революции, Гражданской войны, чисток и лагерей. Как-то мне в руки попала тетрадь с записями Михаила Якубовича, одного из лидеров меньшевиков, который почти всю сталинскую эпоху провел в лагерях, а теперь жил в доме престарелых где-то в Казахстане. Впервые его осудили в марте 1931 года на так называемом процессе меньшевистского центра. Он отсидел десять лет, но снова был арестован и получил еще десять. Полностью отбыв и второй срок, он еще два года, до самой смерти Сталина, оставался в заключении.
Мемуары читались запоем. Помню, я дочитывала воспоминания Евгения Гнедина, сотрудника Наркомата иностранных дел при Максиме Литвинове, погрузившись в рассказы о его работе в фашистской Германии накануне заключения советско-германского пакта 1939 года, а на очереди уже лежали свежеотпечатанные воспоминания Евгении Гинзбург, коммунистки, жены крупного партийного работника, и Евгении Олицкой, активистки партии социалистов-революционеров, — у всех был свой «крутой маршрут». По утверждению Хрущева, в издательства были представлены около десяти тысяч мемуарных произведений бывших политзаключенных. Но прочесть их можно было только в самиздате.
После поэзии и мемуаров шли переводы. Одним из первых был прекрасный перевод романа Хемингуэя «По ком звонит колокол», законченный еще во время войны, но запрещенный цензурой. Цензорам не понравилось, что автор изобразил советских советников испанских республиканцев такими циничными, а самих республиканцев жестокими. Я прочитала рукопись на одном дыхании; шел 1956 год, официальное издание появилось лишь в конце шестидесятых. Тогда же я познакомилась с такими знаковыми романами, как «Мрак в полдень» Артура Кестлера (изданный впоследствии под названием «Слепящая тьма») и «1984» Джорджа Оруэлла. Последний, к сожалению, был переведен из рук вон плохо. Казалось, человек, взявшийся за эту ответственную работу, никогда не говорил по-английски, да и с русским языком был не в ладах: идиомы переводились буквально, а предложения сохраняли принятый в английском строгий порядок слов. Тем не менее идея была понятна и проникала в душу. Роман был о нас: о нашем Большом Брате, Министерстве любви и Министерстве правды, о нашем «новоязе» и даже о нашем Павлике Морозове.
В 1957 году начал ходить по рукам роман Бориса Пастернака «Доктор Живаго». Позже появились романы Александра Солженицына «Раковый корпус» и «В круге первом». Именно в самиздате я впервые прочитала запись судебного заседания по делу Иосифа Бродского.
В нашу жизнь вошел Булат Окуджава. Поэт и бард, он кочевал из одной компании в другую, бренчал на гитаре и пел песни, которые сразу запоминались и которые хотелось слушать снова и снова.
Окуджава был не одинок. Многие поэты, поняв, что им есть что сказать, взяли в руки гитары и стали петь друзьям в компаниях, а когда удавалось, то и в более широких аудиториях — в институтах, на предприятиях. На слуху было столько песен, что многие, особо трогавшие людей своей искренностью, приобрели характер народных, а такие поэты-барды, как Булат Окуджава, Александр Галич, Владимир Высоцкий, стали поистине народными героями.
Диапазон анекдотов времен «оттепели», от политических до сюрреалистических, охватывал все стороны внутренней и международной жизни. Были анекдоты о пьяницах и сумасшедших, о ковбоях и крокодилах, о товарище Хрущеве и товарище Сталине.
Были даже анекдоты о нехватке мужчин в послевоенное время:
У помойки растянулся пьяный. Мимо проходит женщина: «Расточительство какое — мужика выбросили, да с ним еще жить можно».
У каждой компании имелся свой репертуар, обычно состоявший из целой серии анекдотов на определенную тему.
Из серии «о сумасшедших»:
Главный врач психиатрической клиники в Белых Столбах пишет отчет: «В честь предстоящей годовщины Великой Октябрьской социалистической революции трудовой коллектив удвоил усилия по организации полноценного оздоровления пациентов и построил плавательный бассейн. Некоторые больные уже начали нырять с вышки. В ближайшее время планируется наполнить бассейн водой».
О Диком Западе (после нашумевшего кинофильма «Великолепная семерка»):
Три ковбоя скачут по прерии.
— Эй, Джо, сколько будет дважды два? — спрашивает один.
— Четыре, — отвечает Джо.
Звук выстрела, Джо падает замертво.
— За что ты его? — спрашивает третий.
— Он слишком много знал.
Из серии «армянское радио»:
У армянского радио спрашивают:
— В чем разница между социализмом и капитализмом?
Армянское радио отвечает:
— При капитализме человек эксплуатирует человека. А при социализме — наоборот.
Наш партийно-государственный лидер Н. С. Хрущев с его своеобразной внешностью и реформаторскими метаниями отличался редкостной способностью приводить в замешательство и своих партнеров и широкую публику, что давало неистощимый материал для язвительных шуток.
Разговор на художественной выставке:
— Зачем тут это говно намалевано?
— Это, Никита Сергеевич, «Рассвет на Волге».
— А что это за мазня?
— Это, Никита Сергеевич, «Симфония света».
— А эта жопа с ушами?
— Это, Никита Сергеевич, зеркало.
Многие анекдоты о Хрущеве строились в форме вопросов и ответов:
— Правда ли, что здоровье товарища Хрущева ухудшилось?
— Да, у него грыжа, вызванная подъемом уровня сельского хозяйства. Еще одышка из-за попыток догнать и перегнать Америку. А также словесный понос неизвестно от чего.
— Что будет, когда Куба построит социализм?
— Она начнет импортировать сахар.
— Какие главные проблемы в советском сельском хозяйстве?
— Их четыре: зима, весна, лето и осень.
При всей неуравновешенности и грубости Хрущев оказался одним из величайших руководителей, которые когда-либо управляли Россией. Он освободил миллионы политических заключенных; лично разрешил публикацию ряда прекрасных произведений, включая «Один день Ивана Денисовича»; начал открытый диалог о будущем советской экономики; повысил пенсии; улучшил отношения с США и Югославией; даже предпринял попытку ограничить централизованное планирование в легкой промышленности.
Я стала испытывать симпатии к Хрущеву только после его отставки в 1964 году. Пока он был у власти, он нас раздражал. И меня, и моих друзей многое возмущало — дурацкие склоки с Никсоном, скандальное выступление в ООН (когда он стучал ботинком по трибуне и обещал показать всем «кузькину мать»), смехотворные прожекты догнать и перегнать Америку по производству молока и мяса на душу населения, безграмотные суждения об искусстве, нападки на писателей, чьи работы якобы «недоступны простому народу», и, конечно, позорная травля Пастернака после публикации в Италии романа «Доктор Живаго».
Сеть взаимосвязанных компаний заменяла нам несуществующий бюллетень выпускников Московского университета. Через компании по цепочке передавалась информация. Так я узнала, что мой однокурсник Тим Райан изменил имя и фамилию на русский манер и стал Тимуром Тимофеевым. Карьера Райана-Тимофеева шла в гору. Ада Никольская рассказала о своем брате Борисе Михалевском, молодом историке, который едва избежал обвинения в государственной измене.
Михалевский закончил исторический факультет МГУ на два года позже меня, самостоятельно изучил математику и экономику и стал одним из ведущих специалистов по эконометрии. В компаниях его очень ценили — пользуясь официальными статистическими данными и умело их анализируя, он мог наглядно объяснить истинное положение дел в экономике страны. Пару раз он показал свои выкладки приятелю, Николаю Покровскому, тот был аспирантом МГУ и занимался российской историей. Борис и не подозревал, что Николай состоял в подпольной ячейке марксистов-реформаторов; они писали и распространяли листовки, призывающие среди прочего к полной реорганизации экономической системы и открытому суду над всеми, кто участвовал в сталинских репрессиях. Хрущева в этих листовках называли «пьяницей» и «кукурузником», который «позорит нас перед всем миром».
Осенью 1957 года Михалевского вызвали в КГБ после того, как арестовали марксистов-реформаторов — девять человек, включая Покровского и руководителя организации Льва Краснопевцева{4}. Они дали показания, что использованные в листовках статистические данные получали от Михалевского.
— Борис Натанович, придется возбудить против вас дело за утечку информации о закрытых цифрах, — заявил следователь, демонстрируя Михалевскому листовку марксистов и ордер на арест.
— У меня нет допуска к закрытым цифрам, — ответил Михалевский.
— Но наша проверка показывает, что эти цифры недоступны из открытых источников.
— Я делал расчеты на основании опубликованных данных, — сказал Борис и составил список книг и журналов из Ленинской библиотеки, по которым сделал свои вычисления.
Следователь, просмотрев список, разорвал ордер.
Девять арестованных марксистов так легко не отделались. На закрытом судебном заседании, состоявшемся 12 февраля 1958 года, они были признаны виновными в распространении антисоветской пропаганды и приговорены к лишению свободы. Трое получили по десять лет, трое — по восемь и еще трое — по шесть лет. В первой тройке оказался мой однокурсник Леонид Рендель. Это он однажды объяснял мне, что после такого проступка, как чтение легкомысленных стихов, комсомольская организация курса не может доверить мне политическое просвещение рабочих-строителей.
В 1961 году Коля Вильямс познакомил меня со своим давним другом Александром Есениным-Вольпиным, только что выпущенным из психиатрической больницы, куда его упекли за неординарность мышления. Впервые я видела человека с такой сухой, желтой кожей. Позднее я научилась по этому признаку распознавать недавно вернувшихся из заключения.
Алик не был похож на своего знаменитого отца, сказочно красивого поэта Сергея Есенина, в короткой бурной жизни которого был и период увлечения переводчицей Надеждой Вольпин.
Есенина-младшего трудно было даже вообразить в обстановке, хоть как-то приближающейся к романтической. Вид у него был диковатый: горящий взгляд широко открытых глаз, взъерошенные волосы, незаправленная рубашка с расстегнутым воротом. Его можно было встретить в городе в домашних тапочках. Страшно было смотреть, как он переходит улицу, страшнее этого могло быть только одно — оказаться вместе с ним на перекрестке. Алик мог часами растолковывать свои идеи, а если кто-то еще сомневался в их истинности, он прибегал к иллюстрациям с помощью геометрических построений, которые ставили в тупик даже профессиональных математиков.
В 1949-м, будучи аспирантом механико-математического факультета МГУ, Алик бросил вызов секретарю партбюро П. М. Огибалову. Петр Матвеевич выступил с обвинениями в адрес группы студентов пятого курса, которые держались вместе и называли себя «товарищество»{5}, но политикой не интересовались, а скорее избегали ее. Тем не менее партия и комсомол усмотрели в их дружбе план создания «тайной организации» и потребовали исключения студентов.
— Что заставило вас сделать вывод о том, что организация была тайной? — спросил Алик. Он не был членом группы, просто присутствовал на собрании.
— Тот факт, что я не знал о ее существовании, — отвечал Огибалов.
— Извините, но до сегодняшнего дня я не знал о вашем существовании, однако это не заставляет меня прийти к выводу, что вы существовали тайно.
Несмотря на логические возражения, членов товарищества исключили из университета, но дерзость Алика осталась безнаказанной.
В нашу первую встречу Алик рассуждал о добре и зле, о правде и лжи. Если б люди не лгали, зла в мире было бы гораздо меньше. Выдвинув этот тезис, он перешел к определению понятия ложь. Если человек на сцене говорит, что он Гамлет, принц Датский, — это не ложь, а актерская игра. Если кто-либо представляется Александром Сергеевичем Пушкиным, это тоже не ложь — ведь все знают, что Пушкин умер. Не ложь, когда человек ошибается, оговаривается или произносит что-то, не являющееся правдой, но знает, что его никто не слышит. Наконец, в математике доказательство методом от противного, когда одно за другим исключаются неверные решения, тоже не является ложью. А вот когда вы выдаете неправду за правду (или наоборот), и ваш собеседник не давал согласия выслушивать нечто, не являющееся правдой, и таковое согласие не подразумевалось заранее, тогда это ложь.
Алик не был приверженцем пуританских нравов. Он считал, что можно изменять жене, пить с кем попало, делать все что душе угодно, но «только до тех пор, пока вы не вынуждены лгать ради того, чтобы таковые действия продолжать».
Кажется, тогда же, в первый день знакомства, Алик говорил о своем отношении к советской Конституции. Это была его излюбленная тема. Он был убежден, что наша Конституция и правовые кодексы — прекрасные документы. Проблема в их соблюдении. Если бы государство следовало своим собственным законам, граждане не оказались бы в условиях бесправия. Государство посягает на права человека, когда люди не выступают в их защиту. Именно поэтому Сталину удалось практически без суда и следствия уничтожить миллионы законопослушных граждан.
Но что будет, если граждане станут вести себя, исходя из того, что у них есть права, записанные в Конституции? Если так поступит один человек — его ждет судьба мученика. Если двое-трое — их заклеймят как вражескую организацию, если тысяча — обвинят в антиобщественном движении. Но если каждый человек, то есть все без исключения действуют с сознанием своих гражданских прав, тогда гнет государства не может не прекратиться. Важнейший момент — заставить государство проводить все судебные процессы открыто, в условиях гласности, подчеркивал Алик. Мне хорошо запомнились его слова, как и все, что он говорил впоследствии, но это казалось слишком логичным, чтоб быть применимым к реальной жизни. Слово «гласность» веками употреблялось в русском языке. Оно встречалось в словарях и в текстах законов с тех пор, как появились словари и своды законов. Обыкновенное, трудноопределимое, рабочее слово, оно использовалось при описании любого процесса управления или судопроизводства, который проводится открыто. Слово это не имело политического значения, и пока Алик Есенин-Вольпин не вырвал его из рутинного контекста, оно не порождало накала политических страстей.
Я никогда не скрывала от детей своих взглядов и не делала тайны из своих занятий самиздатом. Пока они были маленькие, существовал риск, что в один прекрасный день, придя в детский сад или в первый класс школы, они могут сказать что-нибудь вроде «А вчера мама слушала „Голос Америки“». Но если понижать голос, чтобы поговорить на «запретные темы», и запирать самиздат, чтоб не увидели дети, они вырастут чужими. К тому же запрещенные темы составляли слишком большую часть моей жизни, и если б я попыталась применить тактику утаивания, то мне пришлось бы постоянно говорить шепотом и носить полную сумку ключей. Жизнь стала бы невыносимой.
Сыновья не задавали мне много вопросов. Возможно, они получали достаточно ответов, слушая наши разговоры с друзьями, да и сами развили в себе здоровый скептицизм.
Однажды в 1960-м, Миша тогда учился в первом классе, он пришел из школы и заявил:
— Мам, а ты знаешь, что это мы, русские, изобрели радио и самолет?
Я замешкалась с ответом: нелегко объяснить семилетнему ребенку, что учительнице приходится повторять то, что написано в официальных учебниках, даже если это далеко от истины. Неожиданно на помощь пришел Сережа:
— И ты им поверил? Слушай больше, они еще скажут, что танк тоже мы изобрели. Покажут картинку, где мужик сидит в телеге и палкой размахивает, татар отгоняя. Развесь уши, так узнаешь, что Россия — родина слонов.
К этому мне нечего было добавить.
Когда Мише было тринадцать, он спросил, почему все наши гости — бывшие каторжники или бывшие сумасшедшие. Я перебрала в памяти всех друзей от Алика Есенина-Вольпина до нищих сибаритов и поняла, что Миша прав.
— Думаю, потому, что все они очень интересные люди, — ответила я сыну.
Шел 1962 год. Однажды в компании оказалась женщина-юрист. Случайно услышав, как я кому-то говорю, что не могу получить развод, она очень удивилась — почему? Я объяснила, что никогда не пойду на то, чтобы разлучить сыновей.
— Но вы можете оставить у себя обоих. Советский закон на стороне женщины. Отец может требовать опеки над детьми только в исключительных случаях, если мать алкоголичка или проститутка.
На следующий день я отправилась в юридическую консультацию, где другой юрист подтвердил, что согласно законодательству при разводе дети остаются с матерью. Вернувшись домой, я налетела на Валентина:
— Ты мне солгал!
Он не оправдывался, пытался убедить:
— Почему ты не думаешь о детях? Со мной им будет лучше. У меня хорошая зарплата, они ни в чем не будут нуждаться. Если мы разойдемся, я буду платить алименты и ничего больше.
Я уверяла, что отдаю себе отчет, какую беру на себя ответственность, в том числе и финансовую. У меня к тому времени была вполне прилично оплачиваемая работа научного редактора в издательстве «Наука».
Наш брак распался. Оставалось сказать об этом маме.
Услышав новость, она расплакалась:
— Сколько вокруг безотцовщины! А ты делаешь это собственными руками.
Но как ни была расстроена моя мама, она сделала то, что естественно для матери — предложила свою помощь: она переедет ко мне, а Валентину отдаст свою квартиру, пока он как-то не устроится с жильем. И она прожила с нами полтора года.
В том же году в одной из компаний Наташа Садомская познакомилась с писателем и переводчиком Юлием Даниэлем. Он зарабатывал переводами поэзии. Случались дни, когда он не чувствовал вдохновения, но чаще бывали продолжительные периоды, когда не было заказов — журналы не нуждались в его услугах. В такие дни высокий, худой, слегка сутулый Даниэль ходил по гостям, забредая к давним друзьям, случайным знакомым или старым политзэкам, которые, даже будучи прикованы к постели, трудились над мемуарами. Возникало ощущение, что, начиная новый день, он и представления не имел, где очутится к полуночи или к следующему утру.
Оказаться в кругу Даниэля было заманчиво, и Наташа, как лучшая подруга, пригласила меня присоединиться к ним на часок-другой, поговорить. «Часок-другой» обычно означало три-четыре, а «поговорить» значило послушать.
Даниэль рассказывал об отце, еврейском писателе и драматурге, о тесте — бывшем политзаключенном, о любимом сотруднике в редакции «Нового мира» Булате Окуджаве, поэте и барде, сыне казненного политзаключенного. Рассказал о своем друге Андрее Синявском, литературоведе, печатавшемся в «Новом мире», отец которого тоже был политзаключенным. Говорил он и о любимом поэте Пастернаке — они с Синявским считали его своим учителем. Еще один друг Даниэля — Анатолий Якобсон (Тоша), историк по образованию, много занимавшийся литературой. Сам он не сидел, но его жена и ее родители — все прошли через тюрьмы и лагеря. Большинство друзей и знакомых, о которых рассказывал Даниэль, были либо бывшими политзэками, либо их потомками.
Интересно, что Даниэль никогда не говорил о войне, что совершенно не характерно для человека, который сражался на передовой, был ранен и носил в плече осколок снаряда. Никогда не говорил он и о своей жене, и я было подумала, что она какая-нибудь фифа. Мне даже пришло в голову, что это вполне в его духе — жениться на фифе, которую можно таскать по вечеринкам и иногда где-нибудь оставлять. Женщине, которая сама что-то из себя представляет, было бы нелегко жить в тени Даниэля.
Прошло некоторое время, и мы начали встречать героев рассказов Даниэля. Познакомились с Тошей Якобсоном. Этот высокий, плечистый представитель еврейского народа выглядел и вел себя, а главное — пил, как этнический русский.
— Вы позорите свою нацию, — сказал однажды милиционер, выпуская его утром из вытрезвителя.
Его жену, Майю Улановскую, нашу ровесницу, в свое время приговорили к двадцати пяти годам лагерей — она была членом подпольной молодежной организации «Союз борьбы за дело революции»{6}. Группу сочли антисоветской, троих активистов расстреляли. Познакомились мы и с родителями Майи — Александром Петровичем и Надеждой Марковной Улановскими. Александр Петрович выглядел как отыгравший свое актер или почтенный профессор, Надежда Марковна — как пожилая графиня. Он провел в лагере семь лет, она — восемь, Майя отсидела пять.
Александр Петрович был анархистом, после революции присоединился к большевикам. Ездил с женой по миру, в разных странах помогал организовывать коммунистические партии, устанавливал контакты с братьями по идеологии.
Тоша любил рассказывать, как его тесть мог бы повлиять на ход истории, если б воспользовался редкостными шансами убить обоих — и Гитлера, и Сталина. Последний был совсем легкой мишенью.
Еще до революции Александр Петрович служил партийным курьером, доставлял послания анархистам, сосланным в Туруханский край. Как-то он получил поручение к ссыльному Иосифу Джугашвили. Приехав на место, он не застал его в избе, где тот жил.
— Где он? — спросил курьер хозяйку.
— В лесу, — ответила женщина и объяснила, по каким тропам совершает ежедневную прогулку человек, которого вскоре будут называть Сталиным.
Он действительно оказался в лесу один, вдалеке от дороги. У Александра Петровича в кармане был пистолет, заряженный.
— Почему он не выпустил пулю ему в лоб? Никто бы и не вспомнил о нем — подумаешь, какой-то ссыльный потерялся в лесу, — сокрушался Тоша.
Другая историческая возможность представилась Улановскому в 1923 году в мюнхенской пивной.
— Кто эти люди? — спросил Александр Петрович доверенного немецкого коммуниста.
— Кучка хулиганов, — ответил тот. — Называют себя национал-социалистами.
В кармане у него был пистолет, заряженный. Он запросто мог бы подойти к этому коротышке с усиками и пульнуть ему в голову.
У Тошки выходило, что сделать это было бы так же просто, как заказать кружку пива.
Однажды у Наташи Садомской я встретила жену Даниэля Ларису Богораз. Высокая, худая, она была одета непритязательно, так что сразу становилось ясно, что ее жизненные интересы далеки от моды и косметики. Едва поздоровавшись, она направилась к книжным полкам, выбрала старинное сочинение по хиромантии и уселась в углу, погрузившись в чтение. Она оказалась совсем не такой, как я себе представляла. Выглядела усталой и отстраненной от всего, что происходило вокруг. Вписывалась в компанию, как свой человек, но было ясно, что ее не заботит, какое впечатление она производит, понравится ли новым знакомым и пригласят ли ее снова. Она углубилась в книгу и время от времени поднимала голову, восклицая: «Нет, вы только послушайте, что здесь пишут!» — после чего зачитывала отрывок.
Часа через два Лариса предложила:
— Хотите показать мне свои руки?
Несколько человек охотно согласились. Она брала ладонь и сравнивала с рисунком в книге. Это не было гадание, ей просто хотелось убедиться, что все эти якобы определяющие судьбу линии и бугорки действительно существуют и действительно у всех разные.
Больше всего меня поразил ее голос. Такой низкий завораживающий тембр мог бы принадлежать цыганской певице. Впечатление было настолько сильным, что я почти не запомнила ничего другого из того вечера. Помню только, что посматривала на Ларису и ждала, что она еще скажет. Наверное, бывают моменты, предопределенные свыше, когда вы встречаете людей, которые изменят вашу жизнь.
Позднее я сказала Даниэлю, что у него замечательная жена.
— Я знаю, — ответил он.
— Юлик, а я думала, она совсем другая.
— Какая «другая»?
— Я думала, она какая-нибудь фифа.
— Нет, моя жена не фифа, — сказал он с гордостью.
Меньше чем через год после нашего знакомства с Даниэлем мне рассказали, что Юлик и его друг опубликовали за рубежом свои произведения под псевдонимами. Даниэль взял имя Николай Аржак, его друг назвал себя Абрам Терц. Эти имена я слышала по «голосам» зарубежного радио и знала, что Аржак писал рассказы, а Терц — критические статьи о соцреализме и ядовитую сатиру.
Я не стала спрашивать имя человека, скрывавшегося под псевдонимом Терц. Знакомая, рассказавшая мне об этом, могла и не знать подробностей. К тому же я и без лишней информации была в шоке: Юлик, которым я так восхищалась, позволил иностранцам напечатать свои сочинения! Одно дело говорить правду у себя дома и совсем другое — за рубежом, где так много настоящих врагов нашей страны.
В середине шестидесятых мною еще владела советская ксенофобия, пережитки учения о «прогрессивных силах» и «силах реакции», о «классовой борьбе» и т. п. Но я уже научилась распознавать подобные мысли и каждый раз, когда они возникали, прилагала все возможные усилия, чтобы их побороть.
Пока приятельница продолжала рассказывать, я искала объяснения поступку Юлика. И сразу в голову пришел Герцен. Разве он не уехал за границу, чтобы издавать «Колокол» — газету, ставшую библией российских западников? Он печатал ее на Западе, потому что не мог этого делать в России. Даниэль сделал то же самое.
Затем меня стало беспокоить другое. Если приятельница рассказала мне конфиденциально о том, что Даниэль и его загадочный друг опубликовались за рубежом, то она может так же, по секрету, рассказать об этом кому-то еще. Даже если секрет передается от одного надежного человека к другому надежному человеку, то в какой-то момент он перестает быть секретом. И действительно, вскоре один из приятелей предложил:
— Могу тебе сказать, кто такие Аржак и Терц на самом деле.
— Я не хочу это знать, — ответила я без колебаний.
Мне не хотелось участвовать в случайном раскрытии тайн, когда речь шла о жизни и смерти.
Осенью 1964 года среди московской интеллигенции распространилась любопытная история. На защите диссертации в Институте истории искусств, перед голосованием, один из присутствующих в аудитории попросил слова.
— Мне не хотелось бы никоим образом влиять на решение ученого совета, но я вынужден воспользоваться возможностью обратиться к собравшимся сейчас, так как другого случая не будет, — начал он.
Аудитория притихла, и дальнейшие слова прозвучали, как гром среди ясного неба:
— Перед вами человек, который донес на меня и еще одного студента, когда мы учились в МГУ. Из-за него мы отсидели по пять лет в лагерях.
— Да, но после 1953 года я ни на кого не доносил, — выпалил в ответ соискатель ученой степени.
Историю эту много раз пересказывали, что не добавляло ей достоверности. Даже когда я услышала имя автора диссертации — Сергей Хмельницкий, я осталась равнодушна — имена имеют обыкновение забываться. Обвинителем выступал Юрий Брегель, научный сотрудник Института востоковедения, — его имя тоже ни о чем мне не говорило.
Прошло несколько лет, и я снова услышала об истории с Хмельницким, но на этот раз было названо имя и второй жертвы — Володя Кабо, мой однокурсник, которого арестовали после археологической экспедиции осенью 1949 года. Спустя месяц арестовали Брегеля. Этому предшествовала встреча с Хмельницким, который и рассказал об аресте Кабо, а также оказался свидетелем того, как опасавшийся ареста Брегель уничтожал свои дневники. В ходе допросов Брегель и Кабо узнали, что на них обоих донес Хмельницкий.
Рассказывали, что после унижения, испытанного на защите диссертации, Хмельницкий попросил Брегеля и Кабо встретиться и поговорить.
— Вы понимаете, что подставили мою семью? — спросил возмущенный Хмельницкий.
— Мы такую цель не преследовали, — сказал Брегель.
— А ты о наших семьях подумал, когда нас сдавал? — парировал Кабо.
Хмельницкий:
— Вы потеряли пять лет, а я теперь потеряю всю жизнь.
Кабо:
— Это твой просчет. Если б не смерть Сталина, мы потеряли б свои жизни, а ты продолжал бы в том же духе.
Хмельницкий:
— Так посоветуйте, что мне делать?
Брегель:
— Совет надо было спрашивать в 1949-м.
Подвергнутый остракизму, Хмельницкий уехал из Москвы в Среднюю Азию.
Глава 5
Дядя Боря жил в здании бывшего особняка на Дворцовой набережной, недалеко от Зимнего дворца. Его однокомнатная квартира когда-то была частью бального зала. Из огромного окна открывался панорамный вид на противоположный берег Невы. Прямо напротив — Петропавловская крепость. Здесь в бастионной церкви покоятся останки Петра Великого — первого российского западника. Недалеко от царской усыпальницы содержались в заточении другие западники — декабристы. Пятеро из них были повешены в бастионе. Император Николай Первый, подавивший восстание декабристов, тоже нашел здесь свой последний приют. Если дойти по набережной до Литейного моста, справа будет виден зловещий «большой дом», как называли ленинградское управление КГБ. Соседство более чем пикантное для такого закоренелого антисоветчика, как дядя Боря.
Шел сентябрь 1965 года. Мы с дядей собирались отправиться в путешествие на машине, и пока он бегал по своим делам, я, как заправский турист, ходила по крепости. Обошла бастионы, куртины, равелины — гигантскую политическую тюрьму, через которую прошел цвет русской интеллигенции и революционного движения. Оттуда направилась к другой, печально знаменитой, тюрьме «Кресты». Здесь «под красною, ослепшею стеною» Анна Ахматова часами простаивала вместе с тысячами матерей и жен, пытавшихся передать посылку или что-либо узнать о своих близких. Когда-нибудь у этой стены ей поставят памятник — вот здесь, в трехстах шагах от ворот, примерно в середине той очереди.
Путешествие началось. Мы ехали на Валдай, в Михайловское, где отбывал ссылку Пушкин. Юный и дерзкий, восстававший против традиций и косности, он был изгнан из Санкт-Петербурга. Его изгнание представлялось мне глупостью того же порядка, что и характеристика Ахматовой — «полумонахиня-полублудница». И Жданов — слишком ничтожная фигура, чтобы заставить замолчать Ахматову, и царь — не ровня Пушкину.
Дядя Боря вел машину, а я смотрела по сторонам и читала наизусть стихи любимого поэта. Казалось, я узнаю места, к которым относятся те или иные строки. Мы доехали до Горького (так в советское время назывался Нижний Новгород). Там я получила письмо «до востребования»: Наташа сообщала, что Юлик и Андрей «сильно заболели». Я поняла — они арестованы. Стало ясно, что Терц и Синявский — одно лицо.
Ну и нация! Ну и история!
Мы погрузились вместе с машиной на баржу и почти неделю плыли вниз по Волге. У меня из головы не выходила полученная новость. Хотелось обсудить ее с дядей Борей, но сначала пришлось бы многое ему объяснять — рассказать о моих друзьях, о разветвленной сети компаний, объединявших московскую интеллигенцию, о нашем товариществе, образе жизни и спорах, песнях и поэзии, о «физиках» и «лириках». Дядю Борю больше всего интересовала структура власти, и это он понимал так: шайка паханов захватила власть, и теперь они делают что хотят. Но не в силах был понять, что изменения могут прийти снизу. Не видел никакой пользы в том, что люди сидят вокруг стола и разговаривают. Не верил, что пустая на первый взгляд болтовня может иметь какое-то значение. Оставалось смириться с тем, что мой дядя — продукт другой эпохи.
Вернувшись в Москву, я узнала от Наташи подробности. Андрея Синявского арестовали 8 сентября на выходе из квартиры. Юлик поехал в Новосибирск уговаривать Ларису вернуться. Она защитила диссертацию и получила работу преподавателя в местном университете. С ней был их четырнадцатилетний сын Саня. Лариса настроилась на окончательный разрыв.
В Новосибирске Юлика трижды вызывали на допросы в КГБ и предписали вернуться в Москву. Это означало, что арест неизбежен{7}. Арестованному нужна жена — нанять адвоката, помогать выстраивать защиту, отслеживать весь процесс, сообщать друзьям обо всем, что происходит, передавать продуктовые посылки, навещать в лагере. Лариса смирилась с неизбежностью этой роли. Юлика арестовали 12 сентября, едва он успел выйти из самолета в аэропорту Внуково.
Вскоре после этого друзья арестованных стали выгребать из своих квартир самиздат — из предосторожности, на тот случай, если КГБ решит провести у них обыски. Прошло двенадцать лет после смерти Сталина, но все еще не было уверенности, что вас не арестуют за то, что вы читаете сами и другим даете читать неопубликованные стихи.
Когда я вернулась, первый вопрос, который все задавали мне: «Ты знала?» Второй: «Кто тебе сказал?» И Наташе, и Аде было известно, что Аржак — Даниэль, а Терц — Синявский. Об этом успели узнать не менее пятидесяти человек. Но мы не могли представить, кто донес властям. Этого я и по сей день не знаю.
В квартире Даниэлей оказалось весело. После арестов жена Синявского, Майя Розанова, которую все называли Марья, переехала к Ларисе и привезла с собой плакат, на котором была изображена недавно построенная Останкинская телебашня. Она стояла на земном шаре, как на подставке, и испускала красные радиоволны во всех направлениях. На плакате красовалась надпись: «Говорит Москва!» Так же называлась напечатанная за границей повесть Даниэля.
Видавший виды диван заменили другим, менее продавленным. Знакомый художник изготовил из обрезков досок книжные полки и расписал их экзотическими растениями и животными. Получился вполне подходящий интерьер для любимого члена семьи — ирландского сеттера Кэрри.
Когда я обнаружила Ларису на кухне, она развлекала компанию рассказами о старшем следователе КГБ по фамилии Кантов, который вел дело Юлика.
— Он сказал мне: «Ваш муж виновен и будет наказан». И знаете, что он еще сказал? Что не рекомендует договариваться с адвокатом: во-первых, это мне материально не по силам, а во-вторых, адвокат все равно бесполезен в этом деле и не повлияет на ход суда и его решение. На это я ему возразила, что, пока ведется следствие, мой муж не может считаться виновным, и пока вина не будет доказана судом, он не может считаться преступником.
— И что он ответил?
— Ничего. У него просто челюсть отвисла.
Я могла бы представить, как Лариса произносит что-то вроде: «Я защищаю своего мужа и не позволю погубить его». Так говорила Марья, и такой тон беседы со следователем требовал определенного мужества. Но объяснять офицеру КГБ букву и дух советского законодательства — это уже было следствием учения Алика Есенина-Вольпина.
Лариса продолжала рассказывать:
— Затем он стал угрожать: если я буду себя плохо вести, у меня могут быть неприятности по службе, когда там узнают. — Недавно она нашла работу в НИИ кодирования информации.
— Я его спрашиваю: «А что вы имеете в виду под „плохо себя вести“?» — «Вы понимаете, о чем я говорю». — «Я не понимаю, о чем вы говорите. И не понимаю, какие у меня могут быть неприятности и что именно там узнают? Что муж под следствием? Но он ведь еще не признан виновным. А если бы и был признан, какие у меня могут быть неприятности и почему?»
— И что он на это ответил? — спросила я.
— А ничего. Они к таким вопросам не привыкли.
Лариса рассмеялась, все остальные тоже. Тактика следователя, которая была эффективна в 1937-м, на Ларису Богораз не подействовала. Она рассказывала все это спокойно, с легкой долей сарказма, как будто всю жизнь вела дискуссии со следователями.
Алик Есенин-Вольпин готовил демонстрацию. Об этом знала почти вся Москва. Новость обсуждалась и в курилке Ленинской библиотеки, и в университете, и в компаниях. Множеству людей было очевидно, кто автор листовки, призывающей на демонстрацию:
«Несколько месяцев тому назад органами КГБ арестованы два гражданина: писатели А. Синявский и Ю. Даниэль. В данном случае есть основания опасаться нарушения закона о гласности судопроизводства. Общеизвестно, что при закрытых дверях возможны любые беззакония и что нарушение закона о гласности (ст. 3 Конституции и ст. 18 УПК РСФСР) уже само по себе является беззаконием. Невероятно, чтобы творчество писателей могло составить государственную тайну.
В прошлом беззакония властей стоили жизни и свободы миллионам советских граждан. Кровавое прошлое призывает нас к бдительности в настоящем. Легче пожертвовать одним днем покоя, чем годами терпеть последствия вовремя не остановленного произвола.
У граждан есть средства борьбы с судебным произволом, это — „митинги гласности“{8}, во время которых собравшиеся скандируют один-единственный лозунг: „Тре-бу-ем глас-нос-ти су-да над…“ (следуют фамилии обвиняемых) или показывают соответствующий плакат. Какие-либо выкрики или лозунги, выходящие за пределы требования строгого соблюдения законности, безусловно, являются при этом вредными, а, возможно, и провокационными и должны пресекаться самими участниками митинга.
Во время митинга необходимо строго соблюдать порядок. По первому требованию властей разойтись — следует расходиться, сообщив властям о цели митинга.
Ты приглашаешься на „митинг гласности“, состоящийся 5 декабря с. г. в 6 часов вечера в сквере на площади Пушкина у памятника поэту.
Пригласи еще двух граждан посредством текста этого обращения».
Единственными известными мне демонстрациями в те времена были официальные шествия по Красной площади в День солидарности трудящихся 1 мая и в годовщину Октябрьской революции 7 ноября. Я не особенно их любила, меня никогда не привлекали знамена, лозунги и толпы народа. Сейчас же мысль о том, что Алик развернет плакат на одной из центральных площадей Москвы, приводила меня в ужас. Ничего подобного до сих пор не происходило, так что последствия просто невозможно было предсказать.
Еще больше испугалась Ада Никольская. Ее муж Валера познакомился с Аликом в нашей компании и сразу стал его почитателем; значит, он тоже собирается на Пушкинскую. Было очевидно, что нечего и пытаться отговорить Валерия от этой идеи, как и переубедить Алика. Тот бы просто ответил что-нибудь вроде: «Вы такие славные девчонки. Жаль, нельзя быть женатым сразу на нескольких женщинах. Если б было можно, я женился бы на вас обеих». Оставалось надеяться только на то, что безумная затея с демонстрацией развалится сама по себе.
Однако никаких признаков развала не наблюдалось. Однажды вечером на кухне у Ларисы зашел разговор о том, что пора решить, следует ли ей идти на демонстрацию. Пришли к выводу, что нет, Ларисе нельзя засвечиваться на улице, ее задача — отслеживать предстоящий суд.
Нищие сибариты говорили нам, что их друг Витя Иоэльс уже пригласил гостей отметить годовщину его зачатия. Иоэльс, не признававший празднования дней рождения, утверждал, что зачат он был именно 5 декабря, в день Сталинской Конституции, а поскольку это официальный праздник, можно начинать пить с утра.
К 1 декабря стало ясно, что с нашим одобрением или без оного, но демонстрация состоится.
Ада не находила себе места и без конца повторяла:
— Господи, они и правда собираются идти, моего идиота невозможно отговорить.
Жена Алика, Вика, тоже нервничала.
— Этот ненормальный пойдет туда, а потом его снова отправят в психушку, — жаловалась она нам с Наташей. — Ну, что делать?
Вечером 4 декабря мы с Наташей приступили к действиям. Понимая, что Валера поступит, как Алик, мы решили начать с Алика. Он скрывался, не желая быть арестованным до демонстрации, — ночевал по знакомым. Мы позвонили в одно из возможных убежищ, там его не было. Позвонили в другое, в третье.
После пятой или шестой попытки мы услышали:
— Может, удастся передать ему сообщение.
— Пожалуйста, скажите ему, чтобы он зашел к Люде как можно скорее.
В тот же вечер, около 10 часов, Алик появился у меня. Мы набросились на него во всеоружии своих аргументов. Подумай, что они с тобой сделают. Подумай, что они сделают с Валерой. Подумай, каково будет Аде. Ты хочешь, чтобы вас арестовали? Хочешь, чтоб тебя снова объявили сумасшедшим? По уколам соскучился? Неужели ты хочешь, чтобы множество людей стольким пожертвовали ради нескольких моментов самолюбования?
Алик сопротивлялся нашему натиску, декламируя свое «Гражданское обращение». Гласность судопроизводства — это первый и существеннейший шаг к более демократической системе. Да, возможно, всех участников демонстрации арестуют. Должно состояться еще много судов и много митингов гласности, прежде чем советская судебная система начнет функционировать в соответствии с законами. Чем больше мы нападали на него с обвинениями, тем больше он приводил положений из своей теории права.
Время близилось к полуночи, когда Алик вдруг сказал:
— Хорошо, девочки, допустим, вы меня уговорили. Демонстрация ничего не даст. Но что я теперь могу сделать? Эти люди, о которых вы заботитесь, соберутся на площадь — со мной или без меня. Они придут, а меня там нет. По-вашему, это будет правильно и порядочно? Это вас успокоит?
Сделав таким образом ход конем, Алик попрощался, а мы с Наташей, захлопнув рты, раскрывшиеся от изумления, стали думать, как нам самим поступить завтра. Мы решили в демонстрации не участвовать, но прийти на площадь — просто не было сил оставаться дома.
Без четверти шесть мы с Адой подъехали на троллейбусе к Пушкинской площади. Вокруг все было спокойно, и мы решили пройтись мимо памятника, к Елисеевскому гастроному — купить колбаски. Как только мы вышли из троллейбуса, я заметила человека, которого не раз встречала в Ленинской библиотеке. Я кивнула, он кивнул в ответ. Тут же мелькнуло смутно знакомое лицо, которое я могла видеть в одной из компаний. Мы обменялись кивками. Ада в этот момент кому-то сказала: «Привет». Казалось, мы попали в некое братство людей, регулярно посещающих не только Ленинскую библиотеку, а и консерваторию, и кинотеатр «Иллюзион», и выставки французских импрессионистов в Пушкинском музее и, конечно, концерты Булата Окуджавы. Теперь эти люди собрались у бронзовых ног Александра Сергеевича Пушкина, чтобы посмотреть, как Александр Сергеевич Есенин-Вольпин будет требовать гласности суда над их собратьями.
Вокруг памятника Пушкину прохаживались человек двадцать в основном очень молодых людей. Мы молча перешли улицу, направляясь к Елисеевскому и по пути кивая знакомым, купили сыра и колбасы, потом вернулись на угол. Было без трех минут шесть. В свете окружающих памятник величественных петербургских фонарей сверкал снег. На здании газеты «Известия» зажглась неоновая вывеска. Известия — это новости, а гласность, по определению словарей русского языка, означает «условие, при наличии которого явления личной, общественной и государственной жизни, путем оглашения или распространения сведений о них в обществе, становятся общественным достоянием». Новости — часть гласности. Значит, Алик решил выразить свой протест перед зданием, увенчанным неоновым словом, которое как нельзя лучше годится для его плакатов.
Возле пьедестала толпилось человек двести, но мы без труда прошли в первый ряд — большинство предпочитало стоять подальше. Алик мерил шагами пространство перед толпой, как в тюремной камере — руки за спину, отсутствующий взгляд, десять шагов в одну сторону, десять в другую. Маятник гласности. Валера неподвижно стоял перед толпой, как и другой соратник Алика, художник Юра Титов. Я посмотрела на часы — без одной минуты шесть, посмотрела на Алика — десять шагов вперед, десять шагов назад, потом снова на часы — ровно шесть.
Алик остановился, распахнул пальто, вытянул из-под полы лист ватмана и поднял его над головой. То же самое сделал Валера. Все, что произошло дальше, запомнилось только отрывками. Человек двадцать молодых людей пробежали мимо меня, и транспаранты исчезли прежде, чем я успела прочитать хотя бы одно слово, на них написанное. Ни передо мной, ни позади не раздалось ни звука — хрустящая, напряженная тишина.
Яркая вспышка, вторая, третья… Площадь осветилась и мгновенно наполнилась звуками щелкающих камер. Иностранные корреспонденты фотографировали Алика, демонстрантов, кагэбистов, зрителей. Кагэбисты фотографировал Алика, демонстрантов, зрителей, иностранных корреспондентов. В свете фотовспышек было видно, как два человека волокут третьего мимо пьедестала. Он — худой, в короткой кожаной куртке, они — упитанные, в тяжелых пальто. Черная «Волга» въехала на тротуар со стороны улицы Горького. Человека затолкнули на заднее сиденье. Еще одна «Волга» — и еще один человек втиснут в машину.
Через три минуты демонстрантов не осталось, разошлись и зрители. Площадь опустела. Только бронзовый Александр Сергеевич по-прежнему стоял, прижав руку к груди и наклонив голову.
Мы сидели у меня и ждали. Первым позвонил Валера. Его забрали в отделение милиции, продержали около трех часов, потом отпустили. Затем позвонил Алик: «Все в порядке, девочки». Его тоже держали в милиции часа три, предлагая объяснить, с какой целью он организовал демонстрацию.
— Добиться гласности суда, — ответил Алик.
— У нас все суды открытые, — произнес офицер милиции и попросил описать содержание транспарантов.
— Разверните их, — предложил Алик.
«Требуем гласности суда над Синявским и Даниэлем!» — провозглашал один плакат, «Уважайте Советскую Конституцию!» — призывал второй.
Через несколько дней Коля Вильямс услышал в пивной такой рассказ: «У Есенина есть сын. Он организовал демонстрацию. Тысяча человек шли за ним по улице Горького, и каждый нес плакат. Потом он вошел в КГБ, бросил на стол список и сказал: „Здесь имена всех участников, но брать не смейте, за все отвечаю я“. Никого, бля, не боится. А зовут его Вольф». В таком виде слух о демонстрации просочился в массы.
Трудно представить, какой сложный путь прошла книга, которую я, наконец, держала в руках: от контрабандного вывоза рукописи на Запад до не менее опасного тайного ввоза напечатанной в типографии книги в страну. В книге — голос Юлика Даниэля и реальные люди в сюрреалистических ситуациях. В одном из рассказов — история молодого человека, обладающего уникальной способностью в процессе производства потомства гарантировать желаемый пол ребенка. Если в момент эякуляции он представляет себе Карла Маркса, родится мальчик, если Клару Цеткин — девочка. О нем узнают в верхах, и парень становится «племенным жеребцом» для семей высокопоставленных чиновников.
Повесть «Искупление» — о человеке, ложно обвиненном в предательстве друга во времена сталинских чисток. Все отворачиваются от него, и он понимает, что обречен — нет способа доказать свою невиновность, а если бы и нашелся, ничего хорошего из этого не выйдет, никто не захочет его слушать. Чувствуя, что сходит с ума, он ищет шанс высказаться и на концерте в Зале Чайковского, дождавшись антракта, выкрикивает собратьям-интеллигентам:
«Товарищи! Они продолжают нас ре-прес-сировать! Тюрьмы и лагеря не закрыты! Это ложь! Это газетная ложь! Нет никакой разницы: мы в тюрьме или тюрьма в нас! Мы все заключенные! Правительство не в силах нас освободить! Нам нужна операция! Вырежьте, выпустите лагеря из себя! Вы думаете, что ЧК, НКВД, КГБ нас сажало? Нет, это мы сами. Государство — это мы. Не пейте вино, не любите женщин — они все вдовы!..
Погодите, куда вы? Не убегайте! Все равно вы никуда не убежите! От себя не убежите!»
Сталин — внутри нас, но чтобы это понять, понадобился сумасшедший.
Открыв повесть «Говорит Москва», я на первой же странице узнала действующих лиц, как будто услышала голоса друзей Юлика, обсуждавших, как лучше провести воскресный день за городом — поиграть в волейбол, искупаться или прогуляться к церкви в соседней деревне. Их неторопливую дискуссию прервало сообщение по радио. Передавали Указ Верховного Совета Союза Советских Социалистических Республик. В связи с растущим благосостоянием населения и идя навстречу пожеланиям широких масс трудящихся, воскресенье, 10 августа 1960 года, объявляется Днем открытых убийств. В этот день советским гражданам, достигшим шестнадцатилетнего возраста, предоставляется право свободного умерщвления любых других граждан, за исключением детей до шестнадцати лет, одетых в форму военнослужащих и работников милиции, а также работников транспорта при исполнении служебных обязанностей.
Указ приводит компанию в ужас и недоумение. «Зачем это нужно?», «А может, это провокация?» — спрашивают они друг у друга. И тут кто-то произносит то, о чем думают все: «Меня могут убить». Ими овладевает испуг. Каждый боится быть убитым, боится убивать, боится стать свидетелем убийства, но и боится открыто противостоять безумной затее властей. Один из персонажей, некто Маргулис, развивает теорию о том, что «вся эта чертовщина неизбежна, что она лежит в самой сути учения о социализме». Объявив убийство чем-то обыденным, власти пытаются лишить человеческую жизнь всякой ценности и таким образом подготовить страну к возвращению террора. Рассказчик, в котором легко узнается автор, не хочет и не может убивать, но понимая, что его самого может убить любой прохожий, обдумывает идею — убить именно тех, кто издал этот указ:
«Ну а эти, толстомордые, заседающие и восседающие, вершители судеб, наши вожди и учителя, верные сыны народа, принимающие приветственные телеграммы от колхозников Рязанской области, от металлургов Криворожья, от императора Эфиопии, от съезда учителей, от президента Соединенных Штатов, от персонала общественных уборных? Лучшие друзья советских физкультурников, литераторов, текстильщиков, дальтоников и умалишенных? Как с ними быть? Неужто простить? А тридцать седьмой год? А послевоенное безумие, когда страна, осатанев, билась в падучей, кликушествовала, пожирая самое себя? Они думают, что если они наклали на могилу Усатому, так с них и взятки гладки? Нет, нет, нет, с ними надо иначе; ты еще помнишь, как это делается? Запал. Сорвать предохранительное кольцо. Швырнуть. Падай на землю. Падай! Рвануло. А теперь — бросок вперед. На бегу — от живота, веером. Очередь. Очередь. Очередь… Вот они лежат, искромсанные взрывом, изрешеченные пулями…»
Нет, решает рассказчик. Это уже было. Истязали в 1937-м, убивали во время войны, уничтожали в лагерях смерти. Он не хочет, чтоб повторился хотя бы один день из тех лет, даже если это означает, что «толстомордые» останутся безнаказанными.
Синявский и Даниэль сидели в «Лефортово» уже второй месяц, когда 18 октября 1965 года зарубежное радио передало первый репортаж об аресте Андрея Синявского, видного советского критика и литературоведа. Сообщалось, что арестован также некто «Даниэлло», литературный псевдоним которого «Аржанов».
По-видимому, западные средства массовой информации заранее не знали о митинге гласности 5 декабря. Только спустя две недели они поняли, что их корреспонденты оказались свидетелями антигосударственного выступления в самом центре столицы полицейского государства, и 18 декабря статья о митинге гласности появилась на первой странице «Нью-Йорк таймс». О нас стало известно, наше существование было замечено. Поднялась волна протеста против преследования писателей. Мы каждый вечер крутили приемники, настраиваясь то на одну, то на другую короткую волну, чтобы сквозь шум глушилок узнать, кто еще из известных западных деятелей культуры выступил с требованием освободить Синявского и Даниэля. В числе подписавших были Бертран Рассел, Генрих Белль, Гюнтер Грасс, Лилиан Хеллман, Сол Беллоу, У. X. Оден, Норман Мейлер, Роберт Лоуэлл, Уильям Стайрон, Филипп Рот, Маргерит Дюра, Филипп Тойнби. Британский издатель Синявского, Марк Бонэм Картер, предпринял безуспешную попытку заручиться поддержкой Михаила Шолохова в надежде, что вмешательство авторитетного соотечественника поможет его советскому подопечному. Шолохов отказался от встречи и даже не захотел говорить по телефону… Вряд ли в истории был менее удачный выбор Нобелевского лауреата по литературе.
В вышедшей в «Известиях» 16 января 1966 года статье «Перевертыши» звучало неприкрытое удивление мировым масштабом общественного протеста против ареста двух московских литераторов.
«Спрашивается, что же случилось на самом деле? Отчего воспрянула черная рать антисоветчиков? Почему в ее объятия попали отдельные зарубежные интеллигенты, которые в этой компании выглядят достаточно странно? Зачем иные господа становятся в позу менторов, чуть ли не охранителей наших нравов и делают вид, будто защищают двух отщепенцев „от имени“ советской интеллигенции?
…Враги коммунизма нашли то, что искали: двух отщепенцев, символом веры для которых стали двуличие и бесстыдство.
Прикрывшись псевдонимами Абрама Терца и Николая Аржака, они в течение нескольких лет тайно переправляли в зарубежные издательства и печатали там грязные пасквили на свою страну, на партию, на советский строй. Один из них, А. Синявский, он же А. Терц, печатал литературно-критические статьи в советских журналах, пролез в Союз писателей, внешне разделяя требования его устава — „служить народу, раскрывать в высокохудожественной форме величие идей коммунизма“… Второй, Ю. Даниэль — Н. Аржак, занимался переводами. Но все это для них было фальшивым фасадом. За ним скрывалось иное: ненависть к нашему строю, гнусное издевательство над самым дорогим для Родины и народа».
Мишенью этих грязных пасквилей, как сообщали «Известия», были советские женщины, научный коммунизм, социалистический реализм и наши героические Вооруженные силы.
«Автор (Даниэль) устами своего „героя“ обращается прямо к читателю и подсказывает такой образ действий: „Сорвать предохранительное кольцо. Швырнуть. Падай на землю. Падай! Рвануло. А теперь — бросок вперед. На бегу — от живота, веером. Очередь. Очередь. Очередь… Вот они лежат, искромсанные взрывом, изрешеченные пулями“.
Как видим, на многое замахивается взбесившийся антисоветчик: по существу, это провокационный призыв к террору».
В тот день один историк, рукопись которого я редактировала, заметив газету со статьей «Перевертыши» на моем столе, воскликнул:
— Как они осмелились печататься на Западе!
— А что в этом особенного? Разве Герцен не делал то же самое сто лет назад?
— Я рад, что вы так к этому относитесь.
Видимо, первоначальный праведный гнев был просто тестом на мою политическую ориентацию. Мы провели целый день в беседах о писателях, позиции властей и будущем интеллигенции. Я пыталась перейти к работе над книгой, но автор только отмахивался: «Книга подождет, это гораздо важнее».
У мамы были свои соображения после прочтения статьи.
— Ты понимаешь, что ты не должна общаться с этими людьми, — сказала она, придя ко мне на следующий день (к тому времени Валентин купил кооперативную квартиру, и мама вернулась жить к себе).
Она знала о моей дружбе с Даниэлем, но я не сказала ей об аресте. Тон статьи напомнил ей «дело врачей» и разоблачение «троцкистско-зиновьевского блока». Она чувствовала опасность.
— Конечно, мама, — согласилась я.
Вечером Коля Вильямс рассказал о реакции на статью у него в институте.
«Смелые ребята, — сказал один из молодых сотрудников. — Жаль только, что их шлепнут».
— Думаешь, это возможно? — спросила я, холодея от ужаса.
Вильямс ничего не ответил.
Круг Даниэля и Синявского заметно сузился. Некоторые любители литературы переместились в иные компании и развлекали новых друзей рассуждениями о том, что представляют из себя Терц и Аржак как писатели.
«Конечно, их работы исключительно ценны с историко-политической точки зрения, и быть в числе их друзей это большая честь, — так обычно начинались подобные рассуждения. — Но с точки зрения литературы их труды нельзя назвать крупным достижением».
На такого рода критику у меня был один ответ: «Я отказываюсь обсуждать литературные достоинства их работ, пока они сидят в „Лефортово“. Вот выйдут на свободу, тогда и поговорим».
Как-то раз у Ларисы появился небольшого роста человек в белой вязаной шапочке. Звали его Вадим Меникер, работал он в Институте экономики Академии наук СССР и имел доступ в зал зарубежной периодики Ленинской библиотеки. Благодаря Вадиму мы стали узнавать все, что писали о процессе американские, английские, французские и итальянские газеты.
Марья Синявская привела другого молодого человека — Александра Гинзбурга. Он познакомился с Андреем Синявским еще несколько лет назад. Исключенный из института студент, он активно занимался самиздатом и уже успел отсидеть два года в лагере за издание самиздатского журнала «Синтаксис». О том, какую роль он сыграет в событиях, связанных с делом Синявского и Даниэля, нам еще предстояло узнать.
Центром нашей заметно поредевшей компании стала Наташа Садомская и ее муж Борис Шрагин. Из более чем пятидесяти постоянных участников компании к началу слушания дела осталось человек десять — двенадцать. Все они пришли к зданию суда.
Вечером 9 февраля 1966 года мне позвонила Наташа и сообщила, что суд начнется завтра.
Утро выдалось страшно холодным. Возле пятиэтажного желтого здания суда, расположенного в глубине дворов близ Баррикадной улицы, кружило человек двадцать друзей обвиняемых, с некоторыми я была знакома.
Формально процесс был открытым, но попасть в зал суда могли только обладатели пропусков. Пропуска были двух цветов — оранжевого и синего. Но каким образом желающие присутствовать на процессе граждане, в том числе и друзья подсудимых, могли бы получить тот или иной пропуск, было неизвестно. Охрана проверяла пропуска при входе в здание суда, а потом еще раз, перед входом в зал, сверяя фамилию на пропуске с паспортными данными.
Мы стояли у дверей и смотрели на входящих. Оказалось, что множество «входных билетов» было отдано в Союз писателей. Друзья Даниэля знали многих писателей в лицо и давали пояснения.
— Аркадий Васильев — общественный обвинитель. Слизняк.
— Евтушенко. Смотрит прямо вперед.
— Агния Барто. Ну и шуба… Не начать ли нам всем писать детские стихи?
— Твардовский.
Некоторые писатели кивали знакомым. Другие проходили, не глядя по сторонам, стесняясь, что их выбрали в свидетели на этот показательный процесс. Во дворе я насчитала не меньше тридцати оперативников КГБ и с дюжину иностранных корреспондентов. Последних было нетрудно отличить, и не только потому, что они лучше одеты, — у них другие лица, без печати страха, беспокойства или подозрения.
Когда за приглашенными закрылись двери суда, корреспонденты медленно двинулись в нашу сторону. Неловкая попытка одной группы приблизиться к другой, под наблюдением третьей. Заметив рядом репортера или оперативника, я замолкала и отворачивалась. Я не хотела, чтобы меня слышали, не хотела, чтобы меня цитировали в западных газетах. Хорошо помню, что я тогда думала: мы здесь потому, что наши друзья на скамье подсудимых. Это наша проблема, наше горе. Для репортеров это лишь политический триллер. Я не хочу, чтоб моя жизнь стала предметом чьего-то любопытства.
Встретив холодный прием, журналисты ретировались. Я смотрела на них с недоверием, но и с некоторым интересом. Поеживаясь от холода, с покрасневшими носами, в своих дурацких утепленных сапогах, они сгрудились в кучу и обменивались замечаниями, которые было не разобрать.
В перерыве к нам вышли Лариса и Марья, стали рассказывать, как шло заседание. С разных сторон к нам бросились и репортеры, и кагэбисты, но мы так были поглощены рассказом, что уже не обращали внимания ни на тех, ни на других.
Выяснилось, что Даниэль и Синявский удостоились чести стать первыми писателями, которым предъявлены обвинения, основанные на содержании их сочинений. Даже Сталин не преследовал писателей за написанное. У него были другие, очень эффективные и при том легко выполнимые методы — несчастные случаи, убийства, казни без суда после вынужденных признаний в шпионаже.
Брежневской клике пришлось решать задачу потруднее — найти правовое обоснование, которое оправдывало бы политическое решение заключить писателей в тюрьму. Возбуждая дело по статье 70 Уголовного кодекса РСФСР, обвинение оказалось в щекотливом положении — надо было продемонстрировать, что литературоведческое исследование и художественный вымысел содержат признаки «агитации или пропаганды, проводимой в целях подрыва или ослабления Советской власти». Мог ли ответственный юрист доказать, что Синявский писал свои произведения с антисоветскими намерениями, а вымышленные персонажи в повестях Даниэля придуманы с целью пропаганды и на самом деле отражают точку зрения автора?
Такая постановка вопроса подготовила почву для довольно странных диалогов во время слушания дела:
Прокурор. А теперь, Даниэль, изложите идейную направленность повести «Говорит Москва».
Даниэль.…меня увлекло, что при фантастическом допущении — День открытых убийств — можно понять психологию и поведение людей…
Судья. Я, конечно, понимаю, что авторская речь и речь персонажа — вещи разные. Но вот вы пишете в повести «Говорит Москва»: «…Маргулис, который сразу, как пришел, задал мне дурацкий вопрос: „Зачем им все-таки понадобился этот Указ?“ „Им“ — это правительству. Я промолчал, и он, обрадовавшись, что я никаких своих суждений не имею, стал объяснять мне, что вся эта чертовщина неизбежна, что она лежит в самой сути учения о социализме. „Почему?“ — спросил я. „А как же? Все правильно: они должны были легализировать убийство, сделать его обычным явлением“…»
Даниэль. Вы правы, что позиция героя и автора не всегда одно и то же. И главный герой у меня возражает на те слова, которые вы привели…
Судья. Это тот главный герой, который «из автомата», «веером», «от живота»?
Даниэль. Да, тот самый. Но я и это объясню. Вот идея всей повести кратко: человек должен оставаться человеком, в какие бы обстоятельства жизнь его ни ставила, какое бы давление и с какой бы стороны на него ни оказывалось. Он должен быть верен себе, самому себе и не участвовать ни в чем, против чего восстает его совесть. Теперь насчет отрывка «от живота». Этот отрывок назван в обвинительном заключении призывом к расправе над руководителями партии и правительства. Действительно, здесь герой говорит о руководящих работниках, ибо он помнит о массовых репрессиях и считает, что за них должны нести ответственность те, кто в них повинен. Но на этом цитата оборвана, обвинительное заключение ставит точку. Но книга на этом не кончается, даже монолог на этом не кончается, герой чувствует, что картина убийств и кровопролития ему знакома, он уже видел ее на войне. И эта картина вызывает у героя омерзение… Герой говорит прямо: «Я не хочу никого убивать». Пусть любой читатель ответит: герой хочет убивать? Каждому должно быть ясно — не хочет!
Судья. Но вы упускаете самое главное — герой может убивать благодаря указу Советской власти. Значит, есть плохое правительство и хороший герой, который не хочет никого убивать, кроме правительства.
Даниэль. Этого не следует из повести. Герой говорит: «Никого». Никого — значит никого.
Судья. Но указ такой в повести есть?
Даниэль. Да.
Вернувшись домой около семи вечера, я приготовила чай и села к приемнику, закутав ноги одеялом. Постепенно отогреваясь, я ловила «голоса» на коротких волнах: «двое писателей отказались признать себя виновными по обвинению в клевете на советский строй, якобы содержащейся в их рукописях, нелегально переданных на Запад для публикации». В новостях совершенно правильно звучали фамилии подсудимых, как и фамилии судьи, прокурора и общественного обвинителя. Отмечалось, что хотя суд формально был открытым, фактически вход в здание суда был ограничен, и перечислялись приглашенные. Было сказано несколько слов и о группе из тридцати с лишним человек, весь день дежуривших у здания суда в знак поддержки обвиняемых. Мне понравился тон передач. В отличие от «Известий», где — не дожидаясь решения суда — писателей называли «клеветниками», западные репортеры соблюдали принцип презумпции невиновности.
На следующий день оперативники КГБ попытались применить тактику запугивания.
«А вы что тут делаете? — кричали они. — Больше писать не о чем?»
Журналисты проигнорировали выкрики кагэбистов, но мне было неприятно, вспомнился эпизод с Хрущевым в ООН — опять за родину стыдно.
Тоша Якобсон, тоже все эти дни мерзнувший у дверей суда, заметил человека, торопливо пересекающего двор:
— Смотрите, это же сукин сын Хмельницкий! Не он ли их туда отправил?
Якобсон ринулся к Хмельницкому, тот не сделал попытки убежать, и они несколько минут разговаривали.
— Говорит, он тут ни при чем, — сообщил Тоша, вернувшись к нам. — Уверяет, что с 53-го года никого не закладывал. Ну, если врет, я ему покажу!
Позднее я прочитала показания Хмельницкого в стенограмме судебного заседания. Именно он подал Даниэлю идею повести «Говорит Москва». Спустя какое-то время он услышал, как в компании рассказывают, что по «Радио Свобода» читали повесть некоего Николая Аржака, в которой речь идет о Дне открытых убийств.
— Никакой это не Аржак, это Юлька Даниэль. А сюжет этот я ему подбросил.
После этого заявления друзья отвернулись от Хмельницкого.
— Да, это было гадко с моей стороны — называть автора антисоветского произведения, которое читают на антисоветской радиостанции, — заявил он на суде.
Вполне безобидное свидетельское показание.
Мне не давала покоя одна мысль: знал ли Даниэль, что человек, который подал ему идею «Дня открытых убийств» и повести «Искупление», во времена Берии был осведомителем? Ведь обе повести были написаны до публичного разоблачения Хмельницкого как тайного агента. Наверняка Даниэль знал.
На третий день я не могла пойти дежурить у суда — у меня была назначена встреча с автором, книгу которого я редактировала. Вечером позвонила Наташа, рассказала о возникшей проблеме.
Оперативники КГБ попытались спровоцировать драку с друзьями подсудимых и после небольшой потасовки всех, включая Наташу, забрали в отделение милиции. Среди задержанных в основном были научные работники, редакторы — те, кто ходит на работу раз или два в неделю, по присутственным дням, а в остальное время должны работать дома или в библиотеке. Тот факт, что они простаивали возле суда весь рабочий день, свидетельствовал о нарушении дисциплины и пренебрежении служебными обязанностями, а это могло стать основанием для увольнения. Они сидели в коридоре отделения милиции, обдумывая, как найти выход из неприятной ситуации, когда неожиданно выход нашелся — в самом прямом смысле слова. По коридору прошел офицер милиции, повторяя шепотом: «Налево. Дверь открыта. Налево. Дверь открыта». Один за другим они поднимались и выходили. Дверь действительно оказалась открыта.
Так мы узнали, что милиции не всегда хочется принимать участие в операциях КГБ. Наташа сказала еще, что все, попавшие в облаву, больше не хотят, чтоб их видели близ суда, по крайней мере в рабочее время.
— Представляешь, там никого не будет! В перерыве Лара с Марьей выйдут, а там некому даже бутерброд им дать!
Хотя и с неохотой, но я согласилась, что не могу не пойти — это мой моральный долг, даже если мне придется одной дежурить у суда во враждебном окружении — между иностранцами и кагэбистами.
Следующим утром я медленно шла к метро и у входа столкнулась с невысоким человеком в белой лыжной шапке. Вадим Меникер, обрадовалась я.
— Вы в суд? — спросила я нетерпеливо.
— Да.
— Сегодня мы можем оказаться там вдвоем, остальные вряд ли придут.
— Ничего, как-нибудь переживем. — В его голосе не было страха. Должно быть, он — как Зоя. Я не была Зоей и знала с самого детства, что способна на подвиг только вместе с другими. Теперь я не одна.
Позже, во второй половине дня, возле суда появились и другие «болельщики», в том числе и те, кто вчера побывал в участке.
Мы ходили кругами, притоптывая и хлопая руками, чтоб согреться, и говорили о процессе, обсуждали все до мелочей, делились соображениями о том, каким может быть приговор. Я поглядывала издали на закоченевших иностранцев.
Кто-то из наших предположил:
— Они, наверное, не знают, что тут недалеко пельменная.
— Давайте им скажем, — предложил Тоша Якобсон.
Наше приближение вызвало некоторое удивление. Репортеры, должно быть, не догадывались, что мы делаем шаг навстречу просто в знак признательности за их объективное и профессиональное освещение процесса.
— Ну что, морозоустойчивая пресса, — начал Якобсон по-русски, — хотите посмотреть, где продают горячие пельмени?
— Горячие что?
— Пельмени, пельмени. Вас еще не научили этому слову? Пельмени — горячие, дешевые и вкусные. Пойдемте, пока вы не заледенели.
По дороге в пельменную мы не разговаривали, но жест был сделан и принят, возник своего рода альянс. С этого дня западные корреспонденты начали получать информацию не только из официальных правительственных источников, но и от общественности. В конце концов благодаря контактам с прессой общественное движение в СССР получило известность и в стране и за рубежом.
К вечеру объявили приговор: семь лет Синявскому, пять лет Даниэлю. Смягчающим обстоятельством суд признал то, что Даниэль воевал и был ранен.
Вскоре после суда мне стали известны другие обстоятельства жизни Синявского и Даниэля. После войны Синявский вынужден был подписать документ, согласно которому становился осведомителем НКВД. (В то время отказ был равносилен самоубийству.) Бериевские агенты стремились использовать на полную катушку его дружбу с однокурсницей Элен Пельтье-Замойской, дочерью французского военного атташе.
Синявскому дали задание жениться на Пельтье-Замойской. Брак должен был сделать ее советской гражданкой — советской политзаключенной или советской шпионкой. Одновременно за Элен наблюдал школьный друг Андрея Сергей Хмельницкий.
В один прекрасный день оба поняли, что их используют как осведомителей в одной и той же тайной операции НКВД. Они решили, что их отчеты должны быть согласованы, и стали писать их вместе. Однажды в ходе операции Андрею было поручено пригласить Элен в парк «Сокольники», сесть на определенную скамейку и сделать ей предложение. Андрей привел девушку в парк, но вместо того чтобы сделать предложение, рассказал о полученном задании. Сидя на указанной скамейке, они изобразили небольшую ссору, за которой, несомненно, наблюдали оперативники.
Разворачивалась захватывающая шпионская история: Синявский знает, что Хмельницкий осведомитель; Хмельницкий знает, что Синявский осведомитель; Синявский знает, что Хмельницкий относится к своей работе серьезно и, возможно, ведет двойную игру; Синявский разыгрывает перед Хмельницким дурака.
Замойская закончила университет и вернулась на родину, но органы не собирались отказываться от выполнения задуманного плана. В 1952 году Синявского доставили в Вену для продолжения операции.
В венском ресторанчике, как и на скамейке в «Сокольниках», Синявский рассказал Замойской о новом заговоре против нее. Потом они обсудили, как переправить на Запад рукописи Андрея. В этом участвовали друзья Элен, приезжавшие в СССР, а она сама стала доверенным лицом, представлявшим интересы Синявского в издательстве. Тем же путем были переправлены рукописи Даниэля.
История имела еще один причудливый поворот. В 1949 году Хмельницкий рассказал Андрею, что написал донос на двух студентов исторического факультета МГУ, Юрия Брегеля и Владимира Кабо. Их арестовали. В 1956-м Андрей обо всем поведал Юлику. Они вдвоем стали думать, как быть с Хмельницким. Тот не должен был оставаться в кругу друзей, нужно было как-то вытеснить его из компании. Но как это сделать, не компрометируя Синявского? Ведь его согласие быть осведомителем не имело срока давности — пока спецслужбы в нем заинтересованы, они его не отпустят. Если невозможно порвать с Хмельницким из-за его преступлений в сталинский период, надо найти другую причину.
Однако Хмельницкий не давал никакого повода, и весь период «оттепели» его можно было видеть в тех же домах, за теми же столами, где он вместе со всеми пил водку, распевал лагерные песни, читал свои стихи и даже — невольно — дал Юлику идеи для сочинений. Должно быть, он думал, что прошлое позади и он пережил сотрудничество с органами, как переносят детскую болезнь.
В 1964-м, когда Хмельницкий во всеуслышание заявил, что это он подал Даниэлю идею повести, которую передают по «Радио Свобода», у Даниэля и Синявского появился повод отказать ему от дома. Остальная компания узнала о прошлом Хмельницкого через несколько месяцев, когда Брегель выступил на защите диссертации.
КГБ получил удар в спину от Андрея Синявского и не замедлил отомстить. Приговор на два лишних года в Мордовии сравнял счет.
Наказание было суровым, но все мы — и осужденные, и их друзья — не сомневались, что одержали победу. Синявский и Даниэль признали, что публиковали свои произведения на Западе, но не признали себя виновными и не просили о снисхождении. В их поддержку состоялась демонстрация в центре Москвы, друзья дежурили у здания суда. Они вели себя достойно, и мы их не подвели.
Дело двоих писателей стало знаменитым судебным процессом и привлекло внимание защитников гражданских прав во всем мире. Западные корреспонденты освещали процесс во всех подробностях. Благодаря западному вещанию на русском языке к нам поступала достоверная информация о наших друзьях.
Власть нападала, мы давали отпор. Началась двадцатилетняя война брежневского режима с интеллигенцией.
Двери в квартиру Даниэля не закрывались. Люди приходили, предлагали деньги, теплую одежду, продукты. Поначалу Лариса и Марья пытались отказываться, говорили, что адвокатам уже заплачено, что у Юлика и Андрея полно теплой одежды, что продуктов хватает.
— Тогда отдайте тем, кто нуждается, — был типичный ответ.
Холодильник на кухне заполнялся копченой колбасой, соленой рыбой, чесноком. В углу комнаты росла гора одежды — фланелевые рубашки и свитеры, рукавицы и шарфы, меховые шапки и валенки.
Эти пожертвования много говорили о состоянии умов тех людей, которые испытывали потребность хоть чем-то помочь. Граждане, пережившие сталинские годы, искали способы защитить свои права и свою свободу. Не имея другого оружия, они боролись со сталинизмом чесноком и валенками.
— Господи, что они будут делать в лагере, где одни убийцы и насильники? — такие опасения высказывали практически все, кто знал о приговоре.
Особенно беспокоились бывшие политзэки, отсидевшие свое в сталинские времена:
— Мы сидели дольше, но нас окружали порядочные люди.
В те времена лагеря были заполнены интеллигенцией. Теперь же, как думало большинство из нас, Хрущев освободил последних политических заключенных, и в лагерях остались только уголовники.
Первое же письмо Юлика рассеяло наши заблуждения.
«Сегодня меня пригласили на чашку кофе в соседний барак, — писал он. — Компания собралась поистине рафинированная: литовский священник, эстонский художник, украинский писатель».
Интеллигенция в лагерях осталась. Кроме Юлика и Андрея, были и другие политические заключенные.
Даниэль стал душой компании даже в лагере номер одиннадцать мордовского Дубравлага. Из писем мы узнавали о его новых друзьях. Молодой человек, Анатолий Марченко, был осужден на шесть лет за попытку перейти границу с Ираном. Очередной срок отбывал в Мордовии «вечный узник» Святослав Караванскиий, украинский журналист и переводчик. Мой бывший однокурсник Леонид Рендель, осужденный в 1958 году за участие в собраниях подпольной марксистской группы, передавал мне привет через Даниэля.
В марте 1966 года Лариса приехала в лагерь. Свидание с Даниэлем происходило в присутствии охранника, и Ларисе пришлось прибегнуть к иносказательной форме, чтоб сообщить Юлику об откликах мировой общественности на арест и осуждение писателей:
— Тебе привет от бабушки Лилиан и от дяди Берта. Твой племянник Гюнтер только о тебе и говорит, и его младший брат Норман — тоже.
Длинный перечень имен произвел впечатление на охранника.
— Все-таки хорошо, что у вас, евреев, такие большие семьи, — одобрительно заметил он.
В ту поездку Лариса познакомилась с женой Караванского Ниной Строкатой, микробиологом из Одессы. Они оказались рядом у троса, перегораживавшего дорогу, по которой заключенные переходили из жилой зоны в рабочую. Обе разглядывали толпу зэков, пытаясь увидеть своих мужей. Первым появился Даниэль. Издали заметив стоящих на дороге женщин, он что-то крикнул, но ни та, ни другая не разобрали слов. Он продолжал выкрикивать, пока они не поняли: «Познакомьтесь друг с другом».
Нина не раз потом рассказывала об этой сцене.
— Я сказала: «Я — Нина Караванская». Она сказала: «Я — Лариса Даниэль». И мы обнялись.
Нина с Ларисой вместе вернулись в Москву. На вокзале их встречала группа друзей.
— Это удивительно — найти единомышленников, живущих в тени Кремля, — радовалась Нина.
Нина Строкатая взяла на себя задачу информировать новых московских друзей об украинских проблемах. Каждый раз, приезжая в Москву, она привозила с собой украинский самиздат, заботливо переведенный для нас на русский язык. От Нины мы узнали, что огромную часть советских политзаключенных составляют украинцы. Среди них были крестьяне с Западной Украины, сопротивлявшиеся коллективизации, когда их земли отошли к СССР в результате сталинско-гитлеровского пакта о ненападении и последующего раздела Польши. Много было и представителей украинской интеллигенции, протестовавших против переписывания украинской истории на советский лад, против сокращения школьных программ украинского языка, против русификации политической и культурной жизни республики.
Поначалу мы отправляли посылки только Даниэлю и Синявскому, но по мере того, как узнавали новые имена — а деньги и подарки от сочувствующих не переставали поступать, — мы стали посылать продукты и письма заключенным, о которых Юлик и Андрей упоминали в письмах и которые посылок с воли не получали.
Несколько москвичек вызвались вести переписку с заключенными, которым никто не писал. Они рассказывали им о выставках и спектаклях, посылали книги, открытки, фотографии. Бывали случаи, когда переписка приводила к романам и даже бракам. Я написала Ренделю, и мы переписывались до его выхода из лагеря.
В своем кругу мы называли помощь заключенным «Красным крестом». Работа добровольцев «Красного креста» состояла в беготне по магазинам и «доставании» всего, что можно переслать в лагерь — теплой одежды, книг и журналов, непортящихся продуктов (сухого молока, яичного порошка, суповых концентратов, твердокопченой колбасы). Все добытое нужно было разложить и упаковать в несколько посылок, после чего оставалось поехать на Главпочтамт и отстоять там в очереди.
Заключенному разрешалось получить одну пятикилограммовую посылку в год, но число бандеролей весом до одного килограмма не ограничивалось. Деньги переводить не разрешалось, а они были очень нужны. Через вольнонаемных в местном магазине можно было купить кое-какие продукты, которые нельзя пересылать, например сливочное масло, но за покупки и доставку надо было платить и им, и охранникам.
Я научилась прятать денежные банкноты в книжные обложки. Книгу надо подержать над кипящим чайником, пока внутренняя сторона обложки не начнет отставать от твердого переплета, вложить между ними банкноты и снова аккуратно склеить. Лучше всего для этой цели подходят книги с толстой обложкой и внутренней подкладкой из цветной бумаги. Я буквально охотилась за такими книгами, и к кому бы из друзей ни пришла, тщательно просматривала каждую книжную полку. Найдя нужную книгу, я просила: «Можно взять это для Юлика?» Ни разу никто мне не отказал.
— Один экземпляр я отдал куратору из КГБ, один ушел в самиздат, — сказал Алик Гинзбург, протягивая мне машинописный экземпляр рукописи. — А этот можешь спрятать на всякий случай?
Так я впервые увидела «Белую книгу» — неофициальный сборник документов по делу Синявского и Даниэля. Меня поразило, что Гинзбург открыто передал его в КГБ. При этом он декларировал, что запись судебных заседаний вместе с апелляциями к суду, открытыми письмами протеста и вырезками из советских и иностранных газет не могут расцениваться как клевета на Советский Союз.
Показав, что ему нечего скрывать, Гинзбург намеренно довел гласность до ее логического предела. Он оставался в рамках закона, принимая его буквально — в том виде, в каком он записан на бумаге. Тем не менее ждал, что его арестуют.
Рукопись свела вместе все доступные материалы — первые западные сообщения об арестах, листовку Есенина-Вольпина и его юридический комментарий, статью из «Известий», опубликованные письма редактору, неопубликованные письма редактору, официальное освещение судебного процесса, письма властям от жен осужденных, обращение Пен-клуба, обращения советских и зарубежных писателей, художников, ученых и просто граждан.
Было там и письмо шестидесяти двух советских писателей, предлагавших взять обвиняемых на поруки, а также речь Михаила Шолохова на XXIII съезде КПСС.
«Гуманизм — это отнюдь не слюнтяйство, — поучал он неразумных собратьев по перу. — Попадись эти молодчики с черной совестью в памятные двадцатые годы, когда судили, не опираясь на строго разграниченные статьи Уголовного кодекса, а руководствуясь революционным правосознанием, ох, не ту меру наказания получили бы эти оборотни!»
Но что самое важное — «Белая книга» содержала самиздатскую запись суда. Ход судебного процесса был описан Ларисой и Марьей. Каждый день после окончания заседаний они шли на квартиру к друзьям Даниэля и записывали как можно полнее все, что удалось запомнить.
Наступил июнь 1966 года. Как-то в пятницу, после работы, я отправилась прямо на вокзал, чтобы вместе с Ларисой и Саней ехать в Мордовию. Нужно было помочь им тащить тяжеленные сумки и рюкзаки с продуктами. Поездку оплачивал «Красный крест», поэтому мы взяли самые дешевые билеты. Саня лег спать, а мы с Ларой вышли в тамбур, где и провели почти всю ночь за разговорами. Я высказала Ларисе то, о чем давно уже думала:
— Знаешь, по-моему, брак — это лотерея, в которой выигрыш невозможен. Я никогда не видела такого брака, какой мне хотелось бы иметь.
Мы поговорили о хороших людях, у которых плохие дети, и о плохих людях, у которых хорошие дети. Перешли к своим детям, которые, к счастью, были хорошими.
— Не знаю, как это получилось, — сказала Лариса, — я никогда не оказывала давления, не требовала дисциплины.
Я тоже не давила и не требовала послушания. Вспомнился один случай, когда я попыталась поворчать на Сережу: «Я не могу любить мальчика, который плохо себя ведет». Трехлетний ребенок, не задумываясь, ответил: «А я тебя люблю, даже когда ты плохо себя ведешь». И я извинилась за то, что сказала неправду.
— Думаю, мы предпочитаем мягкость, потому что не любим наказывать, — заключила Лариса.
Я спросила, переживают ли ее родители из-за истории с публикацией на Западе «Обращения к мировой общественности».
— Что ты имеешь в виду под «переживают»? Они просто не знают.
Мы рассмеялись. Я рассказала, как моя мама советовала прекратить общение с компанией Даниэля, после того как прочитала статью в «Известиях».
— Но я по-прежнему у тебя появляюсь, и твоя мама всегда так любезна, — удивилась Лариса.
— Это потому, что она не знает, что ты жена Юлика. У тебя же другая фамилия. Каждый раз, когда ты уходишь, мама говорит: «Какая милая эта Лариса. Она мне нравится больше всех твоих друзей».
Наша болтовня оборвалась, как только мы увидели первую сторожевую вышку.
Начальник лагеря попробовал привлечь Ларису к перевоспитанию мужа.
— Лариса Иосифовна, — начал он, — прежде всего хотел бы спросить, могу ли я быть чем-нибудь полезным?
— Да, у меня есть одна просьба. Хотелось бы оставить мужу посылку, пять килограммов.
— Конечно, — согласился начальник и написал разрешение на дополнительную посылку. — У меня, Лариса Иосифовна, тоже есть просьба. Нам стало известно, что ваш муж и другие заключенные пьют политуру на нашей мебельной фабрике. Может, вы ему скажете, что такие вещи недопустимы.
— Интересно, в Москве он никогда не пил политуру. Возможно, он пьет ее потому, что больше нечего выпить.
— Ну есть и другой вопрос. Он водит компанию с очень плохими людьми.
— Странно. Мой муж всегда стремился общаться только с порядочными людьми.
— Ну а теперь, Лариса Иосифовна, он связался с людьми, осужденными по статье 70.
— Но позвольте напомнить, что мой муж тоже осужден по 70-й статье. А я знаю, что он порядочный человек. Не думаю, что вам есть о чем беспокоиться. Мой муж не будет дружить с людьми недостойными.
Пока продолжался этот турнир, я обошла поселок. Самыми высокими сооружениями там были сторожевые вышки. Жили в поселке только охранники и гражданский персонал лагерного мебельного цеха, в котором изготовлялись шкафы, столы и стулья.
Когда мы с Ларисой и Саней шли к дому приезжих, где нам предстояло провести ночь, из рабочей зоны нас кто-то окликнул:
— Вы к кому приехали?
— К Даниэлю.
— О, к Юлий Марковичу!
Ясно, что Юлик был здесь знаменитостью.
Одноэтажная «гостиница» располагалась рядом с лагерем. Чтобы получше разглядеть жилую зону, надо было влезть на крыльцо соседней избы. Оттуда мы и увидели Юлика с группой других зэков. Они стояли метрах в пятнадцати от нас.
— Люда, посмотри на этого парня, — крикнул Юлик, указывая на стоящего рядом друга. — Это Толя Марченко. Он, как ты, прочитал всего Ленина, от корки до корки. Через три месяца он освобождается.
Рано утром мы подошли к воротам лагеря. Ровно в семь охранники протянули поперек дороги, в два ряда, толстые металлические тросы — импровизированный коридор от жилой зоны к рабочей. Ворота распахнулись, и заключенные — их было около двух тысяч — под конвоем двинулись на работу. Одним из первых, в крайнем ряду, шел Леня Рендель. Бросилась в глаза желтизна его кожи, как у Алика Есенина-Вольпина, когда я впервые его увидела. Рендель старался двигаться как можно медленнее, пока не прошла вся колонна, и мы успели немного поговорить. В одном из писем он просил меня навестить его мать. Я быстро рассказала, что побывала у нее, выглядит она неплохо и ждет не дождется, когда его выпустят.
Колонна продолжала двигаться — сотни мужчин с бритыми головами, одетые в одинаковые бушлаты и резиновые сапоги. Я стояла в стороне, пытаясь уловить обрывки разговоров. Услышала несколько русских слов, смогла различить украинский, литовский и, как мне показалось, эстонский и латышский языки.
Юлик с Ларисой и Саней уже находились в помещении для свиданий. Мне оставалось только дождаться, когда все заключенные перейдут через дорогу и за ними закроются ворота рабочей зоны.
Только я присела на скамью, стоявшую возле ограды из колючей проволоки, как вдруг услышала:
— Люда!
Я вскочила и повернулась — троих парней вели на работу. Я подошла к ним как можно ближе.
— Толя Футман, — представился один.
— Валера Румянцев, — назвался второй.
— А я Толя Марченко.
В их бравом виде и манерах было что-то от трех мушкетеров — так мне тогда привиделось.
Ночью я не могла заснуть. Непрерывно лаяли сторожевые собаки, окно без штор то и дело освещалось прожекторами. В голове тоже мелькали огни, виды лагеря, колючая проволока, охранники с автоматами и овчарками. Мысли перескакивали с декабристов и Герцена — на Ренделя, с Ренделя — на Даниэля и Синявского.
С детства я знала, что существуют тюрьмы. Мир за колючей проволокой всегда был где-то близко. Там исчезли в 1937-м наши соседи. Туда со скамьи подсудимых отправили Юлика и Андрея. Они переместились в тот, другой мир. Я ничего не знала об этом мире, и ни свидетельства очевидцев, ни пачки самиздатских рукописей не могли его описать. Чтобы начать его понимать, нужно увидеть сторожевые вышки и услышать собачий лай. При этом не надо забывать, что люди, которых перемещают из зоны в зону, ничем от тебя не отличаются. А если и отличаются, то скорее в лучшую сторону.
В следующий четверг я пришла на работу. К моему столу подошла технический редактор, с которой перед самым отъездом мы обсуждали рукопись. У нее было несколько вопросов, и она заговорила так, как будто мы прервали обсуждение минуту назад. Я смотрела на нее с изумлением. Неужели прошла только неделя? Но почему я чувствую себя так, будто прожила целую жизнь? Мне казалось, что я не в Москве, а все еще в лагере. Я стала частью того, другого мира — мира, где вопрос о справедливости даже не ставится.
Арест Даниэля вызвал у моих сыновей сочувствие к нему. Им захотелось узнать, что написал Юлик, и я дала им его книгу. В первый день суда Сережа спросил, может ли он пропустить уроки и пойти со мной. Я согласилась. Когда стало ясно, что друзья подсудимых не попадут на заседание суда, а будут стоять во дворе, он отправился в школу.
Иногда мальчики приводили друзей почитать самиздат. Это было опасно. Неизвестно, как отнесутся к такому чтению их родители, если ребята расскажут об этом дома. Могут возникнуть проблемы. Но я доверяла сыновьям, их умению разбираться в людях, и я не ошиблась.
Сережа был уже в выпускном классе, когда меня неожиданно вызвал директор школы. Он сообщил, что возмущен сочинением Сергея на тему «Молодой гвардии» Александра Фадеева — истории о подпольной группе комсомольцев, которые вели героическую борьбу с фашистами. Сочинение было кратким: «Я не могу описать свои впечатления о книге, потому что она оказалась такой скучной, что я не смог дочитать ее до конца».
— Вы отдаете себе отчет, что это означает? — кричал директор.
— Но что вы хотите? Мальчик просто честно признался, что книга ему не нравится.
В этой ситуации ни я, ни директор ничего не могли поделать. Исключение из школы потребовало бы объяснений, разбирательств, бумажной волокиты. Школьному коллективу пришлось бы разделить ответственность за плохое воспитание ученика.
— Теперь мне ясно, откуда у него такие взгляды, — заявил директор, и он был недалек от истины.
Мальчики понимали, что происходит вокруг, но не очень этим интересовались. Сергей читал Дюма, Миша интересовался экономикой.
Через несколько лет, когда Миша учился уже в десятом классе, он подошел ко мне и извиняющимся тоном сказал:
— Мам, ты, может, не одобришь, но я вступил в комсомол. Мне не хочется быть в стороне от всех, и я думаю, так будет легче поступить в университет.
— Как я могу возражать? Это твое решение, — ответила я.
И я действительно не возражала.
20 июля 1966 года, в мой день рождения, когда все, кроме самых близких друзей, уже ушли, чтоб успеть на последний троллейбус, Левка Малкин предпринял слабую попытку проанализировать произведения Терца и Аржака с литературной точки зрения. Как и раньше, я отказалась обсуждать, насколько удачно Юлик и Андрей употребляют метафоры, пока они сидят в Мордовии.
Реакция Малкина меня поразила:
— Ну и что? Они сидят в Мордовии — и весь мир о них беспокоится. «Нью-Йорк таймс» описывает ход суда. Все носятся, собирают теплые вещи, деньги. А где же были все вы, когда нас сажали?
Мне нечего было ему ответить.
Малкин бросал эти обвинения, сидя в кресле, под зеленой обивкой которого была спрятана отпечатанная на машинке рукопись «Белой книги».
Глава 6
У Толи Марченко заканчивался срок, и мы готовились к встрече. Даниэль предупредил в письме, чтоб водку не покупали — Толя не пьет, а вот к сладкому неравнодушен. Знали мы о Толе очень немного: вырос в Сибири, в маленьком городке при железнодорожной станции; в девятнадцать лет попал в лагерь, бежал, пытался перейти границу с Ираном, его схватили и вернули в лагерь, на этот раз как политзаключенного. Когда я впервые увидела его в Мордовии, то обратила внимание на глубоко посаженные глаза, казалось, лучившиеся каким-то нездешним светом.
Купив десяток эклеров, я примчалась к Ларисе, где уже была Наташа. Втроем мы прождали до полуночи, но Толя не появился. Как оказалось, Юлик перепутал дату.
Марченко приехал через два дня. На нем была лагерная одежда — резиновые сапоги, черные брюки, черный бушлат — со специфическим тюремным запахом, который не могли заглушить даже Ларисины папиросы.
Он откусил пирожное. Никакой реакции, даже намека на удовольствие. Это казалось неожиданным для любителя сладкого, просидевшего шесть лет на лагерной баланде. Он взял еще одно пирожное — опять никакой реакции. Позже я поняла, что какое-то время после освобождения зэки — от потрясения переменой обстановки — не различают вкуса пищи.
Нельзя было не заметить его усталость и нездоровый лихорадочный блеск в глазах. Видимо, он был болен, очень болен. Мы понимали, что ему нужен отдых, но не могли остановиться, задавали и задавали вопросы, а он отвечал и отвечал. Уже перестали ходить троллейбусы, а мы сидели и разговаривали. Потом закрылось метро. Миновало время, когда еще можно надеяться поймать такси. Мы все еще говорили, когда стало светать и послышался звук первых троллейбусов.
Я спросила Толю, почему он начал читать Ленина.
— Хотел научиться думать самостоятельно, — ответил он.
Он намного лучше меня чувствовал советскую историю — благодаря живым первоисточникам в лагерных бушлатах. От сокамерников из Прибалтики и Украины он многое узнал о советском империализме, а тюремный быт испытал на себе. Имея лишь восьмиклассное образование, он с уважением слушал тех зэков, в которых чувствовал интеллектуальное превосходство, но обязательные политинформации, на которые еженедельно сгоняли заключенных, вызывали у него протест:
— Я не хотел, чтоб полуграмотные надсмотрщики объясняли мне, что и как я должен думать. Поэтому я прочитал Ленина от корки до корки.
Его выводы удивительным образом совпадали с моими. Ленин — гибкий политикан, не гнушавшийся лжи, слишком поглощенный историческими фантазиями, чтобы думать о людях.
Рассказывая о лагере, Толя неизменно возвращался к двум конфликтам: между властью и обществом и между личностью и государством.
— Еще две недели без операции, и его бы не стало, — сказал хирург Ларисе, когда она пришла навестить Толю в больнице.
В лагере, месяцев за пять до освобождения, Толя перенес менингит. Но узнал об этом задним числом: диагноз поставил один из заключенных, врач по профессии, которого поразило, что он остался в живых без должного лечения. Хирург в московской больнице рассказал, что когда он вскрыл полость в левом ухе, оттуда выстрелила струя гноя.
— Мне никогда еще не встречался больной в таком запущенном состоянии, — добавил врач.
Толя лежал с забинтованной головой. Стреляющая боль в ухе еще не прошла, но «потустороннего» взгляда уже не было. То, что я принимала за внутренний огонь, оказалось симптомом прогрессирующего воспаления.
Я принесла ему почитать «Графа Монте-Кристо», надеясь, что легкое чтение будет отвлекать от боли. Он равнодушно положил книгу на тумбочку, а когда я собралась уходить, спросил:
— Ты не заберешь «Графа» домой?
— Почему? Это хорошее чтиво.
— Я знаю. Ребята в лагере пересказывали.
— Представляю, на что это было похоже.
— Да нет, они хорошо рассказывали. Но мне надо прочитать так много…
— Это достойная книга, уверяю тебя.
— На такие книги у меня нет времени.
Он попросил принести ему Плеханова.
22 января мы собрались у Ларисы отметить Толин день рождения, ему исполнялось двадцать девять. Он сидел за столом вместе с нами, но почти не говорил, больше слушал. Человеку несведущему могло показаться, что празднуется день рождения Алика Гинзбурга — к нему, составителю «Белой книги», каждый подходил и говорил что-то вроде: «Потрясающая книга! Ее ждет долгая жизнь». Гинзбург принимал похвалы с отстраненным видом. Как и все присутствующие, он знал, что на днях были арестованы трое его товарищей — активистов самиздата, и всем было ясно, что следующим станет он.
Наши похвальные отзывы о книге оказались прощальным словом ее автору. На следующий день его арестовали.
Толины проблемы не ограничивались здоровьем. Он не мог прописаться и найти работу. Московская прописка превосходила по ценности самые дефицитные товары народного потребления. Возможность прописать в столице недавнего политзэка даже не обсуждалась. Найти жилье с пропиской в Подмосковье, за сто первым километром, где дозволялось жить отбывшим заключение, тоже было не просто. Бывало, удавалось подыскать комнату, но местная милиция отказывала в прописке.
— У нас таких уже хватает, — говорил начальник паспортного стола.
В одном из поселков Толю отказались прописать под тем предлогом, что дом, в котором он договорился снять комнату, расположен поблизости от шоссе Ленинград — Москва (кто знает, вдруг «политический» взорвет автобус). В другом месте неожиданно выяснились подробности генерального плана реконструкции, согласно которому к 2000 году вся улица исчезнет с лица земли.
По советским законам гражданин мог не работать не более четырех месяцев. У Толи этот срок подходил к концу. В начале февраля он оказался в положении, когда его могли привлечь к ответственности сразу по двум статьям Уголовного кодекса — за тунеядство и нарушение паспортного режима. Весной он решил ехать к родителям, в Барабинск, где наверняка мог получить и работу, и прописку. Через несколько месяцев, скопив кое-какие деньги, он мог бы вернуться и продолжить поиски работы поближе к Москве.
Возник вопрос, каким образом поддерживать связь. Корреспонденцию Ларисы явно просматривали в КГБ. Мои письма тоже могли вскрывать. Необходим был третий адрес.
— Мне нужно получать письма от одного человека, — сказала я своей подруге-художнице. Она, не задавая вопросов, дала свой адрес.
Пришло первое письмо от Марченко, необычайно толстое — страниц двадцать, заполненных страстными обвинениями лагерных порядков. Каждое второе предложение заканчивалось восклицательным знаком. Но многие места в тексте напоминали его рассказы, которые мы слушали на кухне у Ларисы, удивляясь их яркости. Казалось, будто видишь перед собой людей, о которых он рассказывал, а теперь писал.
Я спросила Ларису, не пробует ли Толя работать над книгой. Оказалось, пробует.
Вскоре после ареста Гинзбурга в Доме ученых появилось объявление: «Сотрудники следственных органов Комитета государственной безопасности выступят с рассказами о своей работе». Среди выступавших значился следователь Пахомов. Именно он вел дело Синявского, но об этом в объявлении, конечно, не упоминалось.
У Ларисы возник план. Через друзей она попросила академика Леонтовича прийти на этот вечер и задать вопрос о деле Гинзбурга. Физик Михаил Леонтович, не делавший секрета из своих симпатий и антипатий, передал, что придет.
Теперь нам с Ларисой оставалось найти способ попасть в Дом ученых, и мне пришлось обратиться за помощью к бывшему мужу.
После развода из наших отношений исчезла напряженность. Валентин регулярно заходил к нам, общался с сыновьями, а мне рассказывал о своих амурных победах. Подтекст был все тот же: «Видишь, сколько вокруг молодых, привлекательных женщин, которым я интересен». Я еще не избавилась от чувства вины, ведь мы расстались по моей инициативе, и Валентин пытался этому воспрепятствовать. Так что если ему нравится рассказывать о своих успехах, приходится это выслушивать.
Как только он снова появился у нас, я спросила:
— Валя, мы с подругой хотели бы сходить в Дом ученых. Ты не мог бы дать мне пропуск?
— Конечно, возьми, — согласился он.
Итак, мы с Ларисой пройдем в Дом ученых, тихонько посидим на встрече с сотрудниками КГБ и увидим, как академик Леонтович вынудит следователя отвечать на неудобные вопросы.
Если б в объявлении упоминалось о роли следователя Пахомова в деле Синявского и Даниэля, аудитория Дома ученых могла бы оказаться переполненной, а так объявление привлекло в основном тех, кто интересовался деятельностью наших героических органов. Человек пятьдесят, в основном пожилые дамы, видимо, матери или тещи членов Дома, сидели в первых рядах. На сцену вышел Пахомов — коренастый мужчина с широким красным лицом, подчеркивавшим белизну нейлоновой сорочки (последний писк моды в Москве 1967 года). Он говорил уверенно, с апломбом.
Иностранные спецслужбы тратят огромные средства на идеологическую войну, заявил он. В таком-то году бюджет ЦРУ составил столько-то миллионов долларов, и значительная часть этой суммы израсходована на поиски и подкуп идеологически неустойчивых граждан в Советском Союзе. «И представьте, товарищи, бывает, что некоторые люди заглатывают эту наживку, как, например, два писателя, дело которых недавно рассматривалось».
Мне стало не по себе. Пахомов не сказал прямо, что западные спецслужбы платили Синявскому и Даниэлю. Такое обвинение не выдвигал даже генеральный прокурор. Факт получения денег от разведки другого государства квалифицируется как измена Родине, а не как «антисоветская пропаганда». Чтобы избежать голословного утверждения, Пахомов прибегнул к иносказанию: наживка, приманка — это не так определенно, как деньги.
Мы с Ларисой огляделись вокруг. Момент был как нельзя более подходящим для того, чтоб Леонтович поднял руку и задал вопрос.
— Ты знаешь, как он выглядит? — шепотом спросила Лариса.
Я не была знакома с Леонтовичем, но однажды, несколько лет назад, видела его издали на даче у Славы Грабаря. Он жил по соседству и зашел на минуту что-то сказать Грабарю.
— Мне кажется, его здесь нет, — ответила я.
Собрание перешло к вопросам и ответам. Пора было что-то предпринять. Лара подняла руку. Пахомов кивнул в ее сторону. Хотя он вел дело Синявского, он вполне мог бы узнать супругу Даниэля, но, видимо, не узнал.
— Меня зовут Лариса Богораз. Мой муж Юлий Даниэль — один из двух писателей, о которых вы упоминали. Мой вопрос состоит из двух частей. Первое. Вы полагаете, что два писателя получили за свою работу какое-то вознаграждение. Я точно знаю, что ни один из них ничего не получал от иностранных разведок. Они даже не получали гонорара. Они опубликовали свои произведения на Западе просто потому, что не могли опубликовать их дома. Если у вас есть какие-либо доказательства, которые не были представлены на суде, хотелось бы их услышать. Второе. Вы только что говорили о гуманности советской системы наказаний и упомянули, что заключенные получают калорийное питание с достаточным количеством витаминов. Не могли бы вы уточнить, каково содержание калорий и витаминов в рационе заключенного?
— Скажу вам прямо, что тюрьма это не курорт, — начал Пахомов сквозь нарастающий гул голосов и выкрики с мест. Пожилых людей, пришедших послушать рассказы о подвигах сотрудников госбезопасности, возмутил вопрос Ларисы.
— Витамины! — с негодованием кричал кто-то. — Да им по пуле всадить вместо витаминов.
Мы поднялись, чтобы выйти, но нас окружила толпа.
Кричали уже несколько человек:
— Вы только посмотрите на них! Витамины им нужны! Фрукты и овощи! Как они здесь оказались вообще?! Кто их привел?! Надо выяснить. Позовите администрацию, пусть проверят документы!
Кто-то пошел за администратором Дома ученых.
У меня в сумке лежал членский билет Валентина. Если до него доберутся, карьера полковника советских Военно-воздушных сил для него закончится. Лариса побледнела. Это ее вопрос вызвал такую ярость. Один необдуманный шаг, и жизнь неповинного человека висит на волоске.
— Да-да, надо проверить, — голос показался знакомым. Это был ученый, книгу которого я редактировала, довольно известный и пользующийся авторитетом.
— Разрешите, пожалуйста. Спасибо. Извините, — приговаривал он, продвигаясь через толпу.
Подойдя к нам сзади, он положил руки нам на плечи и призвал к спокойствию. Увидев, что ситуация под контролем, толпа рассеялась.
— Пойдемте, Люда, быстро, — прошептал он. — В конце коридора открыта дверь, вы сможете выйти.
Очутившись на улице, я вынула из сумки членский билет Валентина и переложила его в карман пальто. Мы пошли по тихой улице. Опасность миновала.
Вдруг сзади прозвучало:
— Извините, подождите, пожалуйста.
Я вздрогнула — нас настигли.
— Я хотел бы вас спросить, — к нам приближался, слегка запыхавшись, молодой человек.
— Я слышал ваш вопрос к Пахомову, — обратился он к Ларисе. — Скажите, как ваш муж решился на такое? Разве может советский человек публиковаться на Западе?
По его тону я поняла, что он и не осуждает и не сочувствует, а просто не понимает. У меня уже был опыт ответов на подобные вопросы:
— А что особенного в том, чтобы публиковаться за границей? Вспомните Герцена, он делал то же самое. Разве он был предателем?
Молодой человек остановился и посмотрел на меня с тем выражением в глазах, которое было мне хорошо знакомо: ответ столь очевиден, что задавшему вопрос теперь кажется странным, как можно было самому на него не ответить.
Ранним августовским утром 1967 года раздался телефонный звонок. Капитан КГБ Миролюбов (в этой организации редко разглашают имя-отчество и даже настоящую фамилию) спросил, не могла ли бы я зайти к нему в тот же день.
— Мы вас вызвали потому, что в записной книжке Гинзбурга есть ваш телефон, — сообщил капитан, предложив мне сесть.
Это была явная ложь. В тот день, когда я забирала у Алика «Белую книгу», он сказал, что оставил записную книжку в надежном месте.
— Конечно. И у меня в записной книжке есть его телефон. Мы знакомы.
— Гинзбург с нами сотрудничает и все нам рассказал, — заявил Миролюбов.
Это тоже звучало неправдоподобно.
— Все, что от вас сегодня требуется, это подтвердить то, что я уже знаю.
Я кивнула.
— Александр рассказал об одном разговоре с вами, состоявшемся у него в квартире 27 декабря, в полдень. Вспоминаете?
— Нет, так сразу не припомню.
— Тогда позвольте вам напомнить. Вы вошли и спросили: «Готово?» Гинзбург ответил: «Нет, еще сохнет». Вы сказали: «Ты с ума сошел? Она уже собралась». Гинзбург: «Ну, еще час, хорошо?» — «Ладно, — сказали вы со вздохом, — пока». — «Пока».
Так, отличная работа. Гинзбург якобы рассказал им, что я произнесла «ладно» со вздохом. Ясно, что квартира прослушивалась, и сейчас мне озвучили запись.
— Понятия не имею, о чем идет речь, — сказала я спокойно.
Конечно, я прекрасно все помнила. Гинзбург проявлял фотопленку, которую отсняли в Мордовии Нина Строкатая и Надия Светличная. Там были фотографии лагеря — сторожевые башни, заключенные под конвоем, по дороге из жилой зоны в рабочую. Некоторые снимки были сделаны с той самой лестницы, на которой я стояла, когда Юлик представил меня Толе Марченко.
Та, которая «уже собралась», это Нина. Она ждала фотопленку, чтобы взять ее с собой на Украину. Алик был хорошим фотографом, ему можно было доверять и не только с технической стороны, но проблема заключалась в том, чтобы получить заказ вовремя. При всех его достоинствах, Алика нельзя было отнести к разряду высокоорганизованных личностей.
В конце концов проявленная пленка отправилась на Украину. Вскоре после возвращения в Одессу Нина передала мне через приезжавшего в Москву знакомого: в ее квартире и в рабочем кабинете были обыски. Потом ее вызывали на допрос, допытывались о какой-то рукописи, о чем она действительно не имела представления.
— Как я уже сказал, Гинзбург нам все рассказал. Мы просто хотим услышать от вас подтверждение, — повторил Миролюбов.
— Мне очень жаль, но я не могу вспомнить. Разговор, о котором вы спрашиваете, был в декабре, а сейчас август.
Что мог сделать следователь? Не влезет же он мне в мозг, чтобы в точности установить, что я помню, а чего не помню.
— Ваша девичья фамилия? — теперь Миролюбов почти кричал, стоя надо мной.
— Славинская.
— Как зовут вашего отца?
— Михаил Львович Славинский.
— Где он?
— Он погиб на войне.
— Я вам сказал — мы знаем все.
— Да. И я отвечаю на ваши вопросы.
— Давал вам Гинзбург какую-нибудь пленку?
— Да. Магнитофонную.
— Что на ней было?
— Песни.
— Была там песня Алешковского?
Понятно, они забрали у Алика магнитофон.
— Не помню. Это было давно.
— Помните песню о селедке, которая вышла замуж за кита?
Я помнила эту песню. Селедка выходит замуж за кита, что поначалу расценивается как проявление разврата, ведь в нашей стране все должно быть правильно — селедки женятся между собой, а кит должен жениться на китихе. Власти приступают к карательным мерам, но вскоре по указанию Центрального комитета оставляют в покое новоиспеченную супружескую пару: ведь если ей удастся производить потомство размером с кита и со вкусом селедки, то в стране появится больше продовольствия для удовлетворения нужд трудящихся.
Я не торопилась с ответом, предвкушая, как капитан Миролюбов будет пересказывать содержание этой песенки.
— Селедка выходит замуж за кита, и это рассматривается как сексуальное извращение, — произнес Миролюбов, опустив часть рассказа о роли Центрального комитета.
— Припоминаю что-то в этом роде. А разве это запрещено?
— Людмила Михайловна, вы меня огорчаете. Я же вам сказал — Гинзбург рассказал нам все. Мы все знаем. От вас нужно только подтверждение.
— Не знаю, какого подтверждения вы ждете. Что селедка вышла замуж за кита?
— Как ваша девичья фамилия? — снова вскричал он.
— Я уже говорила. Славинская.
— Вы знаете, где ваш отец?
— Он убит на войне.
— Вы замужем?
— Разведена.
— У вас есть дети?
— Двое.
— Вам известно, какие меры наказания предусмотрены законом за дачу ложных показаний?
— Известно.
— Где вы работаете?
— В издательстве «Наука».
— У вас хорошая работа?
— Хорошая.
— Как вы думаете, что сделают у вас на работе, если я сниму трубку и расскажу им, что вы отказываетесь давать правдивые показания Комитету государственной безопасности?
— Думаю, им это не понравится. Они даже могут меня уволить. Но я не могу вам помешать — звоните.
— Как ваша девичья фамилия?
— Славинская.
— Где ваш отец?
— Он погиб на войне.
— Людмила Михайловна, вы отказываетесь подтвердить то, что Гинзбург уже рассказал нам. Это очень плохо. Плохо для вас, плохо для ваших детей, плохо для Гинзбурга. Идите домой и подумайте об этом хорошенько.
Какого черта ему надо от моего погибшего отца? Что они хотят найти в моей комсомольской юности? Она чиста, как у Зои Космодемьянской.
Вечером я рассказала все Ларисе. Она внимательно слушала, переспрашивала, просила повторить.
— Он записал твое имя, дату рождения, национальность и все такое прочее перед тем, как стал задавать вопросы?
— Нет.
— Он делал записи?
— Нет.
— Люда, это не был допрос. Похоже, тебя расспрашивал оперативник. Может быть, на тебя заведено дело.
Наш «Красный крест» становился все более активным. К нам постоянно приезжали жены украинских политзаключенных. В то же время Ларису и меня вызывали на допросы по делу Гинзбурга. Мы обе понимали, что можем угодить за решетку.
Я разведена, муж Ларисы — в лагере. Ни у нее, ни у меня нет ни сестер, ни братьев. Что будет с сыном Лары? А с моими детьми? Удастся ли кому-нибудь из друзей попасть в зал суда и рассказать, что происходит?
Не помню сейчас, кому из нас пришло это в голову. Помню только, что поначалу идея показалась нам забавной: нужно всем сказать, что мы — двоюродные сестры. Тогда в случае ареста одной, другая сможет на правах «родственницы» обращаться во все инстанции. Конечно, это будет обман. Надо сказать, что я двумя руками подписываюсь под моральным кодексом Алика Есенина-Вольпина: правда и только правда, но за одним исключением — если небылица состряпана для КГБ. Не вижу ничего предосудительного в том, чтоб ввести в заблуждение эту организацию.
Чтобы навязать КГБ версию о двоюродных сестрах, пришлось начать с обмана друзей. На одной из вечеринок я обратилась к Ларисе: «сестричка», она ответила в том же духе.
Тут же кто-то из компании заметил:
— Я не знал, что вы сестры.
— Двоюродные, — сказала Лара.
Нам тут же поверили. У нас появились свидетели.
Летом 1967 года я нашла для Толи жилье в Александрове, в двух часах езды от Москвы, у одинокой пожилой женщины, которая отрекомендовалась мне как тетя Нюра. Единственная комната в избе была перегорожена буфетом и занавеской. Угол, отведенный для жильца, вмещал кровать, тумбочку и стул. Толе удалось получить прописку и найти работу грузчиком на ликеро-водочном заводе.
Почти каждую субботу Лариса ездила в Александров. Я предполагала, что она помогает Толе писать книгу, но наверняка этого не знала. К тому времени мы с Ларисой пришли к обоюдному согласию — не задавать друг другу лишних вопросов, пока не понадобится помощь. Если одну из нас арестуют, другая на любом допросе может с полным основанием сказать: «Не знаю». Всегда легче сказать правду, а не выдумывать правдоподобную историю.
В сентябре Толе удалось получить отпуск за свой счет, чтобы пожить на подмосковной базе отдыха для писателей и журналистов — одна приятельница снимала там большую комнату, но приезжала только по воскресеньям. Лариса тоже оформила отпуск и провела две недели с Толей за редактированием книги.
В октябре шесть человек собрались в маленькой двухкомнатной квартирке. У нас были две печатные машинки. За три дня нам удалось перепечатать двести тетрадных страниц, заполненных мелким почерком. Так я впервые увидела потрясающую книгу Марченко «Мои показания».
Те, кто умел печатать (таких было четверо), работали по очереди, чтоб сохранять ясную голову. Кто не печатал — диктовал, правил или раскладывал готовые страницы по экземплярам. Одна машинка стучала на кухне, где постоянно кто-нибудь варил кофе или делал бутерброды. Рядом в маленькой комнате спала дочь хозяев квартиры. Остальные трудились в комнате побольше, среди разложенных повсюду пачек бумаги, копирки, отпечатанных листов и рукописных страниц. Там же на старом диване располагался тот, кому пришло время передохнуть.
«Когда я сидел во Владимирской тюрьме, меня не раз охватывало отчаянье. Голод, болезнь и, главное, бессилие, невозможность бороться со злом доводили до того, что я готов был кинуться на своих тюремщиков с единственной целью — погибнуть. Или другим способом покончить с собой. Или искалечить себя, как делали другие у меня на глазах.
Меня останавливало одно, одно давало мне силы жить в этом кошмаре — надежда, что я выйду и расскажу всем о том, что видел и пережил. Я дал себе слово ради этой цели вынести и вытерпеть все. Я обещал это своим товарищам, которые еще на годы оставались за решеткой, за колючей проволокой.
Я думал о том, как выполнить эту задачу. Мне казалось, что в нашей стране, в условиях жестокой цензуры и контроля КГБ за каждым сказанным словом это невозможно. Да и бесцельно: до того все задавлены страхом и порабощены тяжким бытом, что никто и не хочет знать правду. Поэтому, считал я, мне придется бежать за границу, чтобы оставить свое свидетельство хотя бы как документ, как материал для истории.
Год назад мой срок окончился. Я вышел на свободу. И понял, что был неправ, что мои показания нужны моему народу. Люди хотят знать правду.
Главная цель этих записок — рассказать правду о сегодняшних лагерях и тюрьмах для политзаключенных, рассказать ее тем, кто хочет услышать. Я убежден, что гласность — единственное действенное средство борьбы с творящимся сегодня злом и беззаконием».
Рассказы, услышанные нами на кухне у Ларисы, теперь были напечатаны на бумаге, но говорили тем же безошибочно узнаваемым — честным и искренним — голосом Толи.
Перепечатывая некоторые эпизоды, я чуть не ревела. Книга волновала, проникала в душу. Это не выдуманная история и не голословное обвинение. Здесь каждое слово выстрадано. Только Марченко мог запомнить все до мелочей. Только он мог так написать.
— Если бы Галина Борисовна знала, чту здесь сейчас печатается, дивизией оцепила бы весь квартал! — воскликнул один из наших помощников, начав считывать машинописный текст. «Галиной Борисовной» мы называли КГБ.
К рассвету третьего дня работа была закончена, и Толя с Ларой забрали чемодан, заполненный черновиками и свежеотпечатанными страницами окончательного варианта книги. Один экземпляр остался у хозяев дома. Другой отнесли друзьям, находившимся вне подозрений. Третий предназначался для отправки на Запад. Еще три экземпляра шли в самиздат.
Прошли месяцы, прежде чем мы что-то услышали от западного издателя.
Как-то раз я неудачно пошутила:
— Что, автор ждет гонорар?
— Да, — ответил Толя, — но не рублями, а годами.
Глава 7
Усердие властей в борьбе с антисоветскими настроениями не ослабевало. Указом Президиума Верховного Совета РСФСР от 16 сентября 1966 года Уголовный кодекс был дополнен: статья 1901 предусматривала лишение свободы сроком до трех лет за «распространение заведомо ложных измышлений, порочащих советский общественный и государственный строй». Согласно статье 1903, такое же наказание последует за «организацию или активное участие в групповых действиях, нарушающих общественный порядок».
Статья 1901 была гораздо шире статьи 70, предусматривающей наказание за «агитацию или пропаганду, проводимые в целях подрыва или ослабления Советской власти». Чтобы вынести приговор по статье 70, нужно было доказать, что обвиняемый действовал с намерением нанести ущерб Советскому государству. Теперь же, применяя статью 1901, стало достаточно доказать один лишь факт «ложных измышлений», и неважно — сделаны они с целью подстрекательства к бунту или просто для развлечения. Формулировка статьи позволяла интерпретировать ее таким образом, что под нее попадали и публичные выступления, и распространение самиздата, и разговор в кругу друзей.
Вскоре после выхода указа в Верховный Совет РСФСР было направлено письмо, подписанное известными деятелями культуры и науки, а также старыми большевикам (всего — 21 человек), которые предупреждали, что статья 190 противоречит ленинским принципам социалистической демократии и может стать препятствием к осуществлению свобод, гарантированных Конституцией СССР. Среди подписавших были композитор Дмитрий Шостакович и физик Андрей Сахаров. В ту пору его мало кто знал, кроме коллег и друзей, так как многие годы он работал над термоядерным оружием в условиях сверхсекретности. Советская элита подняла голос, требуя от Верховного Совета руководствоваться Советской Конституцией. Идеи Алика Есенина-Вольпина обретали жизнь.
Закон вступил в силу в конце декабря 1966 года, а уже в январе следующего года были арестованы пятеро активистов самиздата (один из них, Илья Габай, к лету был отпущен). Им предъявили обвинения по статье 70 — антисоветская пропаганда. Через несколько дней на Пушкинской площади собрались человек двадцать с требованиями освободить арестованных и отменить 70-ю статью. Ответом на эти требования стал арест еще четверых демонстрантов, но им предъявили обвинения уже по статье 1903.
Демонстрацию организовали молодые смутьяны{9}, близкие к группе, называвшей себя СМОГ{10} — «Самое молодое общество гениев». В основном это были студенты, исключенные из институтов за чтение неподобающих — своих собственных — стихов у памятника Маяковскому. На языке смогистов и памятник, и место сбора возле него именовались «Маяком». В своих дерзких виршах, где богохульство перемешивалось с символами христианской веры, смогисты требовали искусства для искусства и грозились лишить соцреализм девственности. Сборы у «Маяка» не обходились без стычек с милицией, и люди постарше появлялись там крайне редко. Исключение составлял только Алик Есенин-Вольпин.
Двоих арестованных, Виктора Хаустова и Владимира Буковского, осудили по статье 1903 на три года лагерей. Двое других избежали этой участи, выразив раскаяние. Присутствовавшего на суде Павла Литвинова, который вел записи судебных заседаний, вызвали в КГБ и строго предупредили, что и он может быть обвинен по той же статье.
Политические суды имеют обыкновение тянуть за собой новые политические суды.
Предупреждение КГБ не остановило Павла Литвинова. Он направил открытое письмо в «Известия», «Литературную газету», «Комсомольскую правду», «Московский комсомолец», в зарубежные газеты «Морнинг стар», «Юманите», «Унита».
«Считаю своим долгом довести до сведения общественности следующее. 26 сентября 1967 года я был вызван в Комитет государственной безопасности, к работнику Комитета Гостеву (площадь Дзержинского, 2, комната 537). При нашем разговоре присутствовал еще один работник КГБ, не назвавший себя. Сразу после этого разговора я записал его по памяти…
— Павел Михайлович, мы не собираемся с вами дискутировать, мы вас просто предупреждаем. Представляете себе, весь мир узнает, что внук великого дипломата Литвинова занимается такими делами, — это будет пятном на памяти вашего деда.
— Ну, я думаю, что он не был бы на меня в претензии. Я могу идти?
— Пожалуйста. Самое лучшее для вас сейчас: поехать домой и уничтожить все, что у вас есть.
Я знаю, что подобная беседа была проведена с Александром Гинзбургом за два месяца до его ареста. Я протестую против подобных действий органов государственной безопасности, которые являются неприкрытым шантажом. Я прошу опубликовать это письмо, чтобы в случае моего ареста общественность была информирована о предшествующих ему обстоятельствах».
Деду Павла, Максиму Литвинову, знакомы были конфликты с властью. Будучи наркомом иностранных дел, он навлек на себя гнев Сталина, когда рекомендовал воздержаться от заключения пакта с гитлеровской Германией.
Письмо Литвинова-младшего не появилось в газетах — ни в советских, ни в зарубежных, но его можно было услышать по радио. «Голос Америки», «Радио Свобода», Би-би-си, «Немецкая волна» передавали его в течение нескольких дней, называя автора «доктор Литвинов, известный физик и внук покойного наркома». Как и предрекал КГБ, мир узнал, чем занимается внук знаменитого дипломата.
Павел не был ни известным физиком, ни доктором наук. Высокий, рыжеватый молодой человек, он вырос в привилегированной семье. И хотя ему с детства было привычно все, что дают деньги, связи, известное имя и положение, ему хотелось другого. Он познакомился со смогистами. Они были ровесниками и, казалось бы, Павлу придутся по душе собрания у «Маяка» с чтением вольных стихов и столкновениями с милицией. Но он пока присматривался.
Где-то в 1967 году Александр Гинзбург привел его к Ларисе Богораз. Он познакомился с ее друзьями — научными работниками, литераторами. Ему было двадцать шесть, большинству из нас — около сорока. Когда умер Сталин, Павел был еще школьником и не испытал смятения, через которое прошли мы. В душе его не осталось шрамов. К тому времени, когда он вошел в наш круг, все мы уже ответили на мучившие нас вопросы. Мы знали, кто мы есть и чего мы хотим. Присоединившись к нам, Павел завершил поиски в одиночку. Он просто принял наши ответы.
У Павла был свой круг друзей, некоторые из них тоже примкнули к нашему движению. Одним из новичков был Андрей Амальрик.
— Он хороший парень. И полезный — знает кучу иностранных журналистов, — сказал Павел, когда мы отправились к Амальрику.
Я поняла, что именно он участвовал в пересылке на Запад обращений и рукописей.
Амальрик жил в коммуналке на Арбате. Половину его комнаты занимал концертный рояль, на котором ни Андрей, ни его жена играть не умели. Зато Гюзель писала картины. Ее холсты использовались вместо штор и перегородок. В комнате стоял большой, с виду самодельный стеллаж, на котором красовались десятки книг эмигрантских издательств. В то время такие книги были огромной редкостью, а люди, которым удавалось их раздобыть, не выставляли их напоказ.
Позднее, когда мы познакомились поближе, я поняла, что Амальрик — прирожденный бунтарь. На первом курсе исторического факультета МГУ он написал работу, оспаривавшую официальный взгляд на происхождение российской государственности от племенного устройства славян{11}. Амальрик встал на сторону некоторых дореволюционных историков, которые доказывали, что государственное управление в России было установлено варягами, славяне сами призвали их для этой цели. Заявление о том, что славяне вроде бы были неспособны самостоятельно управлять и даже признавали это, наносило удар по патриотическому воспитанию студентов в духе «Россия — родина слонов». За столь опасные мысли Амальрика из университета исключили.
Андрей начал писать пьесы, а на жизнь зарабатывал посредничеством — продавал картины художников-авангардистов иностранцам — журналистам и дипломатам. В 1964 году его осудили за тунеядство и отправили на работу в сибирский колхоз. Вернувшись в Москву в 1966 году, он возобновил встречи с иностранцами. Во время процесса над Гинзбургом, стоя на ступенях здания суда, он познакомился с будущим издателем своего эссе «Просуществует ли Советский Союз до 1984 года?» (В то время советская империя казалась нерушимым монолитом, а Андрей предсказывал ее крах.) Позднее он стал называть себя «офицером связи» правозащитного движения.
Амальрик был близок к смогистам, но не был одним из них. Мы с Ларисой и Павлом знали, что на него можно положиться, но и в наш круг он не вошел. Дерзкий, бесстрашный, острый на язык, Андрей имел обыкновение говорить все, что думал.
— Как ты постарела и растолстела, — и такое можно было от него услышать.
Рассчитывать на великодушие не приходилось даже его друзьям, представителям западной прессы. Им досталось по полной программе в язвительной и блестящей его статье (самиздатской, конечно) «Иностранные корреспонденты в Москве». За спиной друзья, и нынешние, и бывшие, называли его «одинокий волк». Некоторые даже считали, что отсутствие страха объясняется тем, что он агент КГБ. И только его второй арест, в 1970 году, убедил скептиков в том, что они ошибались.
Павел освещал процессы Хаустова и Буковского в лучших традициях «Белой книги» Гинзбурга и стенограмм Фриды Вигдоровой, подробно записавшей ход судебного разбирательства по делу Иосифа Бродского. Литвинов работал открыто, созваниваясь с источниками по телефону и не скрывая намерения завершить рукопись. Он действовал так, как будто в стране правил закон и суды не подчинялись политическим интересам Коммунистической партии. Как декабристы отрицали власть тирании, так Павел не признавал КГБ. Он вел себя как гражданин в ситуации, когда гражданственность, героизм и открытое неповиновение значат одно и то же.
Несмотря на предупреждения со стороны КГБ, Павел довел записи до конца. Пока рукопись готовилась к публикации в Лондоне, Павел готовился освещать другой политический процесс — над активистами самиздата Юрием Галансковым, Александром Гинзбургом, Алексеем Добровольским и Верой Лашковой{12}.
Если дело Синявского и Даниэля касалось права публиковаться за границей, то дело четырех самиздатчиков касалось права всех нас на неподцензурный самиздат. Мы уже не мыслили жизни без него.
Пока было неясно, к чему склоняются власти — назад к сталинизму или, напротив, к продолжению либерализации. Обе тенденции наблюдались одновременно. Так, Синявского и Даниэля отправили в лагерь, а опубликовавшегося за рубежом Валерия Тарсиса, писателя гораздо менее заметного, выслали за границу. Запретили публикацию «Ракового корпуса» Солженицына, но напечатали «Мастера и Маргариту» Булгакова. Алика Есенина-Вольпина не арестовали после демонстрации на Пушкинской площади, а Галанскова, Гинзбурга, Добровольского и Лашкову судили за самиздат.
Эти противоречия говорили о том, что курс не определен окончательно, и значит, наши действия могут что-то изменить. Настало время бороться за самиздат, и бороться в открытую. Самиздат невозможно защищать тайно.
Мы наносили ответный удар потоком петиций. Будь мы на несколько лет моложе, мы скорее предпочли бы демонстрации. Но когда вам уже сорок, выкрикивание лозунгов на улицах теряет свою привлекательность, да и то, что нам хотелось сказать, в краткие лозунги никак не умещалось. Даже в подробностях непросто объяснить, что такое гласность и верховенство закона, правителям, которым эти понятия непривычны и подозрительны. Тем не менее сотни людей были готовы сказать им, почему они против их политики. Мы выражали свое несогласие в подходящей для людей нашего возраста и социального положения форме — письменно. Письма сочинялись самые разные — длинные и короткие, сдержанные и резкие, эмоциональные и юридически выверенные. Если письмо нравилось тем, кто его прочел, они его подписывали вслед за автором.
В течение года бомбардировке письменными обращениями граждан подверглись ЦК КПСС, Верховный Совет, КГБ, генеральный прокурор, министры здравоохранения и внутренних дел, союзы писателей и журналистов, Институт питания, Институт государства и права, президенты Академии наук и Академии медицинских наук, ректор Московского университета, патриарх всея Руси, а также «Правда», «Известия», «Литературная газета». В надежде быть услышанными через зарубежные издания мы писали в чехословацкие газеты «Руде право» и «Литерарни листы», во французскую «Юманите», итальянскую «Унита», британскую «Морнинг стар» (это все газеты коммунистических партий) и на радиостанцию Би-би-си, даже Съезду коммунистических и рабочих партий в Будапеште.
В 1968 году в лексиконе появилось новое слово — «подписант». Оно рифмовалось со словом «диверсант», и вскоре в официальной печати прижился ярлык «идеологические диверсанты» — так клеймили активных участников кампании петиций. А таких было около тысячи.
По своему опыту знаю, как трудно было подписать первое письмо. Все, что я делала раньше — встречалась с Ларисой Богораз и Марьей Синявской, дежурила у здания суда, наблюдала за демонстрацией на Пушкинской площади, прятала «Белую книгу», навещала Даниэля в лагере, перепечатывала рукопись Марченко, — еще не означало открытого неповиновения. Оставался шанс, что «они» не узнают.
Если я подпишу, что будет со мной, с сыновьями? С работой? Что делать, если я ее потеряю? Помню, я увидела объявление: «Швейной фабрике „Большевичка“ требуются швеи-мотористки». От кого-то я слышала, что умелая швея может заработать до 240 рублей в месяц. В издательстве «Наука» я получала, вместе с премиями, 280 рублей.
А если не подписывать?
Даже младший, четырнадцатилетний, сын Миша как-то спросил:
— Все вокруг подписывают письма, и твои друзья тоже. А ты уже подписала?
Что я должна была ответить? Что дорожу сорока рублями, своей работой и его будущим? Но как же тогда я смогу говорить сыновьям, что они всегда должны поступать по совести? Как смогу научить их не быть трусами? Чего я хочу? Чтоб они были сыты или чтоб выросли порядочными людьми? Конечно, и то и другое важно, но приходится делать выбор. Такие времена.
На следующее утро я подписала письмо, в котором 118 человек требовали, чтоб предстоящий суд над Галансковым и Гинзбургом был открытым.
С этого момента подписывать письма стало легче. Через месяц Есенин-Вольпин принес письмо с требованием открытого суда над Галансковым, Гинзбургом и другими обвиняемыми.
Подписав и это письмо, я предложила:
— Слушай, дай мне копию. Я буду в одной компании, там наверняка все подпишут.
Большинство знакомых в этой компании подписывали письма в защиту Синявского и Даниэля. Мне казалось естественным и сейчас ожидать от них поддержки.
Вечером, оказавшись за столом вместе с четырьмя парами, по их холодным сдержанным взглядам я поняла, что ошиблась.
— Послушай, Люда, — начал один из присутствующих, — если протестовать против каждого проявления несправедливости в этой стране, возникает вопрос — с чего начинать и где остановиться? Как тут выбирать?
— Мы писали письма в защиту Даниэля и Синявского, потому что они наши друзья, — продолжил другой гость. — Мы защищали своих друзей — только и всего. А ввязываться в эту борьбу, значит, лезть в политику. Этого мы не хотим. Мы ж не политики, а просто люди.
Я тоже просто человек и тоже не жаждала лезть в политику. Но защита самиздата — не политика. Мы защищали нашу свободу выбирать, что нам читать, защищали свой образ жизни. Это, если угодно, была самооборона. Но эти люди свой выбор сделали.
Когда я уходила, хозяин чмокнул меня в щеку и произнес:
— Люда, обещаю, если эти сволочи тебя арестуют, мы напишем целую кучу писем. Знаешь почему? Потому что мы твои друзья.
Принципы или работа — выбор не всегда был так прост. Для некоторых возможность продолжать работу и было принципом. Супруги Юра и Марина Герчуки из компании Даниэля, специалисты по русской архитектуре, с увлечением занимались делом своей жизни — сохранением исторических и архитектурных памятников. После письма в защиту Даниэля Юру исключили из Союза художников. Герчуки продолжали дружить с Ларисой и Юликом, но в подписании писем не участвовали.
— Памятники разваливаются, их нужно спасать. Если мы не будем работать, кто это сделает? — говорила Марина.
Дня за два до начала суда над Галансковым и Гинзбургом я зашла к судье и подала письменную просьбу разрешить мне присутствовать на процессе.
— Не беспокойтесь, для вас найдется место, — заверил меня судья Л. К. Миронов. — Это открытый суд.
Он лгал, и мы оба это знали.
Утро 8 января 1968 года выдалось еще более морозным, чем в тот день, когда судили Синявского и Даниэля. Мы стояли возле Мосгорсуда, наблюдая, как в здание входят назначенные наблюдатели и выходят свидетели. Вся в слезах появилась Аида Топешкина — подруга Галанскова, выступавшая свидетельницей. Она пыталась остаться в зале, взывала к закону, но судья Миронов приказал ей удалиться, и ее насильно вывели охранники.
К концу четвертого дня я заметила, что Павел и Лариса куда-то торопятся. Они пытались поймать такси, но ни одно не остановилось. Тогда Павел подошел к водителю черной «Волги», которая повсюду за ним следовала.
— Подвезете? — спросил он.
— Не положено, — ответил оторопевший оперативник.
— А если вы нас потеряете?
— Не беспокойтесь, не потеряем.
Через три часа, когда я дома включила приемник, голос из Лондона зачитывал обращение Богораз и Литвинова «К мировой общественности». Авторы призывали дисквалифицировать судью Миронова и освободить обвиняемых до повторного суда, который должен проводиться в соответствии с советскими законами и в присутствии международных наблюдателей.
«Мы передаем это обращение в западную прогрессивную печать и просим как можно скорее опубликовать его и передать по радио, — писали Лариса и Павел. — Мы не обращаемся с этой просьбой в советские газеты, так как это безнадежно».
На следующее утро у здания суда собралось человек двести.
— Какой приговор? — спрашивали в толпе, когда из здания стали выходить очевидцы, некоторые — в форме офицеров КГБ.
— Мало дали, — буркнул один из них.
Вопрос повторяли.
— Какой приговор?
— Больше надо бы.
— Сколько дали?
— Мало. Мало получили.
Галанскова осудили на семь лет, Гинзбурга на пять, Лашкову — на один год. Добровольский, сотрудничавший с обвинением, получил два года.
После окончания суда к Ларисе подошел иностранный журналист и обратился к ней по-русски:
— Пожалуйста, скажите, не мог бы я что-то для вас сделать?
— Спасибо, вы уже достаточно сделали.
— Я имею в виду — могу ли я что-то сделать для вас лично?
— Вы очень любезны, но у меня все в порядке.
Журналист удалился.
— Кто это? — спросила я.
Зная, что с Ларисой может случиться все что угодно, я подумала, что иностранный корреспондент, предлагающий содействие, — это просто находка.
— Анатоль Шуб, — ответила Лариса.
— Откуда он?
— «Вашингтон пост» или «Нью-Йорк таймс», что-то в этом духе, точно не помню.
К счастью, я запомнила это имя.
Через шесть дней после объявления приговора, 18 января, один из редакторов в издательстве «Наука» дал мне посмотреть номер «Комсомольской правды», где печатался материал о суде. Я быстро пробежала глазами первые абзацы с хорошо знакомыми обличительными сентенциями и вдруг наткнулась на имя французского гражданина, который получил рукопись «Белой книги»: Михаил Славинский.
В шоке я села, откинулась на спинку стула. Время остановилось. Не знаю, прошел час или несколько секунд, прежде чем я начала лихорадочно соображать. Отец — во Франции?! Он опубликовал книгу, которую я держала в руках. Книгу, которую я прятала под обивкой кресла. Должно быть, он попал в плен. Наверное, прошел через фашистский концлагерь. Он жил в другой стране, пытался представить, что с мамой и со мной, не решался с нами связаться. Но Родина — его самое заветное желание. У него есть свой «Колокол», и я оказалась его частью.
Как быть с мамой? Рассказать ли ей об отце или лучше сначала самой с ним связаться? Но как это сделать?
Вспомнился допрос в КГБ: «Ваша девичья фамилия?», «Где ваш отец?» — следователь несколько раз повторял одни и те же вопросы. Они, конечно, знают больше. А что там с записью моего разговора с Аликом Гинзбургом: «Готово?» — «Нет, еще сохнет». — «Ты с ума сошел? Она уже собралась». Затем — обыск в квартире Нины Строкатой в Одессе. Что они искали? «Белую книгу»?
Теперь ясно. Среди знакомых Алика они заприметили Людмилу Михайловну Алексееву, девичья фамилия Славинская. Людмила Славинская. Дочь Михаила Славинского, издателя «Белой книги». Людмила знает Александра Гинзбурга. Должно быть, она как-то общается с отцом. Она взяла у Гинзбурга фотопленку с текстом. Переправила ее с Ниной в Одессу. Туда приходят пароходы из Марселя. Нина отдала фотопленку французскому моряку. Он привез ее во Францию и передал Михаилу Славинскому.
История получалась складная и соблазнительно простая. Но я-то знала, что ничего этого не было. В то же время благодаря этой истории я узнала, что отец жив… Если только этот Михаил Славинский действительно мой отец.
В ту ночь я видела его во сне. Он не постарел. Мы разговариваем. Он жалеет, что не сделал попытки связаться с нами. Он мог бы попробовать, но знал, что это опасно для нас. Нас объявили бы шпионами и его тоже. Я соглашаюсь. Он говорит, что у него новая семья.
Я просыпаюсь, но наш разговор продолжается в полусне. Я рассказываю ему, какие у него внуки. Говорю о своей жизни, взглядах, друзьях. О Ларисе Богораз, Юлике Даниэле, Павле Литвинове, Толе Марченко. Объясняю, что стараюсь жить честно, как всегда жил он. Я говорю быстро, без слов. Он кивает в ответ.
Я говорю о маме — она не знает всего, что происходит в моей жизни. Я так люблю ее, что не могу нагружать ее своими проблемами. Она знает только половину меня, ту половину, которая всем видна, у которой нет тайн. Снова я говорю без слов, он снова кивает. Неужели он жив?
Что теперь делать? Я ведь не смогу приехать к нему во Францию, а он не сможет навещать меня здесь, его не пустят. Но нужно найти этого человека и убедиться, что это мой отец, что он жив.
Следующей ночью он опять появился. Мы опять разговаривали. Я проснулась — мы продолжали разговор.
Как найти способ связаться с отцом? Я немного знала француженку, которая училась в Москве и встречалась с племянником Славы Грабаря. Она только что вернулась после зимних каникул, до следующей поездки во Францию оставалось целых пять месяцев.
Маме пока ничего рассказывать не буду. Если разыщу отца, сразу же ей скажу, а если нет, то зачем подвергать ее таким волнениям… Летом я получила открытку из Парижа: «Он старше тебя на четыре года».
Итак, я зря надеялась. Отец не имел никакого отношения к «Белой книге», он никогда не был во Франции. Он погиб в Мясном Бору.
Но как же в КГБ могли всерьез считать, что этот человек — мой отец, спрашивать мою девичью фамилию и даже пытаться заставить меня сделать какое-то признание. Мне было горько расстаться с надеждой, что отец жив, я будто снова его потеряла. Но, кроме горечи, была злость на дурость тех, кто подал мне надежду. Если я, обыкновенная советская гражданка, меньше чем за полгода сумела выяснить, что этот Михаил Славинский, увы, не мой отец, то «компетентные органы» должны были бы сделать это за один день. А они выстроили цепочку: Александр Гинзбург — Людмила Славинская — Нина Строкатая — французские моряки — русские эмигранты. Они оказались так же некомпетентны, как и все остальные советские бюрократы. Разумеется, они получают больше, но это еще не значит, что лучше работают. Просто больше пьют.
В конце января Борис Шрагин, муж Наташи Садомской, показал мне письмо, которое он адресовал генеральному прокурору Роману Руденко. В нем повторялись требования, изложенные в обращении Ларисы и Павла «К мировой общественности». Я подписала это письмо и предложила показать его нескольким друзьям — пусть тоже подпишут.
Одним из первых письмо увидел математик Юлик Добрушин.
— Если можно убрать последние строчки, я с удовольствием подпишу, — сказал он. — Думаю, несколько моих друзей тоже подпишут.
Там говорилось, что, если Руденко не ответит на письмо, авторы будут вынуждены обратиться к мировой общественности. Идея убрать эту фразу, ничего не добавляющую к сути письма, казалась мне вполне приемлемой. Я сказала об этом Шрагину, он согласился.
Юлик подписал письмо и за два дня получил подписи восьми друзей. Я отправилась собирать подписи нищих сибаритов. Первым подписал Коля Вильямс. Потом я навестила Славу Грабаря. Он и его жена, Лена Копелева, тоже поставили свои подписи.
Следующим был Лесь Танюк, режиссер Московского центрального детского театра. Раньше он жил на своей родной Украине, где ему приходилось переезжать с места на место, как кочевому цыгану. В начале шестидесятых он заведовал в Киеве Клубом творческой молодежи. Одно время комсомол поощрял новые формы досуга, надеясь оживить официальную пропаганду и усилить патриотическое воспитание. В клубе собирались студенты, рабочие, молодые специалисты, часто выступали писатели, критики, поэты — до тех пор, пока комсомольские лидеры не осознали, что, собравшись вместе, патриоты читают стихи, не публиковавшиеся в советских изданиях, и обсуждают историю Украины совсем не так, как ее преподавали в школе. Клуб прикрыли, и Танюк переехал в Одессу, нашел работу режиссера в маленьком городском театре и уговорил местный комсомол открыть Клуб творческой молодежи. Клуб просуществовал недолго, спектакли запрещались. Танюк переехал во Львов, потом в Харьков — везде история повторялась. Устав от маленьких театров и комсомольских боссов на Украине, Танюк перебрался в Москву.
— Встретимся вечером, в половине одиннадцатого, в сквере у Большого театра, — предложил Лесь, когда я до него дозвонилась.
Мы сели на скамейку под фонарем. Танюк бегло просмотрел документ, как будто уже был знаком с содержанием, и подписал его. Он, конечно, понимал, что может снова потерять работу, но ему было не привыкать.
Следующим вечером я отправилась к одному знакомому, которого мы с Ларисой считали своим другом. Не так давно он помогал Толе, когда тот писал «Мои показания», давал книги для отправки в лагеря, вносил деньги в наш «Красный крест».
Он внимательно прочитал письмо и, возвращая мне, сказал:
— Я не стану подписывать. Более того, я бы и вам посоветовал убрать свою подпись.
— Почему?
— Потому что делать что-то полезное и вести себя как идиоты — это большая разница. Посылать такое письмо — это все равно что пойти в КГБ и сказать: «Вот они мы. Вот что мы делаем. Вот наши адреса. Присылайте за нами „черный ворон“, когда вам будет удобно». Этим людям платят за то, чтоб они нас искали. Делать работу за них — это просто идиотизм.
— Но как можно добиваться гласности, чтоб об этом не стало известно КГБ?
Если принять этот аргумент и быть последовательным, нельзя не действовать открыто. И с этим придется жить.
Через несколько дней, без предупреждения, появилась Лариса.
— Это ты вычеркнула из письма последнюю фразу?
— Я это предложила.
— Ты не имела права менять текст автора.
— Я его спрашивала, и он согласился.
— Зачем ты это сделала?
— Юлик Добрушин сказал, что без этой фразы он соберет больше подписей.
— А о тех, кто подписал первый вариант письма, ты подумала? Ты ведь не знаешь, стали бы они подписывать письмо без последней фразы.
— Но с этой фразой не подписали бы друзья Юлика.
— Ну так и черт с ними!
Лариса ушла, хлопнув дверью. Дня на два — три мы превратились в идеологических противников.
Примерно через месяц после суда над Гинзбургом и Галансковым, 14 февраля, в квартиру Алика Есенина-Вольпина вошли милиционеры в сопровождении психиатра. Услышав от них: «Пройдемте», Алик ответил кратко: «Не пойду» и не сдвинулся с места. Он не сопротивлялся, но и помогать незаконной акции насильственного задержания не собирался. Его буквально выволокли из дома и поместили в психиатрическую больницу для хроников и направленных на принудительное лечение уголовников.
Через несколько часов о случившемся стало известно. Слова «не пойду» передавали друг другу сотни друзей и знакомых Алика. Под письмом с требованием его освобождения поставили подписи девяносто девять математиков. Два академика обратились к министру здравоохранения. Через несколько дней Алика перевели в обычную психбольницу, а через три месяца, 12 мая, выпустили.
Петиционная кампания не помогла смягчить участь Галанскова и Гинзбурга, но Алику помогла. Это был первый случай, когда власти посчитались с мнением общественности.
Глава 8
Из парткома издательства сообщили, что меня вызывают на заседание бюро Бауманского райкома партии. Позвонила Наташе. «Бориса тоже вызывают», — сообщила она. Это мне совсем не понравилось.
Перебирая в памяти последние события, я гадала, чем я могла привлечь внимание партийных боссов — участием в перепечатке «Моих показаний» или в работе нашего «Красного креста»? Что они могли узнать?
Первым, кого я увидела, явившись на следующий день в райком, оказался Мося Тульчинский, первый муж Наташи и мой коллега по издательству. Он сидел в приемной с таким грустным видом, что, казалось, тысячелетняя скорбь всего еврейского народа отпечаталась на его лице.
«Почему он здесь?» — подумала я. О Толиной книге он даже не знал.
Меня вызвали первой.
Человек двенадцать сидели за длинным, покрытым зеленым сукном столом, в центре которого стоял графин с водой.
— Людмила Михайловна, расскажите, пожалуйста, чем вы занимаетесь последние три года?
— Работаю редактором в издательстве «Наука».
— А что вы делаете помимо работы?
— Воспитываю детей.
— А еще?
— Книги читаю.
— Ну а еще что делаете?
— Ничего.
— Скажите, вы подписывали какие-нибудь письма?
— Что вы имеете в виду?
— Например, письмо генеральному прокурору.
Это письмо я подписала: «Л. Алексеева, редактор». В СССР, наверное, тысячи Л. Алексеевых, не только Людмил — немало женских имен начинается на букву «Л». Множество женщин работают редакторами в сотнях учреждений.
При взгляде на лица членов бюро райкома мне показалось, что они сомневаются — может, вызвали не ту Алексееву. Они, конечно, изучили мое личное дело и знали, что родители мои — члены партии, отец погиб на войне. Моя биография типична для любого советского гражданина. Я могла бы сделать вид, что не знаю, о чем идет речь. Но я ответила:
— Да, подписывала.
— Почему вы подписали это письмо?
— Я согласна со всем тем, что изложено в этом письме, поэтому и подписала.
— Что же заставило вас думать, что в письме все правильно? Разве вы не читаете газет? Там четко и ясно сказано: Галансков, Гинзбург и остальные обвиняемые на поверку оказались лакеями иностранных разведок.
— То, что напечатано в газетах, просто неправда. Как и в деле Синявского и Даниэля, доказательства либо отсутствуют, либо сфабрикованы.
— Вы подписывали еще какие-нибудь письма?
— Да. Я подписала три письма, в разные официальные инстанции.
— Кто автор письма генеральному прокурору Руденко?
— Я не знаю.
— Как же можно подписать письмо, если вы даже не знаете, кто его автор?
— Я согласна с каждым словом в этом письме. И мне неважно, кто его написал.
— А кто принес письмо вам на подпись?
— Мне не хотелось бы отвечать на этот вопрос, это было бы непорядочно.
— Что для вас важнее — ваши отношения с кем-то, кто принес вам письмо, или ваши отношения с Коммунистической партией Советского Союза? Вы забыли, что вы — коммунист?
— Нет, не забыла. Но я всегда думала, что коммунист это человек чистой совести и высокой морали. Не доносить на других — это вопрос порядочности.
Я говорила, не отрывая взгляда от зеленого сукна, стараясь сконцентрироваться на каждом слове, как будто декламировала монолог из всем известной пьесы. Я была одна среди врагов и знала, что могу потерять все, чего добилась за свои сорок лет. Это была почти что ситуация Зои Космодемьянской. Только я больше не хотела быть на нее похожей. У меня был другой пример для подражания — Лариса Богораз. Я думала о том, с каким достоинством и самообладанием она держалась на допросе в КГБ во время следствия по делу Даниэля и Синявского. Поставив подпись под первым письмом, я сделала свой выбор, и пути назад нет.
Как бы со стороны я слышала свои ответы и осознавала, что не играю роль Ларисы, а остаюсь сама собой. Это не Лариса, это я. И я радуюсь, что не собираюсь вилять хвостом и позволять внушать мне, что хорошо и что плохо. Отныне моя жизнь, моя душа принадлежат только мне, и они ничего не смогут с этим поделать.
И я не одинока. Других подписантов тоже вызывают в райкомы и отделы кадров. Это гласность делает следующий шаг. Выплескивается из компаний, перетекает из кухонь в кабинеты власть имущих.
Наше желание высказать властям то, что мы думаем, не было просто взрывом эмоций. Мы сознавали, что реальные изменения невозможны без участия властей. В их руках — политическая сила. Мы не намеревались занять их место. Не собирались брать в руки оружие и организовывать подпольные ячейки. Мы приглашали власти к диалогу. Чтобы начать диалог, нужно заявить им о себе — кто мы такие и чего хотим.
В какой-то момент я оторвала взгляд от зеленого сукна и увидела их лица — всех оттенков красного и малинового. Казалось, половину из присутствующих сейчас хватит удар.
Мне сказали, что я могу идти.
Пока меня допрашивали, Тульчинский совсем поник.
— Моська, они спрашивают о письме, требуют назвать автора, — быстро сказала я ему.
Нам удалось поговорить пару минут, пока в кабинете пили воду и валерьянку.
Моське совсем не хотелось, чтоб его исключили из партии и уволили с работы. Но сказать, что письмо подписал не он, а какой-то другой Моисей Тульчинский, было бы непорядочно, да и звучало бы неправдоподобно. Не мог он и называть автора письма — Бориса Шрагина, второго мужа своей первой жены. Ситуация — хуже некуда.
— Скажу, что это я автор, — решил он.
Я живо представила картину: грустный Моська признается: «Это я написал» и становится еще печальнее. Он так и сделал, но ему не поверили.
Вечером того же дня Борис рассказал, что двое его друзей, Юрий Давыдов и Пиама Гайденко назвали автора письма и отреклись от своих подписей. Поняв, что могут потерять работу, они сочинили историю, которая, по их мнению, могла служить оправданием. Шрагин якобы пришел к ним поздно вечером и настоятельно просил подписать какое-то сочиненное им письмо. Поскольку они всегда ему доверяли, то, не вникнув в суть письма, поставили свои подписи. Теперь они утверждали, что не отвечают за свои действия, так как хотели спать и не соображали, что делают. Виноват во всем Шрагин, который принес им письмо, адресованное, оказывается, генеральному прокурору. При всей абсурдности объяснений, их простили. Они сделали именно то, чего так хотели власти — раскаялись и предали друга.
Еще пятнадцать лет назад они так просто не отделались бы и, несмотря на чистосердечное раскаяние, оказались бы где-нибудь на Колыме. Но времена изменились, и сколько бы брежневская команда ни тосковала по сталинским порядкам, исторической возможности вернуться к массовому террору уже не было. Московские интеллигенты не исчезали под покровом ночи даже в разгар политических волнений 1968 года. Теперь приходилось соблюдать формальности, создавать подобие законных оснований для арестов и инсценировать открытые судебные процессы.
Политические суды, особенно те, что проводились в Москве, вызывали какой-то общественный протест. После каждого такого суда росло число людей, которые, выступив с протестом, теряли работу, утрачивали привычный социальный статус. Тем не менее они снова и снова протестовали против политических преследований и требовали гласности. Их было не так много — может, несколько десятков активистов и около тысячи сочувствующих. Но кто-то должен был начать.
Мы продолжали бы делать то, что делали, даже если бы не было никаких результатов, но результаты были. В то время как власти в стране игнорировали наши призывы к диалогу и гласности, зарубежные средства массовой информации стали постоянно и подробно освещать политические судебные процессы в Советском Союзе. В последующие пятнадцать лет аресты и суды по политическим мотивам в Москве, Ленинграде, Вильнюсе, Киеве, других городах не оставались без внимания аккредитованных в СССР западных корреспондентов. Их репортажи на русском языке доносились до нас с «Голоса Америки», «Радио Свобода», Би-би-си, «Немецкой волны» и других радиостанций. Их слушали десятки миллионов советских граждан.
Благодаря передачам на коротких волнах тысячи несправедливо преследуемых и недовольных людей по всей стране узнали, что в Москве существует горсточка людей, имеющих доступ к иностранным журналистам. Украинцы, литовцы, латыши, армяне, крымские татары, турки-месхетинцы, немцы Поволжья, евреи, баптисты, адвентисты, пятидесятники получили возможность через московский самиздат и наши связи с западной прессой сделать свою борьбу достоянием гласности.
В соответствии с канонами партийной дисциплины дела Людмилы Алексеевой и Моисея Тульчинского были переданы из райкома в партийное бюро по месту работы. Для издательства «Наука» это стало крупной неприятностью. Не так давно директора издательства Михаила Самсонова и секретаря партбюро Евгения Еськова вызывали в ЦК и «прорабатывали» за публикацию книги Александра Некрича «22 июня 1941». Автор писал правду о начале Великой Отечественной войны — Сталин игнорировал неоднократные предупреждения и не готовил страну к войне с Германией. В результате фашисты оказались под Москвой и нанесли невосполнимый урон Красной Армии в первые же месяцы военных действий.
Первый тираж книги мгновенно исчез из книжных магазинов. Я успела приобрести два экземпляра в издательстве.
Книгу Некрича несомненно ждал большой успех. Но ответственный редактор впала в панику. Испугавшись, что ее назовут сообщницей в издании ревизионистского трактата, она «сигнализировала» об опасности заведующему отделом. Получив от него указание продолжать работать, она обратилась к Самсонову — результат был тот же. Пока она поднималась по инстанциям, подготовка публикации шла своим ходом. К тому времени, когда ее жалобы достигли ЦК, книга уже лежала на прилавках.
В Центральном комитете решили, что распространение исторического произведения Некрича не служит интересам партии. Книгу постановили изъять из продажи. Самсонов и Еськов получили «строгий выговор с предупреждением» — следующим после такого дисциплинарного взыскания было исключение из КПСС. Этой «высшей кары» они избежали, согласившись публично признать свою «политическую ошибку».
Признание делалось на общем партийном собрании издательства. Я сидела в заднем ряду и наблюдала, как двое солидных ученых сокрушаются по поводу своей политической незрелости. Они оба были фронтовики и не могли не знать, что Некрич написал правду о 1941 годе, но как коммунистам им приходилось изображать глубокое сожаление.
Теперь Еськову и Самсонову предстояло принять участие в заседании партбюро, созванном для рассмотрения неблаговидного поступка Алексеевой и Тульчинского.
Меня усадили за стол, в центр, напротив Самсонова, и предложили раскрыться перед партией и назвать имя автора письма генеральному прокурору. Это требование повторялось несколько раз, и каждый раз я отказывалась. При этом Самсонов тяжело вздыхал, бросая на меня выразительные взгляды — в них было и предостережение, и сочувствие. Он пытался дать мне понять: нужно изменить линию поведения, пойти на компромисс или хотя бы выразить сожаление о том, что моя подпись стоит под этим ужасным письмом.
— Люда, думаю, ты не понимаешь ситуацию, — стал мне шептать Еськов, когда мы вышли на перерыв. — Решается вопрос о том, останешься ли ты в партии. Подумай, как себе помочь. Иначе тебя исключат.
Я поблагодарила и обещала подумать. С Еськовым мы были знакомы с университетских времен. Он присутствовал на комсомольских собраниях, когда рассматривалось дело Стеллы Дворкис и когда мне вынесли выговор за песенку об австралийском пионере и чтение «безыдейных» стихов Анны Ахматовой.
Заседание возобновилось. Мне предложили компромисс: не выражая раскаяния в подписании письма, заявить, что я сожалею о том, что это письмо было зачитано зарубежными радиостанциями и тем самым был нанесен урон престижу нашей страны. Но я-то ведь не сожалела, что письмо прозвучало по радио.
— Это означало бы путать причину и следствие, — ответила я. — Причина заключается в том, что суд над четырьмя гражданами — незаконный. Если б не это, то никаких писем бы не было, зарубежным радиостанциям нечего было бы зачитывать, и престиж нашей страны не пострадал бы. Если беззаконие будет остановлено и подсудимых освободят, я напишу другое письмо, которое восстановит международный престиж Советского Союза. Но инициатива должна исходить от органов правосудия.
Перешли к Моисею Тульчинскому.
— Вы подписывали письмо генеральному прокурору Руденко?
— Да, подписывал.
— Кто автор этого письма?
— Я.
— Мы знаем, что это неправда.
— Нет, правда. Письмо написал я.
Вскоре по Москве распространилась версия, объясняющая, почему меня исключили из партии, а Тульчинский отделался выговором: якобы на закрытом партсобрании он во всем сознался и покаялся. Моська не сознавался и не каялся. Просто вид у него был такой печальный, что партбюро издательства «Наука» сочло это достаточным признаком раскаяния.
Через пару дней после этого заседания меня вызвали к Самсонову. Я отправилась в дирекцию. Самсонов встретил меня в приемной и, приглашая в кабинет, предупредил секретаршу, чтоб его ни с кем по телефону не соединяли.
Плотно закрыв дверь, он сказал:
— Знаете, меня очень расстроило ваше поведение на партбюро. Была возможность предотвратить решение об исключении, но вы даже попытки не сделали остаться в партии. А раз вы исключены из партии, нет никакой возможности оставить вас на работе. Вы хороший редактор, регулярно получали премии. Насколько мне известно, вы разведены и у вас двое детей. Все это очень грустно. Почему вы вели себя так неосторожно? Вам что, не жаль потерять работу?
— Очень жаль.
— Тогда почему вы не пытались ее сохранить?
— Потому что я решила не врать.
Он помолчал немного, а потом заговорил о том, что, должно быть, обдумывал не один раз:
— Вы, конечно, знаете, в каком затруднительном положении я оказался из-за книги Некрича. Но я не жалею, что повел себя так. Не жалею, что мне пришлось потом каяться. Вы можете возразить — это потому, что мне есть что́ терять: престижная работа, большой кабинет, секретарь, машина с шофером, хорошие деньги. Может, вы думаете, я пошел против совести, чтобы не потерять эти привилегии, сохранить комфорт? Не буду отрицать, отчасти и об этом я думал. Но есть другие причины, более важные. Что будет, если я уйду и хлопну дверью, как это делаете вы? Понятно, что мы потеряем — работу, привилегии. А что мы выиграем? Что, если все люди, которые хотят говорить правду, все люди, у которых есть совесть, уйдут и хлопнут дверью? Вы мне можете сказать, чего мы добьемся?
— Могу только сказать, чего я добилась. У меня тоже есть определенный комфорт. Я неплохо зарабатываю, делая интересную мне работу, могу брать рукописи домой и не приходить каждый день в издательство. Такую работу жалко терять. Но есть нечто большее — душевный комфорт, когда можешь сказать себе: я порядочный человек и не участвую в постыдных играх. Я веду себя в соответствии с моим собственным представлением о том, что хорошо и правильно, а что неприемлемо.
— Людмила Михайловна, мы с вами работаем в издательстве. Для нас понятия свободы слова и исторической правды представляют первостепенную важность. Но большинство людей в нашей стране озабочены совсем другими проблемами. Они борются за выживание и думают, как заработать, чтобы прокормить семью и купить детям ботинки. Их не волнуют поиски исторической правды и свобода публикаций. Это — для интеллигенции. Если б вам представился шанс выступить перед рабочими Завода имени Лихачева, вы думаете, они поддержали бы вас? Да они бы вас просто не поняли.
— Согласна. Даже уверена, что не имела бы успеха на встрече с рабочими автозавода. Но мы с вами не рабочие, мы историки. И как историки знаем, что большинство не всегда право. И что, пока наша страна не станет демократической, у людей не будет достаточно еды и ботинок для детей.
— Скажите мне, зачем вам лично нужна свобода слова? Что вы хотите сказать?
— Ничего. Просто хочу иметь возможность слышать то, что хотят сказать умные люди.
Самсонову явно было неприятно подписывать приказ о моем увольнении, и он хотел, чтоб я избавила его от этого.
— Единственное, что я могу для вас сделать… — начал Самсонов. — Если вы подадите заявление об уходе по собственному желанию и быстро оформите расчет, то в трудовой книжке не будет записи об увольнении.
— А что это даст?
— Вам будет легче найти другую работу.
Такое предложение из уст директора было поистине великодушным. Но принять его — значило сделать вид, что ничего не было — ни неправедных судов, ни протестов, ни противостояния в райкоме партии и в партбюро издательства. С этим я не могла согласиться. Самсонов, конечно, воспримет мой отказ как позу и обидится. Ведь я лишаю его возможности проявить благородство — помочь мне и тем облегчить собственную совесть. И он, и я оказались в одинаковом положении — мы оба спасали свои души.
— Нет. Лучше увольняйте меня. Я не хочу бросать работу, а у вас нет законных оснований для увольнения. Если вы меня уволите, я подам в суд на издательство. Доказывайте, что я не соответствую занимаемой должности.
— Вы же понимаете, что поиграете тяжбу.
— Да.
— Так зачем это делать?
— Чтобы показать, что увольнение незаконно. Если с человеком поступают незаконно, он должен обратиться в суд.
— Как вы будете жить? Вам ведь надо кормить двоих детей.
— Пойду на швейную фабрику. На «Большевичке» швея зарабатывает 240 рублей в месяц.
— Надеюсь, до этого не дойдет.
— Ничего. В жизни бывают вещи и похуже.
С Колей Вильямсом мы встречались уже около года. Все мои декларации об институте брака он уже слышал: это лотерея, в которой никто не выигрывает; я не знаю ни одного брака, который мог бы служить примером для подражания; дети — единственное вознаграждение в браке, а у меня двое сыновей, так что хватит с меня. Вильямс был женат дважды, оба раза неудачно. Сейчас он чувствовал себя вполне комфортно, зная, что я не собираюсь посягать ни на его личность, ни на его знаменитую фамилию.
Теперь я оказалась в опасности. Если одинокая женщина нигде не работает, ее могут обвинить в тунеядстве со всеми вытекающими отсюда последствиями. Вильямс нашел выход — сделал мне предложение.
— По закону жена может находиться на иждивении мужа и не работать, и пусть они идут ко всем чертям. Нужна печать в паспорте. А между нами все останется по-прежнему. Мы не обязаны жить в одной квартире и вести общее хозяйство. Ты не должна менять фамилию. У тебя просто будет свидетельство о браке. Эта бумажка нужна для них, а не для нас.
Менее романтическое предложение руки и сердца трудно вообразить, но это было предложение настоящего друга. В марте 1968 года мы подали заявление в ЗАГС. Регистрация была назначена на 19 апреля. Никаких торжеств с цветами, музыкой, гостями не намечалось. Мы просто вернемся ко мне домой и выпьем по бокалу вместе со свидетелями бракосочетания. На эту роль я пригласила Наташу Садомскую, а Коля позвал Славу Грабаря.
Накануне я сказала Ларисе Богораз, что мы с Колей собираемся расписаться.
— А когда свадьба?
— Какая свадьба? Будут только свидетели. Это пустая формальность.
— Когда вы регистрируетесь?
— Завтра в пять часов.
На следующий день, в половине пятого, появились Лариса и Толя с огромным букетом сирени.
— Вы с ума сошли! — только и сказала я.
Тут пришли оба свидетеля, и мы отправились в ЗАГС. Из заднего окна автобуса мы хорошо видели две черные «Волги», которые повсюду следовали — одна за Толей, другая за Ларисой.
Регистрация не заняла много времени. Штампы были поставлены, бумаги подписаны. Лариса с Толей ушли, а мы вернулись домой. Слава извлек из кармана пальто бутылку водки. Я пошла на кухню сообразить что-нибудь на ужин. Раздался звонок в дверь — пришла Ада Никольская, тоже с цветами. Снова звонок, и — полная неожиданность — на пороге стояла мама Коли.
— Знаю, что вы не празднуете. Но мне хочется вас поздравить.
Пока я разогревала котлеты с макаронами (больше ничего в доме не было), гости развлекали себя сами. Мужчины выпивали. Наташа с Адой затеяли танцы. Войдя в комнату, я увидела, что у каждой на голове развевалось что-то вроде фаты, сооруженной из тюлевой накидки. Они попытались и на меня надеть головной убор невесты, но я быстро ретировалась на кухню. Через несколько минут вбежал Грабарь и возбужденно объявил:
— Какие потрясающие девчонки!
Этих девчонок он знал уже лет десять.
Утром позвонили из Бауманского райкома и сообщили, что согласно результатам голосования партийной организации издательства «Наука» я исключена из рядов Коммунистической партии Советского Союза. По уставу КПСС, окончательное решение о членстве в партии принимало общее партийное собрание по месту работы, а не партбюро и не райком. При этом полагалось положить партбилет на стол и ждать, что решат товарищи по партии — помиловать и вернуть партбилет или казнить и отобрать. В отсутствие «подсудимого» принимать решение об исключении устав запрещал.
Решение о моем исключении приняли в мое отсутствие, видимо, не желая давать мне трибуну для выступления. Но это делало исключение недействительным.
— Вы должны сдать партбилет, — сказал райкомовский голос в трубке.
— Почему я должна?
— Потому что вы исключены.
— Но если я исключена, почему партбилет до сих пор у меня?
— Потому что вы не были на собрании.
— Если я не присутствовала на собрании, которое меня исключало, значит, мое исключение недействительно. Зачем же я буду сдавать партбилет?
— В таком случае вы, как член партии, должны явиться в райком и сдать партбилет.
— Но я больше не выполняю указаний партии. Вы же меня исключили.
После долгих препирательств голос задал практический вопрос:
— На каких условиях вы согласны вернуть партбилет?
— Если за ним придет лично Леонид Ильич Брежнев.
Трубку повесили.
Меня уволили из издательства 23 апреля 1968 года. Основание — «несоответствие служебному положению».
В конце месяца Коля сказал мне:
— Возьми вот за этот месяц. Хоть наш брак и формальность, но я же постоянно здесь. И обедаю с вами. — Он отдал мне свою зарплату, оставив двадцать рублей на карманные расходы.
Коля преподавал на кафедре математики Института тонкой химической технологии. В начале мая его вызвал заведующий кафедрой Сергей Иванович Стриженов.
— Николай Николаевич, боюсь, у меня плохие новости. Как я понимаю, вы там что-то подписывали.
— Подписывал.
— Это плохо, очень плохо. Я не хотел бы вас увольнять. Знаете, на нашем факультете почти все евреи, кроме нас с вами.
Коля объяснил ему, что Галансков и Гинзбург не совершали никакого преступления и что он подписал письмо из солидарности с друзьями. К политике это не имеет никакого отношения.
Коля не был членом партии, и можно было надеяться, что он отделается выговором. На собрании кафедры никто не призывал его уволить. Предстояло еще собрание факультета. Там слово взял секретарь парткома:
— Людям с такими взглядами нельзя доверять воспитание молодежи. Мы не хотим повторения Польши. — Он имел в виду студенческие волнения в Польше, жестоко подавленные в марте 1968 года{13}.
Затем задал вопрос один из профессоров:
— Насколько известно, было еще письмо от девяноста девяти математиков, возражавших против помещения в психиатрическую лечебницу Александра Есенина-Вольпина. Это письмо вы тоже подписывали?
Коля признался, что и это письмо подписал.
— Почему?
— Потому что он мой друг.
— Создается впечатление, что все ваши друзья идеологически ненадежны. Как вы это объясните?
— Не знаю. Просто они люди хорошие.
У выхода Колю ждали студенты. Он рассказал о собрании, и они все вместе отправились в какую-то забегаловку. Я ждала его звонка и очень нервничала — уволят или не уволят? Звонка не было. Его самого тоже, хотя он должен был вернуться не позже двух часов. Было уже три, я все больше волновалась.
Коля не член партии, его не должны увольнять, думала я. А если все-таки уволили, то это из-за того, что он мой муж. Что теперь будет? У него готова диссертация, автореферат уже опубликован. Если он потеряет работу, то не сможет защититься. На научной карьере можно поставить крест — и все потому, что он имел глупость сделать мне предложение, а я, эгоистка, это предложение приняла.
К пяти часам я поняла, что больше не в силах оставаться в четырех стенах и терзать себя. Я вышла из дома и пошла по Ленинградскому проспекту, заглядывая в витрины. Раньше я даже не замечала, какие здесь магазины, всегда спешила к остановке или домой — времени на неторопливую прогулку никогда не было.
Я остановилась у одной из витрин с обувью, рассматривая импортные сапоги. Вот те, черные, с меховой подкладкой, на низком каблуке, казались такими удобными, но — цена! Почти половина моей зарплаты, моей бывшей зарплаты — поправила я себя. Зимние сапоги были очень нужны. Лучше купить их сейчас, в мае, а не ждать осени, когда они исчезнут из продажи. Да и денег больше не будет. Зайду, узнаю — может, моего размера и нет. Но нужный размер нашелся, и отступать было некуда. С коробкой в руках я повернула к дому…
Коля появился около одиннадцати, не очень трезвый. Утром, когда он проспался, мы обсудили ситуацию, в том числе и нашу личную: он живет у меня, отдает мне свою зарплату, друзья считают нас семейной парой. Так, может, мы и есть семейная пара?
Глава 9
Сотни подписантов оказались в неопределенном положении. Станем ли мы в глазах людей достойными подражания или превратимся в изгоев? Готово ли советское общество — через двенадцать лет после Двадцатого съезда партии — понять, чего мы пытаемся добиться? Что станет с теми, кто сделал свой выбор, пожертвовав карьерой? Смогут ли эти люди выжить, оказавшись вне коллектива? Как отнесется к ним общество? Отвернется или найдет способ их поддержать?
Мы не были экстремистами. Наши взгляды были типичны для интеллигентской среды. Новизна состояла в том, что мы открыто высказали то, что многие хотели, но не решались сказать. Мы ослушались и тем самым нарушили принятые нормы. Непослушание стоило нам тех преимуществ, которые дает принадлежность к коллективу. Теперь мы в полной мере должны были познать, как выживать в одиночку. Было неясно, готовы ли те, кто думал, как мы, поддержать нас и помочь выжить.
В те дни по Москве носились разные истории о подписантах. С молниеносной быстротой создавались и рушились репутации. Поскольку большинство подписантов прошли через проработку на партсобраниях или в трудовых коллективах, у каждой истории было много источников. Информация была разноречива, но поддавалась проверке.
Как-то Лариса попросила меня позвонить писателю Льву Копелеву, бывшему политзаключенному, ныне подписанту. Я его видела на дне рождения его дочери Лены, которая была замужем за Славой Грабарем, но там было очень много народу, и формально мы не познакомились.
— Лев Зиновьевич, Лариса попросила меня передать вам…
— Кто это говорит? — спросил Копелев.
— Вы меня не знаете.
— Так хотел бы узнать.
— Меня зовут Людмила Алексеева.
— О, Люда, конечно, я знаю, это у вас была история с издательством «Наука». Чем это закончилось? А как Коля Вильямс? Нашел работу?
Он все про нас знал.
Бывали и иные повороты в отношениях, даже с хорошо знакомыми людьми.
За столом — восемь человек, четыре супружеские пары. Все в некотором напряжении. Я подумала было, что это из-за того, что мы с Колей опоздали. Но и после двух тостов напряжение не рассеялось.
— Вы знаете, что мы теперь оба безработные? — спросила я.
В ответ — тишина.
Наконец один из них ответил — вопросом на вопрос:
— А чего вы ожидали, когда подписывали всякие письма?
В этой компании Коля был своим человеком уже более десяти лет. Я с ними всеми познакомилась через Колю, тоже не вчера. Было понятно, что до нашего прихода они говорили о нас, что-нибудь вроде: «Людка, конечно, хорошая баба, но сдвинутая. Зачем она полезла в политику? Колька женился на ней, и теперь у него проблемы».
— Мы ожидали, что вопрос о работе решается на основании профессиональной пригодности, а не идеологической надежности, — ответила я.
Коля промолчал.
— Вы что, забыли, где живете? Если тебе нравится быть такой героиней, нечего жаловаться направо и налево, что и тебя, и мужа твоего взяли и уволили.
На самом деле они хотели бы сказать: «Эгоистка ты чокнутая, загубила жизнь нашего друга».
— То, что мы делаем, не имеет отношения к политике, — попыталась я возразить.
— А твой самиздат?
Так. Оказывается, это мой самиздат — они уже забыли, сколько книг брали у меня почитать.
— Что ты имеешь в виду, говоря «твой самиздат»? Разве все вы ничего не читали?
— До нас это не доходит.
Теперь они злились на меня и за то, что читали, и за то, чего не читали.
— Но вы прекрасно знаете, где это найти. Вот уж не ожидала такой реакции здесь. На партсобрании это было б естественно, но в кругу друзей подобный тон, мягко выражаясь, удивляет.
— Вот именно потому, что мы твои друзья, мы можем сказать тебе то, что думаем. Зачем ты втягиваешь Кольку во все это?
Я встала из-за стола.
— Пожалуй, я пойду. Коля, ты, конечно, оставайся, если хочешь.
Коля ушел вместе со мной. Через пару дней я попросила его позвонить и как-то сгладить неприятный инцидент. Но прошло года два, прежде чем мы вернулись в эту компанию.
— День зарплаты, а мы с Колей ничего не получим, — посетовала я Аде Никольской.
Ее реакция была неожиданно резкой:
— Чего ты ноешь? Ты ведь знала, на что шла.
Конечно, знала. Я знала также, что, если мы начнем голодать, Ада будет первой, кто примчится с десяткой или с каким-то харчем. Ведь я ее подруга. Поначалу, недели две, я была героем в ее глазах. А герои, как известно, не ноют. Они держатся и говорят: «Все нормально. Мы победим».
Я усвоила урок и больше никогда никому не жаловалась.
К концу весны стал понятней механизм репрессий в отношении подписантов. Очевидно, всю кампанию координировала партия, а не КГБ. Естественно, она начала с собственных рядов. Тех, кто называл имена, оставляли в покое. Тем, кто имен не называл, но выражал сожаление или по крайней мере делал вид, что сокрушается, давали строгий выговор, но из партии не исключали и с работы не увольняли. Нераскаявшихся исключали, увольняли и заносили в черные списки. На поиски новой работы у многих из нас ушли годы.
В этих санкциях была своя логика. Вступив в партию, мы взяли на себя некие договорные обязательства. Теперь же в глазах партийного руководства оказались изменниками.
Вслед за членами партии пришла очередь студентов, учителей, преподавателей. Последних не заносили в черные списки, но работу они могли найти только вне сферы образования. Тот факт, что все преподаватели-подписанты потеряли работу, хотя и прискорбный сам по себе, внес некоторое утешение в мою душу: к увольнению Коли наш брак не имел никакого отношения. Когда же меня через несколько дней после увольнения из издательства вызвали в домоуправление, чтобы выяснить, на какие средства я живу, я смогла с полным основанием ответить, что нахожусь на иждивении мужа. Правда, на новой работе, в вычислительном центре, Коля получал вдвое меньшую зарплату, но в домоуправлении этим не интересовались, их вполне удовлетворил продемонстрированный мною штамп в паспорте. Наш брак, как оказалось, был заключен очень вовремя.
Слава Грабарь и Юра Гастев тоже лишились работы. Гастев никогда больше не пытался найти постоянное место. Славе, прирожденному педагогу, пришлось распрощаться со студентами MATИ и вместо преподавания математики заняться какими-то скучными расчетами в НИИ Министерства мясомолочной промышленности. Интересно, что его жену Лену даже не вызвали в отдел кадров. Видимо, посчитали, что подпись корректора под письмом генеральному прокурору внимания не заслуживает.
Лесь Танюк был уволен из Центрального детского театра, но довольно быстро нашел работу режиссера. Философ Леонид Пажитнов, коллега Шрагина по Институту истории искусств, отказался подписать заявление о раскаянии, объяснив партийному начальнику: «Я это подписывать не собираюсь. Если б я это подписал, то потерял бы уважение моих друзей, а вам я все равно никогда не понравлюсь. Так что я остаюсь со своими друзьями. И мы еще посмотрим, чья возьмет». Уйдя из института, он стал писать киносценарии и весьма преуспел на этом поприще. Литератор Саша Морозов, помогавший составлять самиздатскую антологию Мандельштама, научился водить грузовик. Насколько мне известно, он единственный из подписантов стал зарабатывать физическим трудом.
История Моси Тульчинского, которому удалось не вылететь с работы, впечатлив начальство скорбным видом, вдохновило Наташу Садомскую последовать его примеру. Стоя перед зеркалом, она отрабатывала выражение глубокой печали, время от времени обращаясь к собравшейся компании:
— Смотрите, как вам это? Они задают вопрос — и я делаю вот так…
Ее мужа, Бориса Шрагина, уже уволили, и у Наташи оставался последний шанс не оказаться в полной нищете. Хотя Наташа не была членом партии, ее «дело» разбирали на партбюро. К счастью, не уволили, но сняли с печати готовую монографию и статьи.
По Москве ходило множество рассказов о сочувствующих начальниках и порядочных членах партбюро. Некоторые старались ограничить наказание «строгим выговором», что позволяло не увольнять сотрудника. Другие пытались имитировать воспитательную работу резкими речами и просто криком. Бывало, собрания напоминали комедию.
— Вы что, девочки, с ума сошли? Подписывать письмо генеральному прокурору! — орал Тимур Тимофеев, ранее именовавшийся Тим Райан, прорабатывая сотрудниц вверенного ему Института международного рабочего движения Вету Фалееву и Марину Фейгину (в девичестве Розенцвайг), моих близких подруг по университету. — Вы что, не знали, это же письмо подписала Людмила Алексеева? Вам известно, кто она такая? У нее политический салон для иностранцев! Вы разве не слышали, на ее свадебной церемонии было два черных иностранных лимузина.
Передаваясь из уст в уста, московские байки приукрашались новыми подробностями. Кто-то рассказал, что на нашем пути к ЗАГСу за Ларисой и Толей следовали две машины КГБ. Еще кто-то добавил, что машины были черные. Потом черные машины КГБ превратились в иностранные. Иностранные черные машины стали черными иностранными лимузинами. Наконец персона, в чьей свадебной церемонии участвовали зловещие черные иностранные лимузины, оказалась хозяйкой дипломатического салона.
— Тимур, ты что, не знаешь, кто такая Людмила Алексеева? Это ж Людка Славинская.
После этого разъяснения Тим отпустил сотрудниц и, видимо, написал соответствующий отчет. На том дело и кончилось.
В эти бурные месяцы новости распространялись быстрее политических анекдотов. Стало известно о Павле Литвинове, о его записи судебного процесса по делу Буковского и Хаустова, потом — об обращении «К мировой общественности», написанном вместе с Ларисой Богораз.
— Как Павел? — спрашивали его тетку, Татьяну Литвинову.
— Не знаю. У меня что-то приемник барахлит, — отвечала она.
Судьба Павла начала затмевать славу его деда. Михаил Максимович Литвинов, отец Павла, шутил: «Я привык, что я сын известного отца. Теперь надо привыкать к тому, что я отец известного сына».
Моя подруга по аспирантуре Лида пыталась поддерживать со мной отношения, но это становилось все труднее и ей, и мне. Они с мужем поднимались по служебной лестнице, я — с нее скатилась. Не говоря напрямик, она дала понять, что не хочет слышать о моих друзьях, о политических процессах и политзаключенных. И я с ней об этом не говорила.
Сразу после моего увольнения Лида нашла мне машинописную работу, она даже предпринимала попытки удержать меня в своем кругу. Однажды летом 1968 года у них в гостях были два венгра, очевидно, служивые коммунисты. Я изо всех сил старалась не наговорить лишнего, что могло бы поставить хозяев в неловкое положение. Это означало ограничить беседу какими-то банальностями, которые муж Лиды исправно переводил.
В конце концов разговор коснулся политики. Венгры говорили как положено.
— Ваше правительство поступает благоразумно, — произносил то один, то другой по поводу курса КПСС то в сельском хозяйстве, то во внешней политике.
Трудно было понять, употребляют они слово «благоразумно» в шутку или всерьез.
— Вы думаете, они способны поступать благоразумно? — спросила я.
Перевода не последовало, и я прикусила язычок.
Когда мы с Лидой вышли на кухню за десертом, она прошептала мне в ухо:
— Люда, пожалуйста, следи за тем, что говоришь. Они немного понимают по-русски.
Мы продолжали дружить. Время от времени Лида находила для меня возможность подработать — редактированием, перепечаткой на машинке. Она регулярно звонила, иногда мы встречались днем и заходили посидеть-поговорить в какое-нибудь кафе, но к себе домой она меня больше не приглашала.
Позвонил Леня Зиман и предложил работу — перепечатать учебные пособия по математике для студентов-заочников.
— Оплата низкая, но работы очень много, — объяснил он.
До того с Зиманом мы виделись один-единственный раз — возле здания суда во время слушания дела Галанскова и Гинзбурга. И вот он не только нашел мне подходящий заработок, но и приложил усилия, чтоб через знакомых разыскать номер моего телефона.
Игорь Овсянников, начальник Коли в вычислительном центре, предпринял героическую попытку взять меня на работу переводчиком с английского. Я не говорила по-английски, но Коля заверил, что сможет вместо меня заниматься переводами в рабочее время, поскольку ЭВМ все время сломана. Но, увы, кто-то сверху не дал ходу моему заявлению о приеме на работу. Я позвонила Овсянникову и предложила на это место Вадима Меникера. Экономист и полиглот, он сидел без работы больше двух лет, со времени подписания письма в защиту Даниэля и Синявского. Вадима удалось зачислить в штат.
Как-то осенью 1968 года позвонил Владимир Матлин, писатель, о котором ни Коля, ни я раньше не слышали. Он работал над сценарием научно-популярного фильма о математике, «Жар холодных чисел», и попросил Колю быть консультантом. Мы приехали к Матлину домой, прочли короткий сценарий, остались обедать и получили аванс в размере месячной зарплаты. Вскоре Матлин позвонил договориться о новой встрече.
По дороге я сказала Коле:
— Мы должны его предупредить о нашем положении, ведь у него могут быть неприятности.
Мы оба понимали: одно дело, когда люди сознательно идут на риск, и совсем другое — если они не знают, что подвергаются опасности.
На этот раз консультация заняла минут пятнадцать.
Когда закончилось обсуждение будущего фильма, я приступила к запланированному предупреждению:
— Мы должны вам рассказать, что…
— Нет, не нужно, — прервал Матлин.
— Но, я думаю, вам нужно знать, что…
— Нет-нет, не нужно.
Он все знал.
Встречались и другие люди, которые не хотели знать подробности, а если и знали, то не хотели о них слышать. Один из них — крупный партийный деятель из Азербайджана. Он попросил меня помочь ему написать кандидатскую диссертацию о национальных проблемах в этой республике. Он не спросил, где я работаю, не сказал, откуда ему известно мое имя и почему решил, что я могла бы заняться подобной работой. Видимо, он все знал.
Диссертация оказалась вполне содержательной и даже нетривиальной: национальное самосознание — это необязательно плохо; партия поощряет дружбу народов, поэтому не следовало бы изображать русских как «старшего брата» остальных народностей. Диссертация была закрытой, но, поскольку русский язык для автора не был родным, ему нужен был помощник — отредактировать текст и найти подходящие цитаты из трудов Маркса, Энгельса, Ленина, замаскировав тем самым полемический характер трактата.
Людей, которые анонимно выполняли квалифицированную работу, называли «неграми», по ассоциации с рабским трудом безымянных черных невольников. В этом качестве, помимо диссертации по национальному вопросу, я написала еще научную статью о резьбе по дереву в Вологодской области и обзор по истории русского костюма для модельера, который хотел внести элементы фольклора в современную одежду.
Предложение подработать поступило даже от моего школьного приятеля Ю., которого я не видела много лет. Он закончил Военный институт иностранных языков — там готовили военных переводчиков. Однажды, это было еще в 1952 году, он пригласил меня в ресторан. При этом спросил, не могла ли бы я позвать какую-нибудь подругу для компании — у него будет гость. Просьба да и приглашение в ресторан показались мне странными, но я пообещала.
Гостем оказался камбоджиец. Он не говорил по-русски, и Ю. общался с ним на французском языке — это была его специальность. Обед стоил дорого, во всяком случае по моим представлениям.
— Зачем ты тратишь столько денег? — спросила я, когда он провожал меня домой.
— Он мне нужен по работе.
— Я что-то не слышала, чтоб вы говорили о делах. Зачем ты меня пригласил, да еще попросил взять подругу?
— Это не мои деньги.
— А чьи же?
— Народные. Почему бы не потратить их на девушек?
— Ты пишешь отчеты про него? — Ю. кивнул. — Но как ты можешь?!
— А в чем проблема? Это же не люди. Это обезьяны.
Я сказала ему, чтоб он больше меня не приглашал.
Когда-то Ю. был симпатичным интеллигентным мальчиком, с ним интересно было поговорить. Но вот в какой-то момент он решил, что для успеха можно пойти на маленький компромисс. Написал несколько отчетов. Не знаю, остановился ли он когда-нибудь. Знаю только, что это ему не помогло. Его карьера переводчика не привела к высокой должности. Он занимался тем, что поил камбоджийцев водкой в московских ресторанах. Возможно, в КГБ чувствовали, что этот парень только и способен на маленькие компромиссы, а по большому счету он для них чужой. Но и для нас он не был своим.
Узнав, что меня уволили, Ю. позвонил и спросил, можно ли зайти.
— Люда, я подыскал тебе работу. За нее так хорошо платят, что ты будешь Бога благодарить, что эти олухи выгнали тебя из «Науки».
Он пришел на следующий день и изложил план: заместителю министра иностранных дел нужен «негр» — писать очерк о национально-освободительном движении в Африке.
— Деньги ему не нужны, — объяснял Ю. — Весь гонорар пойдет «негру». Материалы собраны. Тебе привезут их на черной «Волге». Ты напишешь это левой ногой.
Он протянул мне папку с первой порцией материалов. Речь в них шла исключительно о том, как Советский Союз помогает прогрессивным силам колониальной Африки, а злые империалисты с их монополиями, с их финансируемыми ЦРУ диверсантами выискивают способы остановить победное шествие мирового социализма.
Я поблагодарила Ю. за заботу и вернула папку.
Приближался сентябрь 1969-го, Миша шел в десятый класс. Ему было труднее, чем нам, переносить нищету. Мы, по крайней мере, могли не думать о новой одежде. А мальчик из всего старого вырос. Из школьной формы сантиметров на десять торчали руки и ноги. Купить новую форму было не на что, оставалось только надставить рукава и брючины полосками такой же ткани — от формы, из которой он вырос три года назад. Я старалась пришить «манжеты» как можно аккуратнее, но все равно вид был ужасный.
Миша ни о чем не просил. Он знал, что мы на мели и ничего не покупаем для себя. Но я понимала, как трудно подростку быть одетым хуже всех в классе. На следующий год Миша поступал в Московский университет, и переделкой старой формы было уже не обойтись. Предстояло купить новые ботинки, костюм, пару сорочек, пальто, зимнюю шапку. Цены на одежду оказались ошеломляющими. На самое необходимое нужно было не меньше трехсот рублей.
У меня был только один способ собрать такую сумму — печатать самиздат. Некоторым друзьям хотелось иметь самиздатские книги в своей личной библиотеке, и они были готовы платить. В те времена машинистка получала десять копеек за страницу, так что мне предстояло напечатать три тысячи страниц.
Среди книг, взятых для перепечатки, были «Воспоминания» Надежды Мандельштам, «Только один год» Светланы Аллилуевой и много чего еще. Одновременно с заработком я получала удовольствие от чтения интересных произведений. Моей «рабочей лошадкой» была машинка марки «Мерседес» начала века. Она весила не меньше пуда и едва умещалась на столе. По клавишам нужно было бить с такой силой, как будто я гвозди заколачивала. Дома я никогда самиздат не печатала. Безопаснее было пользоваться квартирами знакомых, которые были вне подозрений. Я заворачивала это чудо техники в одеяло, натягивала на сверток огромную клеенчатую сумку и волокла ее то в одно, то в другое надежное место.
К началу учебного года Миша был полностью экипирован.
Маме я ничего не рассказывала. Она сразу вспомнила бы свои страхи в годы сталинских репрессий, когда за исключением из партии следовал арест. Пришлось бы сказать, что я не собираюсь, как в свое время отец, добиваться восстановления членства в партии. А тогда и причины нужно объяснять.
Мама не в том возрасте, чтобы менять свою жизнь и взгляды. Если она узнает, что ее дочь — одна из тех, кого газеты называют изменниками и ренегатами, ей придется выбирать, на чьей она стороне. Лучше ей ничего не знать. По крайней мере пока меня не арестовали, она не будет волноваться.
В издательстве у меня был один присутственный день в неделю — четверг, в остальные дни я работала дома. Теперь, чтобы предупредить возможный звонок мамы мне на работу, я обязательно звонила ей каждую среду вечером. Так продолжалось полтора года. Но вот зимой 1969-го мама на месяц переехала к нам. Это было одно из ее самоотверженных деяний — она предоставила свою квартиру Сереже, чтобы он мог спокойно готовиться к экзаменам.
Однажды позвонил отец Ларисы. Мама даже не знала, что моя подруга Лариса и есть та самая Лариса Богораз.
— Люда на работе, — сообщила мама. Дело было в четверг.
— Да? Она нашла работу? Она мне об этом не сказала, — порадовался за меня Ларин папа.
— «Нашла работу»? Что вы имеете в виду? — удивилась мама и позвонила в издательство.
— Люда, оказывается, тебя уволили больше года назад, — услышала я, вернувшись домой.
— Раз ты уже знаешь, я скажу — меня уволили за то, что я подписала письма протеста против политических процессов. Я тебе не рассказывала, чтобы в случае чего ты могла честно сказать, что ничего не знаешь. Колю тоже уволили, но он нашел другую работу.
Помолчав, она вздохнула:
— Теперь я понимаю, почему у тебя никогда нет денег.
Значит, она удивлялась про себя — что это я хожу в старье и готовлю одни постные щи — и, верно, подумала, что я разучилась вести хозяйство.
Всю ночь я слышала, как она ворочается на диване в соседней комнате. Утром, когда Коля ушел на работу, а Миша на занятия, мама вернулась к теме моего увольнения и моих политических взглядов.
— Я раздумывала над тем, что ты вчера сказала. Ты права, что не говорила мне ничего. Давай так и оставим — я ничего об этом не знаю.
Глава 10
Если бы случилось невероятное, и Даниэля и Синявского не отправили в лагерь, а освободили в зале суда, то, вернувшись домой, они не узнали бы свою старую компанию. За время судебного процесса и последовавшей волны петиций изменились и общая атмосфера, и круг людей. К оставшимся в нашей компании присоединились осколки других компаний. Нас стало меньше, но зато состав был более разнообразным — от двадцатипятилетнего смогиста до восьмидесятилетнего большевика. За редким исключением все были очень заняты. Времена посиделок и блужданий с одной вечеринки на другую остались в прошлом. Мы держались небольшими группами. Встречались редко. При необходимости перезванивались.
Одну из групп составляли люди старшего поколения, «оппозиционные марксисты», раньше нас бросившие вызов системе. Генерал Петр Григоренко, боровшийся с бюрократическим перерождением партии, за восстановление ленинских принципов, был разжалован, побывал в психбольнице. Там познакомился с Владимиром Буковским, от него услышал слово «гласность» (которое тот усвоил от Алика Есенина-Вольпина).
Друг Григоренко, Сергей Писарев, тоже убежденный коммунист-ленинец, отбыл срок в специальной психиатрической лечебнице за адресованную Сталину докладную записку. Пытался доказать, что так называемое дело врачей сфабриковано врагами социализма. После смерти Сталина освободили и врачей, и Писарева. С прежним упорством он стал добиваться расследования фактов неправомерного использования психиатрии. Созданная через три года комиссия ЦК признала, что имели место нарушения. Были приняты кое-какие организационные меры, но принципиальных изменений не последовало.
Другой старый большевик, писатель Алексей Костерин, просидевший в общей сложности семнадцать лет, много сил отдал борьбе за права народов, депортированных в годы войны якобы за сотрудничество с фашистами. Его квартира в Москве стала центром притяжения для крымских татар. Здесь они получали юридическую поддержку и практическую помощь в своих усилиях добиться возможности вернуться на родину в Крым. Здесь они познакомились с Григоренко, который подхватил эстафету борьбы после смерти Костерина в 1968 году и благодаря которому движение крымских татар вышло на связь с правозащитниками.
Виктора Красина и Петра Якира объединяло неприятие того, что они именовали «ресталинизацией». Красин, мой ровесник, попал в лагерь со студенческой скамьи за участие в собраниях подпольного кружка. «Подпольщики» хотели заняться изучением религиозно-философских традиций Востока. Один из четырех юных востоковедов оказался осведомителем. Выйдя из заключения, Виктор смог закончить университет и работал экономистом в научно-исследовательском институте. Петр Якир, сын героя Гражданской войны командарма Ионы Якира, расстрелянного в 1937 году, был арестован как сын «врага народа» и с четырнадцати лет рос в лагерях и ссылках. Там встретил будущую жену, там у них родилась дочь. После освобождения закончил Историко-архивный институт, нашел работу в Академии наук. Его вид, манеры, походка и речь до сих пор напоминали о том, что формировался он в окружении юных преступников. Говорил он, как взрослый, и водку пил, как взрослый. Но я не могла избавиться от ощущения, что передо мной мальчик, эмоциональное развитие которого остановилось в тот момент, когда за ним захлопнулись дверцы «воронка».
К группе либерально настроенных ученых-естественников принадлежал биолог Сергей Ковалев. В 1969 году он оставил любимую работу в Московском университете, после долгих и трудных размышлений приняв решение уволиться по собственному желанию.
Однажды один из пятидесятников спросил:
— Почему вы, человек не верующий в Бога, ведете борьбу со злом и не боитесь тюрьмы?
— Это вопрос совести, — ответил Ковалев. — А совесть это единственное, что отличает нас от животных.
Математик Александр Лавут держался незаметно, обычно сидел в углу с дымящейся сигаретой, и приходилось напрягать слух, чтобы услышать то, что он иногда говорил. Этот тихий человек многие годы помогал крымским татарам и одновременно занимался самиздатом. Его осудили по статье 1901. В заключительном слове на суде он сказал: «В речи прокурора мне понравилась первая фраза: „Нужно соблюдать советские законы“. Если бы они соблюдались, нас сегодня здесь не было бы».
Татьяна Великанова, тоже математик, была уволена с работы и устроилась санитаркой в одну из московских больниц.
— К математике вернусь в камере, — шутила она.
Массу времени она отдавала самиздату, воспитывала троих детей, да еще сменная работа в больнице — казалось, ей и поспать-то некогда. Татьяна не признавала КГБ, игнорировала судей, во время судебного заседания не проронила ни единого слова. Только после оглашения приговора — пять лет лагерей и пять лет ссылки — прокомментировала: «Комедия окончена».
Физик Валерий Чалидзе начинал как последователь Алика Есенина-Вольпина. Он был ученым именно того типа, который более всего ненавистен советской власти: он мыслил критически. Самостоятельно изучив право, советское законодательство и международные соглашения, Чалидзе отыскивал противоречия и несоответствия и писал об этом пространные трактаты. Он не одобрял демонстрации, уличные выступления и пламенные декларации — все то, что власти могут использовать для обвинений по статьям 70, 1901 или 1903.
— Попадать в тюрьму — это непрофессионально, — не раз говорил он. — Моя задача удержать людей от скамьи подсудимых.
Чалидзе стал ведущим «законником» правозащитного движения вместе с Есениным-Вольпиным, Юлиусом Телесиным и Борисом Цукерманом. Примечательно, что ни один из этой четверки не попал в тюрьму.
Опытный талантливый адвокат Софья Васильевна Каллистратова уже в 1967 году пришла к осознанию, что ее долг — консультировать и представлять интересы участников нарождавшегося правозащитного движения.
— Очень часто адвокат вынужден помогать людям недостойным, — говорила она. — Я хочу помогать порядочным людям.
Через свою подругу и коллегу, Дину Исааковну Каминскую, она вышла на диссидентов и многие годы была практикующим экспертом по вопросам, которые можно назвать «диссидентским правом». Для нас Каллистратова и Каминская оказались не просто адвокатами, они стали людьми нашего круга, нашими учителями и друзьями.
Благодаря письмам из лагерей мы узнавали об узниках совести, участниках национальных и религиозных движений из Украины и Прибалтики. С некоторыми их родственниками мы познакомились, когда они на пути в Мордовию и обратно делали пересадку в Москве. Через новые связи мы могли теперь следить за событиями, происходившими за тысячи километров от столицы. Наша сеть продолжала расширяться. Рос объем поступающей информации, становилось все труднее обрабатывать и распространять ее. Когда речь пошла о тысяче подписантов, стало ясно, что проследить за всеми делами — разборки на работе, вызовы в КГБ — просто физически невозможно. Между тем и судьба каждого, и кампания протестов в целом были важны не менее, чем все описанное в «Белой книге». Нужно было собирать и систематизировать множество фактов и одновременно оперативно размножать новую информацию. Назрела необходимость создать периодический печатный орган — информационный бюллетень — и распространять его по каналам самиздата.
Так возникла «Хроника текущих событий»{14}. Название, вероятно, было заимствовано у известной сводки новостей, передаваемой русской службой Би-би-си. С самого начала были определены принципы подачи информации — никаких оценок и комментариев, никакой беллетристики, никаких эмоций, только факты. Обязанности редактора взяла на себя Наташа Горбаневская. Она печатала закладку из восьми листов папиросной бумаги, семь копий раздавала друзьям, каждый из которых печатал несколько экземпляров и отдавал своим друзьям — тираж возникал по механизму цепной реакции.
В качестве эпиграфа на первой странице каждого номера печаталась выдержка из Всеобщей декларации прав человека (статья 19): «Каждый человек имеет право на свободу убеждений и на свободное выражение их; это право включает свободу беспрепятственно придерживаться своих убеждений и свободу искать, получать и распространять информацию и идеи любыми средствами и независимо от государственных границ».
Первый выпуск «Хроники текущих событий», датированный 30 апреля 1968 года, содержал отчет о суде над Галансковым и Гинзбургом, а также краткие сообщения о нарушениях гражданских прав, последовавших за судебным процессом. События описывались сухим языком, преимущественно безличными предложениями и без всяких комментариев:
«Одновременно с тем как начали исключать из партии участников кампании протестов, был исключен из партии и адвокат Б. А. Золотухин, защитник А. Гинзбурга, — за „непартийную, несоветскую линию защиты“. В своей защитительной речи адвокат убедительно опроверг все доводы обвинения и — впервые за многолетнюю практику политических процессов — потребовал полного оправдания своего подзащитного. После исключения из партии Б. А. Золотухин снят с должности заведующего юридической консультацией».
Как и другие наши издания, «Хроника» проходила обычный для того времени путь: самиздат — зарубежная печать — западные радиостанции, вещающие на русском языке.
В первом выпуске бо́льшая часть сообщений была из Москвы, только два из Ленинграда и одно из Украины. В пятом выпуске читателям предлагалось: «…Каждый легко может передать известную ему информацию в распоряжение „Хроники“. Расскажите ее тому, у кого вы взяли „Хронику“, а он расскажет ее тому, у кого он взял „Хронику“ и так далее. Только не пытайтесь единолично пройти всю цепочку, чтобы вас не приняли за стукача».
В седьмом выпуске было напечатано восемь сообщений из Украины, в тринадцатом — десять, в двадцать восьмом — двенадцать. Вести из Литвы стали появляться в августе 1970-го, из Грузии — в июле 1974 года. Уже во втором выпуске был дан материал о крымско-татарском движении. Расширялись не только географические рамки, но и круг проблем. Появлялось все больше сведений о религиозных движениях — баптистах (с декабря 1968), адвентистах (с июля 1970), свидетелях Иеговы (с июня 1971), пятидесятниках (с июля 1974).
Через десять лет после выхода первого выпуска я подсчитала: «Хроника» осветила 424 политических процесса, на которых было осуждено 753 человека. Ни один обвиняемый не был оправдан. Кроме того, 164 человека были признаны невменяемыми и направлены на принудительное лечение в психиатрические больницы.
Благодаря «Хронике» властям пришлось осознать тот факт, что сведения об арестах, попадая на Запад, тут же передаются зарубежными радиостанциями, которые слушает вся страна. Преследования усиливались, но о каждом новом аресте становилось известно за рубежом, так что жесткие меры властей вредили им самим, подрывая столь заботливо взращиваемый престиж Советского Союза на мировой арене.
Как-то в июне 1968 года Павел Литвинов попросил меня перепечатать несколько страниц из уже напечатанной на машинке рукописи, куда автор — Андрей Сахаров — внес поправки. Хотя я и слышала имя, но почти ничего не знала об этом человеке.
— Он физик, рано стал академиком за работы над водородной бомбой. Сейчас больше занят раздумьями, — пояснил Павел.
По разрозненным страницам частично исправленной рукописи трудно было судить о направлении мыслей Сахарова, но я заметила, что он смягчил резкий тон ряда своих первоначальных утверждений. В тот момент я и представить не могла, что держу в руках странички из работы, которая станет одним из самых знаменитых эссе нашего времени — «Размышления о прогрессе, мирном сосуществовании и интеллектуальной свободе».
Мне запомнилась фраза о том, что «по существу взгляды автора являются глубоко социалистическими». Я не видела в этом ничего из ряда вон выходящего. В начале лета 1968 года среди московской интеллигенции практически не было противников социализма. Большинство из нас придерживались социалистических взглядов и в 1953-м, и в 1956-м, затем в течение двенадцати славных лет «оттепели» мы об этом почти не задумывались. В 1968 году мы еще верили в социализм.
Мы были оптимистами, хотя и осторожными — в силу достаточной информированности. Мы понимали, что власти при Хрущеве и особенно при Брежневе не списали со счетов методы сталинизма и все еще держат их про запас. Мы видели, что все больше людей оказываются в лагерях, что свобода слова в официальной печати остается несбыточной фантазией, а самиздат может привести к тюремному сроку. Но в то же время хотелось верить, что наши руководители просто не посмеют вернуться к чудовищному сталинскому прошлому. Мы все-таки надеялись, что они хотя бы попытаются двигаться вперед. А «вперед» означало для нас путь «пражской весны». Мы ожидали, что реформы в Чехословакии будут успешны, наше правительство позаимствует этот положительный опыт и наша страна придет к такой форме социализма, которая будет органично приемлема для людей, — к «социализму с человеческим лицом».
Вскоре я прочитала появившийся в самиздате полный вариант «Размышлений».
Сахаров писал, что в ядерный век война угрожает самому существованию цивилизации. У человечества нет выбора: единственный шанс на выживание может дать только преодоление разобщенности, постепенное сближение социалистической и капиталистической систем. План такого сближения, конвергенции, был изложен с позиций «оптимистической футурологии» и предлагался к обсуждению.
На первом этапе — победа реалистов в идеологической борьбе, курс на мирное сосуществование, демократизацию советской политической системы и расширение экономической реформы (1968–1980).
Второй этап — через четыре года после начала реформ в Советском Союзе — США начинает программу сближения с социализмом: сотрудничество, мирное сосуществование, социальные реформы, изменение структуры экономики, повышение роли интеллигенции (1972–1985).
Третий этап — начиная с 1972 года США и СССР снижают расходы на вооружение, направляют средства на борьбу с бедностью на земном шаре (индустриализация, строительство, образовательные программы в развивающихся странах). Первых результатов можно ожидать к 1990 году.
Четвертый этап — к 2000 году конвергенция приводит к сглаживанию различий между двумя системами, развитию науки и подъему производительных сил в условиях интеллектуальной свободы. Становится возможным создание мирового правительства.
Позднее автор пересмотрел свои футурологические идеи и пришел к более приемлемой модели: создание атмосферы доверия между народами, что, по его убеждению, может стать первым шагом к разоружению. В демократических странах выполнение международных соглашений контролируется законодательными органами и гражданскими группами. В СССР такой контроль наказывается лишением свободы. Поэтому Запад не может доверять Советскому Союзу, опасаясь, что он не будет выполнять принятые обязательства. Из этого соображения следовала основная рекомендация, которую Сахаров высказывал и, несмотря на отсутствие какого-либо отклика, продолжал высказывать советским руководителям: необходимо предоставить гражданам больше политической свободы, помогая тем самым выстраивать отношения доверия с Западом, что в свою очередь обеспечит путь к разоружению. «Я считаю особенно важным преодоление распада мира на антагонистические группы государств, процесс сближения (конвергенции) социалистической и капиталистической систем, сопровождающийся демилитаризацией, укреплением международного доверия, защитой человеческих прав, закона и свободы, глубоким социальным прогрессом и демократизацией, укреплением нравственного, духовного личного начала в человеке».
В то время я, конечно, тоже была социалистом, это как-то само собой разумелось. Но главное — я мечтала о демократии, и неважно, будет она социалистической, капиталистической или некоторой комбинацией того и другого. Мне представлялось, что советскую действительность гораздо легче преобразовать в социализм с человеческим лицом, чем в буржуазную демократию, и что у нас развитие демократии более вероятно осуществить в рамках социализма. Это было не только мое суждение. Весной и летом 1968 года, когда советское руководство тосковало по сталинским порядкам, московская интеллигенция была воодушевлена «пражской весной».
Наташа Горбаневская и один из Колиных друзей, радиоинженер Боря Стрельцов, читали по-чешски. От них мы узнавали последние новости о полемике в газетах «Руде право» и «Литерарни листы». Нас это увлекало и радовало — идеи «пражской весны» во многом совпадали с нашими собственными, и их обсуждение в прессе напоминало наши дебаты на московских кухнях.
Политическая и экономическая система, которую пытались реформировать чехи и словаки, создавалась как полное подобие нашей системы. Поэтому опыт Чехословакии, казалось, можно перенести и на нашу страну.
Мой оптимистический сценарий рисовал такую картину. В результате реформ в Чехословакии у рабочих появятся стимулы повышать производительность труда, администрации фабрик и заводов поймут преимущество инновационных технологий, писатели будут беспрепятственно публиковать свои произведения. Рабочий класс, управленцы, интеллигенция — все вместе трудятся на благо страны, и экономические показатели взлетают на небывалую высоту. Под впечатлением от чехословацкого экономического чуда советские руководители должны попытаться провести аналогичные реформы. Естественно, Брежнев и иже с ним заинтересованы прежде всего в оздоровлении экономики, а не в демократизации общества. Но опыт братской страны должен показать им, что демократизация — это необходимое условие экономического обновления.
Мы были полностью солидарны с чехословацкими реформаторами и выражали им поддержку в лучших российских традициях — после тоста за тех, кого с нами нет, мы поднимали бокалы за товарищей Дубчека, Млынаржа и Черника. Некоторые особо восторженные поклонники «пражской весны» готовы были чествовать таким образом и всех остальных членов Политбюро ЦК КПЧ.
Теплым весенним вечером 1968 года Вильямс со Стрельцовым, совершив полный обряд чествования, шли, пошатываясь, по Арбату и выкрикивали: «Да здравствует товарищ Дубчек!», «Да здравствует товарищ Черник!», «Да здравствует товарищ Млынарж!», «Да здравствует демократия!», «Да здравствуют экономические стимулы!» Их забрали в отделение милиции, но вскоре отпустили. Публичное выражение поддержки членам Политбюро братского социалистического государства тогда еще не расценивалось как нарушение общественного порядка.
Подписантская кампания в стране и движение за реформы в соцлагере — для Кремля это оказалось уже слишком. Появились слухи, что на совещании руководителей коммунистических и рабочих партий Брежнев отодвинул в сторону заготовленную речь и выдал экспромт, заорав: «Вы что, не видите, что все разваливается?!» Это происходило ранней весной, а к лету, когда чехословацкие газеты были переполнены энтузиазмом в ожидании скорых реформ, в советской печати освещение всего, что связано с «пражской весной», достигло высшего уровня злобы и раздражения. Атаки в газетах начались в июне с критики Дубчека. В июле советские журналисты заявили, что враги революции угрожают завоеваниям социализма в Чехословакии. Тон статей не оставлял сомнений в том, что товарищ Брежнев и остальные члены Политбюро не собираются оставаться безучастными и ждать, когда Чехословакия отдалится от социализма советского образца. Но что они будут делать?
Как бывалый политзаключенный, Толя Марченко был настроен на худшее. 27 июля он направил открытое письмо в газеты «Руде право», «Литерарни листы», «Праце», «Юманите», «Унита», «Морнинг стар», «Известия» и на радиостанцию Би-би-си: «Беспокоит ли на самом деле наших руководителей то, что происходит в ЧССР? По-моему, не просто беспокоит, но и пугает — но не потому, что это угроза социалистическому развитию или безопасности стран Варшавского содружества, а потому, что события в ЧССР могут подорвать авторитет руководителей этих стран и дискредитировать сами принципы и методы руководства, господствующие сейчас в социалистическом лагере».
Через два дня Толю арестовали.
Позвонила Лариса — друзья собираются у нее, чтобы вместе писать письмо с протестом против ареста Марченко.
— Слушай, Лара, у меня сегодня так много дел. Может, ты подпишешь за меня, моим именем. Я надеюсь, вы все вместе сочините что-то достойное.
Когда на следующий день я прочитала письмо, то поняла, что совершила большую ошибку. Письмо начиналось с обращения «Граждане!», как будто автор, стоя на броневике, взывал к толпе, запрудившей площадь. Напыщенные фразы и поучительный тон скорее напоминали политический манифест, а не письмо друзей Марченко. Казалось, это послание вообще не имеет никакого отношения к Толе — молодому человеку, который мог бы начать заново нормальную жизнь, но предпочел посвятить себя тем, кто оставался в Мордовии. Просмотрев письмо еще раз, я с горечью подумала: одно дело оказаться за решеткой из-за своих убеждений, но как обидно попасть в тюрьму из-за документа, который тебе даже не нравится.
Я высказала Ларисе все, что думала об этом письме.
— Письмо уже отправили. Что теперь делать? — огорчилась она.
В тот злосчастный день, 7 августа, ко мне зашла Ирина Белогородская, двоюродная сестра Ларисы — настоящая, а не «стратегическая», как я. Ирина принесла от надежной машинистки готовое письмо, и мы вместе раскладывали текст по экземплярам. Закончив, мы обнаружили, что одной страницы не хватает, и порвали неполный экземпляр.
На следующий день ко мне в квартиру явились майор КГБ и трое в штатском с ордером на обыск. Они и обнаружили потерянную страницу — она, как оказалось, свалилась за спинку дивана.
— Откуда это? — спросил один из гэбистов.
— Это мой экземпляр, я одна из авторов.
— А где остальные страницы?
— Не знаю.
Они ушли. Закончился мой первый обыск. Ничего не забрали, но все перетрогали. Все мои книги открывали, пролистывали, вытряхивали и возвращали на полки, но не точно на то место, где они стояли раньше. Фотографии в рамках тоже были сдвинуты, как и бумаги на письменном столе. Даже одежда висела не так. Все вещи остались в доме, но все было иначе. Казалось, это уже не мой дом. Мне хотелось убежать из этой квартиры, забыть о ней. Начать заново.
Потом у нас был второй обыск, третий. Всего пять. И после каждого обыска оставалось чувство, что надо мной надругались.
На следующее утро Лариса рассказала, что Ирину Белогородскую арестовали, обвинив в распространении текста, содержащего клевету на государство. Этим текстом было наше письмо в защиту Марченко. Ирина забыла пакет с копиями письма в такси. Машину остановили оперативники КГБ, которые еще раньше начали за ней слежку. Подписи Ирины под этим письмом не было, так что по логике вещей следующими в списке на арест должны быть те, кто его подписал.
У меня время от времени побаливал коренной зуб. Я решила, что надо его как можно скорее удалить, и 10 августа пошла в поликлинику.
— Зуб можно сохранить, — пытался убедить меня стоматолог.
Рентген, удаление нерва, пломбирование, слепок, коронка — мне не хотелось объяснять врачу, что на все это у меня просто нет времени. Со дня на день меня могут арестовать. Не хватало еще попасть в лагерь с больным зубом.
Удаление оказалось мучительным. Обезболивание длилось сорок минут, зуб не поддавался два часа. Еще не меньше часа я просидела на скамейке возле поликлиники, пытаясь прийти в себя. Сквозь туман в голове пробивалась мысль: надо идти домой или по крайней мере позвонить Коле. Он просил меня звонить каждый час-полтора, чтоб убедиться, что я еще на свободе.
— Лагерь не место для женщины, — снова и снова повторял он.
Едва справившись с головокружением и одышкой, я добралась до дома и услышала от Коли целую отповедь: я не звонила три часа подряд, он в ярости, лагерь не место для женщины. Я была не в состоянии объясняться и без сил рухнула на кровать.
Через некоторое время позвонил Павел Литвинов, сказал, что надо увидеться.
— Заходи, — ответила я.
Должно быть, у него письмо в защиту Ирины Белогородской. Я лежала и вспоминала события последних дней. Марченко арестовали за его книгу и письма протеста. Я позволила поставить мою подпись на письме с протестом против его ареста, а потом пожалела об этом, увидев письмо. Ирина оставила распечатку письма в такси и была арестована. Теперь восемь человек, подписавших то письмо, должны написать другое, в защиту Ирины. Что дальше? Боль после удаления зуба и страх оказаться в тюрьме мешали думать. Завтра утром мы с Колей уезжаем в отпуск — запоздалый медовый месяц. Что если меня ночью арестуют? А если схватят в аэропорту, как Юлика Даниэля?
— Мне действительно страшно, Пашка, — сказала я Литвинову.
— Ты подпишешь это? — спросил он, протягивая письмо.
Я подписала.
В Киеве мы провели три дня у Ивана Светличного. Писатель, переводчик, литературный критик, он был в центре начавшегося на Украине культурного возрождения. Я познакомилась с ним несколько лет назад у Юлика и Ларисы. Примерно раз в полгода Светличный с женой Лелей приезжали в Москву, в основном чтобы запастись книгами, и иногда останавливались у нас.
Их киевская квартира была неформальным клубом украинской интеллигенции. Надо сказать, что эта публика отличалась от московской прежде всего сдержанной манерой поведения: они не сквернословили, пили очень умеренно, судя по всему, хранили супружескую верность. Большинство писателей, поэтов, историков, собиравшихся в доме Светличных, были интеллигентами в первом поколении, многие — родом из крестьян. Старую украинскую интеллигенцию почти полностью истребили во времена сталинских чисток.
Интеллигентское по сути движение шестидесятников на Украине было направлено в первую очередь на сохранение национальной культуры и нашло отклик среди всех слоев населения, включая даже часть партийного аппарата. Тысячи людей собирались на уличные шествия, поэтические чтения и вечера украинской культуры. С трибун открыто звучали требования демократизации и прекращения русификации. За короткий период «оттепели» появились признаки возрождения украинской самобытности. Власти, конечно, боролись с «национализмом», но как-то не очень решительно. Репрессии начались в августе 1965 года, незадолго до ареста Даниэля и Синявского. Тогда одновременно в разных городах Украины арестовали более двадцати человек, причастных к движению шестидесятников. Власти явно выполняли срочный указ из Москвы.
Одним из арестованных был Иван Светличный. Хотя он играл ведущую роль в движении, через восемь месяцев его выпустили «за недостаточностью улик». А улик и не было — ничего тайного он не делал.
В один из вечеров, когда мы собрались у него дома, Иван рассказал о молодом поэте Виталии Коротиче. В 1965 году, когда начались аресты, Коротич решил затаиться и «не высовываться». Через несколько месяцев он случайно оказался в автобусе рядом со Светличным, который только что вышел из тюрьмы. В течение всей поездки Коротич смотрел в пол, разглядывая свои ноги, и не произнес ни слова. Времена изменились. Поднимать голову стало опасно.
После Киева мы с Колей поехали в деревню. Поселились в лесной избушке, принадлежавшей подруге сестры Светличного, школьной учительнице. Полдня мы гуляли по лесу и собирали грибы, потом полдня их чистили и готовили. В избушке была маленькая печь с одной конфоркой и небольшая сковородка. К тому времени, когда последняя порция грибов, наконец, была готова, первая совсем остывала. Челюсть у меня больше не болела, а Коля перестал бубнить про то, что лагерь не место для женщины. Наша жизнь приобрела более спокойный характер.
21 августа в местной газете мы прочитали: «ТАСС уполномочен заявить, что партийные и государственные деятели Чехословацкой Социалистической Республики обратились к Советскому Союзу и другим союзным государствам с просьбой об оказании братскому чехословацкому народу неотложной помощи, включая помощь вооруженными силами. Это обращение вызвано угрозой, которая возникла существующему в Чехословакии социалистическому строю и установленной Конституцией государственности, со стороны контрреволюционных сил, вступивших в сговор с враждебными социализму внешними силами… Советские воинские подразделения вместе с воинскими подразделениями названных союзных стран 21 августа вступили на территорию Чехословакии… Предпринимаемые действия не направлены против какого-либо государства и ни в коей мере не ущемляют чьих-либо государственных интересов. Они служат цели мира и продиктованы заботой о его укреплении».
Я не присутствовала на заседании Политбюро, когда принималось решение «укреплять мир» путем военного вторжения в суверенное государство. Я больше не была членом Коммунистической партии. Преступления партии это не мои преступления. Но я испытывала жгучий стыд — за то, что у меня советский паспорт, за то, что я русская, за то, что живу в варварской стране, которая подняла дубину на просвещенного соседа. Коля испытывал такое же чувство стыда.
Что происходит в Москве? Может, «черные вороны» кружат по улицам, забирая «идеологически ненадежных», моих друзей? Что с Ларисой, с Павлом? А Толя — вынесен ли ему приговор? В деревне не было ни телефона, ни коротковолнового радиоприемника. Обратный билет у нас на 26 августа. Поменять рейс в конце лета даже и пытаться бесполезно. Остается ждать пять дней, читать местные газеты и слушать местное радио.
Мы вернулись в Киев 25 августа. Последний вечер у Светличных получился унылым. Все были подавлены, разговаривали тихо, короткими фразами, как будто в доме кто-то умер. Наконец, Иван настроил приемник. Первая новость — из Москвы: несколько человек провели демонстрацию на Красной площади. Среди них была женщина с детской коляской. Сообщалось, что демонстрантов арестовали. Имен не называли, но я знала, кто там могли быть: Лариса, Павел, с детской коляской — Наташа Горбаневская.
На следующий день мы вернулись домой. Бросив чемодан, я подошла к телефону. Я стояла и представляла: вот я звоню, отвечает Саня, я спрашиваю Ларису, он говорит: «Маму арестовали». Рука не поднималась снять трубку. Вдруг телефон зазвонил. Это был Саня.
— Маму арестовали, — сказал он.
Когда вас оскорбляют, когда вас унижают так страшно, что восстает все ваше существо, когда вам хочется что-нибудь делать, все равно что, лишь бы отделить себя от того, что называется «массой», — тогда вы обращаетесь к декабристам. А если при этом вы поэт и гражданин, то просто не сможете удержать в себе крик, и он вырвется из вашего горла, и его услышат.
Александр Галич — драматург, сценарист: «Вас вызывает Таймыр», «Верные друзья», «Государственный преступник». Успех. Благополучие. Красиво обставленная квартира в писательском доме. Он всегда нездоров. Не то чтобы смерть подстерегает у порога, но она где-то рядом, посматривает с той стороны улицы. Понравилось бы Создателю, если б Александр Аркадьевич Галич растратил свой талант на то, чтоб на столе всегда стояла водка с икрой?
Когда он не писал заказные сценарии, он сочинял стихи, которые цензоры не читали. Он пел их под гитару друзьям. Друзья записывали их на магнитофон, давали слушать и переписывать своим друзьям, те — своим, и эта потрясающая поэзия начинала жить самостоятельной жизнью. Лето 1968 года Галич проводил в подмосковной Дубне, где должен был работать над сценарием вместе с режиссером Марком Донским. Но ему было плевать на Донского, на сценарий, да и на свою жизнь.
Был разгар августа, Галич не расставался с гитарой — перебирая струны, искал мелодию к зарождавшимся стихам. На следующий день после вторжения в Чехословакию, 22 августа, стихи и музыка слились. Прозвучал «Петербургский романс».
Кто сможет выйти на площадь — Сенатскую ли, Красную? Час пробил, о нем возвестил мороз по коже. Если бывает время, когда нужно стать декабристом, то это время пришло.
Через два дня в московской квартире Льва Копелева и Раисы Орловой Галич исполнял свои песни. Он пел о марширующем по ночной Москве памятнике, бронзовом генералиссимусе, за которым следуют гипсовые обломки: руки, ноги, сапоги, даже челюсть с усами — парад уродов, жаждущих человечины, чтобы вновь обрести величие и бить в барабаны…
Пел он и о другом параде — параде негодяев, собравшихся на похороны Бориса Пастернака:
Такой вот необычайный повод для гордости — поэт умер своей смертью, в преклонном возрасте. Его не расстреляли в тридцать пять лет, как Николая Гумилева. Не замучили арестами и ссылками, как Осипа Мандельштама. Не довели до самоубийства, как Марину Цветаеву. Теперь лицемеры, которые его осуждали и изгоняли из Союза писателей, устраивают траурную церемонию.
Под конец Галич спел «Петербургский романс»:
Спустя годы Павел Литвинов вспоминал, что, вслушиваясь в эти строки, едва удержался, чтобы не рассказать о предстоящей демонстрации. «Когда Галич пел: „Смеешь выйти на площадь“, я чувствовал, что это обращено прямо ко мне. Никогда этого не забуду».
Молодая женщина с детской коляской свернула от Александровского сада к Красной площади. В коляске рядом с младенцем лежал самодельный флаг Чехословакии и два лозунга, написанных на кусках ткани. Один — по-чешски: «Да здравствует свободная и независимая Чехословакия!», другой — на русском языке: «За вашу и нашу свободу!». Это выражение принадлежит Александру Герцену, который сто лет назад поддерживал польских повстанцев, боровшихся за независимость от Российской империи.
Лозунги я не люблю, они лишают политическую мысль присущей ей сложности. Но этот лозунг «За вашу и нашу свободу!» — одно из немногих исключений. Свобода Польши в девятнадцатом веке была неразрывно связана со свободой внутри России. Сегодня свобода Чехословакии неотделима от свободы в СССР. Московская «оттепель» неотделима от «пражской весны». Московские политические процессы неотделимы от военного вторжения в Чехословакию. Свобода, как и рабство, не знает национальных границ.
Наташа Горбаневская катила коляску по Красной площади, приближаясь к Лобному месту. Этот напоминающий круглую сцену каменный помост был построен при Иване Грозном для оглашения царских указов. Нередко указы о казнях тут же приводились в исполнение — рядом с Лобным местом, на специальных деревянных сооружениях. В восемнадцатом веке древнюю трибуну Красной площади облицевали белым камнем, сохранившимся до наших дней.
25 августа 1968 года здесь ждали назначенного часа остальные участники демонстрации{15}: Лариса Богораз, Павел Литвинов, Владимир Дремлюга, Константин Бабицкий, Вадим Делоне и Виктор Файнберг.
Часы на Спасской башне пробили двенадцать. Семеро демонстрантов развернули плакаты и молча сели на теплые белые камни. В считаные минуты к ним подбежали стражи порядка в штатском, вырвали плакаты, избивая, стали заталкивать в подоспевшие машины. На следующий день все еще неподцензурная пражская газета «Литерарни листы» вышла с редакционной статьей, в которой, в частности, говорилось: «Эти семь человек на Красной площади Москвы — по крайней мере семь причин, по которым мы никогда не сможем испытывать ненависть к русским».
Адвокат Дина Каминская ждала у себя дома Ларису и Павла — договорились, что они придут к шести часам вечера. Но время шло, их не было, телефон молчал. Она все больше беспокоилась и расстраивалась — встреча была очень важная. Четыре дня назад, в день советского вторжения в Чехословакию, состоялся суд над Анатолием Марченко — по сфабрикованному обвинению в нарушении паспортного режима он получил год лагерей. Мало того что попытки Каминской смягчить приговор оказались тщетны, она переживала еще и от страха, что ее подзащитный, узнав о вторжении, не удержится от заявлений, которые добавят ему новые обвинения, уже по статье 1901.
В понедельник, 26 августа, Каминская собиралась встретиться с Толей в Бутырской тюрьме. Это был последний шанс поговорить с ним перед этапом и передать что-то от друзей, хотя бы на словах. Непохоже, чтобы Лариса и Павел упустили такую возможность. Что же с ними могло случиться?
Она узнала об этом поздно вечером, включив приемник. Зарубежные «голоса» передавали, что на Красной площади небольшая группа провела демонстрацию протеста.
На следующий день Каминской передали от Ларисы записку, написанную перед заключением в следственный изолятор «Лефортово»: «Не ругайте нас, как все нас сейчас ругают. Каждый из нас сам по себе так решил, потому что невозможно стало жить и дышать… Не могу даже подумать о чехах, слышать их обращения по радио — и ничего не сделать, не крикнуть».
Другая записка была адресована Толе: «Пожалуйста, прости меня и нас всех за сегодняшнее — я просто не в состоянии поступить иначе. Ты знаешь, какое это чувство — когда невозможно дышать».
Вскоре Марченко напишет из заключения: «Я ведь не сомневался, что так и будет, точно знал, как будто сам присутствовал на обсуждениях в ЦК: задушат Чехословакию. Но вот это произошло — и как будто камень на меня свалился. С чехами обошлись так же, как с нами самими, и это было все равно что личное оскорбление, унижение.
Что делают сейчас мои друзья на воле? Что делал бы я сам, если бы не оказался запертым в тюрьме?
26 августа я узнал о демонстрации семерых на Красной площади… Как я отнесся к этому поступку моих друзей?
Я знаю, были разные мнения на этот счет. Что касается меня, то мое отношение вначале было двойственным. Теперь власти расправятся с ними и надолго избавятся сразу от нескольких активных участников Сопротивления — получается, что этот поступок даже на руку властям. В то же время я понимал, что это их самопожертвование не является необдуманным шагом или эффектным жестом. Каждый участник демонстрации прекрасно понимал, что с Красной площади им только одна дорога — в тюрьму. Но они, видимо, не могли смириться с позором своей страны, переживали его как свой собственный позор и нашли единственный способ активно выразить свои чувства. Этот поступок был как бы итоговой чертой развития каждого из вышедших на площадь.
Конечно, многие русские были возмущены военным вмешательством в дела суверенного государства. Особенно широко это возмущение было среди интеллигенции. Но, как и всегда, не все решаются на активный протест.
Семеро — решились.
Позднее мне довелось услышать оценку демонстрации из уст участников национально-освободительного движения на Украине и в Прибалтике. Казалось бы, уж этим-то, с оружием в руках защищавшим свою землю от огромной советской военной махины, не приходится удивляться и восхищаться трехминутным выступлением на площади. Но эти украинцы и прибалты объясняли: „Мы сражались с оружием в руках, а в бою ведь не всегда и не всех убивают. У каждого остается маленькая надежда, что авось как-нибудь обойдется. А вот выйти открыто с протестом, без оружия, семерым против всех — на это нужно особое мужество“».
Наша с Ларисой легенда о «двоюродных сестрах» сработала: мою фамилию не вычеркнули из списка родственников, которым дозволено присутствовать на суде над демонстрантами.
Утром 9 октября 1968 года, без нескольких минут девять, я вошла в зал заседаний суда Пролетарского района Москвы. Из приблизительно сорока человек половина были явно гэбисты. Они, очевидно, пришли первыми, поэтому родственникам обвиняемых достались места в задних рядах. Я вошла последней, и единственное свободное место оказалось в середине первого ряда. Оттуда все было хорошо видно. Только я села, в зал ввели обвиняемых. На скамье подсудимых было пять человек. (Виктора Файнберга признали невменяемым и отправили в психбольницу; Наташу Горбаневскую отпустили, видимо, решив, что предъявление обвинений кормящей матери на судебном процессе, ход которого освещает мировая пресса, не будет способствовать престижу советского правосудия.) Обвиняемые оглядели зал, и каждый сразу понял, что родственники сидят сзади, а в первых рядах — сотрудники КГБ.
Лариса, сидевшая второй слева, остановила взгляд на сыне и на родителях, потом стала просматривать зал от середины к первым рядам. По выразительному лицу нетрудно было прочесть ее мысли. Наши глаза встретились. Она слегка откинула голову: «Что? Как ты тут оказалась, рядом с этой швалью?» — я будто услышала ее слова и поняла, что ее это скорее позабавило, а не смутило. Я улыбнулась ей в ответ.
— Встать, суд идет!
Все поднялись. Вошла бледная, строгого вида женщина — судья Валентина Лубенцова, жена полковника, страж закона, преданный слуга государства. Она была известна как компетентный справедливый судья. Ее уважали адвокаты. Но все это было раньше — до первого политического процесса. За последующие десять лет под ее председательством будет вынесено немало приговоров диссидентам, в том числе Владимиру Буковскому, Юрию Орлову, Глебу Якунину, Виктору Капитанчуку, Татьяне Осиповой. Она не продавала судейскую мантию партии или государству. Государство и партия владели ею изначально. Она правильно поняла свою задачу: направить процесс таким образом, чтобы он закончился обвинительным приговором.
Судья. Подсудимая Богораз, что вы можете сообщить по существу предъявленных вам обвинений?
Лариса. 25 августа, около двенадцати часов дня, я пришла на Красную площадь. У меня был плакат, выражающий мой протест против военного вторжения в Чехословакию…
Судья. Что было написано на плакате?
Лариса. На этот вопрос я отказываюсь отвечать.
Судья. Почему?
Лариса. Потому что это неважно — что написано на моем плакате. Я согласна со всеми лозунгами: «Руки прочь от Чехословакии!», «За вашу и нашу свободу!», «Свободу Дубчеку!», «Да здравствует свободная и независимая Чехословакия!»
Судья. Кто был вместе с вами на Красной площади?
Лариса. Я отказываюсь отвечать на вопросы, которые касаются других обвиняемых…
Судья. Вы одновременно сели на парапет?
Лариса. Не помню.
Цель властей была очевидна: показать, что акция протеста заранее спланирована, что лозунги носили клеветнический характер, что демонстранты нарушали общественный порядок и затрудняли работу транспорта.
Отвечая на вопросы, каждый из обвиняемых подчеркивал, что в групповых действиях не участвовал, действовал самостоятельно, общественный порядок не нарушал и работе транспорта не мешал (хотя бы потому, что около Лобного места проезд машин запрещен).
Показания всех пятерых, выраженные разными словами, были близки по сути — никто не сожалел о том, что вышел на площадь выразить свое мнение.
Лариса Богораз сказала:
— Мой поступок не был импульсивным. Я действовала обдуманно, полностью отдавая себе отчет в последствиях своего поступка… Именно митинги, радио, сообщения в прессе о всеобщей поддержке побудили меня сказать: я против, я не согласна. Если бы я этого не сделала, я бы считала себя ответственной за действия правительства.
Когда в половине восьмого я вышла из зала суда, меня окружили иностранные корреспонденты. Конечно, был соблазн отмолчаться, не рисковать — могут ведь и не пустить на следующие заседания. Но я решила, что лучше по горячим следам рассказать, как прошел первый день суда. К тому времени, когда я добралась до дома, мой «отчет» уже передавали зарубежные радиостанции. На следующий день в списке родственников, допущенных в зал суда, моя фамилия отсутствовала…
Приговоры объявили 11 октября. Павел Литвинов получил пять лет ссылки, Лариса Богораз — четыре года, Константин Бабицкий — три. Владимиру Дремлюге присудили три, а Вадиму Делоне два года и десять месяцев лагерей.
Как «двоюродная сестра» Ларисы, я столкнулась с целым рядом проблем. Самое сложное — что делать с квартирой? Лариса и Юлик — оба осужденные. Саню могут забрать в армию, как только ему исполнится восемнадцать. В университет в Москве он не поступит. Несмотря на прекрасные оценки его не примут — слишком известная фамилия, да и сам на заметке как подписант. Если же он поедет учиться в другой город, в квартире никого не будет, и власти не преминут этим воспользоваться, чтобы лишить неугодных права на жилплощадь «ввиду непроживания». Тогда они потеряют и квартиру, и московскую прописку.
Я попросила адвоката Ларисы, Дину Каминскую, порекомендовать мне специалиста по жилищному законодательству. Специалистом оказалась пожилая, усталого вида женщина. Когда я вошла к ней в кабинет, она даже не предложила мне сесть. Я стояла и объясняла ситуацию: отец в тюрьме, мать на пути в ссылку, сына заберут в армию.
Женщина подняла глаза от разложенных на столе бумаг:
— По какой статье осужден отец?
— Статья 70.
— А мать?
— Статья 190.
— А как их фамилия?
— Фамилия отца Даниэль, матери — Богораз.
— Да вы садитесь, пожалуйста.
У адвоката по жилищным делам были свои симпатии и антипатии. К концу консультации я получила не только полезные советы, но и ее домашний телефон и дружеское расположение.
Первое, что надо попытаться сделать, — найти Сане такую работу, которая давала бы отсрочку от армии. Адвокат точно знала, что московскому метрополитену не хватает машинистов и их не забирают в армию. Я не была уверена, сможет ли Саня водить электропоезд в метро.
— Будем думать, — пообещала она на прощанье.
Теперь нужно было найти способ сообщить обо всем Ларисе. После суда ей полагалось получасовое свидание с близкими родственниками, конечно, в присутствии надзирателей. Необходим какой-то код, который будет понятен Ларисе, но пройдет мимо ушей тюремщиков. Я попыталась прорепетировать с ее отцом зашифрованный разговор, который вместил бы все, что нужно ей передать. Иосиф Аронович был замечательный, мудрый человек, но совершенно неопытный конспиратор. Свидание прошло еще хуже, чем я ожидала.
Саня начал рассказывать о Керри, ирландском сеттере, всеми любимом члене семьи. Это была веселая и здоровая собака, еще не старая. Друзья, согласившиеся взять ее, пока не вернется Юлик, заботились о ней и тоже ее полюбили. Но собака очень тосковала. По утрам она клала свою большую рыжую голову на постель новых хозяев, и ее умные глаза не выражали ничего, кроме печали и страдания. В конце концов эта тоска убила ее.
Все тридцать минут, отпущенные на свидание, ушли на повествование о Керри и на слезы Ларисы об этой утрате.
Я уже почти отчаялась найти другую возможность рассказать Ларисе о квартире, об армии и обо всем прочем, как вдруг мне позвонили от судьи Лубенцовой и передали, что Лариса Богораз включила меня в список родственников, с которыми хотела бы увидеться перед отправкой в ссылку. Наша легенда о двоюродных сестрах продолжала работать.
Мне надо было так много успеть сообщить Ларисе, что даже при моей привычке говорить быстро могло не хватить времени, а ведь хотелось еще и просто поговорить и ее послушать.
Мы бросились друг к другу и обнялись, не обращая внимания на крики надзирателя «Не положено!» Нас развели, и мы сели напротив друг друга за прямоугольный стол, между нами в торце стола занял свое место надзиратель. Лариса выглядела похудевшей, но умиротворенной. Она сделала то, что хотела, и была спокойна.
Я начала быстро-быстро монотонным голосом рассказывать: про ситуацию с квартирой и призывом Сани в армию — какой выход может быть найден, про Толю — он уже прибыл в лагерь, в Соликамск, я уже послала ему посылку, положила в нее мыло, завернутое в «Московскую правду», где напечатана статья о суде над демонстрантами. Шифр я использовала самый простой: Саня — ребенок, Толя — Вася и так далее.
Примерно в середине этого потока информации я заметила, что Лариса, поглядывая на надзирателя, с трудом сдерживает смех. Не прерывая свой монолог, я повернула голову направо и тоже чуть не рассмеялась. Страж порядка, который и в первый момент не производил впечатления человека, отягощенного умственной деятельностью, сейчас — с отвисшей тяжелой челюстью и выкатившимися пустыми глазами — выглядел как полный идиот. Я продолжала говорить с удвоенной скоростью: тра-та-та-та-та-та-та.
Изложив все что было нужно, я перевела дух и спросила:
— Ну, а как ты?
— Нормально, даже отдохнула.
— А как кормят?
— Не намного хуже, чем в буфете Ленинки.
— А что ты делаешь?
— Сплю. В основном сплю. И читаю.
Она читала Уголовный кодекс и «Два капитана» Вениамина Каверина — романтическую повесть о любви и долге, верности и предательстве.
Проблема с армией у Сани вскоре разрешилась. При прохождении медкомиссии для призывников его осмотрел невропатолог и поставил диагноз: нервное истощение. На меня Саня производил впечатление нормального юноши, никаких признаков нервного расстройства я в нем не замечала. Вполне возможно, врач оказался понимающим человеком и просто помог ему в сложившейся ситуации избежать военной службы.
Мы узнали, что Ларису отправили в ссылку, но еще долго не знали, куда именно и что с ней. С собой у нее не было ни денег, ни теплой одежды — никаких передач не принимали. Почти через месяц, 4 января, она позвонила мне из Чуны, поселка в Иркутской области.
Неделя выдалась напряженной. Нужно было купить билеты на поезд, упаковать вещи, которые я собиралась отвезти Ларисе, и одновременно готовиться к переезду на другую квартиру. Я понимала, что Ларисе захочется прочитать все, что писали и пишут о Чехословакии, но даже представить не могла, где взять время, чтобы заняться подборкой материалов самиздата. Коля вызвался помочь и к отъезду вручил мне увесистую пачку бумаг. Я ехала с тремя огромными чемоданами и тяжеленным узлом, набитыми теплой одеждой, постельным бельем, кухонной утварью и консервными банками. Вряд ли магазины в Чуне ломятся от продуктов, а до лета, когда можно будет посадить огород, еще далеко, да и много ли вырастет в Сибири.
На Ярославском вокзале Коля с Мишей помогли мне погрузиться в вагон. В пути я договорилась с проводником: за пять рублей он обещал вынести вещи на перрон. Но как быть дальше, найдутся ли носильщики на вокзале в Тайшете, где у меня была пересадка до Чуны? Мои опасения подтвердились — никаких носильщиков и никого, кто предложил бы помощь, на вокзале не было. Мне ничего не оставалось, как перетаскивать поклажу частями. Я брала один чемодан, относила на несколько шагов, возвращалась за следующим и так далее. На транспортировку багажа в камеру хранения ушел целый час.
Поезд до Чуны ожидался только утром, и я решила осмотреть город. Не найдя ничего, кроме хрущевских пятиэтажек, я в темноте вернулась на станцию. У меня не было валенок, а французские сапоги, хотя и на меху, оказались не для сибирской зимы. Съежившись, пытаясь согреться, я просидела ночь в зале ожидания. Рано утром тем же способом я перенесла багаж на другую платформу. Это снова отняло час времени и немало сил, но меня утешала мысль, что это в последний раз — в Чуне меня встретит Лариса.
Однако на станции Ларисы не оказалось, как, впрочем, и никого другого. Я проволокла чемоданы и баул по пустой платформе, оставила их у дежурного по станции и отправилась на поиски избы, в которой Лариса снимала койку.
Это оказался крепкий бревенчатый дом, даже забор и ворота были сделаны из бревен. Я толкнула калитку, потом потянула ее на себя, но она не открывалась. Постучала кулаком, поколотила ногой. Тишина. Дом стоял в глубине участка, а толстые бревна поглощали звук. Я попробовала кричать, но поняла, что мой голос заглушается воем ветра. Вокруг начали собираться собаки, они лаяли, взвизгивали, выли, но эти звуки тоже уносило ветром.
На дороге показалась женщина, подойдя ближе, она спросила:
— Вы к кому?
Я объяснила.
— Да, это здесь.
— Может, никого нет дома?
— Нет, они дома.
— Откуда вы знаете?
— Так дым из трубы идет. Стучите сильнее.
В конце концов хозяин дома вышел за дровами, услышал мой стук и лай собак. Он отпер ворота и провел меня в дом.
— А я ждала тебя завтра, — сокрушалась Лариса.
Она еще больше похудела после «Лефортово».
Хозяева — пожилая пара — оказались приятными гостеприимными людьми. Дядя Саня, бывший железнодорожный рабочий, воспринял мое появление как повод спуститься в погреб за бутылкой самогона. Тетя Женя накрыла на стол, поставила четыре стакана. Хозяин еще раз сходил в погреб, принес соленые огурцы и маринованную черемшу. При этом не переставал напевать себе под нос:
Лариса отказалась от самогона:
— Я умру, если это выпью.
До ареста и даже в «Лефортово» у нее не было проблем с желудком, но после трех недель в поезде и пересыльной тюрьме начался острый гастрит. Потом он станет хроническим, а позднее перейдет в язву.
Я же в те дни могла выпить, не моргнув глазом, и присоединилась к хозяевам, подняв стакан с самогоном. Это немало способствовало установлению между нами дружеских отношений.
Спать нам с Ларисой пришлось на одной койке. Всю ночь она рассказывала о своем трехнедельном путешествии в поезде, где в основном были люди, осужденные за уголовные преступления. Ей довелось услышать сотни историй.
Одна из попутчиц оказалась убийцей. Она убила мужа, отца своих троих детей. «Нет, я не жалею, что убила его, — говорила она Ларисе. — Он пил и избивал нас — и меня и детей».
Другая попутчица, Валя, отмечала девятнадцатый день рождения в кругу друзей. Все они хорошо выпили, но показалось мало. Забрались в магазин, добавили, да так, что все там и заснули прямо на полу.
Девушку Лиду, которой только исполнилось восемнадцать, перевозили из колонии для несовершеннолетних в лагерь для взрослых. С ней вместе ехала девушка помоложе, ее возлюбленная. Уже в пути они выяснили, что их направляют в разные лагеря.
В пересыльной тюрьме в Новосибирске Лариса разговорилась с четырнадцатилетней Диной, которая промышляла воровством. Она была неглупа, уверена в себе, много читала. «Но почему? Почему ты это делаешь? Ты ведь могла бы учиться в школе», — удивилась Лариса. «Конечно, могла бы. Но зачем?»
О чехословацких событиях мы не говорили. С демонстрации на Красной площади началось путешествие Ларисы в другой мир — мир за колючей проволокой, с вооруженными охранниками и людьми, чьи жизни разрушены жестокостью и равнодушием. Этот мир был гораздо ближе. Он больше нуждался в ее сострадании, чем Александр Дубчек, чехи, словаки и «пражская весна».
Утром Лариса ушла на работу на деревообделочный комбинат, а я отправилась на станцию в надежде договориться с кем-нибудь, кто помог бы довезти багаж до дома. К счастью, дядя Саня дал мне валенки, ногам было тепло и уютно, и я, не торопясь, шла через поселок, присматриваясь к постройкам. Мне хотелось найти для Ларисы подходящее жилье. Ей эту задачу поручать нельзя. Она потратит массу времени и сил, чтобы отыскать какую-нибудь самую дешевую разваливающуюся хибару.
Я нашла приличный домик, крепкий на вид, четыре года наверняка простоит. За него просили 1800 рублей — средняя цена в Чуне. Я заплатила авансом 200 рублей и договорилась полностью рассчитаться в течение двух месяцев. Я не сомневалась, что за это время удастся собрать остальную сумму — ведь у Ларисы столько друзей.
Вечером дядя Саня и тетя Женя пригласили нас в гости к своим знакомым. Мы вежливо отказывались, но в конце концов сдались — уж очень они настаивали.
Как только мы вышли за порог, дядя Саня шепотом сообщил:
— Нам велели увести вас из дома.
— Кто велел? — спросила Лариса.
— Милиция и какой-то человек в штатском.
— Местный?
— Нет, не наш.
В гостях мы посидели за столом полчаса и, извинившись, ушли. Подходя к нашему временному пристанищу, мы не заметили ничего особенного, но когда открыли тяжелые ворота, увидели, как из дома появилась темная фигура и метнулась к забору. Гэбисты явно собирались порыться в бумагах, которые я привезла Ларисе, но наше появление расстроило их планы. Мы обе переживали за хозяев дома — теперь их могут вынудить стать осведомителями. Нет ничего горше, чем видеть, как порядочных людей запугивают и вовлекают в совершение недостойных поступков. Да, Ларисе просто необходимо собственное жилье.
С первой минуты, как я вошла в свою московскую квартиру, телефон не умолкал. Десятки людей знали, что я вернулась из двухнедельной поездки в Чуну, и жаждали узнать новости о Ларисе. Поговорив с несколькими знакомыми, я стала отвечать всем одно и то же: приходите ко мне такого-то числа, в такое-то время, я расскажу подробности сразу всем. В назначенное время в мою комнату набилось человек тридцать. Я рассказала о трехнедельном путешествии Ларисы в эшелоне с уголовниками, о ее работе и условиях жизни в Чуне.
— Ну так что?! — прогремел бас Петра Григоренко. — Давайте купим этот дом для Лары? Вот моя шапка.
Он схватил серую каракулевую папаху и бросил в нее десять рублей. Шапка пошла по кругу, наполняясь банкнотами и мелочью. Начало было положено, но нужной суммы и близко не набралось.
— Один мой друг, я знаю, с радостью даст денег взаймы, — сказал Вадим Меникер.
Это было именно то, что мне хотелось услышать.
Дом был куплен, а через четыре года Лариса продала его за 2400 рублей. Эти деньги, переданные в общественный фонд помощи политзаключенным, пошли на покупку двух домов для новых ссыльных.
Зимой 1969 года Ларису перевели на другую работу. Теперь вместо относительно нетрудной рубки веток и сучков ей приходилось таскать тяжелые бревна. Из-за язвы желудка у нее возникли проблемы с пищеварением, и она почти ничего не ела.
И прораб, и начальник лесозаготовительного комбината говорили, что можно было бы найти ей более легкую работу, но для этого необходима справка от врача, что она не может поднимать тяжести. Врачиха в ответ на просьбу сказала что-то оскорбительное и захлопнула дверь у нее перед носом. Лара вернулась к прорабу, тот снова послал ее к начальнику. Начальник опять послал к врачу, врач опять отказалась выдать справку.
Не знаю, был ли это чей-то продуманный план — непосильной трудовой повинностью замаскировать убийство. Ведь очевидно, что человек, который не может есть и при этом вынужден таскать бревна, долго не протянет. Нужно было срочно что-то делать.
Я решила обратиться к Анатолю Шубу, корреспонденту «Вашингтон пост» (или все-таки «Нью-Йорк таймс»?), который, помнится, предлагал Ларисе свою помощь. Я знала только его имя и смутно помнила, как он выглядит.
21 мая я пошла на суд над Ильей Бурмистровичем. Его обвиняли в клевете на государственный строй, а более конкретно — в распространении произведений Даниэля и Синявского. Среди корреспондентов, пришедших к зданию суда, Шуба я не увидела, но заметила одного из репортеров, лицо которого запомнилось мне по предыдущему суду. Вдохнув поглубже, я подошла к нему и попросила помочь мне найти Шуба.
— Это будет непросто, — сказал Ларс-Эрик Нельсон, корреспондент агентства Рейтер.
Накануне Министерство иностранных дел известило Анатоля Шуба, что он должен покинуть страну в течение сорока восьми часов. Так что не позднее чем 23 мая утром он должен уехать.
Дело очень срочное, касается Ларисы Богораз, и я буду очень признательна, если Шуб сможет позвонить мне до отъезда — объяснив все это, я дала корреспонденту номер своего домашнего телефона.
— Обещаю, что все ему передам, — сказал Нельсон.
Но я особенно не надеялась, у Шуба слишком много хлопот перед неожиданным отъездом, надо хотя бы успеть собраться.
Утром раздался звонок:
— Хелло, меня зовут Анатоль Шуб. Я корреспондент газеты «Вашингтон пост». Ларс-Эрик Нельсон сказал мне, что вы хотели поговорить о Ларисе.
О, Боже! Я чуть не бросила трубку. Не ожидала, что он начнет представляться и объяснять, о чем надо поговорить. Я и так бы сразу поняла, кто звонит и зачем. Наш разговор прослушивается на обоих концах провода. Теперь они будут знать, где мы встретимся, и даже будут знать зачем. Но ничего не поделаешь, Ларисе нужна помощь.
— Где бы вы хотели встретиться? — продолжал Шуб
— У вас мало времени, так что скажите, где вам удобней.
Шуб предложил встретиться в кафе около станции метро «Аэропорт». Поскольку он не знал меня в лицо, он взял с собой Нельсона. Мы втроем сели за маленький круглый столик. Я чувствовала себя, как на сцене. За соседний столик уселся человек, вошедший в кафе вслед за корреспондентами. Когда мы заговорили, он отклонился назад, чтобы лучше слышать. Еще немного, и он бы лег ухом на стол. Видимо, такая демонстративная слежка используется для большей острастки.
Стараясь быть краткой, я начала рассказывать о сути проблем, появившихся у Ларисы в ссылке, но тут же возникла загвоздка. Хотя оба корреспондента хорошо говорили по-русски, но с терминологией из области лесозаготовок знакомы не были. Пришлось долго объяснять разницу между старой и новой работой Ларисы: одно дело отрубать суки и отламывать ветки и совсем другое — перетаскивать толстые бревна. Для ясности я даже что-то рисовала на салфетке, пока они не поняли, что Ларису фактически используют как грузчика.
Включив приемник 26 мая, я услышала сообщение о положении Ларисы в ссылке — с язвой желудка на погрузочных работах.
Через несколько лет мы встретимся в Вашингтоне, и Шуб расскажет, что, приехав из Москвы в Лондон, он сразу передал сообщение о Ларисе в «Санди таймс» и в информационные агентства, а также включил его в подборку материалов, написанных им для «Вашингтон пост».
Спустя примерно две недели мне позвонила Лариса.
— Людочка, все, наконец, устроилось. Вчера я пошла к врачу, но ее не было. Меня направили к новому доктору, и он дал мне нужную справку. Даже не верится, это просто чудо.
— Да, это действительно похоже на чудо.
Глава 11
Каждому из нас предстояло решить, как жить в новых условиях — служить или противостоять ортодоксальной коммунистической власти, смириться или искать способ бегства от действительности. Еще появлялись отдельные письма протеста, но подписей стало несравненно меньше — всего несколько десятков человек не сдались и отказывались признавать изменившийся политический климат. Остальные подписанты предпочли подвести черту и остановиться после двух-трех петиций, поданных во время процесса Галанскова и Гинзбурга. Люди возвращались к привычному образу жизни — ругать режим, сидя с друзьями на кухне, и помалкивать в общественных местах.
Многие были готовы жертвовать карьерой, но это не приводило к желаемым переменам. Преследования подписантов, и особенно вторжение в Чехословакию, показали, что страна движется к какой-то форме неосталинизма, и никакие петиции не смогут поколебать этот курс. Большинство людей считали, что больше нет смысла обращаться к властям, и перестали писать письма протеста.
Общество затихало, а власти перешли в наступление. По всей стране — во всех учреждениях, учебных заведениях, исследовательских институтах, творческих союзах, на промышленных предприятиях — проводились собрания, на которых принимались решения в поддержку «помощи» чехословацкому народу. Некоторые резолюции публиковались в газетах: «Коллектив Завода имени Лихачева единогласно одобряет действия Советского правительства и правительств других социалистических стран…», «Советские писатели, как и весь советский народ, горячо поддерживают меры, принятые для укрепления социалистического строя в Чехословакии…», «Тысячи тружеников Балхашского горно-металлургического комбината выразили полную поддержку своевременным мерам…».
Резолюции принимались открытым голосованием, под строгим надзором администрации, партийных руководителей и представителей райкомов партии, которые тут же брали на заметку осмелившихся голосовать против.
Немало людей старались избежать этого спектакля — сказывались больными в день собрания или выходили в туалет перед началом голосования. Как правило, потом их вызывали в партбюро и настоятельно предлагали подписать принятую резолюцию.
Мне рассказывали, что в издательстве «Наука» перед голосованием на собрании трудового коллектива туалеты были переполнены сотрудниками. Самсонов и Еськов сделали вид, что этого не заметили.
На московских кухнях бурно обсуждался вопрос о затруднительном положении порядочных людей, наделенных той или иной властью. Должны ли были все порядочные люди в августе 1968-го покинуть руководящие посты и хлопнуть дверью? Или все-таки их моральный долг оставаться на руководящей работе, хотя бы для того, чтобы покрывать подчиненных, когда те во время собрания выходят в туалет? Ответить на эти вопросы каждый администратор должен был сам.
Михаил Самсонов решил не хлопать дверью. Он продолжал работать директором издательства. Но он был также историком и в своей научной работе оставался честным. Ведущий специалист в области военной истории, он — не желая участвовать в фальсификации — отказался войти в коллектив авторов, составлявших многотомную историю Великой Отечественной войны.
Позднее он стал главным редактором журнала «Исторические записки», был избран членом-корреспондентом Академии наук СССР. Уже в годы перестройки опубликовал ряд статей о некомпетентном вмешательстве Сталина в стратегические решения, что привело к огромным потерям советских вооруженных сил и затяжным военным действиям.
Как ученый и администратор Самсонов пытался обходиться минимумом полуправды и моральных компромиссов, чтобы защитить и собственное положение, и положение своих сотрудников. Другой мой начальник, Лев Делюсин, проявил отчаянную доблесть, по мнению некоторых коллег, граничившую с безрассудством.
В конце хрущевской «оттепели» Делюсину, специалисту по истории Востока, предложили организовать и возглавить новый Институт научной информации в области общественных наук (ИНИОН). Он согласился с одним условием — никто не будет ему указывать, кого принимать на работу и как эту работу проводить. Среди научных сотрудников и переводчиков, зачисленных в штат, оказалось необычайно большое число евреев, которых другие начальники старались на работу не брать. К тому времени, когда другие институты начали увольнять подписантов, в ИНИОН оставалось еще несколько вакансий, и директор пригласил на них уволенных специалистов.
В этом институте нашли хитроумный способ принять меня на работу. Сначала я получила должность машинистки. После двух лет безработицы я была рада любой постоянной работе. Печатала я дома, в институте не показывалась и никому не сказала, что снова работаю. После испытательного срока меня перевели на должность редактора. Я брала материалы домой, а в институт приходила только, чтобы сдать готовую работу и взять новую.
Благоденствие длилось недолго. Отдел кадров все больше вмешивался в решения о приеме на работу, а высокое начальство все чаще навязывало свое непрошеное руководство. По слухам, ходившим в институте, Делюсин поставил вопрос ребром: «Или я работаю как считаю нужным, или ухожу». Отставка была незамедлительно принята.
Перед уходом Делюсин перевел меня в отдел научного коммунизма, которым руководил его друг Яков Бергер. Несмотря на политически корректное название, отдел занимался изучением нетривиальных трудов — Маркузе, Сартра, а также последних сочинений западных советологов. Кроме ИНИОН, подобную литературу можно было найти только в самиздате.
В 1965 году Виталий Коротич, столкнувшись в автобусе с Иваном Светличным, предпочел не заметить вернувшегося из заключения друга. В разгар наступления на украинскую интеллигенцию он стал редактором журнала «Днiпро», украинского аналога «Нового мира». Потом получил разрешение съездить в Соединенные Штаты. Вернувшись, отчитался о поездке идеологически корректным опусом «Лицо ненависти». В начале перестройки был назначен главным редактором еженедельника «Огонек». Предстояло превратить заурядный и уже поднадоевший читателям журнал в смелый до дерзости всесоюзный бестселлер. И тогда Коротич начал публиковать произведения Гумилева, Пастернака, Бродского, Даниэля, Марченко и многие другие, годами томившиеся под запретом. Надо думать, что, вкусив свободы, Коротич вряд ли стал бы делать вид, что не узнает своего наставника.
Булат Окуджава был осторожен и в сочинении песен, и в выборе компаний, где он их исполнял, и ему удалось остаться членом партии и членом Союза писателей. Он никогда не лгал и никогда не поступал непорядочно. Талант его с годами не увядал — появлялись новые песни, блестящие стихи, интересная проза. Он написал о детстве, когда верил, что живет в счастливом мире, под мудрым управлением великого Сталина, и о брате Гиви, умершем вскоре после освобождения из сталинских лагерей. С болью пел о любимом Арбате, который из старинного романтического уголка Москвы превращается в обиталище для власть имущих: «Хозяйская походка, надменные уста… Ах, флора там все та же, да фауна не та». Не скрывая горькой иронии, говорил о своей стране:
Владимир Высоцкий, как и герои его песен, стал легендой. Рассказывали, что его вызывали в КГБ по делу Синявского, с которым он был дружен и почитал как мэтра.
Быстро закончив допрос, следователь попросил:
— Вы не могли бы нам спеть?
— Чтобы спеть, нужна гитара, — якобы ответил бард.
— Гитара найдется. — И гитара нашлась, случайно, как рояль в кустах.
Высоцкий спел, и его отпустили.
В период «оттепели» братья Рой и Жорес Медведевы открыли двери своей квартиры для регулярных встреч с людьми, на которых возлагали определенные надежды. Среди них были ведущие ученые-гуманитарии, писатели, правительственные и партийные чиновники из числа наиболее образованных, а также старые большевики и оппозиционные марксисты. В этом салоне можно было увидеть Андрея Сахарова, беседующего с Александром Солженицыным.
Рой — историк, член КПСС, занимался исследованием сталинского террора против партии. Жорес — биолог, написал книгу об уничтожении генетики и генетиков в Советском Союзе. В 1964-м, сразу после снятия Хрущева, Рой начал издавать в самиздате «Политический дневник», который выходил ежемесячно до 1970 года. Рой был убежден, что единственный путь развития человечества — демократический социализм. Он остался верен социализму и после чехословацких событий. В книге «О социалистической демократии» (1972) он обрисовал свой вариант «оптимистической футурологии» — рассчитанный на десять лет план демократических реформ, которые должны привести к истинно социалистическому обществу в СССР. Пока же, признавал он, демократический социализм — самая слабая из всех неофициальных идеологий в нашей стране.
В свое время Рой потеряет работу, а Жорес побывает в психиатрической больнице, после чего будет лишен советского гражданства во время поездки в Англию.
Весной 1970 года физик, математик и философ Валентин Турчин подготовил открытое письмо руководителям партии и правительства, в котором обосновывалась необходимость демократизации общественной системы. Он показал письмо Сахарову, предложив собрать подписи академиков. Как и опасался Андрей Дмитриевич, желающих подписать письмо не нашлось, но сам он оценил важность этого обращения и добавил большой раздел, включающий примерную программу мероприятий на ближайшие 4–5 лет. К письму присоединился также Рой Медведев, и 19 марта оно было отправлено адресатам — Л. И. Брежневу, А. Н. Косыгину, Н. В. Подгорному.
В письме обстоятельно и притом доходчиво объяснялось, почему необходима демократизация — постепенная, но глубокая и последовательная. Авторы писали о признаках застоя, ошибках в экономической политике, замедлении научно-технического прогресса, уничтожении природных богатств, бюрократизме и формализме, о трудных взаимоотношениях государства и интеллигенции, о неоправданных ограничениях и губительном отсутствии свободы информации, без которой невозможен научный, творческий подход к управлению и организации, — писали с тревогой за будущее страны и с надеждой на понимание и сотрудничество со стороны властей. «Мы стремимся к позитивному и конструктивному подходу, приемлемому для партийно-государственного руководства страны». Они не собирались разрушить все до основанья, а призывали скорректировать курс, пока не поздно: источник трудностей не в социалистическом строе, а во враждебных социализму, сложившихся в сталинский период антидемократических традициях и нормах, которые стали тормозом развития производительных сил. Демократизация, проводимая под руководством КПСС и в сотрудничестве со всеми слоями общества, должна создать предпосылки для решения экономических проблем и позитивного развития всех сторон жизни социалистического общества. Авторы подчеркивали, что излагают свою точку зрения с целью способствовать широкому и открытому обсуждению назревших проблем.
Очевидно, руководители посчитали обсуждение неуместным. Во всяком случае ответа авторы не удостоились.
Подобная критическая оценка советской системы долго зрела в умах экономистов и социологов, но впервые прозвучала только в апреле 1983 года в докладе Татьяны Заславской на Конференции экономистов в Москве: возможности централизованно-административного управления хозяйством исчерпаны. Необходимы глубокие, кардинальные реформы. На негативные последствия чрезмерной централизации еще в 1965 году указывал учитель Заславской А. Г. Аганбегян. В самиздате циркулировала запись его закрытого доклада. Заславская произнесла это вслух. В ее выступлении излагались те же идеи, что и в «Письме руководителям партии и правительства», но без слова «демократизация».
Аргументы и соображения, изложенные в письме Турчина, Сахарова и Медведева, нетрудно узнать в манифестах горбачевской перестройки. Но тогда, в 1970-м, власти не откликнулись на призыв к диалогу, хотя нельзя сказать, что на обращение не последовало никакой реакции. Вскоре доктор физико-математических наук Турчин потерял работу. В 1973 году он стал соучредителем, а в 1974-м возглавил советскую группу «Международной амнистии». В 1977-м ему разъяснили, что он никогда не найдет в СССР работу по специальности, и поставили перед выбором — быть арестованным или эмигрировать. Он уехал.
После столкновений с КГБ Борис Михалевский стал гораздо осторожнее. В 1957 году записи с его расчетами и цифрами нашли у арестованных членов подпольного марксистского кружка — Льва Краснопевцева, Николая Покровского и Леонида Ренделя. Избежав худшего, Борис зарылся в книги и журналы, погрузившись в статистические методы и математические модели, и научился скрывать свои полемические мысли за цифрами и формулами. Эконометрия в Советском Союзе делала только первые шаги, и смысл его работ зачастую оставался загадочным даже для тех немногочисленных коллег, которые пытались освоить современные подходы к изучению экономических систем.
В 1965 году ему поручили написать аналитический обзор о состоянии советской экономики. Здесь ему пришлось отбросить осторожность и назвать вещи своими именами.
В милитаризованной тоталитарной экономике, писал Михалевский, преимущественно развивается определенный сектор в ущерб остальным отраслям. Стабильные цены не являются признаком устойчивой и здоровой экономики. Поскольку многие товары дефицитны, а то и вообще не доступны потребителю, цена не отражает их реальной рыночной стоимости. Поэтому развивается скрытая инфляция.
Наглядный пример. Цена на банку сардин остается постоянной, но либо количество сардин в банке уменьшается, либо на такую же банку наклеивается новая этикетка, но и в том и в другом случае сардины поступают в продажу по более высокой цене.
Михалевский провел настоящее исследование, собрав информацию «ногами». Каждый год примерно в одно и то же время он совершал поход по магазинам, проверял качество и количество определенной группы товаров и сравнивал цены. Набрав достаточно данных, он провел расчеты и пришел к выводу, что за период с 1956 по 1965 год реальные цены на товары повседневного спроса возросли на двадцать процентов.
За столь откровенные оценки его понизили в должности и не пустили в командировку во Францию, где использовалась одна из разработанных им моделей планирования. В конце концов он решил уехать, однако ему дали понять, что не стоит даже пытаться подавать документы — слишком много знает. Дома у Михалевского тоже шли сражения. Его жена Лена хотела ребенка, Борис был против: «Слоны в неволе не размножаются». Все же Лене удалось добиться своего. Летом 1973 года, когда она вот-вот должна была родить, Борис утонул в походе на байдарках. Ему было сорок три года.
Однокурсник Михалевского по историческому факультету МГУ, Натан Эйдельман, тоже попал в черный список КГБ в связи с делом подпольного марксистского кружка Краснопевцева. Оставшись на свободе, Эйдельман смог найти работу только в одном из подмосковных музеев. Чтоб не сойти с ума в глуши и изоляции, он начал писать — о Пушкине, декабристах, Герцене. Его книги пользовались огромным успехом.
Когда в издательстве «Наука» я составляла указатель к собранию лондонских публикаций Герцена, Эйдельмана пригласили консультантом. У него не было ученых степеней, он не читал курсы лекций, не состоял в штате академических институтов, но получил всеобщее признание и авторитет как ведущий ученый в своей области. Книги, написанные им для широкой читательской аудитории, не оставляли сомнений в том, что и сам автор — тоже западник. Он писал о Пушкине и Герцене — и читателю казалось, что перед ним книга самиздата. Писал о декабристах — и пробуждал в читателе мысли о диссидентах. Рассказывал об отношениях Пушкина с царем — а читатель не мог отделаться от чувства, что автор сильно рискует и как бы его не посадили. Эйдельман писал о западниках девятнадцатого столетия как о своих современниках, показывая тем самым, что в русской истории есть постоянные темы, которые не меняются веками.
В заключительной части книги «Пушкин и декабристы» он так охарактеризовал то время: «…1825 и 1826 годы были вехой, рубежом, разделившим многие биографии на до и после… Это относится, конечно, не только к членам тайных обществ и участникам восстания. Уходила в прошлое определенная эпоха, люди, стиль».
Разве не применимы эти слова к эпохе, в которую жил Эйдельман, к его поколению, к его «до и после»?
Глава 12
Диссиденты быстро становились изгоями. Нередко даже те, кто в душе разделял наши взгляды, избегали общения с нами. Диссидент служил молчаливым — или не молчаливым — напоминанием о том, что у человека есть выбор и что есть люди, которые не боятся вести себя как граждане. У многих это вызывало чувство вины, и чтобы избавиться от него, проще всего было не сталкиваться с этими смутьянами, не слышать их опасных суждений.
Изолированные от общества, мы жили, как в гетто. Те, кто не склонен был видеть в инакомыслии ничего героического, называли это гетто местом для неудачников: «Когда нет способностей преуспеть в своей профессии — в этом обвиняют режим». Далекие от нашего круга люди могли и не знать, что большинство из нас были вполне успешны в профессиональной деятельности, но выбрали жизнь изгоев сознательно и никогда об этом не жалели.
В нашем гетто были свои традиции, круг чтения, праздники, этикет. Вся страна праздновала 1 мая и 7 ноября, а мы ликовали 5 марта — в день смерти Сталина. В дни рождения друзей, находившихся в тюрьме или ссылке, мы собирались у их родственников. В день рождения Даниэля — навещали отца Ларисы, Иосифа Ароновича Богораза. В день рождения Юрия Галанскова — приходили к его матери, которую все звали «тетя Катя». День рождения Гинзбурга — отмечали у его матери, Людмилы Ильиничны, за глаза мы называли ее «старушкой». День рождения Амальрика — проводили с Гюзель, а в день рождения Ларисы — снова шли к Иосифу Ароновичу. К тете Кате продолжали ходить и после смерти Юрия.
Первый тост мы обычно поднимали за то событие, по поводу которого собрались. После 1967 года, когда все больше друзей оказывалось в заключении, появился тост «за тех, кто не может выпить с нами». Со временем мы даже перестали полностью его произносить, а просто говорили «тост номер два», и каждый понимал, за что пьет. После этого пили «за успех нашего безнадежного дела» — подшучивая над собой.
На стене в моей комнате, как и у многих, были приколоты фотографии друзей, которых не было с нами. Эта экспозиция пополнялась сразу, как только становилось известно о новом аресте. Увы, таких знаков молчаливой солидарности становилось все больше. Узнав о том, что у кого-то из наших обыск, мы мчались туда и требовали, чтоб нас впустили в квартиру. Бывало, по десять — пятнадцать человек собирались на лестничной клетке, пока гэбисты прочесывали полки с книгами, ящики с рукописями и шкафы с нижним бельем. Некоторые, особо азартные, развлекались тем, что после обыска или нападок в газетах подавали в суд на КГБ и пытались доказать следователям, что статьи 70 и 1901 Уголовного кодекса РСФСР неконституционны — ведь Советская Конституция гарантирует свободу слова.
Выработались определенные правила поведения. Если помощь не нужна, ты никому не рассказываешь о том, чем сейчас занимаешься. Это делалось для того, чтобы защитить и себя и друзей — на допросе можно с чистой совестью сказать: не знаю. Оставлять самиздат в доме у товарища-диссидента считалось неэтичным. Чтобы не лишиться нужных мне материалов при грозящем обыске, я укладывала их в чемодан и относила к друзьям, которые были вне подозрений. Конечно, я объясняла им, что находится в чемодане и что делать, если нагрянут с обыском: «Если вдруг кто-нибудь откроет чемодан, кто бы то ни был, скажите, что оставила я, не сказав, что внутри. В случае чего я могу это подтвердить».
Самым надежным убежищем была квартира Надежды Марковны Улановской, вдовы Александра Петровича (это он в свое время упустил возможность избавить мир и от Гитлера, и от Сталина). Деятель Коминтерна с многолетним опытом подпольной работы, Надежда Марковна даже не интересовалась, что за материалы храню я в ее кладовке.
— Проходите, дорогая, — неизменно говорила она, когда бы я ни появилась, — оставляйте свои бумажки. Все будет в порядке.
У нашего движения не было лидеров, просто необходимости в них не возникало — каждый сам решал, что ему делать, и действовал по собственному усмотрению. Иногда, как в случае «Красного креста», не обходилось без осложнений. Этот импровизированный благотворительный фонд свалился на голову Ларисы, когда множество людей стали предлагать помощь Юлию Даниэлю. Лариса обладала разнообразными способностями, но умение считать деньги явно не относилось к их числу. Тем не менее она несла свой крест и как могла старалась справиться с финансами фонда.
Теперь, когда Лариса находилась в ссылке, в роли распорядителя оказалась я. Меня никто не назначал и не избирал. Просто все знали, что я подруга Ларисы и ее помощник, и ко мне потянулись люди, желавшие внести деньги в наш «Красный крест».
Вникнув в структуру фонда и состояние финансов, я ужаснулась. В среднем в фонд поступало около 300 рублей в месяц, порой сумма возрастала до 500 рублей, но в иные месяцы едва набиралось 50. Самые крупные расходы — порядка 1200 рублей — приходились на сентябрь, когда нужно было возобновлять годовую подписку на газеты и журналы. Все публикации, начиная от «Нового мира» и кончая «Экономической газетой», пользовались в лагерях огромным спросом. Распорядителю фонда все время приходилось думать о том, как бы исхитриться собрать эту немалую сумму к нужному времени. Поскольку размер взносов был произвольным и поступали они нерегулярно, планировать бюджет было невозможно. Еще труднее было предусмотреть расходы на будущий год, ведь нам никто не сообщал, сколько человек будет арестовано в течение предстоящих двенадцати месяцев.
И без того непростая задача усложнялась тем, что нельзя было вести обычный бухгалтерский учет. Никаких записей типа «приход — расход» у нас не было. Никто не хотел, чтобы о его добровольных пожертвованиях стало известно в КГБ. В сборе средств участвовало множество разных людей — среди них могли оказаться и провокаторы, и просто неопытные люди, которые не умели держать язык за зубами. Сведения о фонде легко могли попасть в КГБ, а этому ведомству достаточно дать указание любому суду — и наша благотворительная деятельность будет признана незаконной. Тогда ничего не стоит обвинить распорядителя фонда в финансовых махинациях и осудить по уголовному делу.
Прежде всего я попыталась оценить структуру поступлений и их объем. Не обнаружив какого-либо подобия системы, я выработала план действий. Теперь, принимая пожертвования — а их приносил обычно кто-то от группы сочувствующих из институтов или издательств, — я пересчитывала деньги и произносила что-то вроде небольшого напутствия: «Здесь семьдесят пять рублей, но в прошлом и позапрошлом месяце ваш институт не внес ничего. Не могли бы вы давать каждый месяц по двадцать пять рублей? Вносите сколько можете, но делайте это регулярно. Тогда мне будет ясно, на что я могу рассчитывать».
Этот подход сработал. В течение года ежемесячные поступления увеличились с трехсот до почти шестисот рублей, но прибавилось и хлопот с расчетами. Я хранила деньги дома в отдельном кошельке и жила в постоянном страхе, как бы не обсчитаться или не потерять десятку. Если я ошибалась в счете, я добавляла свои деньги, из нашего более чем скромного семейного бюджета. Выработав правила, я испытала некоторое облегчение. Тем не менее я стала плохо спать: держать гроссбух в памяти — занятие небезобидное. К тому же я поняла, что распорядитель общественного фонда — это лицо, которое, мягко выражаясь, не пользуется всеобщей симпатией. До меня доходили циркулирующие по Москве слухи о моем особом расположении к некоторым лагерям и некоторым политзаключенным. В частности, меня обвиняли в том, что преимущественным покровительством фонда пользуются мои друзья Лариса Богораз, Толя Марченко, Юлик Даниэль. Находились и те, кто не гнушался многозначительных намеков: «Алексеева — без работы. Понятно, почему она занимается фондом».
Возникали и неожиданные проблемы. К примеру, некоторые жертвователи хотели, чтоб деньги были переданы определенному лицу. Жене Синявского, Марье Розановой, одна московская дама завещала сто рублей, и мне ничего не оставалось, как выполнить ее последнюю волю, хотя я знала, что та не нуждается. Существовал отдельный резерв для Ларисы, начало которому положил Петр Григоренко, когда собирали средства на покупку дома в Сибири. Действительно Лариса получала больше помощи, чем другие, но не за счет «Красного креста». Попробуйте объяснить это жене политзэка.
Поначалу каждый рассказ жены или матери заключенного потрясал меня до глубины души. Сидя за кухонным столом, я выслушала множество трагических историй от разных женщин, выглядевших одинаково усталыми. Постепенно острота восприятия притуплялась, так как ситуации повторялись.
Муж осужден на десять лет, его отправили в лагерь в Мордовию, у него язва желудка, но освобождения от тяжелых работ не дают. Жену уволили с работы. Когда она приехала в лагерь на свидание, охранник, лет двадцати, устроил личный досмотр, накричал на нее, а с мужем так и не разрешили повидаться. Детей в школе одноклассники и учителя называют «предателями». Мать осужденного умирает от рака — мать и сын уже никогда не увидятся… Однообразие судеб, однообразие кошмара.
Я привыкала ко всем этим ужасам и начинала ненавидеть себя за черствость и толстокожесть.
Встречались женщины, которые просили немного для себя — на еду или лекарства. При всем желании я не имела права дать им денег. Статьи расходов фонда были строго определены: оплата адвоката, продуктовые посылки, теплая одежда, газеты и журналы для политзаключенных, а также компенсация дорожных затрат членам семьи при поездке в лагерь. Нередко люди впадали в отчаяние. Некоторые женщины шли сначала к Арине Жолковской, жене Алика Гинзбурга, у которой образовался другой фонд, подобный «Красному кресту». Иногда — при хорошей игре — им удавалось дважды получить помощь из общественных средств. Мне бывало так неудобно за них, что я старалась не смотреть им в глаза. Еще труднее было заставить себя рассказать об этом Арине.
Все это меня очень тяготило, но прошло два года, прежде чем я предприняла первую попытку найти себе замену. В это время как раз освободилась Ирина Белогородская, отсидев год за распространение письма в защиту Марченко. Решив, что Ира весьма подходящая кандидатура, я пригласила ее к себе и подробно рассказала о деятельности фонда. Она слушала с интересом, но когда я спросила, готова ли она принять на себя обязанности распорядителя, ответила просто: «Нет, спасибо».
В мае 1970-го ко мне пришли с обыском. Ни записей, ни списков у меня не было. Все, что им удалось найти, это триста рублей в одном кошельке и двадцать в другом, моем личном.
— Откуда у вас эти деньги? — спросила следователь прокуратуры Гневковская, привлекательная женщина моего возраста. В модных импортных туфлях и платье с люрексом, тщательно накрашенная — казалось, она собиралась в театр или в гости, когда вдруг получила задание провести обыск.
— Вы хотите сказать, что советский гражданин не может накопить триста двадцать рублей из своих честно заработанных денег? — ответила я вопросом на вопрос, придав голосу побольше уверенности (в то время мы, конечно, не могли бы сэкономить такую сумму).
Следователь ушла ни с чем.
Через несколько месяцев один знакомый, связанный с нашим движением, рассказывал, что встретил ее в какой-то из компаний. Гневковская, подвыпив, разоткровенничалась: «Я отсидела свое и получила урок: лучше отправлять в лагерь других, а не самой там оказаться». Выяснилось, что она одна из тех женщин, чей путь в ГУЛАГ начался в покоях Берии. Она была еще совсем молоденькой, когда ее схватили на вечерней московской улице, затолкали в черный автомобиль и доставили к этому любвеобильному типу.
Теперь она трудилась в том же ведомстве, от которого пострадала, работу свою любила и не стеснялась о ней рассказывать. Выпив еще несколько рюмок, она вспомнила и про обыск в моей квартире: «Они называют себя интеллигенцией, а в шкафу всего-то один костюм висит».
В конце 1971 года мне удалось удачно поменять нашу квартиру, и мы переехали на юго-запад Москвы. Телефона там не было, новый адрес никто из добровольцев «Красного креста» не знал. Чтобы не прерывать деятельность фонда, мне пришлось бы несколько дней ездить по городу и оповещать всех, кому я могу понадобиться, как меня найти.
Наутро после переезда у меня не было сил встать с постели. С трудом заставив себя подняться и приготовить завтрак, я едва дождалась, когда Миша и Коля уйдут, и снова легла. Закутавшись в одеяло и закрыв глаза, я почувствовала себя уютней, но усталость не отпускала. Думать о своих обязанностях по «Красному кресту» не хотелось, но и избавиться от этих мыслей не удавалось. Что будет с «Красным крестом», если меня арестуют или я умру? Кто позаботится о том, чтобы политзэки не переставали получать «Новый мир»? Меня не будет — и «Красный крест» либо продолжит работу, либо не продолжит. Так представим, что я умерла…
Две или три недели я не могла избавиться от депрессии. А когда, наконец, пришла в себя, распределила все оставшиеся в «Красном кресте» деньги и больше сбором средств не занималась. Это осложнило работу Арины, но вскоре она нашла помощников. Кроме того, был организован фонд помощи детям политзаключенных, которым руководил Владимир Альбрехт. Деньги поступали в основном от благотворительных концертов. Их устраивали активисты фонда у себя в квартирах.
Петру Григоренко нравился дух свободы и непринужденности, царивший в нашем движении, но он считал, что некоторая организационная структура все же необходима. Хотя он и лишился генеральских погон, душа командира жаждала порядка — нужен план сражения, боеприпасы, поддержка с воздуха, материально-техническое снабжение. Петр Якир и Виктор Красин с ним соглашались.
Я придерживалась противоположной точки зрения. После шестнадцати лет в Коммунистической партии мне не хотелось никому подчиняться и тем более никем командовать. Я предпочитала иметь возможность самой выбирать людей, с которыми готова работать. С Якиром, например, я избегала иметь дело, хотя и сочувствовала ему. Он был ненадежный, шумный, непредсказуемый. Бывали случаи, вызывавшие не просто чувство неловкости за него, но и откровенную досаду.
В августе 1968 года, на следующий день после демонстрации на Красной площади, человек десять — двенадцать собрались возле юридической консультации, ожидая прихода Дины Каминской. Лариса заранее предупредила, что хотела бы видеть своим адвокатом Дину. Среди собравшихся был и Якир. Краем уха он услышал, как кто-то тихонько рассказывал о серии обысков на Украине.
— Обыски! — вскричал он своим громовым голосом. — Надо сказать Наташе Горбаневской! Пусть напишет об этом в «Хронике».
Воцарилась тишина. Все понимали, что редактор «Хроники текущих событий» меньше всего нуждается в рекламе.
Другой случай произошел примерно через год. К Якиру заехал только что освободившийся политзаключенный. В лагере он сидел вместе с одним из демонстрантов, Владимиром Дремлюгой, и привез от него записку. В ней, в частности, Дремлюга благодарил меня за присланную книгу, в обложку которой была спрятана десятирублевая банкнота.
Якир тут же бросился мне звонить:
— Эй, Людка, у меня тут один зэк. Он говорит, Володька Дремлюга получил десятку, что ты вклеила в книжку. Передает тебе спасибо. Молодец, здорово придумала! Продолжай в том же духе!
Излишне объяснять, что пересылать деньги в лагерь было запрещено. Придуманный нами способ использовать для этой цели книги хранился в строгом секрете. Никому, кроме Якира, не пришло бы в голову говорить об этом по телефону, тем более когда известно, что оба номера прослушиваются.
Тем временем не без усилий западных радиостанций складывалось ошибочное мнение, что Якир — один из лидеров или даже единственный лидер демократического движения в СССР. Он оказался очень подходящей персоной для средств массовой информации: сын расстрелянного командарма, бывший политзаключенный, человек разносторонних взглядов. Эти его «взгляды», растиражированные зарубежными радиоголосами, создавали у слушателей, особенно на периферии, впечатление, что у оппозиции в Советском Союзе есть руководитель и этим руководителем является не кто иной, как Петр Якир. Люди приезжали к нему из разных уголков страны, привозили самиздат, новости для «Хроники», жалобы и вопросы. Думаю, было бы полезно его вовремя остановить, но в нашем движении не была предусмотрена цензура, и никто не был наделен полномочиями ограничивать контакты кого-то из нас. А Якир, каким бы он ни был шумным и безответственным, был одним из нас — потому что хотел быть одним из нас. А также потому, что говорил, что он один из нас, и потому, что его заявления никто не оспаривал. Независимо от того, как соотносились с реальностью его высказывания, день ото дня все больше людей воспринимало Якира как лидера оппозиции. И с каждым днем возрастала вероятность его ареста.
Весной 1969 года в Латвии арестовали председателя колхоза Ивана Яхимовича. В свое время он подписал письмо протеста против суда над Галансковым и Гинзбургом, потом присоединился к письму с одобрением чехословацких реформ, которое пятеро коммунистов вручили послу ЧССР в Москве.
Григоренко сразу же предложил организовать комитет, который будет требовать освобождения Яхимовича. Идею поддержали Якир и Красин. Такой комитет стал бы первым формальным объединением в советском правозащитном движении. Трое организаторов собрались на квартире у матери Гинзбурга и обдумывали, кого включить в будущий комитет. Получив от них приглашение стать членом комитета, я сказала: «Я соглашусь, но только в том случае, если вы объясните, что этот комитет может сделать такого, чего не можем сделать все мы, не называя себя комитетом. Каждый из нас может подписывать письма, все мы можем помогать семье арестованного. Единственное, что мы можем сделать как комитет, это быстрее попасть в тюрьму». Так думала не я одна. Идея создания комитета в защиту Яхимовича не получила поддержки.
После случая с письмом в защиту Марченко я поклялась себе внимательно читать все, что собираюсь подписывать. Просматривая новые послания, я обнаружила, что лишь очень немногие из них мне хотелось бы подписать. Обращение к властям в 1968 году служило определенной цели — общество сообщало государству и всему миру, что у него есть свое мнение, отличное от официально предписанного, и что народ и партия — не одно и то же. Власти не реагировали. Продолжать им писать не имело смысла. Этот жанр себя исчерпал. Кроме того, я понимала, что моя работа в «Хронике», самиздате и «Красном кресте» обязывает меня быть более осторожной и «не светиться». Поэтому я взяла за правило подписывать только те письма, в которых выражался протест против арестов — в знак солидарности с арестованными.
В мае 1969 года у здания суда, в котором слушалось дело Ильи Бурмистровича, обвиняемого по статье 1901 за самиздат, ко мне подошел Якир и показал черновой экземпляр письма, адресованного в Комиссию по правам человека Организации Объединенных Наций: «Мы обращаемся в ООН потому, что на наши протесты и жалобы, направляемые в течение ряда лет в высшие государственные и судебные инстанции в Советском Союзе, мы не получили никакого ответа. Надежда на то, что наш голос может быть услышан, что власти прекратят беззакония, на которые мы постоянно указывали, надежда эта истощилась…»
— Это письмо я бы подписала, — сказала я Якиру. Мне понравилось, что письмо адресовано в уважаемую международную организацию, а не советским начальникам.
— Погоди секунду, — буркнул он и побежал к телефону-автомату.
Вернулся Петр с понурым видом:
— Письмо уже ушло.
Он даже не потрудился сказать, что подписавшие это письмо назвали себя «Инициативной группой защиты прав человека в СССР».
Между тем, выступив как организация, пятнадцать человек — все «подписанты» со стажем — попали в точку. Несколько дней радиоголоса передавали письмо как новость номер один, после чего всех членов группы стали вызывать на допросы. Такого всплеска не было больше года, со времени письма Богораз и Литвинова «К мировой общественности». Генерал Григоренко, видимо, был прав. Движение созрело для того, чтобы обрести организационную форму.
Через несколько дней после объявления о создании Инициативной группы я разговаривала с одним из ее членов, Тошей Якобсоном.
— Сначала я жалела, что не знала об этом письме раньше и не смогла его подписать. Но больше не жалею, — сказала я. — Не каждому следует выходить на площадь. Некоторые из нас должны работать в тени.
Якобсон взглянул на меня с нескрываемым презрением. Должно быть, подумал, что я не присоединилась к группе, так как считала это слишком опасным. И он не был неправ.
В июне 1969 года я получила письмо от Толи Марченко. Осужденный на год за нарушение паспортного режима, он должен был бы скоро освободиться, но в лагере получил новый срок, якобы за клевету на государство в разговорах с другими осужденными.
Надо было что-то предпринять. Я понимала, что снова писать генеральному прокурору не имеет смысла, нужно что-то другое. Возможно, будет эффективнее, если жалобу направит новая группа. Единственным членом Инициативной группы, которого удалось найти, оказалась Наташа Горбаневская.
— Ты не думаешь, что Инициативной группе следует выступить в защиту Марченко? — спросила я Наташу.
— Конечно, — согласилась она, — но где ты найдешь Инициативную группу в середине июня?
Помолчав, она предложила:
— Думаю, дело настолько ясное, что никто не будет возражать, если мы сами что-то организуем.
Я написала текст обращения, поставила подпись: «Инициативная группа»{16}, размножила и отправила известными путями иностранным корреспондентам. Вскоре после того, как оно прозвучало в передачах западных радиостанций, ко мне пришла Татьяна Великанова. Она была потрясена, когда услышала, что по радио зачитывают документ, который ни она, ни другие члены Инициативной группы не подписывали и даже не видели. Поскольку в обращении речь шла о Марченко, она решила, что я должна что-то об этом знать. Я рассказала ей, как было дело.
— Пожалуйста, никогда не выпускай документы Инициативной группы без согласования с Инициативной группой, — строго сказала Татьяна.
Мне стало очень стыдно.
С появлением названия «Инициативная группа» еще не решился вопрос о том, является ли группа разовым объединением, связанным лишь с обращением в ООН, или она продолжит свою деятельность. Когда новое обращение к ООН — за подписью группы, без указания фамилий ее членов — было передано по радио, группа оказалась перед фактом, что она уже не может называться временной ассоциацией для разового действия, ибо в таком случае пришлось бы отмежеваться от письма в защиту осужденного на второй срок Анатолия Марченко. Так мы с Наташей Горбаневской невольно подтолкнули группу к тому, чтоб она стала постоянно действующей.
Эти два заявления в ООН, как и три последующих, остались без ответа.
В мае 1970-го, в годовщину создания Инициативной группы, в «Хронику» поступило открытое письмо, адресованное агентству Рейтер и советскому агентству печати «Новости» (АПН), в котором разъяснялись задачи группы, ее позиция и принципы действий:
«У Инициативной группы нет ни программы, ни устава, ни какой-либо организационной структуры… Инициативная группа состоит из людей, связанных некоторой общностью взглядов. Всех нас… объединяет чувство личной ответственности за все происходящее в нашей стране, убеждение в том, что в основе нормальной жизни общества лежит признание безусловной ценности человеческой личности. Отсюда вытекает наше стремление защищать права человека… Нас объединяет также намерение действовать открыто, в духе законности… У нас нет своей политики, но мы не желаем мириться с карательной политикой против инакомыслящих…»
К тому времени КГБ уже применил ответные меры к шестерым из пятнадцати членов группы. Наташу Горбаневскую, Петра Григоренко и Владимира Борисова поместили в психиатрические больницы. Красина обвинили в тунеядстве и выслали из Москвы. Мустафу Джемилева и Анатолия Краснова-Левитина отправили в лагерь. В последующие несколько лет и остальные члены группы подверглись преследованию.
В январе 1971 года, печатая 17-й выпуск «Хроники», я наткнулась на текст под названием «Принципы и регламент Комитета прав человека в СССР»{17}. Перепечатывая принцип номер один, я невольно начала улыбаться, как при встрече с добрым знакомым: «Комитет прав человека является творческой ассоциацией, действующей в соответствии с законами государства, настоящими принципами и регламентом Комитета». Документ не оставлял сомнений в том, что его автор (я слыхала, что это Валерий Чалидзе) превзошел даже Алика Есенина-Вольпина. Написан он был настолько витиевато, что я не могла удержаться от смеха, представляя себе выражение лица какого-нибудь оперативника КГБ, которому с утра положили на стол «Принципы и регламент» Валерия.
— У меня талант писать непонятно, — сказал однажды Валерий.
Здесь этот талант проявился в полной мере. Согласно «Принципам и регламенту» Комитет намеревался решать следующие задачи:
— консультативное содействие органам государственной власти в области создания и применения гарантий прав человека.
— творческая помощь лицам, озабоченным конструктивными исследованиями теоретических аспектов проблемы прав человека и изучением специфики этой проблемы в социалистическом обществе.
— правовое просвещение, в частности пропаганда документов международного и советского права по правам человека.
Валерию пришлось прочитать кипы советских юридических документов, чтобы, изучив их язык, творчески применить его для создания нужного текста.
Господи, кажется, они собираются вести протоколы собраний. Это противоречило принятой нами стратегии — оставлять как можно меньше записей и тем самым лишать КГБ возможности пополнять наши досье. Кроме того, предусматривалось создание административной структуры. Вершину пирамиды составляли «члены Комитета»: Валерий Чалидзе, Андрей Сахаров и Андрей Твердохлебов, все трое — физики. «Членам Комитета» будут помогать «эксперты». Экспертом Комитета может быть избрано «лицо, не являющееся членом Комитета, обладающее признанной компетентностью в области прав человека» (были названы Александр Есенин-Вольпин и Борис Цукерман). Третья категория — «корреспондент Комитета» — «лицо, не являющееся членом или экспертом Комитета, содействующее своим творчеством деятельности Комитета». Этой чести были удостоены Александр Галич и Александр Солженицын.
В 1970 году невозможно было и вообразить, чтобы КГБ арестовал Сахарова, Солженицына или Галича. Ни один из этих трех известнейших людей не принадлежал ранее ни к одной группе. Чтобы получить их согласие сотрудничать с Комитетом в каком бы то ни было качестве, организаторам нужны были убедительные обоснования. В то же время Чалидзе, Есенин-Вольпин и Цукерман должны были следовать принципу строгого соблюдения советских законов, не давая властям повода для преследований. Комитет должен быть неуязвимым.
Пока я печатала текст, мне пришла идея попросить разрешения посетить Комитет, чтобы своими глазами увидеть, как проходят его заседания. Я позвонила Чалидзе:
— Это Люда Алексеева. Я хотела бы обратиться к Комитету с петицией.
— Простите, но Комитет не заслушивает обращений от общественности, — ответил Чалидзе.
— Да? А каким же образом Комитет получает от общественности информацию?
— Будьте добры, представьте, пожалуйста, вашу петицию в письменном виде. — Что ж, в конце концов на соблюдении формальностей основано учение Александра Сергеевича Есенина-Вольпина.
— В данном случае я прошу сделать исключение. Вопрос очень важный, и его надо обсудить срочно, так что времени на оформление в письменном виде просто нет. Я бы хотела представить ряд свидетельств на заседании Комитета, с тем чтобы они были занесены в протокол.
— По какому вопросу вы собираетесь выступить?
— Право политзаключенных получать почтовые отправления. — Это была одна из животрепещущих проблем, которые Комитет должен был бы рассматривать.
— Если вы так настаиваете, мы пойдем на компромисс, но, пожалуйста, поймите, что заседания Комитета закрыты для публики. Мы включим ваше выступление в повестку дня, но после того как вы представите свои свидетельства, вам придется покинуть заседание.
Я появилась к назначенному часу, но у членов Комитета было еще несколько нерешенных вопросов, помимо включенных в повестку. Валерий извинился и учтиво показал мне на кушетку, где мне предстояло ждать своей очереди. Я не вникала в дискуссию, просто смотрела на этих троих и радовалась тому, что у нас появилась первая легальная правозащитная организация. Надо сказать, что члены Комитета представляли собой занятное трио: Чалидзе — изящный, темноволосый, Твердохлебов — высокий, со светлыми волосами и Сахаров — немного сутулый человек средних лет в мешковатом костюме. Они сидели в креслах вокруг журнального столика в центре огромной, заставленной каким-то старьем комнаты Валерия.
— В Комитет обратилась Людмила Михайловна Алексеева с просьбой обсудить право заключенных на получение корреспонденции, — объявил Чалидзе.
Я встала и кратко изложила суть проблемы уважаемым членам Комитета, которые взирали на меня снизу вверх из своих кресел.
— Спасибо, Людмила Михайловна, — сказал Чалидзе. — Комитет примет ваше представление к рассмотрению.
После этого я несколько недель развлекала друзей рассказом об удивительном путешествии в святая святых есенин-вольпинизма.
Комитет прав человека в СССР стал первым общественным объединением в Советском Союзе, которое присоединилось к международному правозащитному сообществу. В июне 1971 года он был принят в Международную лигу прав человека — неправительственную организацию, с консультативным статусом при ООН. Комитет также стал членом Международного института права, возглавлявшегося в то время Рене Кассеном, автором Всемирной декларации прав человека. Никого из членов, экспертов или советников Комитета никогда не арестовывали за работу, связанную с деятельностью Комитета. Уже одно это можно рассматривать как большое достижение.
Вечером 29 марта 1971 года к Владимиру Буковскому явились оперативники КГБ. Он разговаривал по телефону с Валерием Чалидзе, когда услышал стук в дверь.
— Это за мной, — только и успел сказать он. Телефон отключился.
В тот момент, когда Чалидзе клал трубку замолкнувшего телефона, я вошла к нему в комнату. Я только что закончила печатать 18-й выпуск «Хроники» и еще один краткий документ для Комитета прав человека.
— Хорошо, что вы пришли, — сказал Валерий, — мне надо бежать к Буковскому. У него обыск.
— У меня с собой самиздат, — сообщила я в ответ.
Мне хотелось пойти с Валерием, но куда деть восемь экземпляров «Хроники»? Не оставлять же у Чалидзе в комнате? Сюда тоже могут прийти с обыском. Тащить это с собой в сумке туда, где проводится обыск, — все равно что просто отдать свежий выпуск в руки гэбистам. Самым благоразумным было бы вернуться домой, но я придумала план. Мы с Чалидзе вместе идем к Буковскому, он поднимется в квартиру, а я буду ждать на улице. Когда закончится обыск, он за мной придет. Если Буковского арестуют, я поеду к его матери. Если не арестуют, попрошу его рассказать подробности.
Оставалось еще придумать, куда деть самиздат, не расставаясь с ним. Попросив Валерия подождать, я пошла в ванную, свернула пачку папиросной бумаги в рулон поплотнее и спрятала в бюстгальтер.
Через несколько минут мы уже шли по арбатским переулкам. Снег хрустел под ногами, ветер дул в спину, спускались сумерки. Казалось, сейчас выкатится полная луна и появится черный кот Бегемот. Мои ассоциации с булгаковским романом неожиданно прервались. В мгновение ока мы очутились в гэбистской машине. Не могу даже вспомнить, как они ухитрились незаметно подъехать так близко и к тому же затолкать нас на заднее сиденье. Сказать, что я села, было бы преувеличением. Нас было четверо: два гэбиста по бокам и мы с Валерием посередине. Все в плотных зимних пальто. Я могла поместиться только на коленях — у Валерия или у гэбиста. Естественно, я выбрала Валерия. Кое-как примостившись, я завела разговор.
— Как вы думаете, Валерий, может, нас похитили бандиты? Вряд ли это представители властей — они должны были бы назвать себя и предъявить документы. А если это похищение, давайте кричать, привлекать внимание, вдруг это поможет!
— Ну, если говорить о соблюдении установленных правил, то, конечно, власти не должны нас задерживать таким способом. Но, видите ли, Людмила Михайловна, в нашей стране у правоохранительных органов выработалась своеобразная традиция нарушать правила и даже законы. Учитывая это, я склонен думать, что нас схватили представители властей.
В этот момент машина остановилась возле отделения милиции.
— Вот видите, интуиция меня не подвела, — заявил Чалидзе. — Это не похитители. Так что не о чем волноваться.
Двое гэбистов на заднем сиденье не проронили ни слова.
Пока мы стояли в общей комнате отделения, ожидая неизвестно чего, я боялась пошевельнуться. Папиросная бумага, тонкая, как луковая шелуха, шуршит при малейшем движении. Мне казалось, это шуршание всем слышно.
— На мне восемь экземпляров «Хроники», — прошептала я на ухо Валерию.
— Попроситесь в туалет, — ответил он одними губами.
Очень вежливо, с извинениями, я изложила просьбу, но исправить ничего не смогла — со мной в туалет отправили женщину-милиционера. Вернувшись в общую комнату, я стояла чуть ли не по стойке смирно, только бы не хрустнуть бумагами. В это время человек в штатском показывал Валерию ордер на обыск.
— Нужно вернуться к вам в квартиру вместе с этой женщиной, — кивнул он в мою сторону.
— Но зачем вам эта женщина? — запротестовал Валерий. — Отпустите ее.
— Послушайте, я тороплюсь, — вступила я в разговор. — Меня ждут дома.
— У вас есть документы?
Офицер милиции полистал мой паспорт и сказал, что я могу идти. Повернувшись как можно осторожнее, я сделала шаг к двери.
— Минутку! — раздался голос. — Верните эту женщину.
Все! «Хронику» найдут. Статья 70 — семь лет лагерей, пять лет ссылки. По Москве со скоростью анекдота распространится история о каверзных свойствах папиросной бумаги.
— Дайте ваш паспорт.
На этот раз милиционер переписал все данные — фамилию, имя, отчество, год рождения, домашний адрес. Возвращая мне паспорт, он молча махнул рукой — я свободна, могу уходить. Почему он сразу не сделал запись, не знаю, может, просто забыл.
Поздно вечером стало известно, что Буковского арестовали. Ему предъявили обвинение по статье 70 — антисоветская агитация и пропаганда.
В Москву приехала украинская художница Стефа Гулык и привезла плохие новости: 8 декабря 1971 года одесский КГБ арестовал Нину Строкатую. Через нее в «Хронику» поступала информация из Украины. КГБ поднял руку на женщину, и рыцари украинской оппозиции решили организовать комитет в защиту Строкатой.
В комитет собирались войти мои украинские друзья Иван Светличный и Вячеслав Чорновил, журналист, отсидевший свое за записи политических судов 1965 года. Из москвичей вступить в комитет пригласили Петра Якира и меня. Идея создания подобного комитета меня совсем не вдохновляла. Скорее всего его деятельность закончится тем, что члены комитета попадут за решетку, не успев выполнить заявленные задачи. А положение Нины от этого не улучшится.
Нужно найти какой-то рациональный способ помочь Нине, убеждала я Стефу. Мы не должны руководствоваться эмоциями. Возможно, следует посоветоваться с опытным человеком, разбирающимся в законодательстве. Я повела ее к Чалидзе. Как и можно было ожидать, он не советовал создавать комитет. Я попросила Стефу передать организаторам комитета мнение Чалидзе. Но при этом добавила, что, если они не прислушаются к этим рекомендациям и решат по-своему, я буду участвовать в работе комитета. Нина — моя подруга, и отказ был бы воспринят как предательство.
После этого Стефа отправилась к Якиру и Красину, где выслушала совершенно противоположные советы: ехать в Киев, сообщить своим, что мы присоединимся к комитету. А на то, что говорят Чалидзе и Алексеева, просто не обращать внимания.
Когда Стефа вернулась на Украину, вопрос о создании комитета отпал сам собой. За несколько дней, пока она была в Москве, украинский КГБ успел арестовать одиннадцать активистов, в том числе Ивана Светличного и Вячеслава Чорновила.
Утром 14 января 1972 года оперативники КГБ ворвались в квартиры восьми москвичей, в том числе к Якиру. Одновременно прошли обыски в Ленинграде, Новосибирске и Вильнюсе. Все ордера были подписаны одним и тем же следователем КГБ. После первых обысков начались массовые допросы, на которые вызывали не только тех, у кого проводился обыск, но и их родственников и знакомых. В одном только Вильнюсе допросили более ста человек. Обыски, допросы и последовавшие аресты производились в основном в рамках уголовного дела № 24 — против самиздата. Первым был арестован астрофизик из подмосковного научного городка Черноголовки Кронид Любарский. Ему инкриминировали распространение самиздата, в том числе «Хроники текущих событий».
Было очевидно, что готовится масштабное наступление на правозащитников. В то же время «Хроника» продолжала выходить, и о каждом аресте становилось известно буквально всему миру. В прошлом власти уже имели случаи убедиться, что расправы с инакомыслящими подрывают репутацию Советского Союза. В 1972 году — в период так называемой разрядки — правительство Брежнева старательно налаживало отношения с Западом и не хотело бы осложнять этот процесс политическими скандалами. Поэтому перед КГБ стояла задача задушить «Хронику» и остановить гласность, но сделать это, не прибегая к массовым арестам, особенно в Москве. Андроповским бойцам «невидимого фронта» предстояло изучить наши досье, понять психологию каждого и найти уязвимые места.
Приближалась девятнадцатая годовщина смерти Сталина, а Коля уехал в командировку. Чтобы не отмечать знаменательный день 5 марта в одиночестве, я пошла к Петру Якиру.
Там уже вовсю праздновали. Хозяин, с раскрасневшимся лицом, указал мне на свободный стул. Я огляделась: голые стены, покрытый грязной клеенкой стол. В центре, прямо на клеенке, возвышалась горка соленых огурцов, из которой натекла лужица рассола. Один из гостей прикорнул на кушетке. Двое, мужчина и женщина с опухшими лицами, слонялись по комнате. Казалось, они не особо-то знакомы с хозяевами, Якиром и его женой Валей.
Петр разлил водку, и гости вернулись к оставленным рюмкам. Тарелок на столе не было — после тоста каждый клал свой недоеденный огурец прямо на клеенку и вытирал рот рукой — салфеток тоже не было. Мне захотелось уйти. Якир пошел проводить меня, но, не доходя до входных дверей, сказал:
— Подожди, Людка, я хочу показать тебе этот коридор. — Мы остановились в длинном темном коридоре, возле сундука, над которым на облупленной стене висел телефон. — Знаешь, я прихожу с работы в шесть. А Валька возвращается в семь. Прихожу, а дома никого нет. Представляешь? Я один. В комнату не иду, а сажусь на сундук, беру телефон и целый час звоню людям, пока она не придет. Звоню, разговариваю и все время смотрю на дверь. Говорю, а сам думаю: «Они там за дверью, пришли за мной. Сейчас ворвутся и уведут».
Я стала припоминать свои разговоры с Петром по телефону. Чаще всего было непонятно, зачем он звонил. Мы не были настолько близки, чтобы иногда поболтать ни о чем. Обычно его звонок раздавался с шести до семи вечера.
Все дело в его судьбе, в его разрушенной жизни, думала я. Причин ненавидеть власти у него было более чем достаточно, пусть сам он с таким характером — ни дисциплины, ни самоконтроля — и оставлял желать лучшего. Он легко ввязывался в споры, поддавался подстрекательствам со стороны заезжих правдоискателей. Петра вдохновляли поверхностные статьи, написанные западными корреспондентами, которые стали расценивать его высказывания как голос всего правозащитного движения. Благодаря прессе и людям, безоговорочно ей верившим, он отождествлял себя с героическими примерами. И жил ради этого, пытаясь забыть страх, навсегда парализовавший благополучного четырнадцатилетнего мальчика, которого увезли от мамы.
В июне Якира арестовали{18}. Узнав об этом, я неожиданно для самой себя расплакалась. Я рыдала и не могла остановиться. И не понимала почему. Просто чувствовала: случилось ужасное, наступает катастрофа.
Ровно через три месяца, 12 сентября, арестовали Виктора Красина. Ни он, ни Якир не знали подробностей того, как работает редакция «Хроники». По крайней мере от меня они ничего об этом не слышали (Красину я не доверяла прежде всего потому, что все, что он узнавал, он немедленно передавал Якиру). 28 сентября пришли за Юрием Шихановичем, математиком, связанным с «Хроникой».
Теперь оставалось два шага до Тоши Якобсона, друга Даниэля и члена Инициативной группы, который в то время редактировал бюллетень. От него материалы поступали ко мне. Я перепечатывала их в восьми экземплярах и передавала эту первую порцию Шихановичу, в чьи обязанности входило раздать восемь копий машинисткам. Шиханович получал «Хронику» от меня, но не знал, что ко мне она попадает от Якобсона.
Якира держали в «Лефортово». Почти через пять месяцев после ареста, 4 ноября, его дочери Ирине неожиданно дали свидание. В присутствии двух следователей Якир поведал ей, что пересмотрел свое отношение к демократическому движению после того, как ознакомился с предъявленными ему материалами. Они убедили его в том, что «Хроника текущих событий» имеет тенденциозный характер и, кроме вреда, ничего не приносит. Он попросил передать всем его настоятельную просьбу — прекратить выпуск бюллетеня. Каждый новый номер «Хроники» будет удлинять на год срок заключения ему и Красину, пояснил Якир. И за каждый выпуск будут арестовывать — любого, необязательно тех, кто принимал непосредственное участие в этом выпуске.
Стало очевидно, что Якир сотрудничает со следствием. Позднее мы узнали, что и Красин сломался.
В тот день, когда Якир виделся с дочерью, в мордовском лагере после неудачной операции по поводу язвы желудка умер Юрий Галансков. Ему было тридцать три года. Собравшиеся на поминках в Москве вспоминали погибшего товарища и обсуждали новую стратегию властей. В руках КГБ находились двое обвиняемых. Их использовали как заложников. Через них объявили, что, если «Хроника» не перестанет выходить, последуют новые аресты. Могли забрать каждого из нас, независимо от того, имел ли он отношение к публикации бюллетеня и одобрял ли продолжение его издания.
Лариса и Толя вернулись из Сибири, и через несколько месяцев Толя нашел жилье в Тарусе. К тому времени кончился срок и у Юлика Даниэля. Теперь Лариса была свободна от обязательств жены политзаключенного. Она вышла замуж за Толю и собиралась переехать к нему в Тарусу. Но прежде нужно было найти работу, иначе ей могли предъявить обвинение в тунеядстве.
Я предложила ей оформиться ко мне домработницей. Естественно, договор будет фиктивным, но он должен выглядеть правдоподобно. У нас с Колей нет маленьких детей, оба мы вполне здоровы и в состоянии сами себя обслужить, к тому же не настолько богаты, чтобы позволить себе роскошь держать домработницу. С другой стороны, Лариса — кандидат наук, и ей не пристало заниматься неквалифицированным трудом. Отправляясь заключать договор, мы решили сказать чиновнику, что Лариса будет работать два раза в неделю и получать тридцать рублей в месяц. В анкете она, конечно, не будет упоминать о своем образовании, а для вящей убедительности попытается выглядеть не больно-то интеллигентной.
— Ну, как я тебе? — спросила Лариса, когда мы подошли к зданию райисполкома. Рот ее был полуоткрыт, язык слегка высунут, в глазах — ни следа мысли.
— Это уж слишком, — забеспокоилась я.
Пока оформлялся договор, я не сводила глаз с чиновника, боясь взглянуть на Ларису, чтобы не рассмеяться. Она успешно справилась с ролью, даже о почерке не забыла и анкету заполнила как курица лапой.
Через несколько дней я приехала к Ларисе и Толе в Тарусу. После обеда я принялась мыть посуду.
— Задерни занавески! — потребовала Лариса. — Не хочу, чтоб соседи видели, как моя хозяйка на меня работает.
Ирина Белогородская никогда не умела быть осторожной. Она уже поплатилась годом тюрьмы, когда забыла в такси сумку с письмами в защиту Марченко. Осенью 1972 года у нее снова начались неприятности. Она подыскала машинистку для «Хроники». Ей нужно было платить, но, по словам Ирины, женщина была надежная. Может, так оно и было, пока та не оказалась в руках у КГБ. Под нажимом оперативника она призналась, что получала материалы «Хроники» от Ирины Белогородской. Беднягу снова стали таскать на допросы.
— Девочки, я не хочу в тюрьму, только не сейчас, — чуть не плакала Ирина.
Недавно она вышла замуж за Вадима Делоне, поэта, одного из участников демонстрации на Красной площади. Перспектива оказаться арестованной вскоре после медового месяца приводила ее в ужас. КГБ ее шантажировал, и она пообещала прекратить всякое участие в выпуске «Хроники» в ответ на обещание оставить ее в покое.
Как-то в октябре, в середине рабочего дня, — я работала в ИНИОНе — меня вызвали в отдел кадров. Молодой человек, по виду ровесник моего старшего сына, показал красную книжечку сотрудника КГБ.
— Пожалуйста, пройдемте со мной.
Мне не хотелось привлекать внимание сотрудников, и я молча последовала за ним. На улице нас поджидала черная «Волга».
— Что это за спектакль? — возмутилась я. — Вы что, выслеживали меня, выясняли, когда я буду на работе? Что вам от меня нужно?
— Нет-нет, мы просто оказались поблизости и решили узнать, может быть, вы сегодня здесь, — запинаясь, объяснял молодой человек. Ему явно было неловко перед женщиной, которая по возрасту годилась ему в матери.
— Какая необходимость забирать меня с работы? Если вы хотите со мной побеседовать, пришлите повестку, как цивилизованные люди! Теперь в институте будут судачить, что КГБ таскает меня на допросы.
— Но мы никому не сообщали, что вас будут допрашивать. Может, они подумают, что вы один из наших секретных сотрудников.
— Час от часу не легче! Ничего себе, утешили.
Черная «Волга» въехала во двор одного из зданий КГБ.
Мы шли по длинным коридорам, сворачивали в переходы, поднимались по лестницам. Наконец молодой человек, наверное, он был в звании лейтенанта, ввел меня в кабинет, отдал честь и замер в ожидании, со строгим выражением лица.
Мужчина за столом, видимо, майор, отпустив его, сказал:
— На самом деле это не я хотел с вами поговорить.
— А кто же так хочет со мной поговорить?
— Мой начальник.
И он повел меня по коридорам, переходам и лестницам в другой кабинет.
Вытянувшись по струнке и отдав честь, он передал меня другому оперативнику и удалился. Его начальник, должно быть, полковник, быстрым шагом провел меня через коридоры и переходы в большую приемную, отдал честь и рявкнул:
— Алексеева Людмила Михайловна доставлена.
Дежуривший в приемной офицер, чье звание не берусь определить, ввел меня в огромный, хорошо обставленный кабинет. Из-за большого стола красного дерева поднялся средних лет человек и представился: «Александр Михайлович». На нем были темный костюм, свежая рубашка, модный галстук, очки в элегантной оправе.
— Вы обратили внимание, Людмила Михайловна, что наша организация очень хорошо к вам относится?
— Из чего же это следует? Ваши люди сорвали меня с работы, фактически меня похитили, водили по всем этим коридорам и лестницам, а я до сих пор не имею понятия о том, что происходит.
— Вы действительно не замечаете, что по отношению к вам мы ведем себя очень либерально, даже снисходительно?
— Честно говоря, нет.
— В таком случае позвольте вам напомнить. Несколько месяцев назад вы побывали в отделении милиции, у вас с собой было восемь копий рукописи, которые хрустели под одеждой.
Ну, конечно, они прослушивали дом, когда я рассказывала эту историю Коле. Не думаю, чтоб органы безопасности упустили шанс изъять восемь экземпляров «Хроники», если б знали тогда, где они спрятаны.
— Что с возу упало — то пропало, — позволила я себе заметить.
На том наше собеседование завершилось.
Охота за «Хроникой» продолжалась. Меня стали вызывать на допросы, как полагается, по повестке. То заводили речь о Якире и Красине, то об украинских диссидентах. К многочасовым разговорам надо готовиться не только морально, и перед допросами я стала заходить в гастроном, расположенный по пути от станции метро «Проспект Маркса» к зданию КГБ. Прикупив хлеба, ветчины, пару апельсинов и что-нибудь сладкое, я являлась в проходную к назначенному часу, чувствуя себя гораздо спокойнее.
Следователь повторял свои бесконечные вопросы. Я вежливо отвечала, что ничего не знаю о «Хронике», о Якире, Красине и украинских диссидентах. Когда время приближалось к полудню, я молча, не извиняясь и не спрашивая разрешения, доставала из сумки бутерброд и, не торопясь, его съедала. Покончив с бутербродом, я принималась чистить апельсин. По кабинету распространялся аромат эфирных масел, беседа невольно замедлялась. Примерно через час я вынимала из сумки кусочек кекса или шоколадного торта, потом приходила очередь второго апельсина. Напоследок я обычно приберегала эклер — к тому времени следователь с трудом сдерживал слюни, и это придавало мне уверенности.
За год я побывала более чем на двенадцати допросах, сколько их было точно — я уже сбилась со счета.
Однажды в октябре привычный ход допроса был нарушен. Я уже съела второй апельсин, но еще не добралась до эклера, когда в кабинет вошел мужчина, назвавшийся Владимиром Павловичем. Моего возраста, высокий, в хорошем костюме, он был удивительно вежлив. Судя по тому, какой интерес он ко мне проявил, это был мой куратор — оперативник, который занимается конкретными персонами и наделен правом решать, кого и когда арестовать.
— Людмила Михайловна, я думаю, нам с вами надо поговорить об Ирине Белогородской, — предложил он.
У меня не было оснований отказываться обсуждать ситуацию с Ириной. Она выполняла обещание не иметь дела с «Хроникой», но не было никаких гарантий, что КГБ сдержит слово и оставит ее в покое. Она — потенциальный обвиняемый по делу № 24.
— Вы понимаете, что она висит на волоске?
— У меня такое чувство, что ей было бы лучше эмигрировать, — заметила я.
— Это неплохая идея, — согласился Владимир Петрович. — Но для этого нужно приглашение из Израиля.
— Это не проблема, — ответила я. В 1972 году приглашения из Израиля приходили тысячами. — Вы хотите сказать, что если она подаст документы на выезд, то ей дадут разрешение?
— Наверняка не могу сказать. Но если у нее будет приглашение, надо действовать быстро.
Я передала этот разговор Ирине. Она поговорила с мужем.
В следующую нашу встречу она мне сообщила:
— Вадим сказал, что он русский поэт, а русские поэты не могут жить без русского языка.
Кажется, последний шанс избежать трагедии был упущен.
Поначалу следователи предъявляли мне показания Якира и Красина:
— Людмила Михайловна, ваши друзья рассказали нам, что вы ответственны за украинскую секцию «Хроники».
— Странно. Насколько мне известно, в «Хронике» нет украинской секции.
Они были правы. Большинство новостей с Украины поступало через меня. Но специальной украинской секции не существовало. Так что с формальной точки зрения показания Якира и Красина были неточны.
Затем пришла очередь вопросов об украинском комитете в защиту Нины Строкатой. Комитет так и не был создан, но при обыске в квартире Якира нашли проект первого документа несостоявшейся организации.
— Я о таком комитете не знаю.
— Разве Стефания Гулык не приезжала с Украины пригласить вас войти в состав этого комитета?
— Она приезжала в Москву, чтобы найти защитника для Строкатой.
Это была чистая правда. Мы со Стефой действительно занимались поисками адвоката.
— Людмила Михайловна, вам не нужно скрывать этот факт. Нам известно, что вы были против создания этого комитета.
Если бы я созналась, это могло бы помочь мне, но повредить украинцам. Я продолжала все отрицать.
В то же время я опасалась, что Стефу вызовут на допрос и станут ссылаться на якобы полученные от меня показания. Мол, Людмила Михайловна Алексеева нам все рассказала, и мы знаем, что вы были курьером комитета в защиту Строкатой. Вернувшись с допроса, я первым делом разыскала одного из друзей, который согласился поехать во Львов и встретиться со Стефой. Он должен был предупредить ее, что я отрицаю все, что касается комитета, и ей следует придерживаться той же тактики. Как рассказал потом мой эмиссар, Стефу действительно вызывали на допрос и предъявили ей мои «признания». В ответ она совершенно инстинктивно хлопала глазами и удивлялась, приговаривая, что это, должно быть, ошибка, потому как она ничего подобного не помнит.
— Не зря же меня называют актрисой, — улыбнулась она, когда мы с ней снова увиделись.
Владимир Павлович не спросил меня, что решила Ирина. Он был достаточно умен, чтобы понимать: если бы она согласилась эмигрировать, я сама завела бы об этом разговор.
— Вы осознаете, насколько серьезно положение Ирины? — начал он.
Я согласно кивнула.
— Думаю, все стало бы намного проще, если б кто-нибудь позвонил нам и дал адрес, где печатается «Хроника», — продолжал он. — Тому, кто позвонит, необязательно себя называть. Достаточно позвонить мне по прямому телефону, назвать адрес и повесить трубку. Может, вы скажете Ирине…
— Простенько, но со вкусом, — оценила я его предложение.
Он улыбнулся.
— Владимир Павлович, во-первых, Ирина не знает, где печатается «Хроника». Во-вторых, я не могу предлагать такое безобразие порядочному человеку. Я не могу просить ее сделать то, чего я сама не сделала бы, даже если б и знала, где печатается «Хроника».
— Я понимаю, — ответил он. И мне показалось, что он действительно понимает.
Ирину арестовали 3 января.
На следующий день меня опять вызвали к куратору.
Владимир Павлович расставил точки над «и»:
— Людмила Михайловна, мы арестовали Ирину. Арестовали потому, что редакторы «Хроники» пренебрегли нашим предупреждением и опубликовали двадцать седьмой выпуск.
Следственные органы располагали сведениями о «Хронике», полученными от Якира и Красина. Они дали показания более чем на двести человек. На названных ими людей заводили дела, от них добивались показаний. По большей части это был, можно сказать, второй эшелон корреспондентов и читателей бюллетеня — люди не из Москвы, а из других городов и союзных республик, которые познакомились с Якиром и доверились ему, но контактов с редакцией не имели. Многие активисты «Хроники» оставались следствию неизвестными, некоторые были под подозрением, но не было фактов, подтверждающих их предполагаемую причастность. Допросы продолжались.
Дочь Якира Ирина тоже дала показания, но только против самой себя. Она заявила, что это она была редактором «Хроники» и готова нести за это ответственность. «Так легче», — объяснила она друзьям свою выдумку.
Шиханович не просто подтвердил свидетельства, данные Якиром и Красиным, а еще добавил от себя то, что считал удачной находкой. Он решил, что нужно назвать какое-то одно имя, и его выбор пал на Олю Барышникову — одну из наших машинисток, мать-одиночку с тремя детьми. Поскольку двое детей совсем маленькие, рассуждал Шиханович, КГБ не пойдет на то, чтоб ее арестовать. Он оказался прав. Олю не арестовали. Ее несколько раз таскали на допросы, после чего уволили из института. В свое время это я рекомендовала ей Шихановича. Тогда она спросила, можно ли ему доверять.
— Можете доверять ему так же, как доверяете мне, — заверила я ее.
Теперь Шиханович выбрал ее в качестве жертвы. Ко мне он проявил милосердие и не упомянул, что это я печатала первые восемь копий «Хроники» и вручала их ему для передачи машинисткам.
Муж Ирины Белогородской, Вадим Делоне, пытался убедить жену дать показания. Он не скрывал, что делает это под нажимом КГБ. Как и Коля, он повторял: «Тюрьма не место для женщины». Он там побывал, он знает не понаслышке, о чем говорит, убеждал он нас с Ларисой. Единственное, что мы могли ему возразить: «Мы знаем Ирку. Если она даст показания, она себе никогда этого не простит». И мне, и Ларисе хорошо был знаком мужской политзэковский шовинизм, так что мы понимали — спорить с Вадимом бесполезно.
— Как бы вы охарактеризовали Ирину Белогородскую? — начал следователь на очередном допросе.
— Я бы охарактеризовала ее как порядочную, честную, прекрасную женщину.
— Вы могли бы назвать ее своей подругой?
— Конечно. Близкой подругой. — У нас было принято говорить самое хорошее об арестованных друзьях и знакомых. Перед судом обвиняемым дадут прочитать записи допросов свидетелей, и доброе слово их поддержит.
— Вы когда-нибудь ссорились?
— Никогда.
— Тогда я хотел бы дать вам прочитать ее показания.
Следователь протянул мне два листка. Это был протокол допроса Ирины. Она сказала, что я печатала первые восемь копий всех выпусков «Хроники» и редактировала 14-й выпуск.
Так оно и было на самом деле, и Ирина это знала. Несколько раз она и ее бывший муж, Ваня Рудаков, забирали у меня отпечатанные копии и передавали Шихановичу. Как-то вскоре после ареста Наташи Горбаневской Ира попросила меня встретиться с ней на квартире у Ирины Якир. Нужно было редактировать 14-й выпуск «Хроники», и мы проработали всю ночь.
— Нет, — заявила я, прочитав протокол. — Ирина Белогородская не могла это сказать. Она честная женщина и не будет говорить неправду.
Надежда была на то, что следователь сообщит ей, что я не подтверждаю ее показания, и она поймет, что тем самым я хочу ей передать: «Ирка, остановись. Не позволяй им себя сломать. Не давай свидетельств, которые они могут использовать против других людей. Не бери грех на душу».
— Вы хотите сказать, что действительно не верите тому, что Ирина сотрудничает со следствием? — казалось, следователь был искренне удивлен.
На следующем допросе мне передали записку от Ирины: «Люда, я действительно все это сказала. Как Лара? Передай ей от меня привет». Почерк, несомненно, принадлежал Ирине.
— Теперь вы верите, что она сотрудничает со следствием?
— Нет, — стояла я на своем. — Это можно подделать. Ирина неспособна давать такие показания.
— А как вы посмотрите на то, чтобы с ней увидеться? — предложил следователь.
Нам предстояла очная ставка.
Сразу после допроса я отправилась навестить Толю и Ларису. Толя был в ярости:
— Если увидишь Ирину, скажи, что мы с Ларой в ужасе от ее поведения.
Лариса промолчала. Ей не хотелось ни поддерживать осуждение, ни спорить с Толей. Ничего не сказав, она оставила вопрос на мое усмотрение.
Ирина выглядела смущенной. Казалось, она в замешательстве и не знает, чего ожидать — обниму я ее или стану стыдить.
— Ирка! — воскликнула я и бросилась ее обнимать.
— Не подходить! — рявкнул тюремщик.
Мы сели за маленький стол, напротив друг друга. Перекрестный допрос начался.
— Людмила Михайловна, вы знаете эту женщину?
— Да, это моя близкая подруга.
Лицо Ирины просветлело. Она испытала явное облегчение, услышав, что я продолжаю считать ее близкой подругой.
— Ирина, вы знаете эту женщину? — продолжал следователь.
— Да, это моя близкая подруга.
— Ирина, расскажите следствию, что вам известно о роли Людмилы Михайловны в издании «Хроники текущих событий».
— Поскольку меня заверили, что от моих показаний никто не пострадает, я повторяю, что видела, как Люда редактировала 14-й выпуск «Хроники». Также я знаю, что Люда печатала первые копии предыдущих выпусков «Хроники» и что их потом забирал Юрий Шиханович.
Здесь я применила все свои актерские способности, даже те, которых у меня никогда не было, чтобы изобразить крайнее удивление.
— Людмила Михайловна, вы подтверждаете эти показания?
— Я их отрицаю.
— Вы хотите сказать, что Ирина дает ложные показания?
— Я бы не хотела так говорить.
— Тогда почему, как вы думаете, она это делает?
— Это для меня загадка.
После допроса нам дали несколько минут поговорить. Я решила высказать все, что думаю, не обращая внимания на тюремщиков.
— Ирка, я понимаю, ты говоришь все это потому, что тебя уверили: никто не пострадает в результате твоих показаний. Но как же ты можешь верить этим крокодилам?
Со стороны сидевших за мной двух «крокодилов» послышалось тихое шевеление. Но сейчас неважно, кто нас слушает и что они слышат.
— Но я верю, они сдержат обещание, — оправдывалась Ирина.
— Ирка, это безумие. Я знаю тебя. И знаю, что, если ты купишь свободу такой ценой — свидетельствуя против других людей, — тебе жить не захочется. Подумай о душе!
Я была уверена, что, услышав такое, тюремщики тут же выставят меня вон, но они не шелохнулись.
— Люда, расскажи мне о Толе и Ларе.
— Толя категорически против того, что ты делаешь.
— А Лара?
— Она ничего не сказала.
Нас прервали, встреча закончилась. Я встала, обняла Ирину и под крики тюремщиков: «Обниматься не разрешается!» — успела сказать ей на прощанье:
— Надеюсь, ты одумаешься!
Вскоре после очной ставки с Ириной мне позвонил Владимир Павлович. Сообщив, что звонит не с рабочего телефона, он спросил, не могли бы мы встретиться на нейтральной почве. Просьба была совершенно необычная — поговорить не в кабинете, а где-нибудь в другом месте, где нас не могут подслушать. Я приехала в то место, которое предложил он — к воротам Боткинской больницы.
— Людмила Михайловна, хочу вам сообщить: вчера в «Лефортово» было совещание по всем этим делам. Принято решение воздержаться от лишних арестов. Мы хотим остановить «Хронику» — это все, что нам нужно. Мы не будем никого арестовывать, даже тех людей, которые напрямую ответственны за издание, если у нас будет гарантия, что они прекратили свою деятельность и не возобновят ее в будущем.
Он сделал паузу, видимо, ожидая вопроса, какого рода гарантии, но я промолчала.
— Мы считаем признательные показания приемлемой гарантией, — продолжал он. — Если таких гарантий не будет, мы будем вынуждены применить санкции. Должен сказать, я ознакомился со всеми делами, прочитал все показания, посмотрел, что там за люди. Люди там самые разные, но большинство хотят добра нашей стране. Они просто выбрали неверный путь.
Лично к вам я отношусь с симпатией. Уверен, вы действительно человек порядочный, и я желаю вам только добра. Вы с самого начала говорили, на каждом допросе, что никогда не дадите показаний, которые могут кому-то повредить. Я вас понимаю. Но поймите и вы, Людмила Михайловна, что вас ожидает. Я изучил ваше дело и скажу вам откровенно: вы выбрали путь, который ведет прямо в тюрьму.
Вы должны отдавать себе в этом отчет. Подумайте как следует. Может, вы напишете что-нибудь в таком духе…
С этими словами он протянул мне написанный от руки листок.
— Узнаете почерк?
— Узнаю, — ответила я.
Этот почерк нельзя было спутать ни с чьим другим. Только Юрий Шиханович выписывал буквы так, что они были похожи на готический шрифт.
В своих признательных показаниях Шиханович, в частности, написал, что для него Коммунистическая партия Советского Союза — это «самое святое на свете» и он никогда не будет говорить или делать что-то такое, что могло бы повредить партии.
— Не надо отвечать сейчас. Поговорите с мужем, с друзьями. Потом напишите что-нибудь подобное, и ваше дело будет закрыто.
— Владимир Павлович, я тронута вашей заботой. И, конечно, поговорю и с мужем, и с друзьями. Обещаю, что сразу дам вам знать, как только почувствую, что Коммунистическая партия стала для меня самым святым на свете.
Мой куратор, не таясь, расхохотался.
В обмен на свои показания Якир и Красин получили смягченный приговор: по три года лагеря и три года ссылки. Через несколько дней после суда, на пресс-конференции с иностранными журналистами, они снова покаялись, после чего Верховный суд снизил сроки заключения, оставив только ссылку.
Юрия Шихановича объявили невменяемым и поместили в психиатрическую больницу, но в обычную, не в «специальную». Ирину Белогородскую и Ирину Якир вообще не судили. После освобождения из-под следствия Белогородская и Делоне решили, что им лучше эмигрировать, и поселились в Париже.
В ноябре 1972 года Валерий Чалидзе выехал в США для чтения лекций в Нью-Йоркском и Джорджтаунском университетах. Не прошло и трех недель, как к нему в гостиницу пришел чиновник советского консульства, отобрал паспорт и сообщил, что указом Президиума Верховного Совета СССР он лишен советского гражданства. Годом раньше Алик Есенин-Вольпин эмигрировал в США. Комитет прав человека терял лидеров.
Тогда же, в конце 1972 года, приостановился выход «Хроники текущих событий». Ее редактор Тоша Якобсон оказался перед выбором — эмиграция или тюрьма. Задним числом кажется, что тюрьма была бы лучше, чем отъезд в Израиль. Там у него началась депрессия, появились суицидальные наклонности. После нескольких неудачных попыток в 1978 году он покончил с собой. Израиль не стал его духовным домом. Историк и литератор, тонкий ценитель поэзии и знаток русской поэзии, он был и остался московским интеллигентом, который не мыслил своей жизни вне Москвы.
Оставшиеся активисты «Хроники» так и не пришли к единому мнению о судьбе издания в условиях, когда КГБ применяет тактику захвата заложников. Одни повторяли, что мы не можем вести переговоры с террористами. Другие говорили, что у нас нет морального права рисковать жизнью невинных людей. Споры продолжались, публикация следующего номера «Хроники» откладывалась.
Я сама не могла сделать выбор. Если выпуск «Хроники» возобновится, я буду счастлива снова в ней работать, но, не принимая аргументов ни той, ни другой стороны, я по существу голосовала за бездействие. Мы знали, что КГБ играет на нашем чувстве порядочности, чтобы добиться того, чего нельзя получить в результате угроз, арестов и высылки.
Из сотен допрошенных по делам, связанным с самиздатом, лишь единицы не выдерживали нажима и шли на сотрудничество со следствием. Но каждый такой факт снижал привлекательность диссидентского движения среди интеллигенции. В компаниях можно было услышать язвительные замечания: «Вот вам и герои. Им наступили на хвост, и они тут же раскалываются, оправдываются, выдают имена». Тысячи людей вдруг ощутили, как это хорошо, что они решили держаться подальше от этого движения. Гнетущая атмосфера в Москве так подавляла, что казалось — даже в тюрьме не так тяжко. В такой обстановке ничего не оставалось, как относиться ко всему с юмором.
Однажды Коля как обычно пошел выносить мусор. Вернувшись — не раздеваясь, в облепленных снегом ботинках и с пустым ведром, — протопал через всю квартиру в маленькую комнату, где я сидела за работой, и прочитал мне только что сочиненное стихотворение на злобу дня:
Прошло полтора года после публикации 27-го выпуска "Хроники". Все это время редакция в обновленном составе продолжала сбор и обработку материалов, но не отдавала их в самиздат.
В мае 1974 года члены Инициативной группы защиты прав человека в СССР Сергей Ковалев, Татьяна Великанова и Татьяна Ходорович созвали пресс-конференцию, на которой объявили, что берут на себя ответственность за дальнейшее издание и распространение "Хроники текущих событий". Они стали первыми активистами "Хроники", которые открыто заявили о себе. Теперь захват гэбистами заложников терял смысл. Редакторам "Хроники" не о чем было спорить: если кого-то решат арестовать, то ясно кого — Сережу и двух Татьян.
Тут же на пресс-конференции западным корреспондентам раздали новые выпуски бюллетеня: 28-й, датированный 31 декабря 1972 года; 29-й (31 июля 1973) и 30-й (31 декабря 1973). Все три номера редактировал Ковалев. Общий объем их составил двести страниц, напечатанных через один интервал. Перепечатка их довела меня до головной боли. Зато эти три номера заняли свое место в серии, хотя и с опозданием на восемнадцать месяцев.
Глава 13
В 1973 году, когда мое имя всплыло в деле Якира и Красина, я впервые задумалась об эмиграции. Об этом заговорил Коля Вильямс, а вслед за ним и Миша. Коля в основном руководствовался уверенностью, что "лагерь не место для женщины" и мне надо воспользоваться возможностью ее избежать. Кроме того, он не сомневался, что с профессией математика найдет работу где угодно.
С Мишей все обстояло сложнее. Я предвидела, что он может пойти по моим стопам. Это и неудивительно, ведь он вырос, слушая разговоры на нашей кухне. Иногда я поручала ему опасные задания, например принести из квартиры друзей сумку, полную копий "Архипелага ГУЛАГ" (другого выхода в тот момент не было: сотню экземпляров, доставленных в Москву, нужно было раздать как можно скорее).
По природе своей Миша не был диссидентом. У него, как у отца и бабушки, был склад ученого. К тому же он отличался прямолинейностью. Мы знали, что на работе он встревал в полемику, не скрывая своих взглядов на Брежнева, вторжение в Чехословакию, политические суды и все прочее, о чем бы ни шла речь.
Как-то Миша заявил, что решил выйти из комсомола. Мне удалось отговорить его от этого шага, но я чувствовала, что это ненадолго, и раньше или позже он войдет в диссидентский мир. А как только это произойдет, КГБ приложит все усилия, чтоб его арестовать и поскорее отправить в лагерь. Тогда у этого ведомства появится способ оказывать давление на меня.
Думая об эмиграции, я сознавала, что она подведет черту под самым счастливым и осмысленным периодом моей жизни. Почти десять лет назад я присоединилась к правозащитному движению и вне его уже не мыслила своего существования. А как жить на чужбине? Русский историк, редактор, без знания английского языка — вряд ли можно рассчитывать найти там работу. Одна знакомая американка предложила заняться в США приготовлением обедов по заказам. То был всего-навсего застольный комплимент хозяйке, но он довольно точно обрисовал мои профессиональные перспективы. Оставалось утешать себя мыслью, что какой-нибудь выход всегда найдется. В конце концов можно быть домохозяйкой, заниматься английским, а освоив язык, начать читать великую литературу, созданную на английском языке и до сих пор недоступную мне в полном объеме из-за отсутствия русских переводов.
Но никакие варианты не выдерживали сравнения с моей работой в "Хронике". Никакая другая работа не казалась мне такой же важной и не могла принести такое же удовлетворение. И ничто на Западе не могло заменить дом. Мой дом был здесь, в Москве.
Я понимала, что сын и муж правы, и мне придется смириться. Но я не могла просто взять и уехать, все бросив, даже если бы нам завтра выдали разрешение. И я затеяла сложный обмен, чтобы переселить маму в нашу квартиру, а ее старую квартирку поменять на что-нибудь более подходящее для Сергея. На тот момент ни старший сын, ни мама уезжать не собирались. Сергей только что женился на женщине, которая мне сразу понравилась. Звали ее тоже Людмила. У нее была дочь от первого брака и мама. Об отъезде они даже не помышляли.
Были и другие дела, требовавшие внимания и, главное, времени. Стоило справиться с одним, как тут же возникало следующее. Подсознательно я, конечно, оттягивала наш отъезд.
В конце апреля 1976 года мне позвонил Юрий Орлов и предложил встретиться у Большого театра. Об Орлове я слышала еще в 1956 году — его вместе с тремя коллегами исключили из партии и уволили из Института теоретической и экспериментальной физики после выступления на партсобрании, где обсуждался доклад Хрущева. "Террор, проводившийся правительством, отразился не только на экономике страны, но и на всех сторонах советской жизни. Он изменил нас самих… Чтобы больше не повторилось то, что произошло, нам нужна демократия на основе социализма!" Непривычные речи подействовали на партийное начальство, как красная тряпка на быка, и оно бросилось в бой за чистоту идеологии, не вникая в суть высказанных — и выстраданных — мыслей, а расценив их как антипартийную критику ЦК.
Орлову удалось найти работу только в Армении. Теоретическую физику пришлось оставить. Он занялся разработкой нового ускорителя, защитил докторскую диссертацию, был избран членом-корреспондентом Академии наук Армянской ССР.
Вернувшись в Москву в 1972 году, он присоединился к кругу диссидентов. Невысокого роста (ниже меня), с копной вьющихся рыжих волос (друзья прозвали его прическу "Анджела Дэвис"), Орлов — не в пример многим из нас — умел слушать. Его краткие, меткие замечания обыкновенно преследовали одну цель: направить беседу в русло интересующих его вопросов. Он нас изучал, изучал движение, возникшее в годы его вынужденного отсутствия.
Вскоре его подпись стала появляться под диссидентскими петициями. В сентябре 1973 года в ответ на нападки прессы на А. Д. Сахарова Орлов написал открытое письмо Брежневу с тринадцатью вопросами, касающимися опасного отставания науки, неэффективности экономики, одиозности политического управления и взаимоотношений граждан с государством. "Самой крупной ошибкой марксистской теории общественного развития является то, что в теорию не вошли врожденные духовные потребности и качества человека. По существу, марксизм отрицает их наличие в природе человека. Однако это предположение не является доказанным научно, то есть методами экспериментальной биологии, биохимии и биофизики".
Основная мысль письма заключалась в том, что идеологическая нетерпимость, не допускающая таких естественных проявлений жизнедеятельности человека, как свобода выбора и свобода самовыражения, ведет страну к научной, экономической и культурной деградации. Избежать этого можно только с помощью демократических свобод. И автор — в форме вежливых вопросов типа: "согласны ли Вы, что…", "не кажется ли Вам….", "не разумнее ли нам…" — излагал насущные потребности общества: переход на современный уровень более свободных отношений, свобода печати без политической и идеологической цензуры, свободный выезд за границу и обмен информацией, гласность, свободная инициатива в хозяйственной деятельности.
Последний из тринадцати пунктов был уже не вопросом, а утверждением: "Вы, очевидно, понимаете, что сажать оппозиционеров в психдома и калечить их там уколами — это мерзость вроде стерилизации политических противников в Третьем рейхе. Здесь мне, в сущности, не о чем спрашивать".
Письмо осталось без ответа, а Орлов без работы. Чтобы поддерживать семью, пришлось заняться репетиторством. За его квартирой установили постоянную слежку. Как-то в компании я слышала, как он говорил о том, что несмотря ни на что надо продолжать попытки принудить власти вступить в диалог с обществом. На одной вечеринке, когда мы подняли бокалы "за успех нашего безнадежного дела", он отказался присоединиться к нашему традиционному тосту:
— Если бы я считал дело безнадежным, я бы не тратил на него время.
Когда я пришла в сквер у Большого театра, Орлов уже был там. Мы сели на скамейку ближе к Детскому театру и по привычке стали оглядываться по сторонам в поисках гэбистского хвоста. Не заметив никого подозрительного, мы повернулись друг к другу и одновременно рассмеялись. Двое респектабельных людей среднего возраста — мне сорок восемь, ему пятьдесят два, мы не прячем краденое, не торгуем из-под полы, не распиваем спиртное — чего же нам опасаться?
— Люда, вы читали Хельсинкские соглашения? — начал с вопроса Орлов.
Заключительный акт Совещания по безопасности и сотрудничеству в Европе, подписанный 1 августа 1975 года Соединенными Штатами Америки, Советским Союзом и еще тридцатью тремя странами, подтверждал признание послевоенных границ в Европе и призывал к разоружению, укреплению экономического сотрудничества, свободному обмену информацией и большему уважению прав человека. Полный текст документа был опубликован во всех центральных советских газетах.
Я ответила, что документ столь внушительного объема успела только просмотреть, но гуманитарные статьи прочитала внимательно. Там, конечно, есть приятные слова, но во Всеобщей декларации прав человека их больше.
— Люда, вы понимаете, что это первый международный документ, в котором вопрос о правах человека рассматривается в контексте сохранения мира и стабильности?
Поскольку права человека представлены как часть целого, у нас появляется возможность привлечь другие страны к контролю за их соблюдением в Советском Союзе, — продолжал Орлов. — Западные правительства должны добиваться точного соблюдения гуманитарных статей этого соглашения. Неужели они не понимают, что нарушение прав человека в СССР угрожает безопасности Запада? Сделка с диктатором в Мюнхене в 1938-м, похоже, ничему их не научила. Разве трудно понять, что советские диссиденты — их естественные союзники? У нас та же идеология, хотя мы ее не позаимствовали у них, а пришли к ней сами.
Я согласилась. Понять ситуацию с гражданскими правами в СССР нетрудно, но Запад сконцентрировался на одной теме — еврейской эмиграции. В целом же демократическое движение никакой поддержки извне не получало. Если у Орлова есть идеи, как привлечь внимание к нашим проблемам, я готова ему помогать.
— Я хотел бы организовать группу, в которую вошли бы опытные люди, — сказал Орлов. — Назвать можно "Общественная группа содействия выполнению Хельсинкских соглашений в СССР".
Звучало это довольно иронично. Заключительный акт призывал граждан контролировать соблюдение Хельсинкских договоренностей правительствами своих стран. Но советские власти в помощи граждан не нуждались. Наоборот, нетрудно было догадаться, что любые попытки и даже подобные мысли будут решительно пресекаться.
Группа, которую предлагал создать Орлов, должна ограничить свою активность гуманитарными статьями. Она будет собирать информацию о нарушении этих статей, составлять отчеты и знакомить с ними общественность и правительства стран-партнеров, подписавших Заключительный акт. Копию отчета получит и Брежнев, добавил Орлов.
В этой идее была логика. Отчет группы — это экспертный документ, его нельзя будет проигнорировать, как это бывало с эпизодическими обращениями правозащитников. Нарушение перечисленных в гуманитарных статьях прав граждан перестанет быть внутренним делом. Значит, используя давление Запада, можно вынудить власти вступить в диалог с нами.
Я сказала Орлову, что готова вступить в эту группу, но мое участие в работе может оказаться недолгим, поскольку моя семья собирается эмигрировать.
— Знаю, — сказал он. — Но группе понадобится представитель за границей.
Мы перешли к организационным деталям. У группы не будет определенной структуры и процедур, регламентирующих прием членов, принятие решений и прочее. Не нужно беспокоиться о достижении консенсуса по каждому поводу. Только подписавшиеся под тем или иным документом будут ответственны за его содержание.
Сеть "Хроники" отслеживает множество данных о нарушениях прав человека, так что проблем с отбором информации для отчетов не возникнет. Однако с самого начала я предвидела технические трудности. Самое большее, что можно выжать из пишущей машинки за один раз, это десять страниц — оригинал и девять копий на тончайшей бумаге. Чтобы разослать документ во все страны, подписавшие Хельсинкские соглашения (и пренебречь качеством последних копий), его надо перепечатать четыре раза. Изготовить текст, скажем, на двадцати страницах через один интервал, в тридцати пяти экземплярах — задача не из легких. Средств, чтобы платить машинисткам, у нас нет. Рассчитывать можно только на добровольных помощников. Но кому под силу такой объем утомительной, кропотливой работы?
— Документы должны быть краткими, полторы страницы и ни строчкой больше, — заявила я.
На том и порешили.
Недели через две один приятель спросил, слышала ли я по "зарубежным голосам" о создании какой-то новой группы для содействия чему-то такому. Первая реакция была: "Как, уже объявили?! Вдруг мама узнала!" Я даже Коле еще не рассказала. К счастью, по радио не называли по именам всех членов группы.
Первое заседание Московской Хельсинкской группы{19} решили провести 15 мая у меня дома. Орлов, который должен был председательствовать, опоздал на два часа. Он рассказал, что по дороге его схватили два оперативника и привезли в Черемушкинский районный отдел КГБ. Там его предупредили, что если он немедленно не распустит группу и она начнет действовать, то и он сам, и причастные к группе лица будут наказаны "по всей строгости закона".
Собравшиеся молча выслушали этот рассказ. Мы догадывались, что членство в новой организации не приведет к назначению в Политбюро. Когда долго живешь под дамокловым мечом в виде статей 70 и 1901 Уголовного кодекса, угрозу наказания принимаешь как должное. Человек так устроен: если все твои друзья проводят отпуск в Париже, ты не видишь ничего особенного в том, чтобы тоже съездить в Париж; если твоих друзей сажают в тюрьму, ты не видишь ничего удивительного в том, что и тебя могут посадить.
— Итак, — прервал молчание Юрий, — о чем будут наши документы?
Первый документ содержал протест против осуждения Мустафы Джемилева, активиста крымско-татарского движения. Второй касался нарушений Заключительного акта Комитетом госбезопасности СССР, который перлюстрировал почту и прослушивал телефоны в квартирах диссидентов и отказников. Третий был посвящен условиям содержания узников совести в тюрьмах и лагерях. В среднем мы выпускали по два документа в месяц.
Юрий Орлов ничего не изобретал, не придумывал, не приводил в группу новых членов. Он просто концентрировал все наши усилия. В группу вошли Петр Григоренко, Александр Гинзбург, Елена Боннэр и еще несколько человек, уже лет десять не прекращавших активного участия в правозащитном движении. Мы не были первыми, кто апеллировал к общественному мнению Запада — до нас эту попытку предприняли Лариса Богораз и Павел Литвинов, написав обращение "К мировой общественности". Не мы первые открыто заговорили о конкретных нарушениях прав человека. "Хроника", следуя философским принципам Алика Есенина-Вольпина, положила начало гласности, приступив к освещению процесса над Галансковым и Гинзбургом. Мы не были первой группой, которая требовала соблюдения советских и международных законов — этот процесс был инициирован Чалидзе и организованным им Комитетом прав человека в СССР. Обращение к правительствам других государств тоже не мы изобрели — прецедент был создан Инициативной группой защиты прав человека в СССР, направлявшей письма в ООН. Придав новый ракурс нашему движению, Орлов дал возможность западным политикам конкретизировать требования к Советскому Союзу по соблюдению прав человека.
Нам нужна была удача. И она нам сопутствовала. В то время как Орлов разрабатывал концепцию новой общественной ассоциации, которая вскоре стала известна как Московская Хельсинкская группа, член Конгресса США Миллисент Фенвик вынашивала удивительно похожую идею — организовать при Конгрессе Комиссию по наблюдению за выполнением Хельсинкских соглашений. Эта идея возникла у нее после поездки в СССР в августе 1975 года, в ходе которой она познакомилась со многими евреями-отказниками. Впоследствии, в выступлениях и интервью, она не раз вспоминала:
— Я спрашивала этих людей: "Как вы отважились на встречу с нами?" — "Поймите, это единственное, на что мы надеялись, — отвечали они. — Ведь теперь КГБ знает, что вы о нас знаете". О, Боже, думала я, это все равно что попасть в ужасный шторм посреди Атлантического океана — ты знаешь, что эти люди на плотах могут погибнуть, пытаешься помочь им подняться на палубу, но не можешь. Единственное, что в твоих силах, это освещать их прожектором.
Корреспондент "Нью-Йорк таймс" в Москве, Кристофер Рен, познакомил Фенвик с Валентином Турчиным, возглавившим после ареста Андрея Твердохлебова московскую группу "Международной амнистии". Позднее Турчин и его жена Татьяна вспоминали, что, встретившись с Фенвик, сразу послали сына за Орловым (он жил по соседству). Идею создания Хельсинкской группы Орлов сформулирует через несколько месяцев, но уже тогда они с Фенвик обсуждали возможности сотрудничества Запада с советскими правозащитниками на основе гуманитарных статей Заключительного акта.
Спустя несколько дней после возвращения в Вашингтон, 5 сентября 1975 года, Фенвик внесла на рассмотрение Конгресса США законопроект о создании Комиссии по наблюдению за выполнением Хельсинкских соглашений. 5 мая следующего года билль прошел через Сенат, а 3 июня, через три недели после того, как Орлов объявил о создании Московской Хельсинкской группы, был подписан и приобрел силу закона.
Таким образом, с самого начала работу нашей группы освещал "прожектор Фенвик".
Группа проводила регулярные пресс-конференции, и, судя по количеству журналистов, ее работа освещалась западной прессой. Во всяком случае уже через несколько часов после брифинга зарубежные радиостанции передавали содержание наших документов.
Спустя годы я обнаружила, что бо́льшая часть заметок о нас в американских газетах появлялась где-то в конце номера, не раньше страницы девятнадцатой. Но они попадали в подборку документов Комиссии Фенвик и, конечно, в досье КГБ. Газетные заметки, как и рукописи, не горят — они оседают в папках, ожидая своего часа.
При желании властям ничего не стоило задушить нашу группу сразу же при ее рождении. Досье на каждого из членов хватало, чтобы упечь нас за решетку на много лет. Но, видимо, андроповский КГБ усвоил из опыта Инициативной группы, что обращения в ООН ни к чему не приводят, и посчитал, что за границей не будут прислушиваться к очередным посланиям советских граждан. Если бы не новая комиссия, организованная по инициативе эксцентричной дамы-конгрессмена, Запад вряд ли бы откликнулся на заявления Московской Хельсинкской группы.
Заинтересованные органы знали обо всем, что у нас происходит. За нами была установлена слежка. Почта просматривалась, телефоны прослушивались и отключались. Напротив моего дома постоянно был припаркован загадочного вида серый фургон. Пару раз я попыталась заглянуть внутрь, но все окна, включая лобовое стекло, были задрапированы. Внутри что-то стрекотало, не иначе как подслушивающее устройство. Всякий раз, когда мне нужно было поймать такси, возле дома останавливалась одна и та же машина. Вскоре выяснилось, что я единственная из членов группы, чей телефон не отключен. Видимо, им было легче прослушивать звонки на одной линии.
Но перегибать палку явно не хотели, учитывая, что в новую группу входили хорошо известные диссиденты. Их арест повлек бы за собой больше международных протестов, чем все документы группы, вместе взятые. Так что андроповский КГБ выжидал, надеясь, что умеренное давление принесет свои плоды.
Тем временем моя семья осознала, что теперь мы напрочь лишены частной жизни. Наша квартира круглосуточно прослушивалась. Мы жили как на сцене. Люди из серого фургона слышали все, о чем мы говорим, а может, и видели все, что мы делаем.
В дверь постоянно кто-то звонил. Десятками приходили иностранные корреспонденты и ходоки из провинции. Часто пресс-конференции группы проводились в нашей квартире, в большей из двух комнат. Старые семейные порядки были забыты. Даже мама не могла больше игнорировать род моих занятий, хотя мы с ней по-прежнему об этом не говорили.
Как-то летом 1976 года она пошла в "Березку" и купила радиоприемник "Сони" — на свой авторский гонорар, полученный чеками Внешпосылторга за учебник по математике, который издали где-то в Южной Америке. Перед каждой пресс-конференцией мама надевала фартук и выходила на кухню. Покрутившись несколько минут у плиты, она возвращалась к себе в комнату и оставалась там часа два, дожидаясь, пока новости из ее квартиры начинали передавать по радио из Вашингтона, Лондона или Мюнхена.
В октябре Орлов попросил меня расследовать дело об исключении семи учеников из выпускного класса одной из вильнюсских школ. Все они регулярно ходили к мессе и навещали Виктораса Пяткуса, истового католика, отсидевшего в общей сложности шестнадцать лет в лагерях. Я поехала в Литву с Колей и Мишей.
На вокзале в Вильнюсе нас встретил Пяткус. С ним были Антанас Терляцкас — диссидент и бывший политзаключенный, и Томас Венцлова — поэт, сын первого министра образования в коммунистической Литве.
Я много слышала о "литовском национализме" и о ненависти литовцев к русским. И вот меня приветствует "почетный караул" литовского национального движения. По пути в гостиницу за нами следовало не меньше десятка агентов КГБ — и местные "хвосты", приставленные к каждому из встречавших нас литовцев, и "мои", московские оперативники, прибывшие тем же поездом.
Погуляв по городу и осмотрев достопримечательности, мы отправились к Пяткусу обедать. Я сама люблю принимать гостей, так что могла по достоинству оценить организацию приема. Все было продумано до мелочей — убранство стола и еда, одежда хозяев и то, как рассадили гостей, тосты и темы беседы. Из уважения к гостям все говорили по-русски, даже между собой.
После обеда разговор перешел на семерых мальчиков, исключенных из школы. Пяткус предложил мне вернуться попозже и самой поговорить с ними.
Когда я пришла вечером, Пяткус приготовил чай. Они с мальчиками пили из одной большой чашки, передавая ее друг другу. Такая у них была традиция.
Каждый из учеников рассказал о своем личном опыте столкновения с властями. Как правило, директор снимал ученика с уроков и передавал в руки сотрудника КГБ. Ребятам угрожали, некоторых даже били — с целью получить от них показания против Пяткуса. В числе прочего их заставляли "признаться" в том, что Пяткус — гомосексуалист. В СССР гомосексуализм был наказуем шестью годами лишения свободы, и обвинение пожилого католика в преступных связях с семнадцатилетними юношами, очевидно, казалось КГБ весьма привлекательной возможностью снова засадить его за решетку.
На следующее утро мы с Томасом направились в Министерство образования Литвы. К моему изумлению, министр Римкус собственной персоной вышел в приемную и, протянув руку, произнес:
— Сын Антанаса Венцловы всегда желанный гость в нашем министерстве.
Поблагодарив его, Томас Венцлова пояснил, что на сей раз он всего лишь сопровождающий, и представил меня:
— Людмила Михайловна Алексеева из Москвы.
— Я член Общественной группы содействия выполнению Хельсинкских соглашений в СССР, — представилась я.
— К какой организации принадлежит ваша группа?
— Это общественная группа.
— Кто ее возглавляет?
— Профессор Юрий Федорович Орлов, член-корреспондент Армянской академии наук.
Звание произвело впечатление на министра. Видимо, он решил, что это какая-то псевдообщественная группа, созданная сверху для каких-то дипломатических надобностей. Я спросила о семи исключенных школьниках.
— Это не имеет никакого отношения к Хельсинкским соглашениям. Их исключили за поведение, недостойное советских школьников, — объяснил министр.
— Как же они себя вели?
— Богушис (один из исключенных учеников) нагрубил директору, потом принес в класс картинку религиозного содержания. А это запрещено Конституцией. В нашей стране церковь отделена от государства.
— И это стало причиной его отчисления?
— Очевидно, не только это. Дело известно мне лишь в общих чертах, и я не могу в точности сказать вам, что натворил каждый из них, но исключение безусловно было правомерным. Вы можете поговорить с учителями и руководством школы.
— Хорошо, — сказала я. — Мы пойдем в школу и выясним, что произошло.
Завуч школы и несколько учителей перечисляли прегрешения, совершенные каждым из семерых учеников, но так и не смогли объяснить, какие именно нарушения школьных порядков послужили основанием для принятия столь суровых мер. Нам не показали никаких официальных документов, даже протокола заседания педсовета, на котором должно приниматься такое важное решение, как исключение учащихся из школы. Разговор подходил к концу, когда раздался телефонный звонок из министерства образования. Трубку взял завуч Добинас. Судя по его репликам, министру уже доложили, что, несмотря на длинное официальное название, группа профессора Орлова совсем не та организация, которая заслуживает учтивого отношения.
Напряжение на лице Добинаса сменилось испугом. Я поняла, что во избежание неприятностей встречу пора заканчивать, и начала прощаться, тем более что своей цели мы уже добились. Мы выяснили, что ребята не совершили никаких преступлений, что протокола об отчислении попросту не существует, решение принято в административном порядке и, следовательно, оно незаконно.
Едва выйдя на улицу, мы расхохотались. Томас предложил отметить наш успешный поход в школу, и мы зашли в ближайший бар. Заказали шампанское и залпом осушили бокалы.
В Москве я составила документ № 31 "Об исключении семерых учеников из средней школы имени Веноулиса (Вильнюс)". Этот отчет вышел за двумя подписями, моей и Венцловы, который стал членом только что образованной Литовской Хельсинкской группы.
Примерно через месяц Пяткус и Венцлова приехали в Москву объявить о создании своей группы на пресс-конференции, назначенной на 27 ноября. Как обычно, накануне несколько членов МХГ были заняты срочной подготовкой документов. Мы носились как сумасшедшие — писали, редактировали, печатали, исправляли, перепечатывали, чтобы успеть собрать нужное число экземпляров для всех журналистов. Работа откладывалась на последний момент из-за опасения потерять все материалы в случае обыска, но отчасти и из-за присущей нам неорганизованности. В тот день мы работали в квартире Орлова, где и должна была состояться пресс-конференция. В разгар аврала появились Пяткус и Венцлова, полностью подготовленные — все их документы были аккуратно отпечатаны, прошиты и подобраны, а копий хватало на всех и еще оставалось в запасе. Понаблюдав за царившей вокруг суетой, Венцлова подошел ко мне и прошептал:
— Знаете, что сказал Викторас? "Посмотри, как они работают. Это именно то, чего не должна допускать Литовская Хельсинкская группа".
В течение восьми месяцев Московская Хельсинкская группа получила петиции от еврейских активистов, русских националистов, крымских татар, турок-месхетинцев, католиков, баптистов, пятидесятников и адвентистов Седьмого дня. Подобные хельсинкские группы появились в Литве и на Украине, позднее — в Грузии и Армении, Чехословакии и Польше. Конгресс США сформировал комиссию, задачи которой не отличались от наших. В декабре 1976 года публикуемые в американских газетах материалы, посвященные работе нашей группы, стали перемещаться с девятнадцатой страницы на первую.
Тем временем политический климат в США претерпевал глубокие изменения. Избранный президентом Джимми Картер, говоря о внешней политике, подчеркнул приверженность курсу на развитие демократии и защиту прав человека. Наши самые оптимистические прогнозы казались вполне реальными: похоже было, что новая администрация будет требовать от СССР выполнения данных в Хельсинки обещаний.
В декабре 1976 года мы с Колей и Мишей, наконец, решили собрать документы, необходимые для эмиграции. Кроме прочего, каждому из нас нужно было разрешение на отъезд от родителей — от моей мамы, от матери Коли и отца Миши.
— Я не дам разрешения, — заявил Валентин, когда сын рассказал ему о наших планах.
Миша оторопел.
— Но почему? Ты всегда говорил, что постоянно испытываешь ограничения в научной работе, а ученые за рубежом более свободны. Ты не хочешь, чтобы я был свободен?
— Не дам разрешения, — повторил Валентин.
Не знаю, опасался ли он, что письменное разрешение на отъезд Миши разрушит его собственную карьеру или просто не хотел отпускать сына — ведь в то время эмиграция означала разлуку навсегда. Я заявила в ОВИРе, что все мы трое совершеннолетние, и это означает, что каждый из нас может принимать решение за себя, не обращаясь к родителям. Этот ход задерживал наш отъезд на неопределенное время.
К январю 1977 года КГБ, видимо, решил, что расправа с неугодными внутри страны важнее международного престижа. Через два дня после встречи Нового года в мою квартиру пришли с обыском. Забрали целые пачки самиздата и документов Хельсинкской группы, уложив их в принесенные мешки. В тот же день позвонил чиновник из ОВИРа и напомнил, что мы должны представить разрешения от родителей. Мы снова отказались — если они так хотят нашего отъезда, пусть выпускают без всяких разрешений, решила я. И оказалась права: 1 февраля нам сообщили, что нам дается три недели на то, чтобы покинуть страну.
Тем временем был арестован член Московской Хельсинкской группы Александр Гинзбург. Это произошло 3 февраля. В тот же день к вечеру пришли за Орловым, но его дома не оказалось. Его вообще нигде не смогли найти. Он нашел надежное укрытие. 9 февраля, около трех часов дня, он рискнул появиться у меня дома. Дверь открыла мама. Орлов приложил палец к губам и молча прошел в квартиру. Мама тут же взяла "волшебный блокнот" — серую пластмассовую дощечку, на которой легко писать фломастером и так же легко стирать написанное. Она уже не раз видела, как я пользовалась ею, когда не хотела рисковать быть услышанной гэбистами.
— Хотите чаю? — первое, что спросила она у Орлова.
— Нет, спасибо. Где Люда? — написал он в ответ.
— Не знаю.
— Не могли бы вы связаться с Толей Щаранским? — попросил Орлов. Щаранский был членом группы.
Мама только сказала в трубку: "Люда просила вас зайти", и через полчаса Щаранский уже звонил в дверь. Ни одного слова не было произнесено.
— Найдите Люду и журналистов, — написал Орлов.
Щаранский разыскал меня у Григоренко, где я печатала обращение к властям с требованием освободить Гинзбурга, состояние здоровья которого внушало опасения. Мы вместе поехали ко мне, где нас ждал Орлов. По-прежнему пользуясь дощечкой и фломастером, он объяснил, что появился ненадолго, только для того чтобы сделать заявление для прессы, после чего намеревается исчезнуть, пока КГБ не напал на его след. Щаранский помчался разыскивать журналистов.
В шесть вечера он вернулся в компании Роберта Тота, корреспондента "Лос-Анджелес таймс", и Дэвида Мэйсона, шефа московского бюро Ассошиэйтед Пресс. На пресс-конференции Орлов зачитал короткий документ, призывающий все страны, подписавшие Заключительный акт Хельсинкского совещания, рассекретить бо́льшую часть информации, до сих пор необоснованно закрытой.
Мама в это время стояла в коридоре, разговаривая по телефону с подругой. Вдруг в телефоне что-то щелкнуло, и их разъединили — как только Орлов вслух произнес несколько слов. Мама попыталась перезвонить, но гудка не было — телефон отключился. Сотрудник КГБ, дежуривший на прослушивании квартиры, мгновенно узнал голос Орлова.
Сразу после пресс-конференции, длившейся не более десяти минут, Орлов собрался уходить.
— Подождите, — сказала я, — сначала проверим, нет ли слежки.
Мы с Щаранским вышли из квартиры вместе с журналистами. В подъезде мы увидели целующуюся парочку. В этом не было бы ничего удивительного, если б не их возраст и одежда: немолодые мужчина и женщина, одетые в новые импортные дубленки. Подойдя ближе, Щаранский узнал в мужчине одного из гэбистов, следивших за ним в последнее время. Проводив Толю и журналистов, я вернулась и предупредила Орлова: "Юра, дом окружен. Вам лучше остаться здесь".
Около восьми вечера мы с Колей пошли на прощальную вечеринку, о которой давно договаривались с друзьями, но пробыли там недолго, ровно столько, чтобы не обидеть хозяев. Вернувшись домой, я отвела Орлова на кухню. Мы сидели, не зажигая света, и говорили о будущем. Меня ждало изгнание, его — тюрьма. Но группа должна была продолжать работу.
Юрий прилег в пять утра, а в шесть я разбудила Мишу и попросила посмотреть, есть ли еще кто-то в подъезде. Далеко ходить не пришлось — на лестничной клетке дежурили трое. В одиннадцать часов раздался стук в дверь. Восемь крепких мужиков в новеньких милицейских шинелях увели Юру с собой.
На следующий день после ареста Юрия зашел Толя Щаранский. Обычно, стоило ему войти в прихожую, я сразу кричала из своей комнаты: "Сколько у вас времени?" Если он кричал в ответ: "Пять минут", я быстро делала бутерброд, и он съедал его на ходу. Когда у него было двадцать минут, я усаживала его на кухне и, пока мы говорили, разогревала что было в холодильнике. Толя, возможно, был самым занятым человеком во всей Москве. Он перебегал от одного отказника к другому, помогал заезжим иностранцам, переводил для Сахарова, преподавал английский, готовил документы для Хельсинкской группы, добывал информацию для западных журналистов. И частенько забывал поесть.
С Толей меня познакомил годом раньше Виталий Рубин, ученый-синолог, подписант, отказник. Никогда не забуду, как он представил Щаранского. "Люда, вы, конечно, знаете, что быть очень умным для еврея обычное дело. Но этот молодой человек поражает своим умом даже евреев! Поэтому мы думаем, что его никогда не выпустят. Поскольку евреи очень умные, они сразу сообразят, что этот молодой человек среди них самый умный. Его изберут премьер-министром. Он быстренько всех сплотит, установит мир на Ближнем Востоке, причем на выгодных для Израиля условиях — и что тогда делать Советскому Союзу? Нет, они его ни за что не выпустят. Так что, Толя, ты тут на всю жизнь". Если это и была шутка, то в ней содержалась немалая доля правды.
— Вы знаете, пока Юра под арестом, боюсь, в группе может начаться раскол, — начал Толя, пока я обследовала содержимое холодильника.
— Почему вы так думаете?
— У Юры талант объединять людей для совместной работы. А теперь Юры не будет.
Я понимала, чту он имеет в виду. Еврейское движение в Советском Союзе не было однородным, оно разделилось на сторонников эмиграции, которые видели в исходе единственную возможность полноценной национальной жизни для еврейского народа, и на так называемых культурников. Последние возлагали надежды на возрождение еврейской культуры внутри СССР. Были и другие фракции. Соперники обвиняли друг друга в сотрудничестве с КГБ, в прикарманивании средств, поступающих от американских еврейских организаций. При этом разные группировки все-таки участвовали в общих мероприятиях, но лишь пока дело не касалось непримиримых противоречий. Так, в 1975 году делегации американских сенаторов пришлось беседовать по отдельности с "эмиграционщиками" и "культурниками" — настолько несовместимы были их позиции в отношении выезда евреев не в Израиль, а в США.
Членство Щаранского в Московской Хельсинкской группе тоже воспринималось неоднозначно. Согласно стратегии, принятой Государством Израиль, да и западными еврейскими организациями, советским евреям следовало избегать контактов с правозащитниками и другими диссидентами. Ведь разрешение на выезд давали не они, а чиновники, которых раздражать не следовало. Еврейские активисты не раз предостерегали Щаранского, чтоб он держался от нас подальше. Правозащитники же рассматривали право на эмиграцию как неотъемлемое право личности выбирать место жительства, ничем не отличающееся, например, от права крымских татар вернуться в Крым.
— Знаете, последние восемь месяцев были самым счастливым временем в моей жизни, — сказал мне Щаранский.
— Я так прожила десять лет, — ответила я. — Позволить себе думать что хочешь и жить как считаешь нужным, — это прекрасно. Есть только один недостаток — это почти неминуемо кончается тюрьмой.
Тогда впервые Толя рассказал, как он вышел на нас. Он рос с убеждением, что быть евреем означает быть человеком второго сорта. "Мне хотелось бы быть высоким, широкоплечим, с густыми вьющимися волосами. Но я низкорослый, полный и лысый. Нужно было научиться принимать себя таким, как я есть. Так же и с национальностью. Надо принимать жизнь, как она есть". Так он и жил до поры до времени, пока не влюбился в еврейскую девушку из семьи сионистов. "Я впервые встретил людей, которые гордились своей принадлежностью к великой нации, — рассказывал Толя. — Это изменило мое мировоззрение". Отношения с девушкой не сложились, но Толя осознал, что быть евреем вовсе не значит быть неполноценным.
Через Виталия Рубина он познакомился с Андреем Сахаровым и Юрием Орловым и в конце концов был приглашен вступить в Хельсинкскую группу. "Это научило меня гордиться не только тем, что я еврей, но тем, что я человек".
Спустя год с небольшим я услышала отголоски этих мыслей в Толином последнем слове на суде: "Я счастлив, что жил честно, в мире со своей совестью… Я счастлив, что помогал людям. Я счастлив, что познакомился и работал с такими честными и смелыми людьми, как Сахаров, Орлов, Гинзбург — продолжателями традиций русской интеллигенции".
Все долгие годы, пока Толя находился в заключении, я знала, что КГБ бессилен против него. Невозможно сломить человека, который гордится тем, что он человек. Такой человек становится героем, это уже следующая ступень эволюции.
Приближалась середина февраля, а наш телефон все еще был отключен.
"Мы не тронемся с места, пока они не включат телефон", — решила я.
Мало того что мама оставалась одна, ей уже исполнился семьдесят один год, и бросать ее в квартире без телефона, где она не сможет ни вызвать врача, ни позвонить друзьям, было просто недопустимо.
— Ну а если телефон не включат, ты что, собираешься остаться? — кипятился Коля.
Он по-прежнему опасался, что я угожу в тюрьму, если буду тянуть с отъездом.
— Если телефон не включат, я останусь, — заявила я.
Для мамы это было уже слишком.
— Уезжайте! — закричала она. — Уезжайте скорее!
Пятьдесят лет мама не повышала на меня голос, но теперь вдруг воспользовалась своим родительским правом. После того как в нашей квартире у нее на глазах арестовали Орлова, она поняла, что мне угрожает. А лагерь не место для ее дочери.
Мы с Колей и Мишей покидали СССР. Вылет был намечен на 22 февраля 1977 года. Перед арестом Орлов поручил мне представлять группу за рубежом. Я понимала, по крайней мере теоретически, какая миссия меня ожидает. Я должна бороться за освобождение арестованных членов группы, организовать публикацию наших документов, убеждать правительства и общественность демократических стран оказывать давление на СССР, заставляя его выполнять гуманитарные статьи Хельсинкских соглашений. Я готова была делать все возможное для осуществления задач группы, но как это будет выглядеть практически? Иностранными языками я не владела, у меня не было ни связей за границей, ни опыта публичных выступлений, не говоря уже о лоббировании в парламентах или формировании общественного мнения в странах, где я никогда не бывала.
И вот мы, трое "западников", летим на Запад. Летим по вызову из Израиля, якобы от родственников, которых у нас там отродясь не было. Вызов нам прислал мой друг Юлиус Телесин, назвав меня своей двоюродной сестрой. Нам предстоит проделать путь по маршруту, отработанному для тех, кто по израильским приглашениям направляется в США. Через несколько часов мы приземлимся в Вене. Оттуда полетим в Рим, затем в Соединенные Штаты. Это могло бы стать прекрасным путешествием, будь мы туристами. Но мы — эмигранты, пути назад у нас нет.
Я не могла заставить себя думать о Европе или об Америке, всеми мыслями я была в Москве. Я больше никогда ее не увижу, никогда не увижу маму, Сережу, Ларису, не увижу толпу друзей, приехавших в аэропорт попрощаться, никогда. Никогда. Никогда.
Как только самолет пересек советскую границу, Коля достал из кармана плоскую бутылку коньяка и три деревянных рюмочки с хохломской росписью — прощальный сувенир от кого-то из предусмотрительных друзей. Мы выпили. Я почувствовала, что у Коли отлегло от сердца: теперь он мог быть уверен, что его жена не окажется за решеткой.
Я не испытывала ни радости, ни горя, скорее что-то вроде оцепенения. Возможно, сказалась усталость и неописуемое напряжение последних месяцев, не оставлявшее места для эмоций. А возможно, это была защитная реакция — психика сопротивлялась всем этим невыносимым "никогда" предстоящей жизни в изгнании.
Старший сын с семьей остался в Москве. Телефон в его квартире, так же как и у мамы, был в черном списке — их не соединяли со звонившими из-за рубежа. Письма я старалась передавать через знакомых американцев. Некоторые готовы были исполнить мои поручения к членам Московской Хельсинкской группы. По приезде в Москву они звонили Сереже, договаривались о встрече, передавали ему письмо и подарочек. Он отводил их к кому я просила. Так сын стал моим главным связным с группой.
В КГБ, похоже, об этом знали и сразу после моего отъезда всерьез принялись за Сережу. Ему исполнилось 30 лет. Выпускник Бауманского училища, способный инженер, он был специалистом по автоматическим системам управления. Работа ему нравилась, и на работе им были довольны.
Прошло несколько недель после моего отъезда, когда его впервые вызвали в КГБ. Он пришел по указанному в повестке адресу и оказался в частной квартире — во всяком случае так это выглядело. Беседовали с ним два сотрудника, один пожилой, другой молодой. Старший, как понял Сережа, был тот самый Владимир Павлович, который был моим куратором. Начали с вопроса: "Почему вы остались, а не поехали с мамой?" Сережа сказал, что уезжать не хочет. Тогда ему объяснили, что, живя здесь, в Советском Союзе, он должен выполнять долг советского человека — в данном случае рассказывать им о всех маминых контактах и знакомых в Москве.
У Сережи, конечно, не было ни малейшего желания принять это малособлазнительное предложение, но он не знал, как лучше ответить, чтобы не навредить себе. Поэтому сказал, что должен подумать, а сам на следующий день побежал к Софье Васильевне Каллистратовой, защитнице и консультанту диссидентов.
Выслушав Сережу, она произнесла примерно следующее:
— Видите ли, если вы намерены отказаться от их предложения, то должны сделать это в максимально доступной для них форме. Я бы рекомендовала, извините меня, послать их на… — и пожилая интеллигентная женщина употребила хорошо известное русское слово.
На Сережу это произвело сильное впечатление. На следующий день, встретившись со своими "ведущими" из КГБ, он дословно повторил эту формулу. Реакция была совершенно неожиданной — старший сотрудник весело рассмеялся:
— У вас вся семья такая, что ли? Ведь то же самое, слово в слово, сказал и ваш отчим Николай Вильямс. — Софья Васильевна была права: с ними нужно говорить на понятном им языке.
Вербовать Сережу перестали. Но в покое не оставили. Верный признак недовольства: в квартире отключили телефон. Сережа продолжал помогать мне, чем мог, и это не осталось незамеченным. Когда в 1979 году "очищали" Москву от неугодных элементов в преддверии Олимпийских игр, от Сережи решили избавиться, тем более что произошел досадный прокол. В одном из своих писем, переданных через визитера Тане Великановой, я описывала ситуацию в среде диссидентов в эмиграции: кто что говорит, какую позицию занимает по тем или иным вопросам и так далее. В конце письма я приписала: дай прочесть это письмо Сереже. Таня письмо получила, прочла сама, дала прочесть Сереже, но, против обыкновения, письмо не уничтожила — то ли забыла, то ли хотела перечесть. А тут КГБ нагрянул с обыском. Письмо нашли, и Сережу стали донимать: ага, получаете инструкции из-за границы. Четыре раза вызывали на допросы, требовали, чтобы он назвал знакомых ему участников правозащитного движения. При этом угрожали лишить средств к существованию. Страшно было, признался он мне позже, ведь это была не пустая угроза.
После очередного допроса к Сереже в коридоре подошел молодой сотрудник, который присутствовал еще на первой беседе, пригласил его покурить и поговорить в неофициальной обстановке. Они расположились на лестничной площадке между этажами.
Сделав первую затяжку, сотрудник сказал:
— Сергей Валентинович, мне представляется, что для вас лучше всего уехать. Куда? К маме, на Запад. Потому что если вы не поедете добровольно на Запад, вы поедете против своей воли на восток…
Сережа был в ужасе. Его жена категорически не хотела уезжать. Однако, когда он рассказал о последнем разговоре, Людмила поняла, какое будущее уготовано их семье. Ради мужа она бы изменила свое решение и согласилась уехать, но как быть с 13-летней дочерью? Отец девочки, бывший муж Люды, ни за что не даст разрешения, он уже сказал об этом. А между тем сотрудники КГБ не оставляли их в покое: ну что, согласны уехать?
— Ничего не получается, — объяснил им Сережа, — бывший муж не дает согласия на отъезд дочери, а без нее мы никуда не поедем.
— Кто? Бывший муж? И в этом все дело? А ну-ка дайте мне его телефон…
Вечером того же дня Люде позвонил бывший муж и мрачным голосом сообщил, что против отъезда дочери не возражает. 20 мая 1980 года, через три года после моего отъезда, я обняла своего старшего сына на американской земле.
Глава 14
Наше движение переживало кризис, и все происходящее с его активистами освещалось в "Хронике". В 58-м выпуске рассказывалось о суде над Татьяной Великановой, ее приговорили к пяти годам лагерей и пяти годам ссылки. Материалы следующего, 59-го выпуска были конфискованы КГБ, и он так и не вышел. В 60-м выпуске сообщалось об осуждении Саши Лавута. Он получил три года лагерей, а в конце срока — по новому обвинению — еще три года ссылки. Выпуск 62-й поместил материалы о новом аресте Анатолия Марченко и последовавших обысках. Вскоре все, что он написал, классифицировали как антисоветскую пропаганду, и его осудили на десять лет лагерей и пять лет ссылки. В том же выпуске появился некролог Юри Кукка, эстонского ученого-химика. Он протестовал против советского вторжения в Афганистан, добивался осуществления права граждан на выезд из страны. Кукк скончался в возрасте сорока лет, после длительной голодовки в лагере, где отбывал двухлетний срок.
На Украине оперативник КГБ вырвал сумку у Раисы Руденко, жены Миколы Руденко, поэта и основателя Украинской Хельсинкской группы, осужденного на двенадцатилетний срок. В сумке были стихи мужа, тайно переправленные из тюрьмы. Вместе с материалами, конфискованными в ходе последовавшего обыска, эти стихи послужили основанием для обвинения ее в антисоветской пропаганде, с осуждением на пять лет лагерей и пять лет ссылки.
"21 мая 1981 года исполнилось 60 лет Андрею Дмитриевичу Сахарову", — сообщала "Хроника". Сахаров отбывал первый год ссылки в Горьком. В коротком репортаже описывались попытки друзей добраться до его квартиры и поздравить с днем рождения.
Виталий Помазов, бывший политзаключенный, прибыл в Горький 20 мая. На следующий день он взял такси и поехал к Сахарову. Хотя он остановил такси, не доезжая до нужного дома, его сразу окружили оперативники и забрали в отделение милиции. Там его обыскали, затем отвезли на вокзал и посадили в поезд. (Ему даже купили билет, так как денег при нем не было.) Помазова предупредили, чтоб он не пытался выйти на промежуточных остановках. Он и не смог бы этого сделать — на каждой станции дежурил милицейский патруль.
В 64-м выпуске "Хроники" публиковалось открытое письмо Сахарова от 24 января 1982 года, приуроченное ко второй годовщине его горьковской ссылки, где он, в частности, писал:
"Открыто беззаконные репрессии против меня — часть общего плана подавления инакомыслящих в СССР… Несомненно, что эти репрессии, в том числе моя высылка, противоречат праву на свободу убеждений и информационного обмена, противоречат открытости общества и тем самым — международному доверию, безопасности и стабильности, Хельсинкским соглашениям и другим международным обязательствам СССР… Все это противоречит глубинным интересам нашей страны, жизненно нуждающейся в плюралистических реформах для выхода из экономического и социального тупика… Но сейчас наше государство само не проявляет способности к реформам и прямо или косвенно препятствует этим необходимым процессам в сфере своего влияния".
Этот выпуск, датированный июнем 1982 года, вышел последним. "Хроника текущих событий" просуществовала четырнадцать лет — на четыре года дольше, чем герценовский "Колокол".
В декабре 1981 года против члена Московской Хельсинкской группы адвоката Софьи Васильевны Каллистратовой возбудили уголовное дело. К тому времени работу вели, кроме нее, еще два члена группы — Елена Боннэр и Наум Мейман. Остальные находились в заключении, ссылке, эмиграции. За три дня до ее семидесятишестилетия Каллистратовой предъявили обвинение по статье 1901, "распространение заведомо ложных измышлений, порочащих советский государственный и общественный строй". Основывалось оно на документах МХГ — ста тринадцати из 194 опубликованных группой. В тот же день, 6 сентября 1982 года, Елена Боннэр сделала заявление: "В сложившейся обстановке группа не может выполнять взятые на себя обязанности и под давлением властей вынуждена прекратить свою работу" — так заканчивался последний документ Московской Хельсинкской группы. После этого заявления дело Каллистратовой было закрыто. Вскоре в "клевете" обвинили Елену Боннэр — за то, что передавала письма Сахарова на Запад. Ее тоже выслали в Горький.
В начале восьмидесятых годов на свободе почти не осталось ветеранов-правозащитников. Старый тост: "За тех, кто не может выпить с нами" подразумевал теперь не только арестованных и томящихся в лагерях, но и тех, кто эмигрировал. О правозащитном движении стали говорить в прошедшем времени. Люди, раньше помогавшие диссидентам, отвернулись от них. Некоторые, стремясь облегчить душу, переключились на критику. Они обвиняли диссидентов в "экстремизме" и неосуществимости их требований, а приверженность открытым формам протеста называли "провокацией".
О тысячах узников совести забыли. Призывы об освобождении политзаключенных исходили только от них самих и узкого круга близких друзей и родственников.
Вскоре после нашего отъезда сын женщины, которая когда-то училась с мамой в аспирантуре, попросил разрешения пожить у нее несколько месяцев, пока он не уладит свои квартирные проблемы. Его мать была близким другом нашей семьи. Я знала ее с детства и называла тетей Галей. Маме не хотелось, чтоб с ней в квартире кто-то жил, но отказать было неудобно, и Виктор с женой разместились во второй комнате.
Несколько месяцев они мирно сосуществовали. Однажды мама ушла по делам, но неожиданно быстро вернулась, обнаружив, что что-то забыла. Она прошла по коридору к своей комнате, повернула ручку, но дверь не открывалась. Мама стала стучать. Дверь открыл Виктор.
— Виктор?! Что вы делаете в моей комнате?
— Мне нужно было переодеться.
Звучало это, мягко выражаясь, странно: в отсутствие хозяйки запереться в ее комнате, чтобы переодеться.
Дождавшись, когда Виктор выйдет, мама осмотрела письменный стол. Все было на месте, кроме Мишиного учебника йоги — самодельного буклета с описанием упражнений и рисунками от руки. Хотя это было вполне невинное произведение, аполитичное и незапрещенное, оно формально подходило под определение самиздата и потому могло заинтересовать невежественного, но рьяного осведомителя.
Мама ничего не сказала, но сделала выводы. Через пару дней учебник йоги возвратился в ящик стола. Мама без всяких объяснений попросила Виктора покинуть дом.
Спустя месяц наша дальняя родственница зашла к маме и спросила, не могли бы ее сестра с мужем пожить у нее несколько месяцев. Они ждут квартиру в новом доме, но строительство еще не закончилось. Жить им негде, а снимать не на что, так как оба студенты. Маме пришлось согласиться.
Вскоре после появления новых жильцов мама обнаружила, что в учебнике йоги не хватает нескольких первых страниц. Ночью она слышала, как в соседней комнате стрекочет машинка. Она не знала, что именно печатают, но вряд ли это была курсовая работа — в те времена студенты писали курсовые от руки. На следующий день, вернувшись с прогулки, мама заметила, что пропавшие страницы лежат на месте, а следующий раздел отсутствует. Ночью за стеной снова слышался стук машинки. И так продолжалось несколько дней, пока не перепечатали весь буклет.
Мама не могла выставить эту парочку без объяснения причин, все-таки они родственники, хоть и дальние. С другой стороны, объяснения ни к чему хорошему не приведут — родня узнает об их неблаговидном поведении, отношения осложнятся. И мама решила дождаться их отъезда в оговоренный срок.
Когда молодые люди попросилась пожить еще три месяца, мама им отказала. На следующий день просить за них пришла родственница, но мама не поддалась на уговоры.
— Нет, — сказала она. — Я сыта по горло. Я устала от их присутствия, вернее — от их стукачества. Не сомневаюсь, что они этим занимаются.
Через несколько дней после проведенного ею семейного расследования родственница пришла извиняться:
— Простите нас, Валентина Афанасьевна, я и представить не могла, что такое может случиться у нас в семье.
Видимо, наши органы безопасности были убеждены, что все диссиденты работали на ЦРУ и при этом вербовали туда же своих родителей. Как бы там ни было, но жизнь мамы стала невыносимой.
В 1980 году она обратилась за разрешением на поездку в США, ко мне в гости. Первой инстанцией, которой полагалось рассмотреть ее заявление, был партком по месту жительства, где она состояла на учете как пенсионерка. Надо заметить, что изначально дом, в котором мы жили, предназначался для работников КГБ, так что партком состоял в основном из гэбистов в отставке и их родственников.
На собрании первой взяла слово библиотекарь:
— Валентина Афанасьевна очень много делает для библиотеки. Она очень образованна и прилежна. Она настоящий коммунист и заслуживает доверия нашей партийной организации. Предлагаю проголосовать за то, чтобы разрешить ей поездку к дочери.
Следующей выступила пожилая располневшая женщина, бывший секретарь парторганизации:
— Валентина Афанасьевна всегда готова помочь. Молока больным принесет, с внуками посидит, если кому нужно к врачу. Рекомендую дать Валентине Афанасьевне разрешение на поездку к дочери в Америку.
— Как вы относитесь к занятиям вашей дочери? — спросил один из отставников.
— Она почти ничего не говорила мне, когда жила здесь.
— Почему?
— Не хотела, чтоб я волновалась. Вам известно о ее занятиях столько же, сколько и мне.
Партийная организация проголосовала за то, чтоб рекомендовать Ефименко Валентину Афанасьевну для поездки в гости к дочери в США. Маме удавалось установить дружеские отношения даже с гэбистами. Но с ОВИРом — не удалось, в выездной визе ей отказали. Ей оставалось выбирать между одинокой старостью в Москве и отъездом навсегда.
В 1984 году мама решила уехать. Начинать надо было с выхода из партии, и она подала заявление все в тот же партком по месту жительства. На собрание, где должно было рассматриваться заявление, она не пошла. Прилегла отдохнуть, но тут зазвонил телефон. Трое женщин, товарищей по парторганизации, хотели ее навестить.
— Мы пришли к вам из чувства долга, — заявила одна из них, видимо, старшая. — Все мы давно в партии. Это наша семья, и она не менее важна, чем наши дети. Мы очень советуем вам забрать заявление и остаться в партийной семье.
— Мне очень жаль, но я сделала выбор. Дочь у меня одна, и я бы хотела быть с нею рядом.
— Но у нас замечательная организация. Мы будем о вас заботиться. Мы всегда придем на помощь, что бы ни случилось.
— Спасибо. Но должна сказать, есть и другая причина для отъезда. Мне отвратительно, что моя квартира находится под наблюдением.
Воцарилась пауза. Потом одна из женщин нашлась с ответом:
— Вы могли бы переехать в другую квартиру.
Перед маминым отъездом к ней зашла Лариса. Мама брала с собой всего две сумки. Какие-то вещи она раздала друзьям и родственникам, но многое просто оставалось в квартире.
— Вы все это бросаете? — удивилась Лариса, увидев мебель в двух комнатах, полный постельного белья комод и кухню со всем содержимым.
— Вам что-нибудь из этого нужно?
— Мне нет, а вот Сережа Ковалев возвращается из ссылки. И Мальва Ланда тоже. Им бы это все пригодилось.
Лариса сделала несколько звонков, заказала грузовик, нашла помощников, и на следующий день квартира опустела.
— Ну разве не замечательно, что все досталось Сереже и Мальвочке, — рассказывала мне мама, когда я встретила ее в Вене.
— Ты знаешь Сережу? И Мальвочку?
— Конечно, они приходили меня проведать.
Мои друзья стали мамиными друзьями. Она стала одной из нас.
Глава 15
Вскоре после приезда в США Госдепартамент предложил мне написать справочник по независимым общественным движениям в Советском Союзе, объемом порядка двухсот страниц. Президент Картер объявил защиту прав человека приоритетным направлением внешней политики, но мало кто в официальном Вашингтоне имел представление о характере и масштабах деятельности правозащитников в СССР. Слова «диссидент» и «отказник» использовались как синонимы. Даже политологи считали, что диссиденты — это отказники, а движение за права человека — часть еврейского движения за эмиграцию.
Нужно было собрать и систематизировать сведения о независимых общественных движениях правозащитного характера — гражданских, национальных (украинское, литовское, эстонское, латвийское, армянское, грузинское, русское; движения за возвращение на родину крымских татар и турок-месхетинцев; еврейское движение за выезд в Израиль и движение советских немцев за выезд в ФРГ) и религиозных (борьба за права верующих — православных, католиков, евангельских христиан-баптистов, пятидесятников, верных и свободных адвентистов Седьмого дня).
Я охотно взялась за эту работу, тем более что она соответствовала тому, что я предполагала делать как представитель Московской Хельсинкской группы. Мне предстояло просмотреть документы МХГ, старые выпуски «Хроники» и другие материалы самиздата, в том числе опубликованные за рубежом. Затем добавить ту информацию, которая была мне известна благодаря участию в правозащитном движении. Я также надеялась использовать труды западных советологов. Все обдумав, я решила, что выполнение проекта займет не больше года.
Я начала исследование с Украины, но, просмотрев имеющиеся источники, поняла, как мало я знаю. «Хроника» освещала положение дел на Украине нерегулярно, да и не с самого зарождения национального движения. В имеющихся материалах оказалось столько пробелов, что невозможно было представить полную картину. Нужно было читать и читать, рыться в архивах и изучать все, что удастся найти. И так было со всеми остальными движениями — никаких обзоров о проявлениях недовольства в советской империи не существовало. Отдельные попытки описать эти общественные движения были далеки от подробного и систематизированного исторического исследования. В то же время в архивах скопились горы первоисточников. Они хранились в собраниях «Радио Свобода» в Нью-Йорке и Мюнхене, в основанном Валерием Чалидзе русскоязычном издательстве «Хроника-пресс», в Госдепартаменте и в Комиссии по безопасности и сотрудничеству в Европе, учрежденной Конгрессом США по инициативе Миллисент Фенвик.
В течение трех лет изо дня в день я изучала эти материалы. Собранного оказалось так много, что, сделав краткий справочник для Госдепа, я решила написать полноценную книгу. На это ушло еще два года. В 1984 году «Хроника-пресс» выпустила «Историю инакомыслия в СССР, новейший период». Через год эта книга вышла на английском языке: «Soviet Dissent: Contemporary Movements for National, Religious, and Human Rights».
Никогда не думала, что мне доведется работать над исследованием советского правозащитного движения как историку. В Москве я была занята текущей работой, у меня не оставалось времени разбирать поступающую информацию, раскладывать материалы по папкам и заносить на карточки. Да и невозможно было это делать, ведь при первом же обыске и папки, и карточки были бы конфискованы. Но теперь все сошлось одно к одному. Я находилась вдали от недремлющего ока КГБ, сокровища нашего самиздата были у меня под рукой. Я могла позволить себе не думать о заработке — Коля за несколько месяцев активизировал свой английский и нашел работу преподавателя математики. Судьба уберегла меня от тюрьмы. И мы оба осознали, что я должна написать эту книгу. Мой долг перед теми, кто остался в лагерях и тюрьмах, — рассказать об их жертве и о том, как они к этому пришли. Писала я прежде всего для соотечественников, еще больше — для друзей. И была счастлива узнать, что до них дошла моя книга. Окольными путями я получила весточку от Лары:
«…Годы идут — у кого болезни, у кого старики старятся, у кого дети разводятся… Кто в Казахстане, кто в Магадане, кто на Охотском море, а кто и вовсе в Пермском периоде… (В смысле — в пермских лагерях для политзаключенных. — Л. А.)
Я не жалуюсь тебе, Людочка, а пытаюсь объяснить ситуацию. Если анализировать отстраненно: у нас не было ни организации, ни организованности, что, на мой взгляд, было и правильно, и хорошо. В этом было обаяние (или обаятельность?) нашего Сопротивления, его личностный характер. Даже анонимная „Хроника“ имела отпечаток индивидуальностей… Но вот неизбежный результат — довольно внезапный конец Сопротивления как общественного явления (внутри себя-то каждый его участник остался тем же, даже и те, кто формально выбросили белый флаг…) У нас не было второго эшелона, третьего и так далее. И не могло быть: суть такая, что каждый сразу оказывался в первом. Как ты, как историк, думаешь, след какой-то остался (останется) от Сопротивления — в людях? в русском обществе? для страны? И, тебе это у вас легче понять, — для мира? Мне кажется, мог бы остаться, но, возможно, это зависит от нас самих, от какого-то нашего последнего слова».
В ноябре 1985 года, через девять месяцев после вступления в должность генерального секретаря ЦК КПСС, Михаил Горбачев стал произносить речи, которые явно нарушали партийные каноны и не вписывались в традиции советской риторики. В этих речах не было ни слова о «неоспоримых преимуществах и победоносном шествии социализма», о «неотъемлемых внутренних противоречиях капитализма, которые неизбежно ведут к его гибели». Горбачев говорил о нашей маленькой планете, для выживания которой необходимо мирное сосуществование и сотрудничество, а не конфронтация. Или выживание, или взаимное уничтожение — вот реальная альтернатива ядерного века. В новой войне не может быть победителя. В современных условиях речь должна идти не о противоречиях между разными социальными системами, а о совместных усилиях по обеспечению безопасности ради сохранения цивилизации и самой жизни.
Вскоре после первого не обремененного идеологическими штампами заявления Горбачева о мирном диалоге и контроле над вооружениями в прессе замелькало определение озвученной концепции как «нового мышления». В действительности это «новое мышление» было не чем иным, как адаптацией идей Андрея Дмитриевича Сахарова. Правда, не всех. О демократизации как важнейшем условии преобразования советского общества в речах Михаила Сергеевича не упоминалось.
Тем временем для автора «оптимистической футурологии» наступал седьмой год пребывания под домашним арестом в закрытом городе Горьком.
В интервью французской газете «Юманите», опубликованном 8 февраля 1986 года, Горбачев, среди прочего, заявил: «Теперь насчет политзаключенных. У нас их нет. Как нет и преследования граждан за их убеждения. За убеждения у нас не судят».
19 февраля Сахаров направил Горбачеву письмо, в котором доказывал, что применение судами статей 70, 1901, а также «религиозных» статей 142 и 227 Уголовного кодекса РСФСР является преследованием за убеждения. Называя имена некоторых узников совести из числа многих, известных ему лично, и ручаясь за их высокие нравственные и гражданские достоинства, Сахаров просил главу Советского государства способствовать их освобождению.
«…Узников совести в обществе, стремящемся к справедливости, не должно быть вовсе!.. Так освободите их, снимите этот больной вопрос… Это в огромной степени способствовало бы авторитету нашего государства… открытости общества, международному доверию и — тем самым — делу мира», — призывал Сахаров.
Он писал об абсурдности обвинения Анатолия Щаранского в шпионаже за сбор сведений об отказниках для публикации за рубежом, еще не зная, что Толю уже освободили.
В течение года были освобождены тридцать политзаключенных, в том числе Юрий Орлов. Мог ли Горбачев не знать об их существовании?
В декабре 1983 года в Пермском лагере был жестоко избит охранниками Анатолий Марченко. В нарушение тюремных правил, разрешающих ежегодные посещения заключенных родственниками, Лариса три года не могла добиться свидания с ним.
Марченко написал заявление, в котором требовал всеобщей политической амнистии, прекращения физического насилия над заключенными, наказания охранников, виновных в его избиении, и возобновления свиданий с семьей. Это письмо было написано 4 августа 1986 года и обращено к делегатам Венской конференции ОБСЕ. Оно добиралось до адресатов очень сложными путями и когда наконец оказалось на Западе, Толя уже больше месяца держал голодовку, о которой предупреждал в обращении.
Друзья Толи на Западе делали все, что было в их силах, чтобы его спасти. Его обращение было напечатано на редакционной странице «Нью-Йорк таймс» 24 сентября. Госсекретарь США Джордж Шульц сообщил о голодовке в своем выступлении на открытии Венской конференции. Сто тринадцать членов Конгресса подписали письмо с требованием освобождения Анатолия Марченко.
Их требование поддержал глава Американской федерации труда и Конгресса производственных профсоюзов (АФТ-КПП) Лэйн Киркланд. В ответ на официальное заявление Киркланда из СССР предложили, чтобы сначала АФТ-КПП признал советские профсоюзы.
Когда за несколько месяцев до этого шли переговоры об освобождении Щаранского, а затем Орлова, положительное решение увязывалось с возвращением арестованных за рубежом советских шпионов. Власть имущие были большими любителями поторговаться. Однако сама «торговля» свидетельствовала — времена постепенно меняются.
Но доживет ли Толя до той поры, когда произойдут перемены и в его судьбе, ведь он который месяц держит голодовку.
В отчаянии, я решила отправиться в Рейкьявик, где были назначены переговоры на высшем уровне — между Рейганом и Горбачевым. Туда устремились полчища журналистов, и билеты остались только в бизнес класс. Билет-то я купила, но что я смогу там сделать? Попытаюсь что-то рассказать репортерам, томящимся в ожидании новостей? Вряд ли они ухватятся за имя Анатолия Марченко, оно ничего им не говорит — большинство были еще детьми, когда вышла книга «Мои показания». Ехать, чтобы краем глаза увидеть далекую страну, о которой рассказывал отец, путешествуя со мной по карте мира? Предаваться воспоминаниям детства, когда Толя умирает в Чистополе! Ни на что не надеясь, я вылетела в Исландию.
Рейкьявик не произвел на меня особого впечатления. Большую часть времени я проводила в пресс-центре, глядя на экран телевизора, по которому транслировалось не столько происходящее на переговорах, сколько вокруг них. Утром можно было увидеть, как Рейган и Горбачев входят в замок. Вечером показывали, как они выходят из замка. Днем экран принадлежал супруге Горбачева, Раисе Максимовне, — в каждом выпуске новостей сообщалось, что она посещает детские учреждения и благотворительные мероприятия. Когда не было Раисы Максимовны, в эфире возникали еврейские активисты. Они рассказывали простые житейские истории: такой-то и такая-то хотят эмигрировать, но их не выпускают. В нескольких пресс-конференциях я тоже участвовала и говорила о Толе. Но могло ли это ему помочь?
В последний день переговоров Горбачев выступил с пространной, на полтора часа, речью. Он признал, что переговоры провалились. Единственное, что меня порадовало, — это то, что Горбачев не читал свою речь по бумажке. В отличие от предшественников, он умел говорить и не нуждался в поддержке, чтобы дойти до трибуны и на ней устоять.
Прикрыв глаза, я вслушивалась в поток слов. Вот он стоит здесь на международной трибуне, крестьянский сын, ставший правительственным чиновником высшего ранга. А в это время сын железнодорожного рабочего умирает в камере Чистопольской тюрьмы. Такие разные судьбы у двух моих современников. Но оба они принадлежали одному поколению и оба оказались в его авангарде.
На обратном пути в Вашингтон я сидела в самолете рядом с Аликом Гольдфарбом и Саней Слепаком, сыном члена Московской Хельсинкской группы Владимира Слепака. Они приезжали в Рейкьявик хлопотать, чтобы выпустили их родителей-отказников.
— Это не Дубинин там? — спросил Гольдфарб, кивая на видневшуюся впереди пышную седую шевелюру.
Я не могла ответить, так как не знала, как выглядит советский посол в США.
Алик решил проверить и медленно прошелся по проходу к кабине пилота и обратно.
— Да, это он. Говорит с соседом по-русски, — сообщил Алик, вернувшись на место.
Он принял позицию боевой готовности. Раньше или позже Дубинину придется встать и пойти в туалет — мимо нас.
Дождавшись этого момента, Гольдфарб подскочил к послу и представился. Мне не было слышно, о чем они говорили, но, судя по их виду, тон беседы был вполне миролюбивым. Не изменился он и когда к ним присоединился Слепак. Тогда и я подошла, втиснулась между Слепаком и Гольдфарбом. Тут же меня кто-то стал дергать за рукав.
— О чем они говорят? — допытывался один из корреспондентов, подпрыгивая от возбуждения.
— Не мешайте слушать, — огрызнулась я.
Дубинин развивал начатую ранее мысль:
— Складывается впечатление, что западные корреспонденты не уделяют должного внимания Заключительномуакту. А это очень важный документ, и еще далеко не все осознали его значение. Видите ли, я был послом в Испании, когда в Мадриде проходила Конференция по безопасности и сотрудничеству в Европе. Так что, можно сказать, я эксперт по Хельсинкским соглашениям.
— Знаете, я тоже могу считать себя экспертом, — вмешалась я в разговор. — Я одна из членов-основателей Московской Хельсинкской группы.
Вокруг нас собралась толпа журналистов. Теперь они тянули за рукава Гольдфарба и Слепака. Ну как же, трое диссидентов разговаривают с послом! Такую новость нельзя пропустить.
— В таком случае, полагаю, мы оба эксперты, — был ответ дипломата.
— Знаете, почему я была в Рейкьявике? Из-за Анатолия Марченко…
— Не знаю, о ком вы говорите.
Конечно, он знал. Послу наверняка положили на стол выпуск «Нью-Йорк таймс» с обращением Марченко на редакционной странице. Как и письмо ста тринадцати членов Конгресса.
— Анатолий Марченко — писатель. Сейчас он в Чистопольской тюрьме. Объявил голодовку. Речь идет о его жизни. Для нас, друзей, его смерть была бы трагедией, но и Советский Союз, поверьте, от этого ничего не выиграет. Наоборот, пострадает его международный престиж.
— Пожалуй, — согласился посол. — Почему бы вам не прийти в консульство и не изложить все сказанное в письменном виде?
— С радостью это сделаю, — ответила я.
Мы расступились, освобождая послу путь к туалету. Оставшись лицом к лицу с представителями прессы, мы не преминули сделать заявление: у нас состоялся сердечный разговор с советским послом, он пригласил нас в консульство подавать петиции о Марченко и о родителях-отказниках. На следующий день сообщения о нашей беседе появились и в «Нью-Йорк таймс», и в «Вашингтон пост».
Через сутки после возвращения из Рейкьявика, 16 октября, отца Алика, Давида Гольдфарба, выпустили из Советского Союза. 20 октября мы со Слепаком направились подавать свои заявления. На подходе к советскому консульству нас окружила толпа репортеров, и я раздала им копии подготовленного письма.
В своем обращении я предлагала немедленно освободить Анатолия Марченко и добавляла: если он согласится эмигрировать, я буду рада пригласить его с семьей быть моими гостями в США. Специально оговорив это, я хотела, чтобы у Толи с Ларисой была такая возможность, хотя Толя и заявлял перед последним арестом, что не намерен уезжать из страны. Что он думает сейчас, я не знала. Поговорить с Ларисой не могла — ее телефон отключили от международной линии связи. Так что я действовала по своему усмотрению.
Как выяснилось позже, 13 ноября Ларису вызвали и предложили подать заявление с просьбой освободить Марченко «по состоянию здоровья». Она написала соответствующее заявление, и через неделю последовало предложение от КГБ: всей семьей эмигрировать в Израиль. При этом чиновник подчеркнул, что решать надо немедленно.
— Но я не знаю, хочет ли мой муж эмигрировать, — сказала Лариса.
Она объяснила, что не виделась с мужем почти три года, но если он готов покинуть страну, она и сын поедут вместе с ним. Ей предложили изложить все это на бумаге. И бумага пошла по инстанциям.
28 ноября Лариса получила от Толи письмо с просьбой прислать продуктовую посылку. Единственным объяснением окончания голодовки могло быть только то, что Толю заверили — вскоре предстоит амнистия политзаключенных. Неужели мы победили?
Около полудня 9 декабря 1986 года Лариса — она в это время собиралась на почту, отправить посылку Толе — получила срочную телеграмму: «Ваш муж Марченко Анатолий Тихонович скончался в больнице». В тот же день Лариса, тринадцатилетний Павел и еще семь человек родных и друзей выехали в Чистополь.
Позднее Лариса напишет о прощании с Толей:
«…10-го днем добрались до городка, в 4 часа были у ворот Чистопольской тюрьмы… Мы просили отдать нам тело, чтобы похоронить его в Москве, там же, где покоится прах моих родителей. Категорический отказ: „Заключенных, умерших в тюрьме, хоронит администрация в присутствии родственников“.
Мы сказали, что хотим хоронить Анатолия по православному обряду, с отпеванием в церкви. Тоже отказ. „Вы увидите тело в морге, в гробу, приготовленном для похорон. Вы получите возможность там с ним проститься“…
После наших ночных телеграмм и звонков в Москву и Казань нам все же разрешили отпеть Анатолия в православной церкви Чистополя и отодвинули похороны на два часа.
В похоронный автобус набились люди в штатском, не отходившие от нас ни на минуту. За автобусом ехал „газик“ с сопровождающими. Автобус подогнали к моргу, как „воронок“, — вплотную… Нас не хотели впускать в морг, но мы вошли…
Мы сами внесли гроб в автобус. Нас было девять человек: три женщины, два мальчика и четверо мужчин. Автобус подъехал к церкви, мы внесли гроб в церковь. Сопровождавшие нас люди тоже вошли в церковь — и сняли шапки. Они стояли в стороне.
Вскоре священник начал отпевание. Он служил вдохновенно, и хор из нескольких старушек пел необычайно красиво и прочувствованно. Священник посыпал в гроб землю, и мы забили крышку. Старушки с пением проводили гроб до автобуса.
Автобус в сопровождении „газика“ выехал за город и поехал по пустынной дороге к кладбищу. Здесь была уже вырыта глубокая могила, на ней лежали два лома, чтобы поставить гроб. Наши мужчины и мальчики, оскальзываясь на замерзших комьях земли, понесли гроб к могиле. Паша тоже нес гроб с телом отца.
Вокруг было пустынно, дул сильный ветер, никого не было, кроме нас и Толиного конвоя. Все необходимое — длинное белое полотенце, лопаты — было у них наготове. Но они поняли, что мы не дадим им подойти к могиле, и стояли в стороне „до конца операции“, как выразился один из них.
Толины друзья произнесли над могилой несколько прощальных слов. И мы стали засыпать могилу землей — сначала руками, потом лопатами. Через час насыпали высокий холм. Положили сверху живые и искусственные цветы, яблоки и покрошили хлеба. Поставили белый сосновый крест — надеюсь, его делали в тюрьме заключенные. На кресте я написала шариковой ручкой: Анатолий Марченко. 23.1.1938–8.12.1986».
Сообщения о Толиной смерти появились на первых страницах ведущих газет мира. На Венской конференции глава делегации США Уоррен Циммерман предложил почтить память Марченко минутой молчания. Советская делегация в знак протеста покинула зал заседаний. Новому советскому лидеру, чтобы сохранить образ реформатора, ничего не оставалось, как сделать неординарный шаг. Горбачев был вынужден прислушаться к требованиям, которые выдвигал Марченко, о которых писал Сахаров. Он должен был признать существование в стране политзаключенных. И должен был их освободить.
В горьковской квартире Сахаровых, где они жили уже седьмой год, вдруг установили телефон. На следующий день, 16 декабря 1986 года, раздался звонок: «С вами будет говорить Михаил Сергеевич». Горбачев сообщил, что действие указов в отношении Сахарова и Боннэр прекращено и они могут вместе вернуться в Москву: «Возвращайтесь к патриотическим делам!» В ответ Андрей Дмитриевич, коротко поблагодарив, принялся убеждать генерального секретаря освободить людей, осужденных за убеждения. Напомнил о погибшем несколько дней назад Марченко — первом в его списке политзаключенных, направленном Горбачеву в феврале.
Для властей возвращение Сахарова из ссылки явилось более серьезным шагом, чем освобождение Щаранского и Орлова. Орлова отправили в США, Щаранский оказался в Израиле. Сахаров будет жить в Москве и, конечно, не будет молчать.
Ровно через месяц произошло еще одно выдающееся событие. Глава советской делегации на Венской конференции Юрий Кашлев объявил о том, что готовится освобождение заключенных, осужденных по статье 70, за «антисоветскую агитацию и пропаганду». Он и причины этого шага объяснил: «затруднения в международных отношениях Советского Союза, вызываемые наличием таких заключенных».
Впервые официально было признано, что политзаключенные в стране есть.
Глава 16
Я не берусь предсказывать будущее России. Одно могу сказать с уверенностью: «западники», о которых не слышно было во времена моего детства, стали теперь заметной политической силой. Без нас новая «оттепель» была бы немыслима. То, что страна в конце концов откликнулась на наши призывы соблюдать законность, — достаточная для нас награда. Как сказал Натан Эйдельман, поднимая тост у меня за столом летом 1989 года, «мы победим, потому что другого выхода нет». Я радостно присоединилась и к тосту, и к предсказанию.
Много лет назад никто в нашей компании и не думал, что наш первый лозунг с требованием гласности когда-нибудь будет принят властями. Дебаты в прямом эфире между народным депутатом Андреем Сахаровым и генеральным секретарем Михаилом Горбачевым тогда показались бы просто немыслимыми, как и публикации произведений Анатолия Марченко и Юлия Даниэля в «Новом мире» и «Огоньке» или очереди за свежим выпуском «Московских новостей». В этой газете, а также в журнале «Коммунист», теоретическом органе КПСС, появились статьи жителя штата Вермонт Валерия Чалидзе. А Юрия Орлова, научного сотрудника Корнелльского университета, можно было слышать на многотысячном митинге в Лужниках. Наум Коржавин приезжал из Бостона читать стихи на поэтических вечерах в Москве. Голос Александра Галича зазвучал с пластинок, выпущенных фирмой «Мелодия». «Хронику» стали изучать историки, а моя книга «История инакомыслия в СССР» в 1992 году была издана на родине. Еще двадцать лет назад во все это невозможно было поверить, и, конечно, я не надеялась когда-нибудь вернуться в Москву.
Зародившееся в шестидесятых годах общественное движение к концу восьмидесятых перешло в новую фазу. Митинги длились до тех пор, пока были желающие выступать. Люди собирались и на больших стадионах, и на Манежной площади, и на Пушкинской площади, у памятника поэту. В 1965 году это место выбрали мои друзья для первой в стране правозащитной демонстрации.
Наблюдая, как разворачиваются события в Советском Союзе, я более всего стремилась понять, что происходит с общественным сознанием. И видела немало обнадеживающих признаков.
Когда летом 1989-го на шахтах Кузбасса начались забастовки, к ним присоединились шахтеры всех угольных бассейнов СССР; миллионы рабочих требовали гласности и правды о положении в стране. Несколькими месяцами раньше, когда были незаконно арестованы одиннадцать членов комитета «Карабах», волна протестов с требованиями суверенитета прокатилась не только по Армении, но и по Грузии, республикам Прибалтики, Российской Федерации. Находившихся под арестом членов комитета «Карабах», всех до единого, выдвинули кандидатами в народные депутаты. Власти вынуждены были отступить и освободили активистов.
Появлялось множество новых независимых изданий. Иногда их по привычке называли самиздатом, но их тиражи нередко достигали десятков тысяч экземпляров. Александр Подрабинек, один из основателей Рабочей комиссии по расследованию использования психиатрии в политических целях (1977–1978), организовал выпуск «Экспресс-хроники», ставшей в какой-то степени продолжением «Хроники текущих событий». Новый бюллетень — хотя и в том же стиле, что и прежняя «Хроника» — меньше всего напоминал самиздат. Он выходил еженедельно тиражом в двадцать тысяч. По воскресеньям Подрабинек встречался с читателями у памятника Гоголю, где шел свободный обмен мнениями.
По всей стране собиратели самиздата организовывали «независимые библиотеки», зачастую для этих целей арендовались квартиры. Наверное, где-нибудь в этих хранилищах можно было найти выпуски «Хроники», напечатанные на моем «Мерседесе».
В холле главного здания МГУ студенты, называвшие себя «Группой Гайд-парк», соорудили фанерный стенд, на котором могли самовыражаться приверженцы разных политических убеждений, в том числе и антисоветских. Стенд пользовался большим успехом. После того как многие вывешенные документы «конфисковали» заинтересованные читатели, члены группы собрали деньги и установили защитный экран из плексигласа. В таком виде дискуссионный стенд еще долго украшал вестибюль моей альма-матер.
Само собой перестало действовать табу на критику КПСС и однопартийной системы. Я убедилась, что я не единственная, кто вступал в партию с намерением реформировать ее изнутри. Партийному руководству пришлось отказаться от монополии на власть. В повестке дня стоял вопрос о реформе партийной структуры.
Работа нашей Хельсинкской группы послужила толчком к появлению подобных общественных организаций в других странах. В Чехословакии соучредителем Хельсинкской группы стал известный диссидент драматург Вацлав Гавел, впоследствии избранный президентом страны. Вместе со спикером парламента Александром Дубчеком он начал переговоры о выводе из Чехословакии советских войск — с такими же требованиями двадцать лет назад семеро вышли на Красную площадь.
Конференции по безопасности и сотрудничеству в Европе проводились в Белграде (1977), в Мадриде (1980–1983) и в Вене (1986). Летом 1989 года очередная конференция, но под новым названием «Конференция по правам человека», состоялась в Париже. Я участвовала в ней в составе делегации США как консультант Американской Хельсинкской группы, созданной в 1978 году.
В 1989 году возобновила свою деятельность Московская Хельсинкская группа. Председателем ее стала Лариса Богораз, а меня приняли в члены группы заочно.
К тому времени я уже пять раз пыталась поехать в Советский Союз, но каждый раз мне отказывали в визе. Тем не менее я не теряла надежды: перестройка продолжалась, и рано или поздно визовые вопросы обязательно будут урегулированы.
Железный занавес приподнялся. У нас уже побывали первые гости из Москвы. За ними потянулась вереница друзей и знакомых. Мы закупили раскладные диваны и оборудовали еще одну ванную комнату — как могли, подготовились к грядущей свободе передвижения советских граждан.
Я очень ждала нового приезда Натана Эйдельмана — он собирался в творческую поездку по США. В 1989 году вышли две его новые книги: «Мгновение славы настает» — к двухсотлетию Великой французской революции и «„Революция сверху“ в России» — сравнение начавшихся в нашей стране преобразований с реформами Петра Великого и Александра Второго. Радость ожидания новых книг и предвкушения бесед с их автором — все вмиг оборвало известие о его скоропостижной кончине. Обе книги, подписанные Эйдельманом, видимо, заблаговременно подготовленные к поездке в Америку, привез потом близкий ему человек. Я не сразу смогла углубиться в чтение — слезы еще долго застилали глаза.
В том же холодном декабре мы потеряли Андрея Дмитриевича Сахарова и Софью Васильевну Каллистратову.
Уходили друзья, единомышленники, наши современники. Уходило наше время. Хотелось думать — не бесследно. Надежду на это давали слова, написанные на самодельном полотнище, которое несли молодые люди за гробом Сахарова: «Простите нас, Андрей Дмитриевич, за то, что не пошли за Вами раньше».
Еще не поздно. Никогда не поздно.
Послесловие
Я вернулась домой, в Москву, при первой же возможности продала дом в Америке и купила квартиру в «своем» районе — на Арбате. Через два дома слева от того места, где я сейчас живу, двухэтажный особняк, в котором поселился Пушкин со своей юной женой сразу после венчания; справа — дом, в котором прошло детство Булата Окуджавы. Памятник ему я вижу каждый день, переступая порог. В переулках неподалеку — дом Герцена и домик, в котором останавливался, приезжая в Москву, Лев Толстой; рядом жил Аксаков, к которому захаживал в гости Николай Гоголь; очень близко — обе квартиры, которые снимала до эмиграции Марина Цветаева с мужем, и дом, где жил Андрей Белый. На соседнем с моим доме — памятная доска, свидетельствующая, что здесь жил и умер Александр Рыбаков, автор бестселлера времен перестройки «Дети Арбата». В общем, Арбат — это улица-памятник русской литературы и русской истории.
Арбат менялся вместе со страной. Во времена Пушкина это был дворянский район, здесь прогуливались дамы в кринолинах и мужчины в цилиндрах. С конца XIX века дворянские особнячки стали вытесняться четырех-пятиэтажными доходными домами. В них селились модные адвокаты, врачи, успешные инженеры, ученые, художники и литераторы. После революции их большие квартиры превратились в коммуналки или были разделены на двух-трехкомнатные, которые предоставляли партийным работникам и советским чиновникам высокого ранга. Сейчас коммуналки на Арбате почти исчезли, прежних жильцов отселили в отдельные квартиры на окраинах Москвы, а квартиры опять обрели прежние размеры, и в них поселились нынешние богачи. Арбат стал пешеходной зоной. Сюда приезжают погулять из спальных районов Москвы, со всей России и, конечно, туристы из многих стран мира. Во времена моего детства и молодости Арбат славился антикварными и букинистическими магазинами. Сейчас их почти не осталось, их сменили ювелирные магазины, бутики, магазины сувениров и множество дорогих ресторанов (обычно пустующих), а также пивных баров и недорогих кофеен (обычно переполненных).
Булат Окуджава не любил сегодняшний Арбат. А мне он нравится, даже больше прежнего. Ведь в годы нашей молодости он был правительственной трассой, по Арбату Сталин проезжал из Кремля на свою загородную дачу в Кунцеве. Я помню: тогда чуть не у каждого фонарного столба стояли топтуны, и если какой-то зевака задерживался у красивой витрины антикварного магазина, ему очень скоро «советовали» убираться отсюда. А сейчас здесь полно праздношатающейся публики.
Вместе со всей страной изменилась и моя жизнь, хотя она по-прежнему связана с Московской Хельсинкской группой и правозащитным движением. Самое печальное изменение состоит в том, что из прежних друзей почти никого уже нет в живых, — в России люди долго не живут. Поколение шестидесятников почти исчезло, — мои сверстники или умерли, или доживают свой век на пенсии, лишь немногие сохранили силы для активной деятельности в XXI веке. Из правозащитников тем более остались лишь единицы, — тюремные сроки не способствуют долголетию.
Выход в свет русского издания этой книги приурочен к 30-летию Московской Хельсинкской группы. Эту дату мы отметим торжественно. Приедет в Москву основатель МХГ Юра Орлов — он живет в Америке, потому что вернулся к своей любимой физике, а в нынешней России нет возможности полноценно заниматься наукой. Приедут из Израиля Володя Слепак и Толя Щаранский (в Израиле его стали называть Натаном). Толя еще не стал президентом этой страны, как пророчил Виталий Рубин, но уже стал очень известным политиком. В этот день соберутся все нынешние члены МХГ и сотрудники Группы. В отличие от советского времени, Московская Хельсинкская группа имеет офис (в центре Москвы, на Сретенке) и двадцать постоянных сотрудников. По возрасту большинство их годится мне во внуки. Они с гордостью называют себя «эмхэгэшниками». Мы пригласим отметить с нами этот торжественный день наших коллег, правозащитников из регионов. Тридцать лет назад МХГ была одной-единственной независимой общественной организацией на весь СССР. Сейчас самые разные независимые общественные и правозащитные организации имеются во всех российских регионах в немалом количестве. И работа у нас у всех совсем другая, чем в советские времена. Тогда мы только называли себя правозащитниками, на самом деле мы не могли защищать права своих сограждан, мы и себя-то не могли защитить от преследований. В России защищать права человека от государства и его чиновников очень нелегко, но все-таки, хоть и не всегда, это удается. Это и есть работа правозащитников.
Всероссийское правозащитное сообщество — та среда, в которой я живу. Это, как и диссидентская среда, — содружество единомышленников. Их теперь гораздо больше, чем было нас в СССР, хоть и сейчас мы все-таки меньшинство, очень маленькое меньшинство среди 146 млн. наших сограждан. Оттепель 60-х годов дала жизнь поколению шестидесятников. Горбачевская перестройка обернулась крахом не только советской системы, но и самого Советского Союза. Последнее десятилетие XX века, несмотря на все тяготы, оказалось куда более плодотворным, чем та оттепель. На протяжении по крайней мере пятнадцати лет политическая верхушка была поглощена внутривидовой борьбой за власть и дележом собственности, им было не до нас. Этих пятнадцати — двадцати лет хватило, чтобы в России появилось гражданское общество. Это сотни тысяч некоммерческих общественных организаций, политические партии, объединения предпринимателей, независимые СМИ. Выдержит ли это едва народившееся гражданское общество наступление режима, начавшегося в нынешнем веке, — бог весть. Это решат нынешние поколения — дети и внуки шестидесятников.
Кто такие шестидесятники?
Беседа с Я. М. Бергером и С. А. Ковалевым
Л.А. Яша, кого ты причисляешь к шестидесятникам?
Я.Б. Ну, кто такие шестидесятники? Во-первых, это люди, которые встретили XX съезд уже в возрасте по крайней мере двадцати или тридцати лет, т. е. в сознательном возрасте. К этому времени они могли осознать, что такое тоталитаризм, что такое сталинизм, могли утвердится в негативном отношении к этим явлениям, могли выработать в разных областях какую-то активную позицию. Движение это чрезвычайно широкое. Для меня к шестидесятникам относятся и люди, которые занимались непосредственно политическими сюжетами — скажем, участвовали в прямом или косвенном противостоянии власти, это, так сказать, передовой отряд…
Л.А. Ты имеешь в виду диссидентов? Но мы же отрекались от того, что мы политики.
Я.Б. И тем не менее, и тем не менее вашей задачей было расшатать власть, а в конце концов и уничтожить, хотя это мыслилось очень в отдаленной, туманной перспективе. Неясно было как, неясно было когда. Во всяком случае диссиденты активно не принимали эту власть: ни власть, которую ушла со сталинизмом, ни попытки новой власти в той или иной степени реставрировать, реанимировать сталинизм — эти попытки волнами шли, мы это помним. Но каждый раз власть встречала довольно жесткое внутреннее, а иногда и внешнее сопротивление.
Л.А. По-твоему, те, кто сопротивлялся, и есть шестидесятники?
Я.Б. Да, да, диссиденты были политической когортой, но это только одна и не самая большая часть шестидесятников все же. Устои тоталитаризма расшатывались в самых разных областях: в музыке, в литературе, в молодежной культуре. По сути дела это было очень широкое движение. Шестидесятниками до некоторой степени можно назвать, например, людей, которые создавали молодежную субкультуру — рок, джаз. Не помню точно по годам, какие были течения, но они явно официозную культуру не принимали. Потом, конечно, шестидесятники не состоялись бы без той литературы, которая была в «Новом мире», без чтения стихов в Политехническом музее, без песен Окуджавы и Галича ничего бы этого не было. Это было очень широкое движение, хотя, конечно, нюансы, границы и грани были довольно существенны. Далеко не все готовы были, скажем, открыто выражать свое несогласие с властью, но все готовы были читать и слушать. Тоталитаризм, с моей точки зрения, разрушался прежде всего путем завоевания свободы информации. Мне уже позже, скажем, в 1970-х годах приходилось ездить с лекциями от общества «Знание» в самые разные города — большие, маленькие, на заводы, на фабрики. И я понимал, что информация черпается не из официальных источников, что люди слушают «Свободу», люди слушают Би-би-си.
Л.А. Была тогда такая присказка: «Есть обычай на Руси ночью слушать Би-би-си».
Я.Б. Совершенно верно. И это было чрезвычайно важно. Тоталитаризм стал уничтожаться в душах, в головах людей. Когда говорят, что советский народ это быдло сталинистское, что тогда, что сейчас, я активно не принимаю этого обвинения. Не так это! Люди начали мыслить, понимать. Не все, не все, конечно, не все. Были убежденные сталинисты, но их было меньшинство все же.
Л.А. Но было еще и «болото».
Я.Б. Всегда есть некоторое количество людей, которые так или иначе устраиваются при любой власти. Ну что тут сделать? Это некий балласт, который общество вынуждено терпеть.
Л.А. А может быть, и нужно терпеть. Ведь балласт необходим?
Я.Б. Нужен для устойчивости, верно, я согласен с этим. Люди, которым все равно, какая власть, чья хата с краю.
Л.А. А ты, Сережа, что ответишь на этот же вопрос — кто такие шестидесятники?
С.К. Ну, кто такие шестидесятники проще всего говорить на собственном примере.
Л.А. Да, Яша, я тебе не задала этот вопрос. Ты считаешь себя шестидесятником?
Я.Б. Ну, опять же, как понимать? Если считать шестидесятниками эту узкую когорту, самую активную.
Л.А. Нет, тех называли диссидентами.
Я.Б. Для меня середина шестидесятых годов было временем, когда началась культурная революция в Китае, а у нас предпринимались попытки возродить сталинизм. Для меня, как для китаиста, было чрезвычайно важно разоблачать маоизм, почти открыто в любых статьях, в любых книгах показывать, что сталинизм (не говоря о сталинизме, может быть, прямо) это и есть сегодняшний маоизм. Если вы хотите возродить сталинизм, будет то же самое, что в Китае: уничтожение интеллигенции, разруха, хаос, сумятица в умах и т. д. Вот с этой точки зрения я считаю себя шестидесятником.
Л.А. Но мне интересно это не только с точки зрения того, что ты делал, а твое самоощущение?
Я.Б. Самоощущение тоже, потому что мы читали тамиздат, самиздат, слушали радио, пели Окуджаву. Я чувствовал общее нечто со всеми теми людьми, которые были так настроены.
Л.А. Ты был не одинок, ты был один из шестидесятников. Понятно. А ты, Сережа? Ты считаешь себя шестидесятником?
С.К. Да. Что такое это для меня было? Ну, книжка называется «Поколение оттепели». Это очень точное название, потому что независимо от индивидуальной эволюции каждого из нас, эволюции мировосприятия, 1956 год с XX съездом, ну и немножко раньше — 1953 год — смерть Сталина, освобождение «врачей-убийц», а потом и освобождение из лагерей — конечно, это были знаковые вещи. Это была, так сказать, отчетливо понимаемая символика. Но все-таки XX съезд сыграл, я бы сказал, определяющую роль. Что, по-моему, произошло? Для меня и для части моих знакомых доклад Хрущева на XX съезде не открыл никаких новых фактов. Ну вот так получилось, я не очень хорошо понимаю почему, что репрессии ни меня, ни моих близких родственников, ни довольно большого круга знакомых не коснулись. Конечно, я знал об этом, конечно, задолго до смерти Сталина для меня это знание уже играло очень важную роль. В общем, я бы сказал, что еще до 1953 года я довольно хорошо понимал, где я живу. Я поступил в медицинский институт, а потом перешел в университет не случайно. Меня в школе тянуло к истории и праву. Но так получилось, что я принял решение не идти по зову сердца, потому что я сказал себе, если я стану юристом или историком, я буду вынужден проституировать всю жизнь. И это определило мой выбор. Надо становиться естественником. И очень характерно еще следующее. Вот был у меня в жизни и такой эпизод, очень важный для меня. В 1965 году, поздней осенью или в начале зимы, уже после ареста Юлика Даниэля и Андрея Донатовича Синявского, но еще до суда, я гулял по Москве с моим приятелем и коллегой, и этот Миша, сказал мне: «Посмотри, что делается, может быть, надо что-то предпринимать?» И тогда я произнес некоторый монолог. Я сказал: «Миш, а что можно предпринимать? Лично я вижу только такую возможность: накопить взрывчатки, пойти в тот вонючий дом, где они собираются, дождаться их собрания и взорвать их всех к чертовой матери». Но важен был конец, для меня внутренне важен был конец этого монолога. «Но, — сказал я, — даже если бы я имел практическую возможность так поступить, то, используй я эту возможность, я превратился бы в них, я стал бы точно таким, как они. Я этого не хочу».
Л.А. Ну точно по Юликову сюжету «Говорит Москва».
С.К. Но я еще не прочел тогда…
Л.А. Конечно. Просто он очень верно отразил настроения многих на этот счет.
С.К. Да, да, да, это очень точно психологически. И тогда я кончил следующими словами: «В таком случае, что же мне делать? Вот я умею заниматься наукой, и это я делаю совершенно честно. Вот там, где я могу сохранить полную честность, там я и буду». Вот таково было решение, которое я высказал. А через два или три месяца был суд, и это был первый для меня случай, когда я написал короткий текст прямо с прямым протестом против властного решения.
Л.А. По поводу суда?
С.К. По поводу суда. То есть я поступил совершенно не так, как декларировал в разговоре с Мишей. И это было для меня открытием. Какую-то общественную активность я проявлял и раньше, но она была вся в пределах моей науки или около науки. Это дела с Лысенко, это помощь Семенову. Мы написали для Семенова статью, предназначавшуюся для «Правды», а появившуюся потом в «Науке и жизни», о роли Лысенко в науке. Я работал ответственным секретарем так называемой семеновской комиссии, ревизовавшей институт в Ленинграде. Там тоже был некий аспект, ну если хотите, имевший общественное значение. Это была защита директора института от нападок со стороны его оппонентов, мощно поддержанных Ленинградским обкомом партии. Семеновская комиссия защитила академика Владимира Николаевича Черниговского от обкома. Это была все-таки общественная активность около науки.
Л.А. И это было одноразовое действие.
С.К. И одноразовое действие. Еще было наше письмо насчет преподавания генетики в университете. Тоже скандальная история биофаковская. Но это тоже было связано с наукой.
Л.А. Получилось так: ты хотел уйти в науку для того, чтобы уйти от политики и остаться честным, но и генетика тогда была острой политической проблемой.
С.К. Я не был генетиком, я был физиологом и биофизиком впоследствии, но генетика — это как начало науки в биологии, а учили нас бог знает чему. Да. Но, повторяю, вся эта общественная активность была научного плана. А вот по поводу суда над Синявским и Даниэлем это был уже прямой протест.
Л.А. Тогда из твоей биографии не получается, что, как ты говоришь, XX съезд был ключевым моментом и изменил твой подход к властям и даже стиль жизни. Но, похоже, для тебя таким ключевым моментом был не XX съезд, а дело Синявского и Даниэля. (Кстати, это я и про себя могу сказать.) Конечно, до этого был некий утробный период, в который ты вызрел, чтобы заявить открытый протест.
С.К. Да, я скажу сейчас, чем для меня и для многих моих друзей был XX съезд. Вот была категория людей, к которой я и себя отношу, для которых фактически он ничего нового не открыл, кроме одного: об этом можно говорить. Они сами сказали, что Сталин — преступник, и тут же получили то, чего никак не ожидали. Немедленно возник вопрос: «А вы-то сами что же? А где гарантия, что это не повторится?» Ну, вспомним выступление Юры Орлова.
Л.А. Вот даже не «вы-то что же?», а «что сделать, чтобы это не повторилось?»
С.К. Но и «вы-то что же?» тоже звучало на самом деле, хотя, может быть, вслух не было произнесено, но легко читалось. Оттепель, начавшаяся после 1956 года или даже немножко раньше, для меня была возможностью свободнее разговаривать, читать то, чего я раньше не читал — из новых публикаций, ведь не больно-то много старого публиковалось тогда. Слушать песни бардов и петь их. Ну вот что это значило.
Л.А. Это было такое чувство, как если бы вы были заморожены и началось постепенное размораживание каждого из нас, размораживание души.
С.К. Да, да.
Я.Б. Я, например, почувствовал, что не я один, кто разговаривает на запретные темы только с женой и с близкими друзьями, а что нас много, нас много. Мы читаем одни книги, мы думаем одинаково, мы обмениваемся информацией, я почувствовал, что нас много.
С.К. Да, так это было.
Л.А. У тебя, Сережа, тоже тогда создался слой единомышленников или он был у тебя и раньше, до XX съезда?
С.К. Нет, он, конечно, заметно вырос, просто заметно вырос. И это понимание, это чувство общности, вы правы, в самом деле оно имело место. Но тем не менее до самого этого разговора, до самого этого моего первого текста, очень коротенького, отправленного в Президиум Верховного Совета…
Л.А. Ты сам его написал и никто больше?
С.К. Нет, наша лаборатория написала. Почему-то мы решили писать, но не общий текст, мы решили написать несколько писем.
Л.А. Каждый свое?
С.К. Нет, не каждый свое, а маленькими группами. Я написал текст, который, кроме меня, подписали еще трое. Смысл этого коротчайшего текста состоял в том, что Президиум Верховного Совета должен обратить внимание на нарушение конституционных прав граждан, и это опасно не только для подсудимых Синявского и Даниэля. Это опасно для всех. И мы ждем ответственного решения Президиума Верховного Совета.
Л.А. Уже по этому первому письму очевидно, хоть ты не пошел на юридический, а пошел на естественный, юридические клеточки в голове у тебя продолжали работать.
С.К. Да, они оказались врожденными, наверное. Так вот с этого момента я уже раскрепостился вовсе. Я понял, что говорить правду легко и приятно.
Л.А. Да, приятно, комфортно.
С.К. Так что же произошло на самом деле? Проще всего вспомнить некоторый эпизод из твоей книжки. Ты там рассказываешь, как твоя мама однажды пришла из очереди возмущенная и рассказала о скандале. Она сказала: «Не смейте говорить „мы!“» Вот это очень точно сказано: «Не смейте говорить „мы“». Вот для меня это мое крещение в диссиденты примерно так и обозначилось. Понимаете, я, вообще говоря, не принадлежал к числу тех наивных или прикидывавшихся наивными людей, которые полагали, вот мы выступим против того или другого судебного решения, и они там наверху подумают и как-то примут во внимание наши протесты. Я заранее знал, что ничего подобного не будет. Для меня это не было попыткой облегчить судьбу Синявского и Даниэля. Я понимал, что эта попытка с негодными средствами. Для меня это была попытка защитить себя самого от этого ужасного «мы». Что вы выступаете от имени советского народа! А я что, не народ, что ли? Вообще то, что называют сейчас движением инакомыслящих, диссидентством, это на самом деле вовсе не было политической оппозицией, это просто смешно полагать, что мы представляли собой политическую оппозицию.
Л.А. Я согласна с этим. У меня во всяком случае идеи расшатывания режима, ей-богу, не было. У меня была гораздо более скромная задача, о которой и ты, Сережа, говорил: не буду врать, как вы хотите, а буду говорить только то, что я правда думаю. Что хотите со мной делайте, я себе позволю это удовольствие. Я буду порядочным, в своих собственных глазах, человеком… И про «мы» я тоже понимаю.
Я столько времени страдала, веря в то, что, как мне говорили, коллектив всегда прав. И я думала, ну что же я за урод, ведь часто ну не хочется мне быть с коллективом. И при этом я мучилась тем, что не может же быть так, что я самая умная, а все глупые, я хорошая, а все плохие. Значит, я глупая, я плохая. У меня комплексы были от этого. А после XX съезда, когда все заговорили открыто, я тоже увидела, что нас много и мы нормальные. И мы можем заявить об этом. Мы говорим правду, а они говорят не то, что они думают, а то, что им сверху велят говорить. Вот и у меня произошло раскрепощение и я почувствовала большой комфорт от этого. А про советскую власть и ее свержение у меня никогда мыслей не было. Когда я прочла у Даниэля это его «веером от живота», я хохотала, потому что для меня это была просто литература, а сама я никогда ни о чем таком не думала. Как ты знаешь, мужчины гораздо чаще дерутся, чем женщины.
Да, да, они агрессивнее, да. Но тем не менее, когда на партбюро они меня собирались исключать из партии, и я сначала стояла, опустив глаза, потому что мне было страшно, что я поддамся их напору. А потом я подняла голову и увидела их лица свекольного цвета, как будто у них вот-вот инфаркт будет — признаюсь, я удовольствие получила.
С. К. Я тоже всегда вспоминаю, как в зоне поначалу вполне ненароком, искренне удивляясь, я говорил начальнику зоны Журавкову: «Слушайте, вы говорите неправду, ведь тут сидят ваши офицеры, ваши сотрудники, они же знают, что вы лжете! Как вам не стыдно!». Ты знаешь, он в бешенство приходил, все приходили в бешенство. На самом-то деле они отлично понимали, кто тут прав, а кто тут врет.
Л.А. Но так полагалось, и они этому подчинялись. Потому и злились.
С.К. Да, так вот, если говорить о расшатывании-нерасшатывании, то я должен с полной определенностью сказать, что меня толкал стыд, и моя цель была вернуть себе самоуважение. А что касается того, что из этого может получиться, то я тогда думал так: ну, можно надеяться, что когда-нибудь, через очень-очень много лет…
Л.А. Уже не при нас.
С.К.…не при нас в стране что-то изменится. Я отлично запомнил случай, когда Израиль Моисеевич Гельфанд просил меня передать свои соображения о происходящем его ученику, очень уважаемому им, Борису Исааковичу Цукерману. Гельфанд сказал следующее: «Во времена Византийской империи все умные люди понимали, что она гниет и непременно рухнет, но она гнила еще триста лет». Я очень аккуратно передал слова Гельфанда Цукерману. И что же Борис Исаакович ответил? Он сказал: «Ну что ж, триста лет меня вполне устраивают». Так вот, мы, по-моему, все были так настроены. Хотя среди нас, конечно, были люди, наивно верившие в то, что они политическая оппозиция, это Буковский прежде всего, самый талантливый из них. Якир и Красин тоже полагали так.
Л.А. Скорее Красин, чем Якир.
С.К. Да, скорее Красин. Политиком был Красин. Якир был историком все-таки.
Л.А. Историком и антисталинистом.
С.К.…и человеком настроения. Я прекрасно помню, как мы собирались в его квартире работать над каким-нибудь текстом. Петя уходил на кухню и с другой компанией принимал там, а потом приходил к нам в комнату и говорил: «Да я подпишу без вопросов».
Л.А. Теперь давайте перейдем ко второму вопросу, если вы не возражаете. Как отразилось то, что появились шестидесятники и что они жили так, как они жили, как это отразилось на том, что происходило у нас в стране, и повлияли ли они на то, к чему мы сейчас пришли. Ну давайте сохраним тот же порядок. Говори ты, Яша.
Я.Б. Я опять же исхожу из определения движения шестидесятников как чрезвычайно широкого, затрагивающего довольно большие слои, прежде всего интеллигенции творческой, конечно, но не только — и технической, и научной интеллигенции. Это движение добилось определенных успехов. Когда говорят, что режим 1970-х годов мало чем отличался от режима сталинского, я с этим не согласен. В 70-е годы нужно было, конечно, соблюдать определенные правила игры, прежде всего — не высовываться.
Л.А. Это было приемлемо для большинства.
Я.Б. Для большинства это было приемлемо, в этом все дело. Ведь людям разрешили думать так, как они хотят, не то что разрешили — вынуждены были согласиться с этим.
Л.А. Решили не обращать внимания.
Я.Б. Не обращать внимания, потому что сил у этого стареющего, дряхлеющего режима не было для того, чтобы восстановить сталинские порядки.
Л.А. В эссе Андрея Амальрика «Просуществует ли Советский Союз до 1984 года» он писал как раз об этом: да брежневский режим, конечно, не сталинский. Но не считайте, что он либерализовался, просто устал. Представим себе человека, который стоит, направив на другого дуло автомата. Оба, естественно, очень напряжены — один, потому что на него направлено дуло автомата, другой, потому что он держит его под прицелом. Но в конце концов устают оба. Один это дуло то опустит, то в сторону отвернет, а другой позволяет себе переминаться с ноги на ногу. Вот это произошло с нашим режимом, и поэтому мы себя почувствовали свободнее.
Я.Б. И поэтому я считаю, что движение шестидесятников сыграло чрезвычайно большую роль в истории России. Не было бы 1960-х годов, не было бы падения режима — не было бы 1985-го года, не было бы перестройки, гласности и т. д.
Л.А. Шестидесятники сыграли роль какого-то бродильного элемента в обществе?
Я.Б. Это был не просто бродильный элемент, это была некая креативная функция; создание совершенно иной общественной атмосферы, в которой оказалась невозможной реставрация сталинизма, а нужно было идти дальше. Куда идти дальше, было совершенно не понятно. Но общество не хотело мириться с любым откатом. Поэтому, когда говорили уже в 1980-е годы, что реставрация невозможна, она была невозможна не потому, что пришел Горбачев, а потому что общество изжило для себя вот это абсолютное подчинение власти, абсолютный тоталитаризм. В этом, мне кажется, главная заслуга этого движения. Другой вопрос, какие недостатки были у этого движения.
Л.А. Ты высказал очень существенную мысль, что общество не хотело обратно, а куда идти, в общем, мы не знали. И в самом деле то, куда мы сейчас пришли, я думаю, что не только мне, но и большинству не нравится. И очень многие (я не раз это читала и слыхала) относят это за счет того, что шестидесятники, как та стрекоза, лето красное пропела, и не подумали о том, куда же идти и как, не продумали пути в экономике, в политике, во внешних отношениях, как строить образование, науку и т. д. С твоей точки зрения, это справедливый упрек?
Я.Б. С одной стороны, это совершенно справедливый упрек, а с другой стороны — это совершенно неисторичная постановка вопроса. Сергей Адамович сказал, и ты сказала, что для вас было главным отстраниться от некой массы подавляющей, быть честными…
Л.А. Не столько от массы, сколько от властей.
Я.Б. Но вы не считали, что режим может рухнуть, как Гельфанд говорил, не на нашем веку. Какой же был смысл создавать какие-то платформы, программы и т. д., если задача была другая. Но нежелание заниматься хотя бы умозрительным построением будущего отозвалось полной беспомощностью интеллектуальной элиты, когда надо было сказать, как и куда идти.
Л.А. Тогда другой вопрос. Ты совершенно справедливо говорил, что шестидесятники — это не только диссиденты. И действительно, если бы это были только диссиденты, во-первых, мы бы не выжили. Мы выжили только потому, что мы были частью шестидесятников. Вот живой свидетель, как говорится, живой творец того, что я выжила, Яков Михайлович Бергер. Он, мой начальник в институте, прикрывал меня своей спиной, чтобы я могла работать и, понимаешь ли, быть честной, да. Вот. Он ходил по начальству, и там ему из-за меня голову мылили.
Я.Б. И немножко замаранным был в какой-то степени, потому что я должен был правила соблюдать.
Л.А. Так вот в этом и состояла твоя…
Я.Б. Функция.
Л.А. Я повторяю: шестидесятники — это не только диссиденты, у каждого сегмента, составлявшего шестидесятничество, были свои задачи. Диссиденты не ставили этой задачи, но, совершенно верно, все-таки исторически это было расшатывание режима, так получалось не потому, что мы этого хотели…
Я.Б. Объективно.
Л.А. И еще у нас была функция некоего отчаянного примера.
Я.Б. Морального примера.
Л.А. Да. Вот когда надо идти в атаку, старшина кричит «Вперед! За мной!» и поднимается первым. И тогда приходится подниматься солдатам. Вот, может быть, диссиденты были как этот старшина. Люди смотрели и думали: вот ведь они ходят хвост пистолетом и живы-здоровы. Дай-ка и я попробую тявкнуть. Это было, и это действовало на общество.
Я.Б. Хотя бы не на уровне составления «Хроники текущих событий», но на уровне чтения, переписывания и распространения.
Л.А. И смелости разговоров.
Я.Б. И смелости разговоров. Т. е. это волнами шло.
Л.А. Да, да, да. Так вот у диссидентов была такая задача. Это был, скажем, авангард, что ли, который вступает на минное поле и смотрит, где можно пройти, — рискуя тем, что кто-то не пройдет. Значит, у диссидентов такая задача была — не потому, что мы ставили ее себе, а объективно так получалось. Но ведь там же были и другие. Были шестидесятники в литературе, в науке, в музыке, в молодежной субкультуре — ты об этом говорил.
Я.Б. И в изобразительном искусстве — вспомни выставки художественные, которые сносили бульдозерами. Это же тоже был колоссальный прорыв, это расшатывало официальное искусство.
Л.А. Конечно. А вот был ли в шестидесятничестве такой сегмент, вот делал заготовки на то время, когда, пусть через триста лет, Византийская империя рухнет. Я вот сейчас перечитываю книгу Натана Эйдельмана «Мой XVIII век». Он пишет о Панине и о Фонвизине, которые во времена императрицы Анны Иоанновны начали писать проект конституции и продолжали писать его при Петре III, при Екатерине, при Павле, и кончилось тем, что этот проект пришлось сжечь, потому что пришли забирать. Т. е. они писали конституцию при Анне Иоанновне, когда никаких надежд на принятие этой конституции не было. Они писали загодя. Были у нас такие люди?
Я.Б. Были. Во-первых, это был Сахаров, который говорил о конвергенции. Это одно крыло. Но были и так называемые русские националисты, которые тоже расшатывали этот строй, но они звали как бы к плюсквамперфект-ным временам. Владимир Осипов, например.
Л.А. И Солженицын.
Я.Б. Солженицын позже стал так выступать. Было и либеральное, что ли, крыло, которое сегодня выросло. Но тогда либералы не делали ничего. Гайдар не был диссидентом и не был шестидесятником.
Л.А. Но он тогда еще в коротких штанишках бегал.
Я.Б. Да, те люди, которые потом выступили с этой программой, они спонтанно с ней выступили, программа не была продумана и не успела укорениться в мозгах. С идеями Хаека, Мизеса мы стали знакомиться значительно позже, в диссидентской литературе этого не было.
Л.А. Т. е. ты считаешь, что было сделано много, но скорее в плане духовного освобождения, чем в плане реальной подготовки к переменам.
Я.Б. Да. Хотя мы видели, что у руля герантократы, представить себе, что этот режим в одночасье рухнет, было трудно.
Л.А. И Паниных тогда не нашлось?
Я.Б. Нет.
Л.А. Твоя очередь, Сережа.
С.К. Я начну с твоей реплики о том, что у тебя был Яков Михайлович, за чьей спиной ты жила благополучно.
Л.А. Да, он мне все рассказывал, хотя и без подробностей. Например так: «Они хотят, чтобы вы каждый день сидели на работе». Я говорю: «Яков Михайлович, а зачем это им надо», «Они мне сказали…». Оказалось, что они в те дни ставили подслушивающие аппараты в моей квартире. Я спрашивала: «А что мне делать целый день, у меня работы сейчас нет». — «Ну сидите письма друзьям в тюрьму пишите», — говорил Яков Михайлович. Кстати сказать, это очень типичная для 60-х годов ситуация. Ведь ты был мой начальник, я была тебе бесконечно благодарна, но сказать, что мы были друзьями, ходили друг к другу чай пить, этого не было. Были перегородки какие-то, но и я знала, что Яша свой, и если б я только одна у Яши была, у него там целый отдел был кошмарных людей, которые сидели все за его спиною, и безобразничали.
С.К. Да, так я все-таки начну с конца. Диссидентство и вообще шестидесятники — каков их вклад в отечественную историю. Я думаю, что вклад этот велик и недооценен. Я не стану повторять того, что говорил Яков Михайлович относительно роли шестидесятников в создании общественной атмосферы. Между прочим, этот период, позднесоветский период, был периодом некоторых удивительных открытий для нашей истории. Оказалось, что такая грубая, жесткая вещь, как советская власть, не может существовать без некоторой общественной поддержки, что, если она лишается этой поддержки, у нее наступают трудные времена. Кто бы мог подумать об этом в сталинское время? Да никому бы и в голову это не пришло. Конечно, КГБ в сталинскую пору — НКВД, вернее, как бы оно там ни называлось, интересовались разговорами в обществе. Это было для них важно, но не первостепенно важно, это не было прощупыванием прочности власти. Они в этой прочности были убеждены при помощи ГУЛАГа, Главлита и прочих институций.
Я.Б. Вы знаете, они держались не только благодаря институциям, но и на личной преданности людей, которые свято верили в идеалы социализма. Дядя мой, член партии, ближайший сподвижник Орджоникидзе, был арестован, сослан, но он вышел из ГУЛАГа таким же сталинистом, каким он был, говорил: были ошибки, перегибы.
С.К. Да, такие примеры я тоже знаю, но, я думаю, что тут нет противоречия…
Я.Б. Нет, нет, это дополнение.
С.К. Тут не о чем спорить. Об этой стороне дела сказано хорошо и полно, я об этом говорить больше не буду, а я скажу о двух важных, с моей точки зрения, обстоятельствах. Непосредственно близкое историческое обстоятельство, по-моему, состоит в следующем. Архитекторы перестройки, по моему глубокому убеждению, вовсе не думали о демократизации страны. Они допускали, что это произойдет, и даже неизбежно произойдет, но вообще их сверхзадача состояла в том, чтобы отодвинуться от края пропасти. Холодная война проиграна, гонка вооружений проиграна, экономический крах на носу. Горбачев имел смелость это понять и попытаться учесть в своей практической деятельности. Они хотели реформировать КПСС, сделав ее более динамичной, способной отвечать на вызовы времени, и сохранив за ней власть, обеспечить замирение с Западом, некое партнерство, потому что другого выхода у страны не было. Я думаю, что они искали свой китайский вариант, а демократизация в том виде, в каком она стала происходить, была для них и неожиданна, и нежеланна. Их борьба за сохранение шестой статьи Конституции достаточно красноречиво об этом говорит.
Теперь о том, в чем же роль диссидентов. Она, по-моему, вовсе не в том, что Горбачев учился рядом с чехом Зденеком Млынаржем. Конечно, это имело свое значение. Наверное, к тому же он читал какой-нибудь самиздат. Но все это ерунда по сравнению с тем, что Горбачев испытал давление извне, а это давление извне создавалось благодаря диссидентам. Я думаю, произошло примерно следующее. Западное общество мы традиционно, по указке коммунистических идеологов делили на ястребов — это наши заклятые враги и голубей — это такая розоватая, чтобы не сказать красноватая, либеральная профессура, которая поддерживала Советский Союз, своего союзника в борьбе со своими отечественными безобразиями — эти безобразия в самом деле были, и либералам в Америке или где бы то ни было еще было с чем бороться. И Советский Союз был их мощным партнером в этой борьбе. Ну как утверждал Сартр в его знаменитом споре с Камю: надо ли писать правду о казахских лагерях? Так вот, когда на Западе стало известно об этих странных людях — диссидентах, которых сажают в тюрьму, и когда розоватые профессора поинтересовались, за что же их сажают, у них возник другой взгляд на своего партнера и союзника.
Л.А. Они немножко оторопели.
С.К. Мягко говоря, немножко оторопели. Я не знаю, помнишь ли ты это письмо, а я его запомнил близко к тексту, местами почти наизусть. Это было письмо одного из братьев Берриганов на деревню дедушке, условно говоря: «Москва, диссидентам». Это было потрясающее письмо. Эти братья, странные, наивные американские диссиденты, которые были за мир во всем мире. Они устраивали бурные акции — приходили в какую-нибудь фирму, работающую на военно-промышленный комплекс, брали с собой молоток и колотили по их изделиям, например по ракете, молотком. Их волокли в суд. Они говорили, что защищают светлые идеалы. Суд выносил решение о символическом штрафе или еще что-то такое же, и все это продолжалось. Так вот этот Берриган написал, что он случайно прочитал где-то про московских диссидентов. Все он там путает, Новодворскую с кем-то еще перепутал, с Иоффе, кажется. Но это не важно. Смысловой гвоздь его письма был в том, что он решил узнать о нас — кто мы такие. Он писал, что он пошел в советское посольство и там получил странный и не удовлетворивший его ответ. Тогда он пошел в корпункт «Литературной газеты» и удивился их ответом еще больше. Но тут он узнал, что в Америку приезжает делегация Советского комитета защиты мира. И он решил, что это именно те, с кем ему надо говорить. Он встретился с ними. И дальше фраза, которую я запомнил наизусть: «Глядя в их пустые, лживые глаза, я увидел вас». А дальше речь шла о том, что это перевернуло его жизнь, он стал понимать, что мы нечто общее, что в мире есть что-то общее и он не может заниматься своей борьбой в Америке, не думая о нашей борьбе в Советском Союзе. Вот такое диссидентское братство. Так вот я думаю, что и процесс Синявского и Даниэля был так же воспринят. Понятно, как это может быть воспринято на Западе.
Что за странное обвинение — человек выступает под литературным псевдонимом и публикуется не у себя на родине, и что тут? По-моему, произошел резкий поворот в сознании мировой общественности западного общества.
Л.А. Тех, кто был опорой Советского Союза на Западе?
С.К. Да. И это очень важно. Они дали возможность политическим лидерам Запада ссылаться на свое общественное мнение: «Ну послушайте, ребята, мы с вами тут наверху переговариваемся, но ведь на меня оказывают давление. Извините, я не могу быть так же, как вы, равнодушен к общественному мнению». Это позволило им требовать у московской власти отчетливых изменений, скажем, на базе Хельсинкских соглашений.
Л.А. В плане фразеологии хотя бы.
С.К. Хотя бы в плане фразеологии, да. Но они и реальных изменений тоже требовали. Вот, по-моему, в чем роль диссидентов. А что касается того, как к суду над Синявским и Даниэлем отнеслась наша творческая интеллигенция, то вот поразивший меня очень яркий эпизод. Николай Николаевич Семенов, член Президиума Академии наук, нобелевский лауреат, вице-президент, член ЦК, вызвал меня и двух моих друзей на разговор. Он сказал, что слышал (откуда он слышал, я не понимаю), что его молодые друзья принимают участие в каких-то шевелениях общественных. Наверное, спецслужбы какие-нибудь ему сообщили.
Л.А. Наверное, первый отдел института.
С.К. Ну да. И он сказал, обращаясь большей частью ко мне — может быть, как к более активному из этих троих, кого он позвал: «Сережа, зачем вы это делаете?». Я, как мог, попытался ему это объяснить. Он спросил: «Ну вот, например, относительно суда над Синявским и Даниэлем. На чем основан ваш протест против этого судебного решения?» Я сказал: «Николай Николаевич, можно на этот счет говорить много, но мне не известен закон, который запрещал бы пользоваться литературным псевдонимом или устанавливал бы места, где можно опубликовать и где нельзя опубликовать свои произведения». И что же ответил нобелевский лауреат и пр. и пр.? Это потрясающе! Он сказал: «Да, вы правы, такого закона нет. Но ведь вы же знаете, как у нас принимаются законы. Вы что, хотите, чтобы такой закон издали? Разве это было бы хорошо?».
Л.А. Лучше пусть такого закона не будет.
С.К. «Лучше пусть его не будет. Ну что же, им придется посидеть вопреки закону». Меня это абсолютно потрясло, понимаете — это рассуждение, эта логика.
Л.А. Но ведь так думали не только нобелевские лауреаты.
Я недавно разговаривала с Женей Жовтисом. Он говорил про то, что сейчас в Казахстане делается. Он говорил именно об этом, что возвращаются времена, когда конституция существует, законы существуют, публичные выступления лидеров существуют, но все знают, что надо не на это ориентироваться. Бизнесмены казахстанские говорят правозащитникам: «Вы замечательные люди, вы делаете замечательное дело, вы же понимаете, что из этого ничего не получится. Вы умные люди, вы могли бы заняться чем-то, что может принести результат». Правда, когда их начинают терзать, тогда они прибегают к правозащитникам и возмущаются: «Что же вы ничего не делаете? Мы вам поможем, начинайте свое дело, вы хоть обеспеченными людьми станете, а то вы только зря суетитесь».
С.К. Я хочу высказать еще одну мысль, которая представляется мне очень важной, несмотря на ее чрезмерную общность. Влияние на западную общественность — это важный вклад нашего шестидесятничества в нашу отечественную историю. Но есть, по-моему, менее очевидный, но тоже очень важный вклад, скорее — перспектива будущего очень важного вклада. Я позволю себе сравнение с польской «Солидарностью». Очевидно использование идеологии, общей для нас и польских диссидентов, идеологии с жестким и четким политическим выходом. В Польше это Коскор, обращение к рабочим, влияние на рабочих, выбор рабочих лидеров. Ведь на самом деле Лех Валенса — это продукт деятельности Коскора, он был отобран из многих.
Л.А. Во-первых, отобран, во-вторых, они его отгранивали. Мне человек, который видел его вначале и потом, через три года, сказал: «Это был другой человек». Потому что с ним работали Яцек Куронь, Адам Михник и др.
С.К. А наше диссидентство, по точному выражению Андрея Дмитриевича Сахарова, строило идеал, и, по-моему, очень важно, какой идеал строило. Вы совершенно правы, говоря, что не было никаких попыток разработать условия перехода к новой экономической системе. Да, это так, но ведь идеал-то, который мы строили, это был идеал правового государства, я бы даже сказал, правового международного сообщества. Мы изобретали велосипед, но мы придавали этому велосипеду черты, которые непременно возникают в творчестве дилетантов, потому что дилетанты, в отличие от профессионалов, не боятся, они не понимают, как трудно то, на что они замахнулись. Профессионал скажет: «Ну это нереально, это невозможно», а дилетант лезет туда. Так вот мне кажется, что настоящий вклад этого течения, которое не было политическим, а было вызвано нравственной несовместимостью, он еще впереди, когда будет понято, что «реальная политика» в некотором смысле анахронизм, уже неспособный справиться ни с какой задачей, что надо добавлять серьезную долю идеализма к политике, а именно то, что Эйнштен, Рассел и потом Сахаров называли «новым политическим мышлением». Ушло время традиционной политики. Надо строить новую политическую парадигму. И здесь наша изначально скромная цель — преодоление стыда и возвращение самоуважения каждому из нас, превращается в наше коллективное изобретение — желание жить по правилам права, вне политики и над политикой. Ведь чтобы ни говорили о примате права в так называемых государствах rule of low, всюду право — это, так сказать, слуга политики. Мы это видим в каждом заявлении политических лидеров любого государства. А наше требование — к черту это лицемерие. Мы хотим, чтобы было так: правовое государство, значит, правовое государство. Я думаю, что если бы этот политический идеализм был доступен нашим интеграторам и глобализаторам, то многие антиглобалисты перестали бы действовать так рьяно, потому что глобализация должна быть прежде всего нравственной, правовой, политической, а не экономической. Я думаю, что мы работали, и сейчас отчасти продолжаем работать на то, чтобы накапливалась критическая масса людей, понимающих, что политические реформы не менее важны, чем экономические, а может быть и важнее, потому что они создают основу для иных преобразований.
Л.A. Ты таким образом перешел к ответу на третий вопрос — о вкладе шестидесятников в современность. Теперь, Яша, тебе слово на эту тему.
Я.Б. Я сначала вернусь к концу 1980-х годов, к началу 1990-х, когда принимал участие в Московской трибуне, т. е. в попытках выработать конкретные, практические рекомендации, программы, которые могли бы быть предложены горбачевскому правительству или какому-то другому. И вот на моих глазах широкое движение шестидесятничества, от музыкантов до экономистов, стало расслаиваться. На попытках повернуть это движение от неприятия действительности к конструированию новой действительности оно практически рассыпалось. Никакого единства не получалось. Более того, конкретные программы, слова уходили в песок, никакого конкретного действия по строительству нового общества, нового государства не получалось.
Л.А. Может быть, потому, что здесь были задействованы не только шестидесятники, здесь уже все кинулись делать что-то, каждый по-своему.
Я.Б. Я говорю о людях, которые, так сказать, стояли на «Московской трибуне». Конечно, там были разные люди, но и среди шестидесятников не было общего стимула для конкретной совместной работы.
Л.А. А «Московская трибуна» — это был некий орган шестидесятников?
Я.Б. Да, если судить по людям, которые были там. Сахаров стоял во главе «Московской трибуны», там были Баткин, Афанасьев. Затем появились Галина Старовойтова, Вика Чаликова. И вот на глазах это стало размываться, единства не было. Переходя к сегодняшнему дню, я с горечью убеждаюсь, что вот это вот разъединение, прежде более или менее ориентированного в одном направлении течения, становится все более очевидным, оно еще больше раскалывается, размывается и т. д.
Л.А. Может быть, потому, что многих уже нет в живых.
Я.Б. Да, конечно. Ведь шестидесятникам было 20–30 лет к моменту XX съезда. Сейчас большинству уже за 70, а кому и за 80.
Л.А. А ведь у нас в стране редко кто так долго живет.
Я.Б. Да, к сожалению, у нас долго не живут. Но самое-то главное, что попытки интегрировать какие-то новые силы, передать эстафету не имеют успеха. Широкое движение — от музыки до изобразительного искусства, оно просто не получается. Одни получили свое — возможность играть, петь что хотите, рисовать что угодно, писать что хочешь, читателей только мало.
С.К. Что касается литературного творчества, пожалуй. А вот журналистика?
Я.Б. Если раньше это было проблемой, важной для всего общества, — свободно писать, читать, смотреть, слушать, то сейчас это перестало быть общественной проблемой. Сегодня это интересует очень небольшую группу людей, которые хотят выступать не только по «Эху Москвы», но и по первому каналу телевидения. Вот в чем разница-то — по сути дела, хотят получить большую аудиторию, а не потому, что им запрещают говорить. Ведь по «Эху Москвы» можно что угодно говорить.
С.К. А почему первый канал стал таким, почему ТВС стало таким?
Я.Б. Это совершенно другой вопрос. Приписывать все это власти, к сожалению, неправильно. Это рыночная экономика, это люди, которые стремятся набить мошну. Для меня, скажем, есть канал «Культура», который я регулярно смотрю.
С.К. Который портится с каждым днем.
Я.Б. Не вижу я этого, не вижу, Сергей Адамович. Я вижу, как Архангельский обсуждает важные вопросы, Дуня Смирнова и Татьяна Толстая, хотя они появляются после полуночи. Есть какие-то попытки серьезного разговора и на других каналах, но дело в том, что общество это интересует в минимальной степени.
Л.А. Т. е. эстафета не передана
Я.Б. Не передана, к сожалению.
Л.А. Кстати сказать, Евгений Григорьевич Ясин в своей очень интересной записке тоже признает, что эстафета не передана, что те моральные ценности, которыми вдохновлялись шестидесятники, сейчас значимы для очень малого числа людей. Но он настроен оптимистично. Он говорит, что общество вернется к этому, и вернется в обозримое время, потому что без духовных ориентиров жить невозможно. Но нельзя сказать, что кто-то пришел нам на смену, ведь вместо шестидесятников не появились, скажем, двухтысячники с другими идеалами.
Я.Б. Вот в том-то вся штука. Сергей Адамович совершенно справедливо говорит о необходимости духовного обновления. Но у людей должны быть моральные авторитеты, у общества должны быть моральные авторитеты, такие, как им был Сахаров, Солженицын, какими были для многих диссиденты. Сегодня нет ни одного политика, который бы обладал моральным авторитетом, именно моральным, ни в левом, ни в правом крыле, таких нет. Сегодня общее разочарование.
С.К. Здесь, по-моему, впервые возникает в нашем разговоре предмет для дискуссии, для некоего оппонирования. Я абсолютно согласен с тем, что нечего валить все вины на власть. Власть, как сказал в свое время Мандельштам, отвратительна, как руки брадобрея. Не согласен прежде всего вот в чем. Нынешняя власть сознательно выбрала и выстроила свой выверенный, вычисленный, отработанный, проанализированный внутриполитический курс. В брежневские времена власть колебалась и была озабочена тем, чтобы сохранить статус-кво. Нынешняя власть строит систему еще не случавшейся в истории новой формы тоталитаризма, похожей на советский тоталитаризм, но не той. Восстанавливается унитарное государство. Бессмысленно говорить о Российской Федерации как о федерации. В унитарном государстве, даже демократическом, можно назначать губернаторов, а в федеративном государстве глав автономных образований назначать из центра нельзя. Это сразу создает ситуацию огромной публичной лжи — говорим «федерация», а в субъекте Федерации, который по определению сам устанавливает свое правление, власть назначаем.
То же относится и к принципу разделения властей. Этот принцип, записанный в Конституции, неслучайно исчез, вернувшись к советской гордости тем, что власть у нас едина. Он исчез по заранее обдуманному и просчитанному плану. В тоталитарном обществе принцип разделения властей невозможен, он гробит тоталитаризм. Поэтому разделения властей у нас больше нету. Ну и пресса нужна управляемая, и она сделана управляемой. И никакие Дуни Смирновы и Татьяны Толстые этого не отменяют — пресса управляемая. И то, что есть «Эхо Москвы» и «Новая газета», и еще, может быть, что-то — тот же любимый мною еженедельник «Новое время», ничего в этом обстоятельстве не меняет, потому что наши новые политические лидеры готовы принимать в расчет только большие массы людей. Им этого достаточно. Вот если мы, немногие, будем представлять для них серьезные затруднения, тогда они будут справляться и с этой проблемой. Вот в такой выстроенности нового курса и заключена опасность, страшная опасность, очень большая опасность для нас, но и не только для нас — это глобальная опасность. Я думаю, что имеется отчетливый признак, говорящий об этом. В стране снова есть политзаключенные. Политзаключенные бывают только при тоталитаризме или на подходе к нему. Политзаключенные, то есть лица, подвергнутые репрессиям, осужденные по политическим мотивам, — это ясный и однозначный признак близости тоталитаризма. Это и есть наши расхождения. Брежнев господствовал в эпоху «застоя», в выстроенной политической конструкции, которую нужно было только сохранять, а эти ребята строят новую политическую конструкцию и преуспевают в этом.
Почему же я согласен с тем, что это наша вина? Думаю, вот почему. Власть всегда, и не только у нас, бывает такой плохой, какой только ей позволяют быть граждане. Так вот мы позволяем власти быть такой плохой, что она строит тоталитаризм на наших глазах. Мы виноваты в том, что нас мало. Да, мы-то понимаем, что происходит на наших глазах, но мы оказались бессильны сделать так, чтобы это понимала критическая масса людей. Тогда никакая власть не имела бы возможности строить тоталитаризм, а мы даем такую возможность. В этом и есть наша вина.
И самое трагичное состоит в том, что общество даже не помышляет задуматься об этой своей вине. Понятие, разумеется, не юридической, а исторической, нравственной, национальной вины начисто в нашем обществе отсутствует.
Л.А. Мол, все виноваты, кроме нас.
С.К. Да, все виноваты — да, может быть, грузины, но скорее всего евреи…
Л.А. И Америка.
С.К. И Америка. В поисках виноватых наше общество колеблется в этом треугольнике, примерно.
Я.Б. Нет, есть люди, которые говорят, что во всем виновата власть.
С.К. Я думаю, что власть олицетворяет те общественные вины, которые на нас лежат. На самом деле власть имеет отчетливый план, циничный, подлый и близорукий. Она строит не стабильность страны, а собственную стабильность, и строит ее совершенно четко советским способом — конечно, сильно и, к сожалению, разумно, искусно модифицированным. ГУЛАГ невозможно восстановить, но он и не нужен. Достаточно того, что мы все выросли из шинели, только в отличие от русской литературы не из гоголевской, а из сталинской шинели…
Л.А. Или Дзержинского.
С.К. Или Дзержинского. Не нужен нам Главлит, государственный орган цензуры тоже не восстановишь, но и не надо, потому что есть внутренний цензор. Но тут я с вами коренным образом не согласен. На наших с вами глазах при некотором всплеске активного протеста, быстро утихшем, выкручивая руки, превратили все каналы телевидения в один государственный канал.
Я.Б. Раньше тоже был один государственный канал…
С.К. Да, ну и что же?
Я.Б. Ничего, это не мешало. Понимаете, это крайне не продуктивно, с моей точки зрения, возлагать всю ответственность за состояние общества на власть, на ее конспирологические проекты.
С.К. Я этого и не делаю, я говорю, что власть реализует, материализует наши грехи. Да, мы виноваты в том, что наивный энтузиазм конца 1980-х — начала 1990-х годов угас. Где те полмиллиона людей, которые подарили государственность Прибалтике?
Л.А. В чем мы виноваты, сформулируй.
С.К. Я думаю мы виноваты тем, что нас мало. Это серьезная вина, между прочим.
Я.Б. Мы виноваты прежде всего тем, что мы не можем друг с другом договориться. Когда Архангельский собирает на канале «Культуре» круглый стол, собирает пять — шесть человек, то каждый дудит свое, абсолютно не слыша, что говорит другой.
Л.А. Мы не умеем сотрудничать?
Я.Б. Вы умели договариваться с очень разными людьми, делали общее дело, хотя были очень разные. Сегодня это невозможно.
С.К. Я бы сказал так, мы могли иначе, даже если бы мы хотели вступить в острые дискуссии. Споры бывали по углам, но наружу не вылезали. Если бы даже мы хотели публиковать наши разногласия, было совершенно понятно, что это бессмысленно, это пустое, это третьестепенное, если не сказать пятистепенное, а главное, это зэковская солидарность — нас сплотили преследования. Сегодня этого нет.
Л.А. А без этого мы, по-видимому, не умеем действовать сообща.
Я.Б. Сейчас есть другое. Есть возможность вырваться вперед, выше, во власть, получить какие-то блага тем или иным способом.
С.К. Вот это о нас. Когда я употребляю это слово «мы», я имею в виду мы, шестидесятники. А сейчас вы говорите о более общем и размытом сообществе.
Л.А. Потому что, если шестидесятник соглашается изменить убеждения за блага, то он уже не шестидесятник.
С.К. Потому что наши новые политические лидеры это вовсе не шестидесятники. Вот в том-то и дело. Когда вы говорите, что не умеют договориться Явлинский с Немцовым, то я с полным уважением отношусь к Григорию Алексеевичу и вижу много хорошего в Борисе Ефимовиче, но это не мы.
Л.А. Да, это другие люди. Я входила в Комитет—2008 и чувствовала там себя совершенно инородным телом. Я сидела в углу и молчала, потому что говорить там то, что я могу сказать, бессмысленно, я это понимала.
С.К. Наша вина в том, что нас мало, я еще раз повторяю это. Потому мы не можем оказать на них, на наших, в общем, союзников, на наше порождение, мы не можем оказать на них решающее давление.
Л.А. Но людей надо ценить по тому, что они сделали. Вменять им в вину, что они чего-то не сделали, бессмысленно, потому что не сделали. Значит, мы не только не разработали проекты, необходимые для развития страны, чтобы не терять на это время после краха СССР, мы еще и не позаботились о том, чтобы вырастить поколение для передачи эстафеты, чтобы вырастить поколение, для которого наши идеалы не смешны и не бессмысленны. В этом наша вина.
С.К. Хотя бы частично мы несем ответственность за очень мощное развитие цинизма — делового, очень продуктивного цинизма в нашем молодом поколении. Смотрите, как эти образованные ребята хорошо умеют найти место для работы и зарабатывать в пять раз больше нас. Это для них и есть мерило успеха. Мерило ценности человеческой личности для них — это успех. Кстати, мы заимствовали это в «проклятой Америке», вполне себе демократичной и либеральной Америке. Там это как-то уживается с идеалами. А мы для нашей молодежи смешны. Вы говорите о правовом государстве? А вы правовое государство?
Л.А. Лохи, старые лохи.
С.К. Ну да, фраера.
Я.Б. Надо бы не так пессимистически закончить беседу.
С.К. Я попытался собрать свои статьи из разных мест и назвал сборник «Прагматика политического идеализма». Вот если бы такого рода идеи могли бы кого-то затронуть.
Л.А. Может быть, итогом нашей беседы станет такое соображение. Мы в каждодневной своей жизни решили руководствоваться принципом «хочу быть честным», не хочу врать, и самым фактом такого поведения строили, как ты, Сережа, сказал, фундамент для далекого будущего, когда все-таки человечество, если не погибнет, придет к тому, что политика должна быть нравственной, поскольку безнравственная политика не дает желаемых результатов. Так, может быть, в этом и есть наше предназначение? Не в том, чтобы вырастить нынешнее поколение, которое уже сейчас вступило в жизнь; может быть, отклик пройдет через пару поколений? Может быть, мы очень впередсмотрящие, не на одно поколение, а на три, и поэтому сейчас чувствуем себя невостребованными? Может быть, все-таки пробьет наш час? Ведь гены иногда передаются не от родителей к детям, а внукам или даже правнукам.
Я.Б. Я хотел бы с этой идеей согласиться и мыслить в довольно широкой исторической перспективе, поскольку я историк. Я считаю, что ничто не пропадает. Я согласен с Сергеем Адамовичем, что идеализм, особенно в России, возникает в тех условиях, когда, казалось бы, для него никакой почвы нет. Это показало движение шестидесятничества.
С.К. Знаете, оказывается при всей моей мрачной аналитике, я больший оптимист, чем вы. Я хотел бы надеяться не на два поколения, а на два десятка лет.
Л.А. Т. е. на следующее поколение. Мы тоже шестидесятниками стали в 20, 30, а то и в 40 лет.
Евгений Ясин
Шестидесятники
8 заметок к возможной дискуссии
В начале лета 2005 года на круглом столе «Либеральной миссии», посвященном П. Н. Милюкову, после дискуссии о судьбе либерализма в России, о его постоянных поражениях и столь же неизменном возрождении Людмила Михайловна Алексеева, председатель Московской Хельсинкской группы, предложила вспомнить о шестидесятниках, которые, по ее и моему мнению, подхватили эстафету идей российского свободолюбия и свободомыслия во второй половине XX века, едва забрезжил рассвет после сталинской ночи. Она же предложила собрать людей этого поколения вместе, пока они живы, дать им возможность еще раз соприкоснуться плечами и обратиться к тем, кто подхватит эстафету в следующий раз.
Когда я стал обсуждать эту идею, оказалось, что мнения о шестидесятниках очень разнятся. Чаще всего говорили о том, что тема неактуальна, что шестидесятники были романтиками и идеалистами, оторванными от жизни. Они как-то оживляли советский пейзаж в период застоя, но после «перестройки» и реформ их история никому не интересна.
Моя молодая сотрудница из того поколения, которое сегодня вроде должно подхватить эстафету, сказала: Евтушенко, Вознесенский, Ахмадулина не привлекают, несовременны. Не то что Бродский и Гандлевский.
Другие сказали: это люди, которые хотели социализма с человеческим лицом и рыночную экономику не восприняли. Все, что они отстаивали, умерло.
И тогда я понял — идея Алексеевой более чем актуальна, проект «Шестидесятники» стоит запустить. Мои заметки призваны дать старт дискуссии.
1. Я также понял, что не знаю, кто такие шестидесятники. Шестидесятые запомнились скандалом в Манеже, где Хрущев учил жить художников, затем через пару лет его отставкой. Косыгинская экономическая реформа была явлением либеральным, но она затронула в основном экономистов и хозяйственников, которых вряд ли можно считать авангардом шестидесятников. Затем чехословацкие события 1968 года, после которых реформа была свернута и все гайки закручены почти до предела. Литература — да, в ней были яркие имена, но ведь и они появились чуть раньше.
2. Для меня (а я явно отношусь к числу людей, чьи взгляды определились в 1950-х — 1960-х) все началось с XX съезда КПСС в 1956 году, с доклада Хрущева о культе Сталина. И то не совсем, потому что текущие публикации о съезде ни о чем не говорили; о самом докладе, который был секретным, мы узнали много позже.
Какие-то неуловимые изменения в общественной атмосфере начались еще раньше. В 1953 году, сразу после смерти Сталина, в «Новом мире» появилась статья В. Померанцева «Об искренности в литературе». В 1954 году опубликовали повесть Ильи Эренбурга «Оттепель», давшую имя целой эпохе. А осенью 1956 года в областной библиотеке Одессы, где я тогда жил, провели дискуссию по роману В. Дудинцева «Не хлебом единым». Перелом в моем сознании произошел именно в тот вечер. Не только потому, что мне книга безумно понравилась (юноше в 22 года), но более всего потому, что я услышал искренние выступления многих людей, которые почувствовали дыхание свободы и хотели дышать свободно. В прессе же давно шла дискуссия по роману, уже была дана команда сворачивать ее и принижать автора. Поэтому критики стали говорить о ее низких художественных достоинствах. Я запомнил слова Константина Паустовского, моего любимого писателя и мастера художественной прозы высшей пробы, который сказал по поводу этой критики: «То, что автор хотел сказать читателю, то он сказал, и читатель понял и почувствовал сказанное. А это и есть для писателя высшая оценка».
Помню в этой книге бессмертный образ Вади Невраева, образцового чиновника, бескорыстного друга людей, к которым благосклонно начальство, и немедленно меняющего симпатию на безразличие и враждебность, когда настроение начальства изменялось. Он и сегодня жив и, думаю, даже больше благоденствует.
Я полагаю, многие люди моего поколения в то время пережили подобные чувства, они захотели свободы и оказались готовы что-то сделать, чтобы она была. Не только для себя — для сограждан. И в шестидесятые годы многие из них что-то для этого сделали. Они, наверное, и есть шестидесятники.
3. Евгений Евтушенко, Андрей Вознесенский, Белла Ахмадулина — я помню их выступления в Политехническом музее; Александр Галич, Булат Окуджава, Владимир Высоцкий, Юрий Визбор — барды первого поколения — это другой ряд. Даниил Гранин, Василий Аксенов — молодые прозаики послесталинской эпохи. Александр Солженицын, которого мы узнали благодаря Твардовскому. Олег Ефремов, Юрий Любимов, Марк Захаров, Михаил Калатозов, Григорий Чухрай, Эльдар Рязанов, Марлен Хуциев, Андрей Тарковский — режиссеры театра и кино. Алексей Аджубей, Егор Яковлев, Лен Карпинский, Отто Лацис — журналисты. Это те, кого я субъективно считаю шестидесятниками, хотя многие из них проявились и раньше. Но это мое субъективное восприятие.
Обратите внимание — это все поэты, писатели, режиссеры, журналисты. И они находили отклик у общественности, их имена были на слуху. Думаю, что это не случайно. Ибо первая реакция на «оттепель», на возможность свободы, была эмоциональная, порой иррациональная и в то же время вербальная — характерный для России художественный вначале опыт осмысления новой реальности.
Что еще важно, это отрицание сталинизма как самой жестокой формы тоталитаризма с нравственных, гуманистических позиций. Насилие над человеком, лишение свободы, ограничение возможностей самореализации личности — плохо, потому что аморально. Даже если не говорить о вреде для общества, для экономики. Никакими высокими целями нельзя их оправдать. Я так воспринимаю основной лейтмотив этого идейного движения, который и обусловил первенство в нем литературы, кино, театра. Что-то лирики в почете были, вопреки Б. Слуцкому.
Разумеется, были и другие: Михаил Горбачев, Александр Яковлев, Борис Ельцин, Андрей Сахаров, Гавриил Попов, Юрий Афанасьев — это те, кто потом начал новую эру российской истории. Все они — шестидесятники.
4. Они очень разные. Я полагаю неверным утверждение, что шестидесятники — все сторонники социализма с человеческим лицом и что их время кончилось самое позднее с «перестройкой».
Я бы выделил в их числе следующие слои, которые играли разную роль на разных этапах нашей истории с конца 1950-х до 1990-х годов.
— Художественная интеллигенция (о них я уже писал).
— Часть партийной, советской и хозяйственной номенклатуры, понявшей неизбежность перемен, их либеральную и демократическую направленность.
— Диссиденты — открытая оппозиция режиму, которых власть удаляла либо за границу, либо в зону. «Великолепная семерка» — люди, вышедшие на Красную площадь в августе 1968 года, Московская Хельсинкская группа, авторы «Хроники текущих событий», другие правозащитники.
— Часть умеренной интеллигенции, мыслящих рабочих — они не выступали открыто, не видели возможности как-то влиять на события, но собирались на кухнях, читали и распространяли самиздат — ожидали своего времени. Это они вышли на миллионные демонстрации в Москве в 1990 году, выбрали Ельцина. А до того уходили в сторожа, грузчики, истопники, чтобы не мараться, жить по совести, образуя внутреннюю эмиграцию.
Если всех собрать, то поймем — именно они были основной силой, опрокинувшей коммунистический тоталитаризм. А дальше пути разошлись.
5. Основные идейные течения в России с первой половины XIX века — национализм (имперский или этнический), социализм (народничество, марксизм) и либерализм (западничество). Соотношение между ними постоянно менялось, и власти комбинировали их аргументы в политике. Самодержавие (исключая Александра Второго) обычно опиралось на умеренный имперский национализм, используя при нужде либеральных чиновников. Либералы и социалисты были в оппозиции. Накануне Первой мировой войны имелись серьезные шансы двигаться по пути либеральной демократии с конституционной монархией, но война этот путь закрыла. В итоге монархия пала, победил социализм в максималистской, коммунистической форме. Когда он вошел в фазу упадка, либералы и националисты вместе боролись с режимом в оппозиции. Шестидесятниками были и те и другие, вместе с гуманными социалистами. Собственно демократизация режима, а затем его крах положили конец коалиции. Андрей Сахаров не мог больше дружить с Игорем Шафаревичем.
Короткое время, где-то семь лет (1992–1998), на политику существенное влияние оказывали либералы, но трудности реформ, тяжелый кризис, за который им пришлось нести ответственность, нанесли урон их репутации. Путин проводит политику, соединяющую (во всяком случае на словах) либеральные реформы в экономике и укрепление государства. Последнее направление преобладает все больше, и, как заведено на Руси, государственный патриотизм оказывается просто более пристойным названием национализма, пропитанного к тому же имперскими амбициями.
6. Рыночные реформы, экономическая свобода при ослаблении государства, неизбежном в период революционных перемен, привели к колоссальным изменениям в общественном сознании. Маркетизация и коммерциализация всех сторон жизни нанесли урон принятым ранее нравственным устоям. Каждый оказался перед дилеммой — обогащаться или выживать. Те моральные критерии, которые с самого начала лежали в основе шестидесятничества, оказались под сомнением. Люди, напоминавшие о них, представлялись смешными.
Эстетические ценности также изменились. Они ныне не призваны что-то внушать, воспитывать. Произошло разделение поп-культуры и элитного искусства, блокбастеров и «кино не для всех». На Западе это было давно, и культура все время приводилась в равновесие, а для нас это оказалось чем-то вроде культурного цунами. «Самая читающая в мире нация» забыла Пушкина и Толстого, она теперь читает детективы и смотрит сериалы.
Это означает, между прочим, что проповедь нравственности — свободы и справедливости — на какое-то время потеряла спрос. А ведь, я думаю, именно эта проповедь объединяла шестидесятников и привлекала к ним людей. Да, и сегодня люди любят Высоцкого и поют: «Пусть впереди большие перемены, я это все равно не полюблю». Но новых бардов масштабов Высоцкого или Окуджавы что-то нет. Может быть, поэтому и неинтересны сегодня шестидесятники, кажутся безвозвратно устаревшими, несовременными. Моральные проповеди, обращение к душе, — этим пусть теперь занимается Церковь, благо ей нынче и власть благоволит.
Какую же эстафету должны передавать шестидесятники, да и кому передавать и от кого?
7. Нравственные нормы — основа социальной ткани.
Я не хочу выглядеть беспочвенным оптимистом, хотя по характеру именно таким и являюсь. Но чтобы мои заметки не вызвали подобного впечатления, приведу аргументы, по-моему, достаточно весомые, в доказательство тому, что идеалы, вдохновлявшие в свое время шестидесятников, а до этого еще многие поколения борцов за свободу, справедливость и честь в России и других странах, вновь обретут ценность в нашей стране. И притом очень скоро, можно сказать — уже. И чем крепче определенные люди держатся за власть, чем сильнее у них жажда денег и желание затыкать другим рты, глаза и уши, чтобы не знали, не видели, не слышали об их неблаговидных деяниях, тем ближе изменения. И тем больше нужда в тех, кто не боится этих ребят и говорит то, что думает.
Нравится нам или не нравится, но любое общество устроено так, что наиболее могущественными силами в нем являются власть и богатство. Богатство по меньшей мере позволяет наслаждаться всеми благами жизни, но оно же может открывать доступ к власти. Власть в конечном счете состоит в праве применения насилия от имени государства, которое владеет монополией на законное насилие в интересах общества. Бо́льшую часть истории она приносила и богатство. Люди, осуществляющие власть, если они не подвергаются контролю со стороны общества и/или не обременены нормами морали и долга, поддержанию которых такой контроль и способствует, очень часто злоупотребляют властью в личных или групповых интересах и во вред интересам остальных членов общества.
Эти остальные члены общества — еще один компонент общественного треугольника сил. Бо́льшую часть времени они малодеятельны вследствие своей пассивности, плохой информированности, отсутствия интереса к общественным делам. Поэтому они становятся объектом эксплуатации и злоупотреблений, утрачивают свою социальную субъектность. Но если власть и богатство оказываются уж очень наглыми, если они уж совсем держат своих сограждан за быдло, за терпеливых дураков, которых легко обвести вокруг пальца или запугать, тогда в среде этого объекта манипулирования начинает копиться недовольство и гнев. Если они не получают выхода, дело кончается бунтом, революцией. Обычно они связаны с разрушением, обнищанием. Люди, бывшие при власти и с богатствами, всего этого лишаются, и на их место приходят другие, которые смогли канализировать энергию недовольства масс. И, если нет общепризнанных правил игры, например демократических процедур, все начинается с начала: появляются новые богатеи, власть имущие начинают ею злоупотреблять. Круг замыкается.
Чтобы разорвать его, нужно установить и поддерживать определенный порядок — те самые правила, которые оказываются выгодны всем. Они необязательно демократического характера; демократии в современном смысле всего 300 лет от роду. Но в их числе обязательны нормы морали и чести, поддерживающие их мифы и ритуалы, которые налагают ограничения на определенные действия людей по отношению друг к другу, либо определяют должный способ поведения. Смысл всех религий мира, их основная роль в обществе состоит в том, что они, каждая по-своему, формируют и поддерживают неформальные институты, сдерживающие антиобщественное поведение, необузданные страсти, жадность, зависть, властолюбие. Хотя, конечно, их служители тоже люди и бывают подвержены тем же порокам, но все же обычно они свою социальную миссию исполняют. Кроме религиозных, существуют и иные формы осуществления тех же функций, которые иногда заменяют, а большей частью дополняют механизмы социальной регуляции, формируемые религиозными течениями. Верховенство закона, разделение властей, независимый суд, свобода слова, свободные демократические выборы претендентов на общественные должности, связанные с отправлением власти, экономическая и политическая конкуренция — вот далеко не полный список современных методов поддержания стабильности и доверия в обществе. Добавлю сюда образование и искусство, способные прививать нормы морали, воспитывать, а не только развлекать и возбуждать эмоции.
Если все подобные механизмы отсутствуют или ослабевают до степени, когда они оказываются неспособны регулировать поведение членов общества, когда они не в состоянии заставить богатых и власть имущих держаться в определенных рамках при выполнении своих, тоже необходимых, социальных функций, такое общество рано или поздно приходит в упадок, распадается и умирает. Либо оно находит в себе силы восстановить основу социальной ткани.
Преимущество в развитии получают те страны, те нации, те культуры, у которых эта социальная ткань сочетает прочность с эластичностью, надежность социального контроля с продуктивностью ценностей и свободой личности, мотивирующей творческую активность. Может быть и так, что эта социальная ткань, образуемая традиционными нормами, отличается относительно низким качеством, например по критериям поддержки экономического развития, создавая известные препятствия на его пути. Тогда она тоже оказывается фактором нарушения социального равновесия. В других же случаях она обеспечивает культурную преемственность, национальную идентичность, амортизирует возможные напряжения. Но одно ясно: она должна быть. Без некоторого минимума общественных норм морали, порядочности, чести, справедливости, даже при сильной власти и больших богатствах общество невозможно. Впрочем, без них власть и богатство тоже лишаются ценности, общество превращается либо в тюрьму, либо в джунгли, где царит право сильного. А это уже не общество.
8. Свобода и честь снова войдут в моду.
Вернемся в современный российский контекст. Коммунизм произвел в стране колоссальную ломку нравственных устоев. Попытка реализовать утопию привела к тяжелым деформациям всех социальных институтов. Чего стоит только стремление унизить и уничтожить религию, поставив на ее место «Моральный кодекс строителя коммунизма». Все-таки что-то осталось, что-то возникло, об этом, собственно, свидетельствует само движение шестидесятников.
Но низвержение тоталитарного режима снова вывело на сцену капитал, класс предпринимателей как носителей богатства. Они должны были стать собственниками, чтобы обеспечить более эффективное управление ресурсами общества по сравнению с советскими бюрократами. Такова была их социальная функция, но поначалу она стала исполняться с моральными потерями: иначе как обогащаться, как устранять конкурентов, если норм, регулирующих заново возникающие отношения, просто не было? Чтобы вводить ограничения, должен возникнуть предмет ограничений. При этом имели место перекосы. Появились олигархи, нувориши. Богатство, порой бессовестно захваченное, получило на время перевес над властью, которая у нас бо́льшую часть истории доминировала надо всем.
Затем начался реванш власти, бюрократии, который происходит с 2003 года и еще не завершен. И при этом тоже нарушаются все законы, юридические и нравственные. Идет передел собственности, свертываются демократические каналы обратной связи. А народ все это наблюдает, теряя всякое уважение и к бизнесу, и к власти, наливаясь гневом, который наконец выплеснулся в первый раз с началом монетизации льгот.
Президент Путин, одна из главных задач которого состояла в политической стабилизации общества, перекрутил гайки и довел до того, что началась некоторая дестабилизация, инициированная отнюдь не оппозицией, не олигархами, не внешними врагами, а самой властью. В итоге при исключительно благоприятной конъюнктуре стали падать темпы роста экономики, расти инфляция. Бизнес, подвергаемый возрастающему давлению, теряет доверие к власти и снижает деловую активность.
Эти две силы — новый для России бизнес и старая, по сути бюрократическая, власть никак не придут к равновесию, если народ не напомнит им о необходимости соблюдать приличия.
Действительно, трансформационный кризис стал временем, когда многие традиционные ценности упали в цене, когда хорошим тоном, современным стилем стали считаться утилитарный прагматизм, недоверие и подозрительность, цинизм. Идеалисты и романтики — это лохи, всегда проигрывающие на празднике жизни. Не считаться с правами других, думать только о себе. Помните, у О’Генри: «Боливар не вынесет двоих!»
Нельзя не видеть этого. Но, мне кажется, надо понимать — это порожденная, в том числе объективными обстоятельствами, идеология поддержки и оправдания «дикого капитализма». Этот период закончился. Выдохнется и пришедший ему на смену период государственного бюрократического произвола. Он уже порождает негативную реакцию общества, которая еще будет набирать силу. Молодежь, чьи сердца по природе для чести живы, выдвигает уже лидеров, готовых идти на борьбу за свободу, справедливость и честь. Это нужно нашему обществу, это войдет в моду. А значит, идеи шестидесятников, именно их нравственную направленность, будет кому передать. Надо только напомнить обществу, что оно располагает достоянием, которое связано с жизнью и духовным наследием этих людей.
Виктор Воронков
Аналитическое обозрение
Социологи, исследуя изменения в обществе, часто обращаются к концепции поколений. При традиционном подходе, ориентированном на субъект, под социологическим поколением подразумевается сообщество людей примерно одного возраста, с одинаковыми культурными и социальными ориентациями и моделями поведения. Эти ориентации формируются в процессе социализации. Принципиальные различия в процессе социализации ведут к дифференциации и созданию социальных барьеров внутри одной и той же возрастной группы. Поэтому поколение, с точки зрения социолога, формирует только определенная часть возрастной группы. По сути, это люди с общими социальными проблемами, системой ценностей и моделями поведения, по этим признакам объединившиеся в определенную социальную группу. На основе этих предпосылок мы определяем социологическое поколение как сообщество людей, которое: 1) характеризуется сходным опытом социализации, 2) разделяет определенные ценностные ориентиры, реализуя их в своих культурных практиках, 3) создает общее пространство для общения и взаимодействия и 4) идентифицирует себя — в отличие от других современников и предыдущих поколений — как представителей этого поколения.
Подход с точки зрения поколения открывает новый взгляд на диссидентское движение, который выходит за рамки определения его как движения группы людей, преследующих определенные политические цели. Такой подход предлагает особый взгляд на социальные условия, сделавшие возможным возникновение этого движения. В Советском Союзе диссидентство по сути являлось феноменом социологического поколения, возникшего в особых условиях. Нонконформистское и оппозиционное поведение проявлялось и раньше, но это собственно диссидентское движение возникло в 1960-е годы и просуществовало длительный период времени. Упорство диссидентов можно объяснить, только если принять во внимание факторы, которые сделали возможными относительно устойчивые социальные связи между участниками этого движения. Чтобы показать эту связь более наглядно, исследуем подробнее характер поколения, в котором диссидентство вызрело.
Так называемые шестидесятники — социологическое поколение, из которого в 1960-х годах возникло советское диссидентское движение — заняли центральное место в российской дискуссии конца 1980-х — начала 1990-х годов, исследовавшей период «оттепели» из социологической перспективы. В этом процессе вызывало особые затруднения определение границ и критериев принадлежности. С одной стороны, существовало общее согласие по поводу того, что шестидесятники были меньшинством в своей возрастной группе. Но многие авторы пытались расширить временные границы этого поколения, чтобы причислить к нему людей других возрастных групп, которые разделяли ценности шестидесятников.
Основываясь на результатах моих собственных эмпирических исследований, и особенно исходя из того, какие исторические события воспринимались ими как определяющие, я не считаю указанный подход оправданным. Это поколение было объединено общим опытом знаковых событий, которые имели место в период политической и культурной социализации, т. е. в возрасте между шестнадцатью и двадцатью пятью годами. Для подавляющего большинства участников диссидентского движения это были — как и для большинства людей их возраста — события 1956 года: в первую очередь XX съезд КПСС, а также венгерское восстание, его подавление советскими войсками и протесты в Польше. Это четко отделяет шестидесятников от предыдущего поколения, представители которого считают самым главным событием в своей жизни Вторую мировую войну. «Мы — дети Двадцатого съезда» — это была типичная самоидентификация многих известных диссидентов. «Речь Хрущева прогремела как взрыв бомбы и в то же время породила надежду на то, что все будет по-другому. Но в то же время Хрущев послал войска в Венгрию, чтобы подавить революцию. И все иллюзии, все надежды исчезли».
Стержень поколения «шестидесятников» состоял из людей, рожденных в период с 1931 по 1940 годы, которые пережили события 1956 года в возрасте от шестнадцати до двадцати пяти лет. В то время как границу, отделяющую их от военного поколения, можно описать достаточно четко, граница, отделяющая их от последующего поколения, более размыта. Причиной этого является тот факт, что период «оттепели» в СССР длился несколько лет и реформы, которые начались в 1956 году, имели вплоть до середины 1960-х определяющее значение для социализации более младших возрастных групп, рожденных примерно до 1945 года. Некоторые авторы считают, что «эпоха 1960-х» длилась с 1956 до 1968 года.
Даже несмотря на то, что те же события повлияли на всю советскую молодежь этого периода, только меньшинство этой возрастной группы можно отнести к поколению шестидесятников по той причине, что эти события воспринимались по-разному в зависимости от социального окружения, в котором проходил процесс взросления. В советском обществе того периода имелись большие социальные и культурные отличия с социально-пространственной точки зрения: между столицей и провинцией, между городом и деревней, между разными уровнями иерархической структуры поселений. Этим объясняется то, что социальные инновации зарождались в больших городах, в основном в Москве и Ленинграде, и оказывали влияние на другие части страны только спустя некоторое время. Например, в то время как в Москве диссиденты в конце 1960-х активно выступали публично, проводили открытые собрания и публиковали петиции, в провинции действовали в основном законспирированные группы, подпольно распространявшие листовки, — стадия, которую столица давно прошла. «Оттепель» и новые модели поведения стали достоянием прежде всего москвичей. Доступ к текущей информации, возможность контактов с иностранцами и встречи с известными людьми — все эти возможности были ограничены пределами Москвы. Почти все известные представители науки, культуры и искусства стремились в Москву, где они могли найти лучшие условия для работы и жизни и где контроль со стороны властей был менее жестким. В Москве сложились наиболее благоприятные условия для возникновения особой атмосферы «вольнодумства», которое сформировало благодатную почву для политического протеста и «второй культуры». Поэтому «шестидесятники» были московским и ленинградским явлением, чье дальнейшее влияние распространялось на ограниченный слой интеллектуалов в нескольких крупнейших городах.
Советские диссиденты представляют только одну часть политически амбициозных шестидесятников, которые вскоре после своего появления стали различаться по идеологическим критериям. Сначала «настоящие ленинисты» отделили себя от тех, кто выступал от имени диссидентского и правозащитного движения. Затем отделилась аграрно-консервативная часть (почвенники). Несмотря на идеологические различия, которые в результате привели его участников в оппозиционные политические лагеря, шестидесятники сохранили чувство поколенческого единства до конца. Это было основано на сильной символической интеграции, которая была создана культовыми поэтами того времени (Евтушенко, Вознесенский, Бродский, Рождественский) и бардами (Окуджава, Галич), а также олицетворялась героической фигурой «физика» — романтизированного представителя технологического прогресса.
То, что диссиденты продолжали считать себя принадлежащими к этому поколению, стало особенно понятно в годы «перестройки». Даже в то время, когда давление режима прекратилось, они доверяли больше своим политическим противникам-шестидесятникам, нежели политическим единомышленникам из младших поколений, которые культурно были им чужды. Теперешних противников связывала общая поколенческая этика, общие правила игры, соблюдение которых делало участников дискуссии понятными и предсказуемыми. Это объясняет и то, почему либерально-демократические интеллектуалы, несмотря на свою изначальную популярность, быстро утратили большую часть политической значимости во время «перестройки» и особенно после нее.
Определяющее значение поколения шестидесятых для диссидентского движения подтверждают эмпирические данные о 385 активистах диссидентского движения, которые пострадали от репрессий между 1956 и 1985 годами.
Таблица 1. Возрастная структура диссидентского движения
| Год рождения респондента | Доля, в % |
|---|---|
| 1925 и раньше | 11,9 |
| 1926–1930 | 8,8 |
| 1931–1935 | 20 |
| 1936–1940 | 29,1 |
| 1941–1945 | 10,4 |
| 1946–1950 | 11,9 |
| 1951–1955 | 3,6 |
| 1956 и позднее | 4,2 |
Хорошо видно, что в основном движение протеста было шестидесятническим. В возрастных когортах, которые безусловно должны укладываться во временные границы поколения (1931–1945), доля активистов движения значительно выше, чем у родившихся раньше или позже. На первый взгляд, может сложиться впечатление, что когорта родившихся в 1941–1945 годах была сравнительно пассивнее родившихся позже. Но это впечатление обманчиво, поскольку рождаемость во время войны была намного меньше, чем в послевоенные годы; и на самом деле протестная активность среди немногочисленных детей военных лет была в полтора раза выше.
То, что шестидесятники сформировали основу диссидентского движения более чем на три десятилетия, доказывает и тот факт, что большинство жертв политических преследований до 1980-х годов принадлежали этому поколению. Численность молодых людей в возрасте до 30 лет среди общего числа впервые осужденных уменьшалась с течением времени: от 83 % в период с 1956 по 1960 год до 25–30 % в первой половине 1980-х. В то же время средний возраст активных диссидентов увеличивался: с 26 лет в 1950-х до 30 лет в 1960-х и до 37 лет в 1970-х годах. Все это свидетельствует скорее о пополнении сопротивления новыми шестидесятниками, а не представителями последующего поколения.
Таблица 2. Уровень образования диссидентов
| Образование | Доля, в % |
|---|---|
| Высшее | 51,3 |
| Неполное высшее | 20,4 |
| Среднее техническое | 6,5 |
| Среднее | 15,9 |
| Неполное среднее | 5,9 |
Таким образом, 70–80 % диссидентов поколения шестидесятников учились в вузах. В более поздних возрастных группах доля этой группы снижается до 45 %. Высокая доля группы с незаконченным высшим образованием объясняется тем, что студентов, которые участвовали в диссидентском движении, обычно исключали из вузов. В некоторых возрастных группах доля студентов была особенно высока; среди родившихся во время войны она достигала 41 %. Каждый четвертый респондент, рожденный в период между 1936 и 1950 годом, был студентом в момент ареста. С другой стороны, необходимо принять во внимание, что аресту, как правило, предшествовали так называемые профилактические меры, среди которых активно применялось исключение из вуза. Эти цифры показывают, что студенты играли важную роль в поколении шестидесятников. Напротив, среди диссидентов, родившихся после 1950 года, студенты составляли только 10 %.
Таблица 3. Социальная стратификация
| Социальная группа | Доля, в % |
|---|---|
| Гуманитарная интеллигенция | 29,4 |
| Инженеры, технические профессии | 19 |
| Студенты | 16,8 |
| Квалифицированные рабочие | 13,5 |
| Неквалифицированные рабочие | 6,6 |
| Квалифицированные служащие | 6,6 |
| Военные | 4,4 |
| Неквалифицированные служащие | 1,9 |
| Безработные | 1,9 |
Замечу, что причисление конкретных людей к тем или иным социальным группам вызывает определенные трудности. Во-первых, официальная статистика по бывшим заключенным часто дает искаженную информацию. Многие диссиденты не могли продолжать работать по специальности после «профилактических мер» и были вынуждены заниматься гораздо менее квалифицированным трудом. Поэтому, скорее всего, подлинная доля рабочих значительно меньше, чем указано в таблице. В то же время данные показывают, что диссидентское движение поддерживала главным образом интеллигенция, и более всего гуманитарная. Половина диссидентов из поколения, предшествовавшего шестидесятникам, принадлежала к этому слою; среди шестидесятников их было 30 %; в послевоенном поколении — только 10 %. Молодые диссиденты, которые стали активными только в конце 1970-х годов, представляли собой совершенно другую социальную структуру. Можно говорить о маргинализации новых диссидентов, где каждый шестой был занят малоквалифицированным трудом при высшем образовании, что, в свою очередь, указывает на трудности социальной адаптации и относительную депривацию. Это отличие также свидетельствует об определенной качественной грани, отделяющей шестидесятников от других поколений.
Возникновение критически настроенной среды и появление диссидентского движения было тесно связано с развитием нового пространства для социального общения, в результате чего соотношение приватного и публичного заметно изменилось. Различие между публичной и приватной сферами, несомненно, рассматривается как продукт западноевропейского типа социального развития. Эта концепция не может быть просто перенесена на анализ социалистического государства. При коммунистической власти не существовало пространства публичности в классическом понимании этого термина — как политического пространства частных граждан, которые объединяются вне государства (или против него), чтобы привлечь интерес общества к проблемам, касающимся всех, и таким образом пытаются влиять на волю государства и законодательство. Кроме того, дихотомические модели, которые относят все социальные явления либо к публичной, либо к приватной сфере, не подходят для обществ советского типа. Конечно, и в Советском Союзе были разные пространства коммуникации, но они были устроены иначе, нежели в западных обществах.
Формальным пространством публичной коммуникации, характер которого менялся в зависимости от ситуации в стране, но не по функциональной сути, может быть описан как «официальная публичная сфера». Это была сфера, которая регулировалась писаным правом и где табуировано для обсуждения было почти все, что попадало под «право обычая». Все остальное пространство коммуникации регулировалось именно неформальными правилами, складывающимися стихийно. Реальные возможности государства по контролю за коммуникацией вне официальной публичной сферы существенно снижались по мере расширения этого пространства, которое можно назвать «приватно-публичной сферой».
В официальном публичном дискурсе жизнь советских граждан соотносилась с идеализированным «советским образом жизни» — утопией, которая имела минимальное отношение к повседневной жизни. Обсуждение в этой сфере проблем «реальной жизни» допускалось лишь в виде борьбы с «пережитками капитализма». Официальная публичная сфера была надежно отделена от других социальных сфер строго ограниченным набором разрешенных тем и надлежащих интерпретаций. Большинство граждан считали то, что говорилось в официальных СМИ или на собраниях, ритуальными «пустыми словами», не имеющими значения в реальной жизни. Соблюдение границы между официальным публичным и приватно-публичным пространствами было само по себе правилом повседневной жизни советских граждан, поскольку нарушение его могло иметь серьезные последствия. Каждый должен был играть по правилам, соответствующим ситуации, в зависимости от того, находился ли он внутри или за пределами официальной сферы. Этот феномен часто описывался в литературе как двойные стандарты общения и «социальная шизофрения» homo soveticus.
В сталинский период социальная коммуникация в наибольшей степени определялась официальной публичной сферой. Приватная сфера сохранялась в лучшем случае как рудимент. Провозглашалось, что проблемы приватной жизни могут и должны обсуждаться в официальных структурах. Приватность советского человека попала под жесткий контроль государства. Жизненные условия в «коммуналках» почти не оставляли человеку возможности иметь частное пространство. Свободное общение, таким образом, было связано с большим риском доноса со стороны соседей и даже членов своей семьи. В сталинских условиях никакой другой публичной сферы, кроме официальной, не могло возникнуть. В этом кроется одна из причин, почему политическое сопротивление в тот период имело исключительно конспиративный и изолированный характер.
Ситуация стала меняться в середине 1950-х годов, по окончании политики жестоких репрессий и с началом массового жилого строительства, когда у многих граждан появилась отдельная квартира — физическое пространство, сделавшее возможной приватную жизнь в полном смысле этого слова.
С другой стороны, появившаяся возможность оказаться в любое время в приватном пространстве позволила человеку открыть это пространство для других в рамках им самим определяемых границ — приглашать друзей, знакомых и коллег по работе. В новых квартирах стал развиваться новый стиль жизни, характеризовавшийся высокой степенью коммуникабельности. Постепенно возникло множество полуприватных пространств. В данном случае нельзя с уверенностью говорить о «свободе ассоциаций» — важнейшей основе буржуазного общественного строя, тем не менее развивалась сфера, в которой люди не только разговаривали о личных делах, но в которой было место и для политических дискуссий. Постепенно формировалась «приватно-публичная сфера», которая функционировала как промежуточное пространство между официальной публичной и приватной, обеспечивая возможность для развития политических взглядов, не совпадающих с предписанными сверху. В этом приватно-публичном пространстве могло обсуждаться практически все, потому что государственный контроль над ним все более ослабевал. Окончательно сформировалась сфера, регулируемая повседневными правилами, «правом обычая», которая начиналась с легендарных «интеллигентских» кухонь, а позже расширилась до всего пространства повседневной жизни.
Однако это «другое» публичное пространство не следует путать с так называемым вторым обществом, которое часто обсуждается в западной научной литературе о диссидентстве. Приватно-публичная сфера не была единственным пространством для общения. Это была часть повседневной жизни каждого советского гражданина, который за свою жизнь научился четко различать, где, с кем и о чем он может говорить. Но все же это было публичное пространство, в котором могли возникнуть различные субкультуры и альтернативные политические группы, где могли развиваться коммуникативные структуры, благодаря которым на смену изолированному и законспирированному сопротивлению могло прийти квазипубличное протестное движение.
Следующая схема иллюстрирует, как менялось соотношение сфер общения в различные периоды советской истории.
Диаграмма 1. Приватно-публичная сфера в советском обществе
Между приватно-публичной сферой и официальной публичной сферой существовала четкая граница в течение всех послесталинских десятилетий. Вместе с тем «вторая публичная сфера» существенно расширялась по мере ослабления официальной публичной сферы. Поскольку общество не смогло бы функционировать по формальным законам без угрозы подрыва неформальных правил (не менее легитимных в глазах населения), государство было вынуждено закрыть глаза на многие социальные практики, невозможные с точки зрения официальной идеологии. Возникло своего рода негласное соглашение между гражданами и государством о взаимном уважении границы между двумя публичными сферами. Нарушение этой границы не только наказывалось властями, но нередко осуждалось и самими гражданами.
Советские люди, включая шестидесятников, всегда соблюдали эти правила. В рамках приватно-публичной сферы шестидесятники сделали нормальной критику действий государства, что раньше было невозможно даже в приватной сфере из-за высокого риска репрессий. При этом они существенно расширили пространство для дискуссий, не инициированных государством, в том числе и в рамках официальной публичной сферы. Это стало возможным потому, что шестидесятники входили в редакции литературных журналов и в другие культурные институты, а также благодаря поддержке некоторых относительно либеральных функционеров, таких как будущий идеолог «перестройки» Александр Яковлев. Однако успех этих попыток оставался ограниченным.
Начиная с середины 1960-х годов стали все настойчивее делаться попытки сознательного нарушения границы между приватно-публичной и официальной публичной сферой. Это и стало началом диссидентского движения. Сам факт требований к власти соблюдать декларируемые государством Конституцию, законы и права человека («Соблюдайте ваши законы!») принципиально разрушал неписаные, но при этом легитимные «правила игры». Диссидентов в данном контексте можно определить как граждан, которые демонстративно переносили в сферу официальной публичности правила, предназначенные исключительно для приватнопубличной сферы. Их лозунг «Жить не по лжи!» означал требование сделать правила в обеих публичных сферах идентичными. Таким образом, диссидентом следует считать того, кто не просто нарушал границу, а сознательно стремился ее разрушить. Тем самым подрывалось одно из главных условий стабильности советского режима, поскольку диссиденты старались перенести обсуждение проблем реальной жизни в официальную публичную сферу. Диссиденты первыми пытались сформировать зародыш гражданского общества в СССР, создавая независимые гражданские ассоциации вне контроля государства. Когда режим понял реальность этой угрозы, он начал жесткое преследование диссидентского движения.
Самая важная характеристика социальных изменений периода «оттепели», который породил поколение шестидесятников и тем самым диссидентское движение, состоит в том, что для определенной социальной группы появилась возможность выбора между разными жизненными перспективами. Новая возможность выбора стимулировала интеллектуальную активность, поиск своего пути. Однако это не коснулось большинства населения: чаще всего социальная среда не позволяла выйти за пределы идеологических догм и стереотипов поведения. Не все увидели выбор. Шестидесятниками, прежде всего, стали либо студенты, вырвавшиеся из прежней социальной среды, либо молодые люди из тех немногих семей, где дух фронды существовал уже у их родителей.
Среди принадлежавших к шестидесятникам людей лишь меньшинство участвовало в политическом протесте. Мало было объективных возможностей для альтернативных действий, а плата за участие в протесте была очень высока. И все-таки это было особенное поколение, которое создало необходимые условия для последующих революционных изменений.
Между диссидентским движением и последующими политическими движениями периода «перестройки» имеются существенные различия. Эти различия были вызваны, прежде всего, принципиальными изменениями в структуре политических возможностей, увеличением степени открытости режима. Все более открытым режим делало развитие политического протеста, что, в свою очередь, создавало дополнительные предпосылки для развития движений. Участвовавшие в протесте на его ранней стадии «жаворонки» заплатили максимальную цену, создав политические возможности для активизировавшихся позже «сов». В годы «перестройки» на сцену вышли новые поколения. Чем более радикальными становились новые движения, тем менее значимыми выглядели шестидесятники и диссиденты. И уже во всяком случае не они воспользовались плодами революции, что, впрочем, подтверждает известную историческую закономерность.
Биографические комментарии
АН — Академия наук
ВКП(б) — Всесоюзная коммунистическая партия (большевиков) ВЛКСМ — Всесоюзный ленинской коммунистический союз молодежи ВОВ — Великая Отечественная война
ВЦИОМ — Всероссийский центр изучения общественного мнения
ГУЛаг — Главное управление лагерей
д. и. н. — доктор исторических наук
д. ф.-м. н. — доктор физико-математических наук
д. э. н. — доктор экономических наук
ИНИОН — Институт научной информации по общественным наукам
КГБ — Комитет государственной безопасности
к. биол. н. — кандидат биологических наук
к. и. н. — кандидат исторических наук
к. ф.-м. н. — кандидат физико-математических наук
к. филол. н. — кандидат филологических наук
к. филос. н. — кандидат философских наук
к. э. н. — кандидат экономических наук
КПСС — Коммунистическая партия Советского Союза
ЛХГ — Литовская Хельсинкская группа
МВД — Министерство внутренних дел
МГУ — Московский государственный университет
МИТХТ — Московский институт тонкой химической технологии
МХГ — Московская Хельсинкская группа
НИПЦ — научно-информационный и просветительский центр
ОБСЕ — Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе
ПБ — психиатрическая больница
РГГУ — Российский государственный гуманитарный университет
РПЦ — Русская православная церковь
РФ — Российская Федерация
СЖ — Союз журналистов
СИЗО — следственный изолятор
СК — Союз композиторов
СМОГ — «Самое молодое общество гениев»
СМОТ — Свободное межпрофессиональное объединение трудящихся СП — Союз писателей
СПБ — специальная психиатрическая больница УХГ — Украинская Хельсинкская группа «Хроника» — «Хроника текущих событий»
ЦЭМИ — Центральный экономико-математический институт ЦК — Центральный комитет
ЦКК — РКИ — Центральная контрольная комиссия — Рабоче-крестьянская инспекция
АГАНБЕГЯН АБЕЛ ГЕЗЕВИЧ (р. 1932), экономист. Академик АН СССР (с 1974). Директор Института экономики и организации промышленного производства Сибирского отделения АН СССР (с 1966). Основное направление научной деятельности: проблемы производительности труда, заработной платы и уровня жизни, разработка моделей для оптимального перспективного планирования. В самиздате распространялось несколько документов о критическом положении в советской экономике, приписываемые А. Изъятые на обысках, эти документы инкриминировались на судебных процессах над диссидентами. В таких случаях А. отказывался от авторства. Ныне — ректор Академии народного хозяйства при Правительстве РФ.
АДЖУБЕЙ АЛЕКСЕЙ ИВАНОВИЧ (1924–1993), журналист. Зять Н. С. Хрущева. Главный редактор «Комсомольской правды» (1957–1959), а затем «Известий» (с 1959). Член ЦК КПСС (с 1961). Освобожден от должности и выведен из состава ЦК постановлением пленума ЦК КПСС в октябре 1964-го. Автор мемуаров «Те десять лет».
АЛЕШКОВСКИЙ ЮЗЕФ (ЮЗ, настоящее имя ИОСИФ) ЕФИМОВИЧ (р. 1929), писатель, поэт. Узник сталинских лагерей. Получил известность как автор песен, распространявшихся в магнитиздате («Товарищ Сталин, вы большой ученый», «Советская пасхальная», «Окурочек» и др.), начиная с 1950-х; автор самиздата (антитоталитарная сатирическая повесть «Николай Николаевич», 1970), участник альманаха «Метрополь» (1979). Эмигрировал в США (1979).
АЛЛИЛУЕВА СВЕТЛАНА ИОСИФОВНА (р. 1926), дочь Сталина. Филолог, переводчик. Отказалась вернуться в СССР (1967). С этого времени по 1984-й и с 1986-го живет за границей. Книги воспоминаний «Двадцать писем другу», «Только один год» (в основном в тамиздате) циркулировали в СССР, изымались при обысках.
АЛЬБРЕХТ ВЛАДИМИР ЯНОВИЧ (р. 1933), математик. Активист еврейского движения за выезд в Израиль. Читал лекции по правовому просвещению, автор самиздата: пособия «Как быть свидетелем», «Как вести себя на обыске» (1976), статьи в «Поисках сути», «Непроторенными путями закона», «140 вопросов по делу Твердохлебова» (1977). Один из основателей «Группы—73» — правозащитной организации, помогавшей политзаключенным и преследуемым по политическим мотивам (с 1973). Секретарь советской секции «Международной Амнистии» (1975–1981). Инициатор сбора средств для детей политзаключенных. Политзаключенный (1983–1987). Эмигрировал в США (1988).
АМАЛЬРИК АНДРЕЙ АЛЕКСЕЕВИЧ (1938–1980), историк, публицист. Автор эссе «Просуществует ли Советский Союз до 1984 года?» Первый диссидент, который открыто общался с иностранными журналистами и дипломатами, передавая им информацию о борьбе за права человека в СССР. Политзаключенный (1965–1966 в ссылке; 1970–1973; 1973–1975 в ссылке). Эмигрировал во Францию (1976). Автор мемуаров «Записки диссидента».
АМАЛЬРИК ГЮЗЕЛЬ КАВЫЛЕВНА (р. 1942), художница. Жена А. А. Амальрика. Последовала за мужем в ссылку (1965). Эмигрировала во Францию (1976). Мемуарист.
БАБИЦКИЙ КОНСТАНТИН ИОСИФОВИЧ (1929–1993), лингвист. Участник петиционных кампаний. Участник «демонстрации семерых» на Красной площади (25.08.1968). Политзаключенный (1968–1970 в ссылке).
БАТКИН ЛЕОНИД МИХАЙЛОВИЧ (р. 1932), историк, культуролог, публицист. Д. и. н. Автор самиздата: статья «Неуютность культуры» (альманах «Метрополь», 1979). Видный публицист и общественный деятель эпохи «перестройки». В настоящее время главный научный сотрудник Института высших гуманитарных исследований РГГУ.
БЕЛОГОРОДСКАЯ ИРИНА МИХАЙЛОВНА (р. 1938), инженер. Участница петиционных кампаний. Помогала в размножении и распространении «Хроники текущих событий». Политзаключенная (1968–1969; 1973). Эмигрировала во Францию (1975).
БЕРГЕР ЯКОВ МИХАЙЛОВИЧ (р. 1929), синолог. Д. и. н. В 1970–1990-х заведующий отделом в ИНИОН АН СССР. Отдел публиковал под грифом «для служебного пользования» реферативные сборники, в которых освещались работы запрещенных в СССР западных ученых, таких как М. Вебер, Р. Арон, К. Ясперс, К. Мангейм, Д. Белл. В отделе работали специалисты, которые по идеологическим причинам не могли реализовать свои профессиональные знания, среди них были философы А. М. Пятигорский и Р. А. Гальцева, театровед Н. А. Крымова, литературовед И. Б. Роднянская, социолог В. А. Чаликова, историки Л. М. Алексеева и P. C. Горелик (супруга историка М. Я. Гефтера). Среди внештатных сотрудников отдела было также много известных специалистов, находившихся в конфронтации с режимом: Л. В. Карпинский, Р. Д. Орлова, С. С. Аверинцев и др. В настоящее время — главный научный сотрудник Института Дальнего Востока РАН, заместитель главного редактора журнала «Проблемы Дальнего Востока».
БОГОРАЗ ЛАРИСА ИОСИФОВНА (1929–2004), филолог. К. филол. н. Стояла у истоков правозащитного движения. Участница петиционных кампаний. Автор правозащитных документов, распространявшихся в самиздате: «К мировой общественности» (1968, совместно с П. М. Литвиновым), «Московское обращение» (1974), письмо в защиту С. А. Ковалева (1975) и др. Участница «демонстрации семерых» на Красной пл. (25.08.1968). Политзаключенная (1968–1971 в ссылке). Участвовала в выпуске самиздатского исторического сборника «Память» (1976–1981). Член МХГ (с 1989).
БОГУШИС ВИТАУТАС (р. 1958), в 1970-е ученик школы им. Венуолиса (Вильнюс). Исключен за отказ давать показания по делу В. Пяткуса (1976). Участвовал в издании самиздатских журналов «Лайсвес шауклис» («Вестник свободы»), «Витис». Активист общественных движений времен перестройки. С 1992 депутат Сейма Литовской Республики.
БОННЭР ЕЛЕНА ГЕОРГИЕВНА (р. 1923), врач. Жена А. Д. Сахарова. Участник и инвалид ВОВ. Участница петиционных кампаний. Учредительница Фонда помощи детям политзаключенных (1974). Одна из основателей МХГ (с 1976). Политзаключенная (1984–1986 в ссылке). Постоянно помогала Сахарову в его правозащитной деятельности. Основательница Фонда, музея и архива Сахарова. Член Комиссии по правам человека при Президенте РФ (1993–1994, вышла в знак протеста против войны в Чечне). Автор книг «Постскриптум», «Дочки-матери», «Вольные заметки к родословной Андрея Сахарова».
БОРИСОВ ВЛАДИМИР ЕВГЕНЬЕВИЧ (р. 1943), рабочий. Участник подпольного социал-демократического кружка (1964), член Инициативной группы по защите прав человека в СССР (с 1969), один из основателей СМОТ (1978) — первого в СССР независимого профсоюзного объединения. Политзаключенный (1969–1974 в СПБ и ПБ; 1976–1977 в ПБ). Собирал и передавал на волю информацию о карательной психиатрии в СССР. Выдворен из СССР (1980). Живет во Франции.
БРЕГЕЛЬ ЮРИЙ ЭНОХОВИЧ (р. 1925), историк, тюрколог. Участник ВОВ. Одноделец В. Р. Кабо. Узник сталинских лагерей (1949–1954). Эмигрировал в Израиль (1973). С 1979 живет в США.
БРОДСКИЙ ИОСИФ АЛЕКСАНДРОВИЧ (1940–1996), поэт, переводчик, эссеист. Автор самиздата: журнал «Синтаксис» (1960, № 3). Со второй половины 1960-х популярнейший автор поэтического сам- и тамиздата (стихи изымались при обысках). Травля в печати (с 1963). Политзаключенный (1964–1965 в ссылке, помилован). В самиздате циркулировала стенограмма процесса. В 1972-м эмигрировал, жил в США. Лауреат Нобелевской премии по литературе (1987).
БУКОВСКИЙ ВЛАДИМИР КОНСТАНТИНОВИЧ (р. 1942), правозащитник, публицист. Один из организаторов неформальных поэтических чтений на пл. Маяковского (1960–1961), «митинга гласности» (5.12.1965), демонстрации на Пушкинской пл. (22.01.1967). В начале 1970-х передал на Запад документы о карательной психиатрии в СССР. Политзаключенный (1963–1965 в СПБ; 1965–1966 в ПБ; 1969–1970; 1971–1976). Выслан из СССР (1976). Живет в Великобритании. Автор мемуарных книг «И возвращается ветер» и др.
БУРМИСТРОВИЧ ИЛЬЯ ЕВСЕЕВИЧ (р. 1938), математик. К. ф.-м. н. Распространитель самиздата. Политзаключенный (1968–1976). Живет в Москве.
ВЕЛИКАНОВА ТАТЬЯНА МИХАЙЛОВНА (1932–2002), математик-программист, преподаватель. Участница петиционных кампаний. Член Инициативной группы по защите прав человека в СССР (с 1969). С начала 1970-х организатор выпуска «Хроники текущих событий»; одна из инициаторов возобновления издания после перерыва, вызванного шантажом КГБ; в 1974 вместе с С. А. Ковалевым и Т. С. Ходорович письменно и открыто заявила, что берет на себя ответственность за дальнейшее распространение «Хроники». В 1970-е квартира В. стала одним из центров, куда стекалась информация о политических преследованиях со всех концов страны. Политзаключенная (1979–1983; 1983–1987 в ссылке).
ВЕНЦЛОВА ТОМАС (р. 1937), поэт, литературовед, переводчик. Участник петиционных кампаний. Один из основателей ЛХГ (с 1976). Выехал в США и был лишен советского гражданства (1977). Стал зарубежным представителем ЛХГ. Профессор кафедры славянских языков и литератур Йельского университета (США).
ВИГДОРОВА ФРИДА АБРАМОВНА (1915–1965), литератор, журналист, педагог. Организатор общественной кампании в защиту И. А. Бродского (1964–1965); составила и распространила в самиздате стенограмму судебного процесса над поэтом. Этот документ дал старт традиции правозащитной публицистики.
ВИЛЬЯМС НИКОЛАЙ НИКОЛАЕВИЧ (р. 1926), математик. Муж Л. М. Алексеевой. Будучи студентом механико-математического факультета МГУ, входил в компанию «Братство нищих сибаритов» (1944–1945). Узник сталинских лагерей. Участник петиционных кампаний. Подвергся преследованиям: вынужден уйти с работы (МИТХТ, 1968). Эмигрировал в США (1977). Вернулся в Россию (1993).
ВОЛЬПИН (ЕСЕНИН-ВОЛЬПИН) АЛЕКСАНДР СЕРГЕЕВИЧ (р. 1924), математик, философ, поэт. Сын поэта С. А. Есенина. Политзаключенный (1949 в СПБ; 1950–1953 в ссылке; 1959–1961 в СПБ). В 1959 на Западе вышел сборник философских и поэтических произведений В. Одним из первых начал активно пропагандировать правовой подход к проблеме отношений между личностью и государственной властью применительно к советской ситуации. Организатор «митинга гласности» на Пушкинской пл. (5.12.1965). Автор ряда работ, посвященных теоретическим и практическим аспектам проблемы законодательного обеспечения прав человека в СССР. Эксперт Комитета прав человека (с 1970). Эмигрировал в США (1972).
ГАБАЙ ИЛЬЯ ЯНКЕЛЕВИЧ (1935–1973), педагог, поэт. Участник «митинга гласности» (5.12.1965) и демонстрации на Пушкинской пл. (22.01.1967). Политзаключенный (1967 в СИЗО). Участник петиционных кампаний. Один из первых участников издания «Хроники текущих событий» (1968–1969). Автор распространявшегося в самиздате сборника стихов. Вновь арестован (1969–1972).
ГАВЕЛ (HAVEL) ВАЦЛАВ (р. 1936), чешский драматург, публицист, философ. Активист «пражской весны». Один из лидеров правозащитного движения в Чехословакии; один из основателей «Хартии-77». Неоднократно подвергался тюремному заключению. Президент Чехословакии (1989–1992), Чехии (1993–2003).
ГАЛАНСКОВ ЮРИЙ ТИМОФЕЕВИЧ (1939–1972), поэт, журналист. Активист неформальных поэтических чтений на пл. Маяковского (1959–1961). Автор и редактор самиздата: составитель сборников «Феникс» (1961, 1966). Участник «митинга гласности» (5.12.1965). Политзаключенный (1967–1972). Один из инициаторов сопротивления заключенных произволу администрации. Умер в лагерной больнице.
ГАЛИЧ (настоящая фамилия ГИНЗБУРГ) АЛЕКСАНДР АРКАДЬЕВИЧ (1919–1977), драматург, киносценарист, поэт-бард. Некоторые его песни стали эмблематичными для диссидентов, широко распространялись в магнитиздате, изымались на обысках (в самиздате распространялся сборник «Книга песен» (1968)), с 1969 печатался за границей. Член-корреспондент Комитета прав человека (1970–1973). Участник петиционных кампаний. Подвергался преследованиям: запрещение пьесы «Матросская тишина» (1957), травля в печати, прекращение публикаций в официальной прессе (1968, за участие в Фестивале бардов в Новосибирске), исключение из СП СССР (1971), СК СССР и Литфонда (1972), книги были изъяты из продажи и библиотек (1974). Эмигрировал во Францию (1974). Мемуарист.
ГАСТЕВ ЮРИЙ АЛЕКСЕЕВИЧ (1928–1993), математик. К. ф.-м. н. Будучи студентом механико-математического факультета МГУ входил в компанию «Братство нищих сибаритов» (1944–1945). Узник сталинских лагерей. Участник петиционных кампаний; участник издания «Хроники текущих событий». Автор самиздата: очерк «Судьба „нищих сибаритов“» (исторический сборник «Память», 1978, № 1), статьи об А. Т. Марченко (1980) и А. П. Лавуте (1981). Был исключен из СЖ СССР (1976/ 1977). Эмигрировал в США (1981).
ГИНЗБУРГ АЛЕКСАНДР ИЛЬИЧ (1936–2002), журналист. Автор и редактор самиздата: редактор журнала «Синтакис» (1959–1960), составитель «Белой книги» о деле А. Д. Синявского и Ю. М. Даниэля (1966). Распорядитель Фонда помощи политзаключенным и их семьям (1974–1977). Один из основателей МХГ (с 1976). Политзаключенный (1960–1962; 1967–1972; 1977–1979). В составе группы из пяти политзаключенных обменен на двух советских шпионов и выслан из СССР (1979). Был политическим обозревателем газеты «Русская мысль» (Париж).
ГИНЗБУРГ (по первому мужу ЖОЛКОВСКАЯ) ИРИНА (АРИНА) СЕРГЕЕВНА (р. 1937), филолог, журналист. Жена А. И. Гинзбурга. Участница петиционных кампаний. Автор самиздата: подготовила документальные сборники «История одной голодовки» (1968), «Калуга, июль 1978». Одна из организаторов помощи политзаключенным, сотрудница Фонда помощи политзаключенным и их семьям (с 1974), распорядитель Фонда (1977–1980). Эмигрировала во Францию (1980). Заместитель главного редактора газеты «Русская мысль» (Париж, 1980–1997).
ГЛАЗКОВ НИКОЛАЙ ИВАНОВИЧ (1919–1979), поэт. С его именем связывают появление термина «самиздат». Г. составлял небольшие машинописные сборники своих стихов и миниатюр, сшивал их в брошюры, а на титуле ставил «Самсебяиздат».
ГНЕДИН (настоящая фамилия ГЕЛЬФАНД) ЕВГЕНИЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ (1898–1983), журналист-международник, дипломат. Узник сталинских лагерей. Участник петиционных кампаний. Автор распространявшихся в самиздате мемуаров «Катастрофа и второе рождение». Сотрудничал с журналом «Поиски» и историческим сборником «Память». Вышел из КПСС из-за идейных расхождений (1979).
ГОЛЬДФАРБ АЛЕКСАНДР ДАВИДОВИЧ (р. 1947), биолог. Участник еврейского движения за выезд в Израиль. Эмигрировал в Израиль (1975). Профессор Колумбийского университета (США). С 2000 возглавляет созданный Б. А. Березовским Фонд гражданских свобод.
ГОРБАНЕВСКАЯ НАТАЛЬЯ ЕВГЕНЬЕВНА (р. 1936), поэт, переводчик. Участница петиционных кампаний. Первый редак тор «Хроники текущих событий». Участница «демонстрации семерых» на Красной площади (25.08.1968). Составила сборник «Полдень» о демонстрации и процессе над ее участниками (1969). Член Инициативной группы по защите прав человека в СССР (с 1969). Политзаключенная (1969–1972 в СПБ). Эмигрировала во Францию (1976). Сотрудник газеты «Русская мысль» (Париж).
ГРИГОРЕНКО ПЕТР ГРИГОРЬЕВИЧ (1907–1987), военный, публицист. На военной службе (с 1931), генерал-майор. Участник ВОВ. Преподаватель Военной академии им. Фрунзе. Был снят с должности за выступление на партконференции с требованием демократизации КПСС (1961), переведен на Дальний Восток. Организовал подпольный «Союз борьбы за возрождение ленинизма» (1963). Арестован и разжалован в рядовые (1964–1965 в СПБ). Участник петиционных кампаний. Автор самиздата: статья «Сокрытие исторической правды — преступление против народа» (1967), составитель сборника памяти А. Е. Костерина (1968), очерка «О специальных психиатрических больницах („дурдомах“)» (1968). Активно помогал движению крымских татар за возвращение в Крым. Вновь арестован (1969–1974 в СПБ и ПБ). Один из основателей МХГ и УХГ (с 1976). В 1977 году выехал на лечение в США, был лишен советского гражданства (1978). Стал зарубежным представителем УХГ. Автор мемуаров «В подполье можно встретить только крыс».
ДАНИЭЛЬ АЛЕКСАНДР ЮЛЬЕВИЧ (р. 1951), математик, историк. Сын Ю. М. Даниэля и Л. И. Богораз. Автор и редактор самиздата: один из редакторов «Хроники текущих событий» (1974–1980), участник издания исторического сборника «Память» (1976–1981). Руководитель программы «История инакомыслия в СССР. 1954–1987» НИПЦ «Мемориал».
ДАНИЭЛЬ ЮЛИЙ МАРКОВИЧ (1925–1988), писатель, поэт, переводчик. С 1959 передавал свои произведения для публикации за рубежом под псевдонимом Николай Аржак («Говорит Москва», «Искупление» и др.). Политзаключенный (1965–1970). Участник акций протеста политзаключенных. В самиздате распространялись сборники «Стихи 1965–1967» (1968), поэма «А в это время…» (1968). После освобождения жил в Калуге, занимался стихотворными переводами. Вплоть до «перестройки» публиковаться под своей фамилией ему было запрещено.
ДЕЛОНЕ ВАДИМ НИКОЛАЕВИЧ (1947–1983), поэт. Участник неформальных поэтических чтений на пл. Маяковского (1960–1961). Примыкал к СМОГ. Участник демонстраций на Пушкинской пл. (22.01.1967) и на Красной пл. («демонстрация семерых», 25.08.1968). Политзаключенный (1967 в СИЗО; 1968–1971). Эмигрировал во Францию (1975). Автор мемуаров «Портреты в колючей раме».
ДЕЛЮСИН ЛЕВ ПЕТРОВИЧ (р. 1923), синолог. Д. и. н. Участник ВОВ. Директор ИНИОН (прежнее название — Фундаментальная библиотека по общественным наукам) АН СССР (1970–1972). Принимал на работу диссидентов и так называемых евреев-отказников. Заведующий отделом Китая Института востоковедения АН СССР (1972–1990). В настоящее время главный научный сотрудник Института международных экономических и политических исследований.
ДЖЕМИЛЕВ (АБДУЛДЖЕМИЛЬ) МУСТАФА (р. 1943), один из лидеров движения крымских татар за возвращение в Крым. Член Инициативной группы по защите прав человека в СССР (с 1969). Политзаключенный (1966–1967; 1969–1972; 1974–1975; 1975–1977; 1979–1982 в ссылке; 1983–1986). С 1991 председатель Меджлиса крымско-татарского народа (Симферополь).
ДОБРОВОЛЬСКИЙ АЛЕКСЕЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ (р. 1938), рабочий, публицист. Организатор подпольной группы «Российская национально-социалистическая партия» (1957). Политзаключенный (1958–1961; 1964–1966 в СПБ и ПБ). Член Народно-трудового союза (1966–1967). Участник «митинга гласности» (5.12.1965). После показаний на своих однодельцев на «процессе четырех» (1968) стал персоной non grata в диссидентском кругу. С 1989 один из руководителей русских язычников («волхв Доброслав»).
ДОБРУШИН РОЛАНД (ЮЛИК) ЛЬВОВИЧ (1929–1995), математик. Д. ф.-м. н. Участник петиционной кампаний вокруг «процесса четырех» (1968).
ДРЕМЛЮГА ВЛАДИМИР АЛЕКСАНДРОВИЧ (р. 1940), рабочий. Участник «демонстрации семерых» на Красной пл. (25.08.1968). Политзаключенный (1968–1974). Эмигрировал в США (1974).
ДУБЧЕК (DUBИEK) АЛЕКСАНДР (1921–1992), политический деятель Чехословакии. Первый секретарь ЦК Коммунистической партии Чехословакии (1967–1969). Лидер «пражской весны». Исключен из партии (1970). Выдержки из выступлений Д. распространялись в самиздате. После «бархатной революции» 1989 вернулся к политической активности. Был председателем Федерального собрания Чехословакии (с 1989).
ЗАМОЙСКАЯ (ПЕЛЬТЬЕ; PELTIER-ZAMOYSKA) ЭЛЕН, филолог (Франция). Дочь дипломата. В 1948–1950 жила в Москве, училась в МГУ. С 1956, приезжая в СССР, тайно вывозила за границу произведения АД. Синявского, участвовала в их публикации. Выступила в защиту Синявского (1966), А. А. Амальрика (1970). Заведовала кафедрой русской филологии Университета г. Тулузы.
ЗАСЛАВСКАЯ ТАТЬЯНА ИВАНОВНА (р. 1927), экономист, социолог. Основатель отечественной экономической социологии. Академик АН СССР (с 1981). Руководитель социологического отдела Института экономики и организации промышленного производства Сибирского отделения АН СССР (1963–1987). Директор (1988–1991), почетный президент (с 1992) ВЦИОМ. Сопрезидент Междисциплинарного академического центра социальных наук (Интерцентр, с 1993). Основные труды по проблемам социально-экономического развития общества.
ЗОЛОТУХИН БОРИС АНДРЕЕВИЧ (р. 1930), юрист. Адвокат А. И. Гинзбурга на «процессе четырех» (1968), потребовал его оправдания (защитительная речь распространялась в самиздате, вошла в сборник о процессе). Оказывал юридическую помощь правозащитникам (1970–1980). Исключен из коллегии адвокатов и КПСС (1968). В 1990–1995 депутат Верховного Совета РФ, Государственной думы РФ. Член МХГ (с 1989).
КАБО ВЛАДИМИР РАФАИЛОВИЧ (р. 1925), этнограф. Д. и. н. Одноделец Ю. Э. Брсгеля. Узник сталинских лагерей (1949–1954). Эмигрировал в Австралию.
КАЛЛИСТРАТОВА СОФЬЯ ВАСИЛЬЕВНА (1907–1989), адвокат. С конца 1960-х регулярно участвовала в политических процессах, вела дела активистов крымско-татарского движения за возвращение в Крым, защищала В. А. Хаустова (дело о демонстрации 22.01.1967), В. Н. Делоне (дело о «демонстрации семерых», 1968), И. А. Яхимовича (1969), П. Г. Григоренко (1969–1970), Н. Е. Горбаневскую (1970) и др. Речи К. распространялись в самиздате, включены в сборники: «Правосудие или расправа?», «Полдень». Член МХГ (с 1977), консультант Рабочей комиссии по расследованию использования психиатрии в политических целях (1977–1981). Помогала А. Д. Сахарову отвечать на письма.
КАМИНСКАЯ ДИНА ИСААКОВНА (р. 1919), адвокат. Защитник В. К. Буковского (дело о демонстрации 22.01.1967), Ю. Т. Галанскова («процесс четырех», 1967), А. Т. Марченко (1968), Л. И. Богораз и П. М. Литвинова (дело о «демонстрации семерых», 1968), М. Джемилева и И. Я. Габая (1969–1970). Речи К. распространялись в самиздате, включены в сборники: «Правосудие или расправа?», «Процесс четырех», «Полдень», «Ташкентский процесс». С 1971 не допускалась к участию в политических процессах. Эмигрировала в США (1977). Член МХГ (с 1989).
КАПИТАНЧУК ВИКТОР АФАНАСЬЕВИЧ (р. 1945), химик, реставратор. Участник православных религиозных кружков. Один из основателей и секретарь Христианского комитета защиты прав верующих в СССР (с 1976). Политзаключенный (1980 в СИЗО). Реставратор иконной мастерской при Даниловском монастыре (Москва).
КАРАВАНСКИЙ СВЯТОСЛАВ ИОСИФОВИЧ (р. 1920), филолог, журналист. Участник украинского национального движения. Политзаключенный (1944–1960). Протестовал против русификации системы просвещения на Украине. Вновь взят под стражу (1965–1979). В заключении осужден за неоднократные попытки передать на волю свои публицистику, поэзию, заявления, а также информацию о Катынской трагедии. Эмигрировал в США (1979).
КАРПИНСКИЙ ЛЕН ВЯЧЕСЛАВОВИЧ (1929–1995), журналист. Секретарь ЦК ВЛКСМ (1958–1962), член редколлегии «Правды» (1962–1967), спецкорреспондент «Известий» (1967–1969). Выступил с критикой системы административного контроля над театральным репертуаром (1967). Одна из центральных фигур кружка сторонников демократического социализма (с 1969). Автор и хранитель самиздата (с 1969). Исключен из КПСС (1975). Видный общественный деятель периода «перестройки»; политический обозреватель (1989–1991), главный редактор (1991–1993), председатель редакционного совета (1993–1995) газеты «Московские новости».
КЕСТЛЕР (KOESTLER) АРТУР (1905–1983), английский писатель, журналист. Член Коммунистической партии Германии (с 1931); в 1932–1933 совершил поездку по СССР. Впечатления иностранного корреспондента на Гражданской войне в Испании нашли отражение в автобиографической книге «Испанское завещание», написанной во франкистской тюрьме. В 1938 К. вышел из Компартии. В самиздате распространялся роман «Слепящая тьма» («Darkness at Noon», 1941) о Большом терроре в СССР.
КОВАЛЕВ СЕРГЕЙ АДАМОВИЧ (р. 1930), биофизик, правозащитник. К. биол. н. Участник петиционных кампаний. Член Инициативной группы по защите прав человека в СССР (с 1969). Один из редакторов «Хроники текущих событий» (с начала 1970-х); один из инициаторов возобновления издания после перерыва, вызванного шантажом КГБ; в 1974 вместе с Т. М. Великановой и Т. С. Ходорович письменно и открыто заявил, что берет на себя ответственность за дальнейшее распространение «Хроники». Политзаключенный (1974–1981; 1982–1984 в ссылке). Один из основателей и член правления общества «Мемориал» (с 1989). Депутат и член Президиума Верховного Совета России (1990–1993), депутат Государственной думы (1993–2003), первый Уполномоченный по правам человека РФ (1994–1996), председатель Комиссии по правам человека при президенте РФ (1993–1996), подал в отставку в знак протеста против войны в Чечне. Член МХГ (с 1989). Автор книги «Прагматика полити ческого идеализма».
КОПЕЛЕВ ЛЕВ ЗИНОВЬЕВИЧ (1912–1997), филолог-германист, переводчик. Участник ВОВ. Узник сталинских лагерей. Автор и распространитель самиздата, один из организаторов помощи политзаключенным, выступал в защиту преследуемых по политическим мотивам (с 1964). Участник петиционных кампаний. Исключен из КПСС и СП СССР (1977). Выехал в ФРГ (1980), в 1981 лишен гражданства (восстановлено в 1990). Автор мемуарных книг: «Хранить вечно» (1976), «И сотворил себе кумира» (1978), «Утоли моя печали» (1981), «Мы жили в Москве» (1988). В 1998 в Кельне создан Форум им. Льва Копелева, провозгласивший своей целью укрепление культурных связей Германии и России — главного дела жизни К.
КОРНИЛОВ ВЛАДИМИР НИКОЛАЕВИЧ (1928–2002), поэт, писатель. В 1957 был рассыпан набор уже сверстанного сборника стихов К. — «Повестка из военкомата». Две следующие книги стихов («Пристань», 1964 и «Возраст», 1967) по требованию цензуры были значительно изменены. Автор самиздата, регулярно печатался за границей (с 1974). Участник петиционных кампаний. Член советской секции «Международной амнистии» (с 1975). По рекомендации Г. Белля принят во французский ПЕН-клуб (с 1975). Исключен из СП СССР (1977, восстановлен в 1988). Книги изъяты из библиотек и продажи (1979). Вновь начал печататься на родине с 1986.
КОСТЕРИН АЛЕКСЕЙ ЕВГРАФОВИЧ (1916–1968), писатель, журналист. Участник Гражданской войны. Член партии с 1918. Узник сталинских лагерей. Реабилитирован (1955), восстановлен в партии (1959). С 1957 активно выступал в защиту репрессированных народов (чеченцев, крымских татар). Протестовал против ввода советских войск в Чехословакию. Исключен из КПСС и СП СССР (1968). Во время последнего прощания с К. его друзья провели траурный митинг, выступления на котором вошли в самиздатский сборник памяти К., составленный П. Г. Григоренко.
КРАСИН ВИКТОР АЛЕКСАНДРОВИЧ (р. 1929), экономист. Узник сталинских лагерей. Участвовал в издании «Хроники текущих событий». Один из инициаторов создания и член Инициативной группы по защите прав человека в СССР (1969–1972). Политзаключенный (1969–1971 в ссылке). Вновь арестован. Одноделец П. И. Якира; процесс над ними (1973) привел к кризису правозащитного движения в СССР. Эмигрировал в США (1975). Автор мемуаров «Суд».
КРАСНОПЕВЦЕВ ЛЕВ НИКОЛАЕВИЧ (р. 1930), историк. Будучи аспирантом и секретарем комитета ВЛКСМ исторического факультета МГУ, основал и возглавил подпольный марксистский кружок (1956–1957). Автор программной работы «Основные моменты развития русского революционного движения» (1955–1956) и антихрущевской листовки (1957). Политзаключенный (1957–1967). Главный хранитель Музея российских меценатов и благотворителей (Москва).
КУКК ЮРИ (1940–1981), химик. Добивался выезда из СССР во Францию (с 1978). Участник петиционных кампаний. Политзаключенный (1980–1981). Умер в тюремной больнице. В Тарту (Эстония) с 1997 проводятся международные конференции памяти К.
ЛАВУТ АЛЕКСАНДР ПАВЛОВИЧ (р. 1929), математик. Автор и редактор самиздата: участник издания «Хроники текущих событий» (с 1968), в 1979–1980 руководил ее выпуском. Член Инициативной группы по защите прав человека в СССР (с 1969). Политзаключенный (1980–1983, в заключении вновь осужден, 1983–1986 в ссылке). Член совета правозащитного центра «Мемориал».
ЛАНДА МАЛЬВА НОЕВНА (р. 1918), геолог, публицист. Участник петиционных кампаний. Одна из распорядителей Фонда помощи политзаключенным (1977). Помогала в издании «Хроники текущих событий». Автор самиздата: очерк «Дело о пожаре, или Дело о текстах противозаконного содержания» (о фабрикации уголовного дела против нее), статьи «Десять лет спустя (о вторжении в Чехословакию в 1968)», «Тридцать лет Всеобщей декларации прав человека» и др. Член МХГ (с 1976). Политзаключенная (дважды в ссылке: 1977–1978; 1980–1984).
ЛАЦИС ОТТО РУДОЛЬФОВИЧ (1934–2005), экономист, журналист. Д. э. н. Специальный корреспондент, экономический обозреватель «Известий» (1964–1971); заведующий отделом экономики журнала «Проблемы мира и социализма» (Прага, 1971–1975). В 1975 у Л. А. Карпинского при обыске была изъята самиздатская рукопись Л. о Сталине, что послужило поводом к увольнению Л. с работы. Старший научный сотрудник, заведующий отделом Института экономики мировой системы социализма АН СССР (1975–1986). Во время «перестройки» вернулся в журналистику. Работал к газетах «Известия», «Новые известия», «Русский курьер» и «Московские новости».
ЛАШКОВА ВЕРА ИОСИФОВНА (р. 1944), машинистка. Квартира Л. была местом встреч группы СМОГ (1965–1966). Распространительница самиздата: перепечатывала «Белую книгу» и «Феникс-66». Осуждена на «процессе четырех». Политзаключенная (1967–1968 в СИЗО). Регулярно выполняла машинописные работы для «Хроники текущих событий» (1968–1972). Участница Фонда помощи политзаключенным (1974–1982). Составитель (вместе с И. С. Гинзбург) самиздатского сборника «Калуга, июль 1978» о процессе над А. И. Гинзбургом.
ЛЕВИТИН (псевдоним КРАСНОВ) АНАТОЛИЙ ЭММАНУИЛОВИЧ (1915–1991), церковный писатель и историк, публицист. Узник сталинских лагерей. Один из зачинателей религиозного самиздата (с 1958). Участник петиционных кампаний. Член Инициативной группы по защите прав человека в СССР (с 1969). Политзаключенный (1969–1970 в СИЗО; 1971–1973). Эмигрировал в Швейцарию (1974). Автор воспоминаний: «Лихие годы» (1977), «Рук твоих жар» (1979), «В поисках нового града» (1980), «Родной простор» (1981).
ЛИТВИНОВ ПАВЕЛ МИХАЙЛОВИЧ (р. 1940), физик, педагог. Внук наркома иностранных дел М. Литвинова. Участник петиционных кампаний. Составитель самиздатских сборников «Правосудие или расправа?» (1967) и «Процесс четырех» (1968). Автор вместе с Л. И. Богораз «Обращения к мировой общественности» (1968), первого открытого обращения диссидентов на Запад. Участник «демонстрации семерых» на Красной пл. (25.08.1968). Политзаключенный (1968–1972 в ссылке). Эмигрировал в США (1974). Был зарубежным представителем «Хроники текущих событий», участвовал в ее переиздании.
ЛУКЬЯНЕНКО ЛЕВ ГРИГОРЬЕВИЧ (р. 1927), юрист. Один из зачинателей и активист украинского национального движения. Основатель и идеолог подпольного кружка «Украинский рабоче-крестьянский союз» (1959–1961). Политзаключенный (смертная казнь заменена лагерным сроком: 1961–1976). Один из основателей УХГ (с 1976). Вновь арестован (1977–1987; 1987–1988 в ссылке). Депутат Верховной Рады Украины (1990–1992; 1994–1998, с 2002), посол Украины в Канаде (1992–1993). Один из руководителей партии Национальный фронт Украины.
ЛЮБАРСКИЙ КРОНИД АРКАДЬЕВИЧ (1934–1996), астроном, журналист. К. ф.-м. н. Активный собиратель и распространитель самиздата. Политзаключенный (1972–1977). Инициатор Дня политзаключенного в СССР (1974, с 1991 отмечается в России как День памяти жертв политических репрессий). Один из распорядителей Фонда помощи политзаключенным (1977). Эмигрировал в ФРГ (1977). Редактор бюллетеня о нарушениях прав человека в Советском Союзе «Вести из СССР» (1978–1991), в качестве приложения к которому ежегодно издавался «Список политзаключенных», и журнала «Страна и мир» (1984–1992). Вернулся в Россию (1990). Член Общественной палаты при Президенте РФ (1994–1995), вышел в знак протеста против войны в Чечне. Председатель МХГ (1994–1996).
МАРКИЗОВА-ЧЕШКОВА (ДАРБЕЕВА) ЭНГЕЛЬСИНА (ГЕЛЯ) АРДАНОВНА (СЕРГЕЕВНА) (1931–2004), дочь наркома земледелия Бурят-Монгольской республики А. А. Маркизова. Снимок, где Сталин держал на руках «девочку в матроске», популяризировался советской пропагандой. После ареста отца имя М. замалчивалось, девочку на фото «отождествили» с Мамлакат Наханговой (11-летняя таджикская пионерка, сборщица хлопка, награжденная орденом Ленина). М. осталась круглой сиротой, прошла через детские дома, спецприемники. Воспитывалась у родственника матери, который дал ей свою фамилию и отчество.
МАРЧЕНКО АНАТОЛИЙ ТИХОНОВИЧ (1938–1986), рабочий, писатель. В первый раз арестован за участие в массовой драке (1958), бежал из заключения, пытался перейти советско-иранскую границу, политзаключенный (1960–1966). В самиздате распространялась книга «Мои показания» (1967) — первое развернутое мемуарное свидетельство о послесталинских тюрьмах и лагерях, разрушившее иллюзии, распространенные как в советском обществе, так и на Западе, будто политические репрессии, открытое насилие и грубый произвол по отношению к инакомыслящим ушли в прошлое; книга была переведена на многие языки. Участник петиционных кампаний. Автор публицистических писем о положении советских политзаключенных, в защиту «пражской весны» (1968) и др. Вновь арестован (1968–1969; в заключении получил новый срок, 1969–1971). Жил в Тарусе, работал над мемуарной книгой «Живи как все». Снова арестован (1975–1978 в ссылке). Член МХГ (с 1976). Печатался в историческом сборнике «Память» (№ 3, 1978). Шестой срок получил в 1981. В 1986 в Чистопольской тюрьме начал голодовку с требованием всеобщей амнистии политзаключенных, через 10 дней после ее окончания умер. Первый лауреат (посмертно) премии им. Сахарова (учреждена Европарламентом в 1988).
МЕДВЕДЕВ ЖОРЕС АЛЕКСАНДРОВИЧ (р. 1925), биолог, историк науки. Брат Р. А. Медведева. Один из первых авторов самиздата: книги «Биологическая наука и культ личности» (1963), «Международное сотрудничество ученых и национальные границы» (1967), «Тайна переписки охраняется законом» (1969) и др.; соредактор вместе с братом журнала «Политический дневник» (1964–1971). Принудительно госпитализирован в ПБ (1970), освобожден в результате кампании протестов (описал в соавторстве с братом эти события в книге «Кто сумасшедший?» (1971). Лишен советского гражданства во время поездки за границу (1973, возвращено в 1990). Живет в Лондоне.
МЕДВЕДЕВ РОЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ (р. 1925), историк, политолог. Брат Ж. А. Медведева. Известность принесло распространявшееся в самиздате историческое исследование о сталинском терроре «К суду истории» (1968). Соредактор вместе с братом самиздатского журнала «Политический дневник» (1964–1971), издавал журнал «XX век» (1975–1977). Соавтор письма руководителям СССР с программой демократизации страны (1970, вместе с А. Д. Сахаровым и В. Ф. Турчиным). Исключен из КПСС (1969, восстановлен в 1989, в 1990–1991 — член ЦК КПСС). Народный депутат СССР, депутат Верховного Совета СССР (1989–1991).
МЕЙМАН НАУМ НАТАНОВИЧ (1911–2001), математик. Д. ф.-м. н. Участник петиционных кампаний. Активист еврейского движения за выезд в Израиль. Руководитель неофициального семинара по еврейской культуре (1976). Член МХГ (с 1977). Эмигрировал в Израиль (1988).
МЕНИКЕР ВАДИМ ДАВИДОВИЧ (р. 1935), экономист. Участник петиционных кампаний. Уволен с работы (1968). Участник движения евреев за выезд в Израиль. Эмигрировал в Израиль (1971).
МИХАЛЕВСКИЙ БОРИС НАТАНОВИЧ (1930–1973), экономист. Данные М. о реальном состоянии советской экономики, основанные на официальных статистических источниках, были использованы в листовке «кружка Л. Н. Краснопевцева» (1957). Будучи заведующим лабораторией ЦЭМИ АН СССР в 1967 с группой ученых составил прогноз о предстоящем кризисе в советской экономике (впоследствии доклад был уничтожен по указанию «сверху»).
МЛЫНАРЖ (MLYNÁR) ЗДЕНЕК (1930–1997), политический деятель Чехословакии. Учился в МГУ с М. С. Горбачевым, жил с ним в одной комнате в общежитии. Член ЦК Коммунистической партии Чехословакии; один из лидеров «пражской весны». Исключен из Компартии (1970). Один из организаторов движения «Хартия-77». Эмигрировал в Австрию (1977). Был профессором Института политических исследований (Вена). Мемуарист.
НЕКРИЧ АЛЕКСАНДР МОИСЕЕВИЧ (1920–1993), историк. Автор книги «22 июня 1941 года» (1965). Подвергся нападкам за критику деятельности Сталина в предвоенный и начальный период ВОВ. Распространение в самиздате стенограммы обсуждения книги в Институте Маркса — Энгельса — Ленина при ЦК КПСС (1966) стало важным фактом общественной жизни. Исключен из КПСС (1972). Эмигрировал в США (1976), преподавал в Гарвардском университете.
НИКОЛЬСКАЯ АДЕЛЬ НАТАНОВНА (р. 1936), экономист. К. э. н. Участница петиционных кампаний. Участвовала в оказании помощи политзаключенным. Хранительница архива МХГ. Участница движения евреев за выезд в Израиль (с 1974). Эмигрировала в США (1977).
НИКОЛЬСКИЙ ВАЛЕРИЙ АЛЕКСЕЕВИЧ (1938–1978), физик. Один из организаторов «митинга гласности» (5.12.1965). Участник петиционных кампаний.
ОЛИЦКАЯ ЕКАТЕРИНА ЛЬВОВНА (1900–1974), член партии эсэров (с 1918). С 1923 по 1956 почти непрерывно в лагерях и ссылках. После освобождения написала мемуары «Мои воспоминания», которые циркулировали в самиздате.
ОРЛОВ ЮРИЙ ФЕДОРОВИЧ (р.? 1924), физик. Д. ф.-м. н. Член-корреспондент АН Армянской ССР. На собрании, где обсуждался доклад Хрущева о культе личности, выступил с призывом к демократии как гарантии от террора; исключен из КПСС и уволен с работы (1956). Автор самиздата: статьи «О причинах интеллектуального отставания СССР» (1973), «Возможен ли социализм не тоталитарного типа?» (1975). Член советской группы «Международной амнистии» (с 1973). Основатель и первый руководитель МХГ (с 1976). Политзаключенный (1977–1984, 1984–1986 в ссылке). Лишен звания члена-корреспондента (1979). Лишен советского гражданства и выслан из СССР в обмен на арестованного в США советского разведчика (1986). Почетный председатель Международной Хельсинкской федерации по правам человека (с 1986). Профессор Корнельского университета (США).
ОРЛОВА РАИСА ДАВЫДОВНА (1918–1989), литературовед, критик, переводчик. К. филол. н. Жена Л. З. Копелева. Участница петиционных кампаний. Исключена из КПСС и СП СССР (1980). Выехала в ФРГ (1980), лишена советского гражданства (1981, восстановлена посмертно в 1990). Мемуарист.
ОСИПОВА ТАТЬЯНА СЕМЕНОВНА (р. 1949), программист. Жена И. С. Ковалева. Член и необъявленный секретарь МХГ (с 1977). Участвовала в издании «Хроники текущих событий», в составлении «Информационного бюллетеня Рабочей комиссии по расследования использования психиатрии в политических целях». Политзаключенная (1980–1986; 1986–1987 в ссылке). Эмигрировала в США (1987).
ПАЖИТНОВ ЛЕОНИД НИКОЛАЕВИЧ (1930–1997), философ. К. филос. н. Коллега и соавтор Б. И. Шрагина. Участник петиционных кампаний. Исключен из КПСС, уволен с работы (1968).
ПИСАРЕВ СЕРГЕЙ ПЕТРОВИЧ (1902–1979), историк, библиограф. Член партии (с 1918). В 1923–1933 в аппарате ЦКК — РКИ ВКП(б). Участник Гражданской и Великой Отечественной войн. Узник сталинских тюрем и СПБ. Протестовал против использования психиатрии в политических целях. Выступал в защиту репрессированных народов (чеченцев, крымских татар). Исключен из КПСС (1969).
ПОДРАБИНЕК АЛЕКСАНДР ПИНХОСОВИЧ (р. 1953), медицинский работник, журналист. Один из основателей Рабочей комиссии по расследованию использования психиатрии в политических целях (с 1977). Автор книги «Карательная медицина» (1979). Политзаключенный (1978–1980 в ссылке; 1980–1983). Основатель и редактор правозащитной газеты «Экспресс-Хроника» (1987–2000), задуманной как продолжение традиции «Хроники текущих событий». Руководитель российского отделения Фонда гражданских свобод Бориса Березовского (2004). В настоящее время главный редактор правозащитного информационного агентства ПРИМА.
ПОКРОВСКИЙ НИКОЛАЙ НИКОЛАЕВИЧ (р. 1930), историк. Академик РАН (с 1992). Будучи ассистентом кафедры источниковедения МГУ, был арестован за участие в «кружке Л. Н. Краснопевцева». Политзаключенный (1957–1963). Председатель Археографической комиссии Сибирского отделения РАН. Специалист в области русской истории периода феодализма, член редколлегии «Археографического ежегодника» и др. научных изданий.
ПОМАЗОВ ВИТАЛИЙ ВАСИЛЬЕВИЧ (р. 1946), инженер, поэт. Участник марксистского кружка. Автор работы «Государство и социализм» (1967). Участвовал в распространении листовок с протестом против ввода войск в Чехословакию (1968). Исключен из ВЛКСМ, отчислен из Горьковского госуниверситета (1968). Политзаключенный (1970–1972). Участник петиционных кампаний. Печатался в самиздатских альманахах «Проталина», «Прогулки в Варфоломеевскую ночь». Помогал в работе Фонда помощи политзаключенным. Редактор газеты «Совет» (г. Серпухов, Московская область).
ПОМЕРАНЦ ГРИГОРИЙ СОЛОМОНОВИЧ (р. 1918), философ, культуролог, публицист. Участник ВОВ. Узник сталинских лагерей. Один из вдохновителей неофициальной культурной активности. Автор самиздата (с начала 1960-х) и тамиздата: публиковался в самиздатских журналах «Феникс-66», «Общественные проблемы», «Поиски». Участник петиционных кампаний. В своих публицистических работах последовательно защищает идеи личной свободы и европейской демократии. Был одним из самых заметных оппонентов правоконсервативного течения в диссидентстве (особое значение имеет многолетняя полемика с А. И. Солженицыным). С 1987 работы П. широко публикуются на родине.
ПОМЕРАНЦЕВ ВЛАДИМИР МИХАЙЛОВИЧ (1907–1971), писатель. Участник ВОВ. Статья «Об искренности в литературе» («Новый мир», 1953, № 12) сыграла важную роль в формировании климата «оттепели». Решением ЦК КПСС статья была квалифицирована как «очернительская» (1954), после чего подверглась критике в СП СССР. Травля П. в печати вызвала протесты студентов МГУ (К. А. Любарский стал инициатором сбора подписей под петицией в защиту писателя).
ПЯТКУС ВИКТОРАС (р. 1928), деятель литовского национально-освободительного движения. Будучи школьником, вступил в подпольную группу молодежной католической организации «Атейтининки» («Вестники грядущего», 1944–1947). Политзаключенный (1947–1953). Арестован по обвинению в участии в подпольном кружке «Национальный фронт» (1957–1965). Составитель самиздатского сборника «Архив литовской культуры» (1976). Один из основателей и руководитель ЛХГ (с 1976). Вновь арестован (1977–1987; 1987–1988 в ссылке). Советник Комитета по гражданским правам Сейма Литвы (1992), консультант по правам человека правительства Литвы (1994–1997). Редактор журнала «Хранитель Литвы», почетный председатель Литовской ассоциации защиты прав человека (с 1989).
РЕНДЕЛЬ ЛЕОНИД АБРАМОВИЧ (1925–1989), историк. Участник подпольного молодежного марксистского кружка (известного как «кружок Л. Н. Краснопевцева»), Политзаключенный (1957–1967). Автор самиздата.
РОЗАНОВА-КРУГЛИКОВА МАРЬЯ ВАСИЛЬЕВНА (р. 1930), искусствовед, журналист. Жена А. Д. Синявского. Участвовала в подготовке «Белой книги» по делу Синявского и Ю. М. Даниэля. Эмигрировала с мужем во Францию (1973). Издатель и редактор журнала «Синтаксис» (с 1978).
РУБИН ВИТАЛИЙ АРОНОВИЧ (1923–1981), синолог. К. филос. н. Участник ВОВ. Помогал П. М. Литвинову в составлении сборников «Правосудие или расправа?» и «Процесс четырех» (1968). Участник петиционных кампаний. Активист еврейского движения за выезд в Израиль. Член МХГ (с 1976). Эмигрировал в Израиль (1976). Преподавал в Иерусалимском университете.
РУДАКОВ ИВАН ВЛАДИМИРОВИЧ (р. 1940), инженер. Участник петиционных кампаний. Уволен с работы (1968). Помогал в издании «Хроники текущих событий».
РУДЕНКО МИКОЛА (НИКОЛАЙ) ДАНИЛОВИЧ (1920–2004), писатель. Участник и инвалид ВОВ. Член СП УССР (1947–1975). Выступил на пленуме правления СП с критикой русификации и сталинщины. С начала 1960-х выдвинул собственную теорию прибавочной стоимости, пытался ознакомить с ней руководителей партии и правительства. Изложил свои воззрения в работе «Энергия прогресса» (1974, переработанный вариант — «Экономические монологи», 1975). Исключен из КПСС (1974) и СП (1975). Автор распространявшихся в самиздате поэм «Я свободен», «Крест» (1976). Участник советской секции «Международной амнистии» (1975). Один из основателей и руководитель УХГ (с 1976). Политзаключенный (1977–1984; 1984–1987 в ссылке). Книги Р. изъяты из библиотек и продажи. Выпущен за границу (1987), лишен гражданства (1988). Восстановлен в гражданстве и вернулся на родину (1990).
РУДЕНКО РАИСА АФАНАСЬЕВНА (р. 1939), общественный деятель. Жена М. А. Руденко. Необъявленный секретарь УХГ (1976–1981). Провела одиночную демонстрацию в Москве в защиту мужа (1978). Передавала московским правозащитникам информацию из лагерей. Политзаключенная (1981–1986; 1986–1987 в ссылке). Выпущена за границу с мужем (1987). Вернулась на родину (1990).
РУМЯНЦЕВ ВАЛЕРИЙ ЗАХАРОВИЧ (1934 — после 1980), офицер госбезопасности. Арестован и осужден за попытку связаться с американской разведкой с целью передачи сведений о преследованиях инакомыслящих в СССР (1959–1974). Участвовал в сопротивлении заключенных произволу лагерной администрации (1969).
САДОМСКАЯ НАТАЛЬЯ НИКОЛАЕВНА (р. 1927), этнограф-испанист. К. и. н. Жена Б. И. Шрагина. Участница петиционных кампаний. Эмигрировала в США (1974), вернулась в Россию (1994). Преподает в РГГУ.
САХАРОВ АНДРЕЙ ДМИТРИЕВИЧ (1923–1989), физик. Один из создателей советского термоядерного оружия. Академик АН СССР (с 1953). Трижды Герой Социалистического Труда (1954, 1956, 1962). Одна из центральных фигур правозащитного движения. Широчайшее распространение в самиздате и мощный резонанс за рубежом получил трактат «Размышления о прогрессе, мирном сосуществовании и интеллектуальной свободе». Соавтор письма руководителям СССР с программой демократизации страны (1970, вместе с P. A. Медведевым и В. Ф. Турчиным). Один из основателей Комитета прав человека (с 1970). Лауреат Нобелевской премии мира (1975). Подвергался травле в советской печати. Политзаключенный (1980–1986 в ссылке). Народный депутат СССР (1989). Мемуарист.
СВЕТЛИЧНАЯ НАДЕЖДА (НАДИЯ) АЛЕКСЕЕВНА (р. 1936), педагог, журналист. Сестра И. А. Светличного. Распространительница самиздата. Политзаключенная (1972–1976). Участвовала в деятельности УХГ. Эмигрировала в США (1978). Работала на «Радио Свобода» (до 1994), редактор женского журнала «Вера».
СВЕТЛИЧНЫЙ ИВАН АЛЕКСЕЕВИЧ (1929–1992), литературовед, критик, идеолог и активист украинского национального движения (с начала 1960-х). Политзаключенный (1965–1966 в СИЗО; 1972–1978; 1978–1983 в ссылке).
СИНЯВСКИЙ АНДРЕЙ ДОНАТОВИЧ (псевд. АБРАМ ТЕРЦ) (1925–1997), писатель, литературовед. Один из первых (с 1956) советских литераторов, передававших свои рукописи для публикации за границу. Процесс по делу С. и Ю. М. Даниэля, вызвал первую волну открытой протестной активности в СССР. Политзаключенный (1965–1971). С момента ареста произведения С. широко распространились в самиздате. Книги, изданные в СССР, были изъяты из библиотек и книгопродажи (1974). Эмигрировал во Францию (1973). Преподавал в Сорбонне.
СЛЕПАК АЛЕКСАНДР ВЛАДИМИРОВИЧ. Сын члена МХГ В. С. Слепака. Участник еврейского движения за выезд в Израиль. Эмигрировал (1977).
СЛЕПАК ВЛАДИМИР СЕМЕНОВИЧ (р. 1927), радиоинженер. Активист еврейского движения за выезд в Израиль. Активист петиционных кампаний. Член МХГ (с 1976). Политзаключенный (1978–1982 в ссылке). Эмигрировал в Израиль (1987).
СНЕГОВ АЛЕКСЕЙ ВЛАДИМИРОВИЧ (настоящее имя ФАЛИКЗОН ИОСИФ ИЗРАИЛЕВИЧ) (1898–1989), большевик (с 1917), партработник. Узник сталинских лагерей. После реабилитации (1954) работал зам. начальника политотдела ГУЛАГа МВД СССР (1954–1960), зам. главного редактора журнала для сотрудников исправительно-трудовых учреждений «К новой жизни» (1960–1962). В самиздате распространялись его антисталинские выступления на обсуждениях книг А. М. Некрича и третьего тома «Истории КПСС».
СОЛЖЕНИЦЫН АЛЕКСАНДР ИСАЕВИЧ (р. 1918), писатель. Участник ВОВ. Узник сталинских лагерей (1945–1953, 1953–1956 в ссылке). Реабилитирован (1957). Член СП СССР (с 1962). После публикации повести «Один день Ивана Денисовича» (1962) стал центральной фигурой для оппозиционно настроенной интеллигенции; с 1964 его работы широко циркулируют в самиздате («В круге первом», «Раковый корпус», «Ленин в Цюрихе», «Август Четырнадцатого», «Бодался теленок с дубом»). С 1967 выступал против цензурного гнета, преследований по политическим мотивам в СССР. С 1968 широко публиковался за границей. Нобелевская премия по литературе (1970). Исключен из СП СССР (1969). После публикации на Западе «Архипелага ГУЛАГ» арестован. (12.02.1974), на следующий день лишен советского гражданства и выслан из СССР. Произведения изъяты из библиотек и книготорговли. Жил в Швейцарии и США. Основал Фонд помощи политзаключенным и их семьям (1974). Вернулся в Россию (1994).
СТРОКАТОВА (СТРОКАТАЯ, СТРОКАТА) НИНА АНТОНОВНА (1926–1996), микробиолог. К. биол. н. Жена С. И. Караванского. С 1968 была «связной» украинского национального движения и московских правозащитников. Политзаключенная (1971–1975). Одна из основателей УХГ (с 1976). Эмигрировала в США (1979). Была членом зарубежного представительства УХГ.
ТАНЮК ЛЕСЬ (ЛЕОНИД) СТЕПАНОВИЧ (р. 1938), режиссер театра и кино, сценарист. Активист украинского национального движения. Руководил Клубом творческой молодежи в Киеве, ставшим национально-культурным центром, в деятельности которого значительный вес приобрела общественная проблематика. Участник петиционных кампаний. Депутат Верховной Рады Украины (с 1989). Председатель парламентского Комитета по вопросам культуры. Возглавляет Национальный союз театральных деятелей Украины. Зам. председателя Народного Руха Украины. Председатель всеукраинского общества «Мемориал» им. В.Стуса. Профессор Киевского театрального института. Один из основателей Фонда В. М. Чорновила.
ТАРСИС ВАЛЕРИЙ ЯКОВЛЕВИЧ (1906–1983), писатель, переводчик. С 1961 переправлял за границу свои рукописи (сатирическую прозу); редактор самиздатского журнала «Сфинксы» (1965). Политзаключенный (1962–1963 в ПБ). После освобождения объявил о выходе из КПСС и СП СССР. Выпущен за границу (1966) и лишен советского гражданства.
ТВЕРДОХЛЕБОВ АНДРЕЙ НИКОЛАЕВИЧ (р. 1940), физик. Участник петиционных кампаний. Один из учредителей Комитета прав человека (1970–1972). Один из основателей «Группы-73» — правозащитной организации, помогавшей политзаключенным и преследуемым по политическим мотивам (с 1973). Один из инициаторов создания и секретарь советской секции «Международной амнистии» (1973–1975; 1978–1979). Политзаключенный (1975–1978 в ссылке). Эмигрировал в США (1980).
ТЕЛЕСИН ЮЛИУС ЗИНОВЬЕВИЧ (р. 1933), математик, поэт-переводчик. Активнейший распространитель самиздата (за что получил прозвище «Принц Самиздатский»). Активист еврейского движения за выезд в Израиль. Вел в «Хронике текущих событий» рубрику «Новости самиздата» (1969–1970). Составитель самиздатских сборников «Семь писем А. Чаковскому» и «13 последних слов» (1970). Эмигрировал в Израиль (1970). Преподает математику в университете г. Беер Шев.
ТЕРЛЯЦКАС АНТАНАС (р. 1928), экономист. Будучи школьником, участвовал в подпольной организации, был арестован, провел два месяца в тюрьме. Осужден по обвинению в участии в подпольном кружке «Национальный фронт» (1957–1960). Вновь арестован по сфабрикованному уголовному делу (1973–1974). Соредактор самиздатских журналов «Лайсвес шауклис» («Вестник свободы», 1976–1977) и «Витис» (1977–1979). Один из создателей подпольного кружка «Лига свободы Литвы» (1978). Один из инициаторов «Балтийского меморандума» — важнейшего документа сопротивления в странах Балтии, осуждавшего пакт Молотова — Риббентропа и призывавшего признать недействительными его последствия (1979). Арестован (1979–1982; 1982–1986 в ссылке). В годы «перестройки» легализовал «Лигу». Сотрудник Центра по изучению геноцида и резистенции жителей Литвы.
ТИТОВ ЮРИЙ ВАСИЛЬЕВИЧ (р. 1928), художник (Москва). Участник «митинга гласности» (5.12.1965). Подвергся принудительной госпитализации в ПБ (1971). Эмигрировал во Францию (1972).
ТОПЕШКИНА АИДА МОИСЕЕВНА (р. 1937?), поэтесса, художница. Участница неформальных поэтических чтений на пл. Маяковского (1958–1961), «митинга гласности» (5.12.1965), петиционных кампаний. Хранительница архива самиздатского журнала «Вече». Коллекционер авангардной живописи, устроительница неофициальных выставок. Эмигрировала во Францию (1970?).
ТУЛЬЧИНСКИЙ МОИСЕЙ РУВИМОВИЧ (р. 1923), историк, социолог. К. и. н. Участник ВОВ. Участник петиционных кампаний. Ведущий научный сотрудник Института социологии РАН.
ТУРЧИН ВАЛЕНТИН ФЕДОРОВИЧ (р. 1931), математик. Д. ф.-м. н. Участник петиционных кампаний. Автор распространявшегося в самиздате исследования «Инерция страха» (1968). Соавтор письма руководителям СССР с программой демократизации страны (1970, вместе с А. Д. Сахаровым и P. A. Медведевым). Один из основателей и председатель советской секции «Международной амнистии» (1973–1977). Уволен из Института прикладной математики АН СССР. Эмигрировал в США (1977). Профессор кафедры математики Нью-Йоркского университета.
УЛАНОВСКАЯ МАЙЯ АЛЕКСАНДРОВНА (р. 1932), библиотекарь, переводчик. В 1951 году арестована за участие в молодежной антисталинской организации «Союз борьбы за дело революции» (Москва), осуждена на 25 лет, политзаключенная (1951–1956). Жена А. А. Якобсона. Участница петиционных кампаний. Эмигрировала в Израиль (1973). Библиотекарь Иерусалимского университета. Автор мемуаров «История одной семьи».
УЛАНОВСКАЯ НАДЕЖДА (ЭСТЕР) МАРКОВНА (1903/ 1904–1986), революционерка, переводчица. Участвовала в Молодом революционном интернационале (Моревинте) (1917–1920?), партизанском движении в Крыму. Сопровождала мужа, А. П. Улановского, в его секретных миссиях в Германию, Китай, США (1921–1933). Узница сталинских лагерей. Эмигрировала в Израиль (1975). Мемуарист.
УЛАНОВСКИЙ АЛЕКСАНДР ПЕТРОВИЧ (настоящее имя ИЗРАИЛЬ ХАСКЕЛЕВИЧ) (1891–1971), анархист, участник революционного движения. Политзаключенный (1910–1913 в ссылке, бежал, арестован, 1916?—1917 в ссылке). Участник Гражданской войны. Разведчик (Германия, Китай, США, Дания). Узник сталинских лагерей.
ФАЙНБЕРГ ВИКТОР ИСААКОВИЧ (р. 1931), филолог. За драку с милиционером-антисемитом приговорен к одному году исправительно-трудовых работ (1957). Участник «демонстрации семерых» на Красной пл. (25.08.1968). Политзаключенный (1968–1973 в СПБ). Психиатрические экспертизы по делу Ф. были переданы В. К. Буковским на Запад. Принудительная госпитализация в ПБ (1974); из больницы передавал информацию о карательной психиатрии. Эмигрировал (1974). Выступал в защиту преследуемых в СССР диссидентов, был зарубежным представителем СМОТ.
ХАУСТОВ ВИКТОР АЛЕКСАНДРОВИЧ (р. 1938), рабочий, поэт. Активист неформальных поэтических чтений на пл. Маяковского (1960–1961). Участник демонстрации на Пушкинской пл. (22.01.1967). Политзаключенный (1967–1970). Принимал участие в размножении и передаче на Запад дневников политзаключенного Э. С. Кузнецова. Участник подпольного кружка «Патриотический фронт России» (Орел, 1972–1973). Вновь арестован (1973–1977; 1977–1979 в ссылке). Священник РПЦ.
ХМЕЛЬНИЦКИЙ СЕРГЕЙ ГРИГОРЬЕВИЧ (1925–2004), историк архитектуры, поэт. К. и. н. В студенческие годы завербован органами госбезопасности. Сотрудничество публично разоблачено в 1963-м жертвами его доносов В. Р. Кабо и Ю. Э. Брегелем. Уехал в Среднюю Азию. Свидетель на процессе над А. Д. Синявским и Ю. М. Даниэлем. Эмигрировал в ФРГ. Мемуарист.
ХОДОРОВИЧ ТАТЬЯНА СЕРГЕЕВНА (р. 1921), лингвист. Активист петиционных кампаний. Публицист самиздата. Член Инициативной группы по защите прав человека в СССР (с 1969). Одна из инициаторов возобновления издания «Хроники текущих событий» после перерыва, вызванного шантажом КГБ; в 1974-м вместе с Т. М. Великановой и С. А. Ковалевым письменно и открыто заявила, что берет на себя ответственность за дальнейшее распространение «Хроники». Одна из распорядителей Фонда помощи политзаключенным (1977). Эмигрировала во Францию (1977).
ЦУКЕРМАН БОРИС ИСААКОВИЧ (1927–2002), физик, инженер. Составитель самиздатского сборника документов «Почтовый роман» (не позднее 1971) о тяжбе с почтамтом по поводу отказа в доставке зарубежной корреспонденции. Эксперт Комитета прав человека (с 1970). Эмигрировал в Израиль (1971).
ЧАЛИДЗЕ ВАЛЕРИЙ НИКОЛАЕВИЧ (р. 1938), физик. Один из пионеров правового просвещения инакомыслящей интеллигенции. Издатель самиздатского журнала «Общественные проблемы» (1969–1972). Один из основателей Комитета прав человека (1970–1972). Принужден к отъезду из СССР, лишен гражданства (1972). Организовал в США издательства: «Хроника» (1973–1983), которое переиздавало «Хронику текущих событий»; «Chalidze publication» (с 1984). Выпускал журналы: «Хроника защиты прав в СССР», «СССР: внутренние противоречия».
ЧЕРНИК (ČERNÍK) ОЛДРЖИХ (1921–1994), один из лидеров «пражской весны». Член Президиума Коммунистической партии Чехословакии (1963–1970), премьер-министр Чехословакии (1968–1970). Исключен из Компартии (1970).
ЧИЧИБАБИН БОРИС АЛЕКСЕЕВИЧ (1923–1994), поэт. Узник сталинских лагерей. В 1950–1960-е печатался, затем ушел из официальной литературы. Стихи распространялись в самиздате и изымались на обысках. Исключен из СП СССР (1973, восстановлен в 1987). Лауреат Государственной премии СССР (1990), премии им. А. Д. Сахарова «За гражданское мужество писателя» (1993).
ЧОРНОВИЛ (ЧЕРНОВОЛ) ВЯЧЕСЛАВ МАКСИМОВИЧ (1938–1999), журналист. Активист украинского национального движения. Участник публичной акции протеста против арестов украинских интеллигентов (1965). За отказ давать показания на своих единомышленников приговорен к трем месяцам принудительных работ. Составитель самиздатских сборников «Правосудие или рецидивы террора?» (1966), «Горе от ума» (1967). Политзаключенный (1967–1969). Инициатор издания и редактор самиздатского журнала «Украинский вестник» (1970–1971). Предложил создать Комитет в защиту Н. А. Строкатой (1971). Вновь арестован (1972–1978; 1978–1980 в ссылке; осужден по сфабрикованному обвинению, 1980–1983). Член Великой рады Народного руха Украины (с 1989, с 1990 — председатель). Депутат Верховного Совета, затем Верховной рады Украины (с 1990), кандидат в президенты Украины (1991). Герой Украины (посмертно). Памятник Ч. открыт в г. Каневе, музей — в г. Звенигородке.
ШИХАНОВИЧ ЮРИЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ (р. 1933), математик, педагог. К. пед. н. Участник издания (с начала 1970-х) и редактор «Хроники текущих событий». Политзаключенный (1972–1974 в СИЗО, ПБ). С 1980 стал играть ведущую роль в издании «Хроники». Вновь арестован (1983–1987). Преподает в РГГУ.
ШРАГИН БОРИС ИОСИФОВИЧ (1926–1990), философ, искусствовед, публицист. К. филос. н. Один из организаторов петиционной кампании вокруг «процесса четырех» (1968). Уволен с работы, исключен из КПСС (1968). Автор сам- и тамиздата: эссе «Андрей Амальрик как публицист» (1970), статьи «Думать!», «Поэзия Александра Галича» (1972), «Опыт журнальной утопии» (1973, вызвала острую полемику среди эмиграции «третьей волны» о политическом и мировоззренческом плюрализме) и др. Эмигрировал в США (1974). Преподавал в колледжах и университетах, вел на «Радио Свобода» популярную в СССР передачу «Демократия в действии».
ШУБ (SHUB) АНАТОЛЬ (р. 1928), журналист (США). Корреспондент газеты «Washington Post» в Москве (1967–1969). В самиздате циркулировал перевод рецензии Ш. на роман А. И. Солженицына «Август Четырнадцатого» (1971). Выслан из СССР за публикацию об А. А. Амальрике (1969).
ЩАРАНСКИЙ АНАТОЛИЙ (НАТАН) БОРИСОВИЧ (р. 1948), физик. Активист еврейского движения за выезд в Израиль. Один из основателей МХГ (с 1976). Политзаключенный (1978–1986). Лишен советского гражданства и депортирован в США (1986). Основатель и руководитель партии Исраэль ба-алия (с 1995). С 1996 г. занимал министерские посты в правительстве Израиля. Автор мемуаров «Не убоюсь зла» и книги «The Case for Democracy».
ЭРЕНБУРГ ИЛЬЯ ГРИГОРЬЕВИЧ (1891–1967), поэт, прозаик, публицист. Лауреат Сталинских (1942, 1948, 1952) и Ленинской премий (1960), однако многие книги Э., изданные в 1917–1930 гг. в России и на Западе, были запрещены в СССР. Повесть «Оттепель» (1954) сыграла роль в формировании общественного климата в 1950–1960-е годы и дала название историческому периоду десталинизации в СССР. Выступил в защиту А. Д. Синявского и Ю. М. Даниэля (1966). В самиздате широко циркулировало открытое письмо Эрнста Генри, адресованное Э., с критикой фрагментов о Сталине в мемуарной книге «Люди, годы, жизнь» (1965).
ЮДОВИЧ ЛЕВ АБРАМОВИЧ (р. 1926), адвокат. Защитник К. А. Любарского (1972), П. И. Якира (1973), А. Н. Твердохлебова (1975–1976) и др. Эмигрировал в ФРГ (1977).
ЯКИР ИРИНА ПЕТРОВНА (1948–1999), историк-архивист. Дочь П. И. Якира. Участница «митинга гласности» (5.12.1965), демонстрации активистов национального движения крымских татар (1969). Участница петиционных кампаний. Участвовала в издании «Хроники текущих событий», в работе Фонда помощи политзаключенным.
ЯКИР ПЕТР ИОНОВИЧ (1923–1982), историк, публицист. Сын командарма И. Э. Якира. Узник сталинских лагерей. Автор самиздатской антисталинской публицистики. Участник петиционных кампаний. Член Инициативной группы по защите прав человека в СССР (с 1969). Одноделец В. А. Красина.; процесс над ними (1973) привел к кризису правозащитного движения в СССР. Политзаключенный (1972–1974 в СИЗО и ссылке).
ЯКОБСОН АНАТОЛИЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ (1935–1978), поэт-переводчик, литературовед, публицист. Автор популярных в самиздате литературоведческих эссе: «Конец трагедии», «Царственное слово», «О романтической идеологии». Участник петиционных кампаний. Один из редакторов «Хроники текущих событий». Член Инициативной группы по защите прав человека в СССР (с 1969). Эмигрировал в Израиль (1973).
ЯКОВЛЕВ АЛЕКСАНДР НИКОЛАЕВИЧ (1923–2005), политический деятель. Академик АН СССР (с 1990). Участник и инвалид ВОВ. Первый заместитель заведующего отделом пропаганды ЦК КПСС (1965–1973). Направлен послом в Канаду (1973–1983) за статью «Против антиисторизма» («Литературная газета», 1972) с критикой идеологии национал-патриотов, группировавшихся вокруг журналов «Октябрь» и «Молодая гвардия». После визита в Канаду секретаря ЦК КПСС М. С. Горбачева вернулся в Москву и возглавил Институт мировой экономики и международных отношений АН СССР (с 1983). В 1985–1986 гг. заведующий отделом пропаганды, в 1986–1990 секретарь ЦК, в 1987–1990 член Политбюро ЦК КПСС. Идеолог «перестройки», входил в ближайшее окружение Горбачева. Осуществил либерализацию советской прессы (по его предложению были назначены главные редакторы «перестроечных» изданий: «Советская культура», «Московские новости», «Известия», «Огонек», «Знамя», «Новый мир»), содействовал публикации запрещенных произведений и смягчению цензурных рамок. Член Президентского совета СССР (1990–1991). Руководитель Федеральной службы России по телевидению и радиовещанию (1993–1995). Председатель Комиссии по реабилитации жертв политических репрессий при президенте РФ и президент международного фонда «Демократия» (с 1993), под его редакцией вышли фундаментальные публикации по истории советского тоталитаризма.
ЯКУБОВИЧ МИХАИЛ ПЕТРОВИЧ (1891-?), член РСДРП (меньшевиков) (1914–1920), член ВЦИК первого созыва (1917), сотрудник Наркомторга (1920–1930). Узник сталинских лагерей (1930–1953; 1953–1955 в ссылке). После освобождения из ссылки остался в доме инвалидов в Караганде; персональный пенсионер (с 1966). В самиздате циркулировали его письма с просьбой о реабилитации по делу «Союзного бюро РСДРП(м)», воспоминания, историко-литературные и философские исследования. Мемуары Я. использованы А. И. Солженицыным в «Архипелаге ГУЛАГ».
ЯКУНИН ГЛЕБ ПАВЛОВИЧ (р. 1934), священник РПЦ (с 1962). Один из зачинателей православного самиздата (с 1965); запрещен в служении (1966–1987). Один из учредителей и руководитель Христианского комитета защиты прав верующих (с 1976). Политзаключенный (1979–1984; 1985–1987 в ссылке). Депутат Верховного Совета России (1990–1993), Госдумы РФ (1993–1995). В 1993-м лишен сана за политическую деятельность. Секретарь Собора епископов Православной церкви возрождения (с 2000). Руководитель Общественного комитета защиты свободы совести.
ЯХИМОВИЧ ИВАН АЛЕКСАНДРОВИЧ (р. 1931), педагог, агроном. Председатель колхоза в Латвии. В самиздате широко циркулировало его письмо в защиту осужденных по «процессу четырех» (1968). Выступал в поддержку «пражской весны». Исключен из КПСС и снят с работы (1968). Политзаключенный (1969–1971 в ПБ).
Иллюстрации
Родители — Михаил Славинский и Валентина Ефименко, 1926
Люда Алексеева в 13 лет
Валентин и Людмила Алексеевы, 1962
Сережа и Миша Алексеевы, 1962
Николай Вильямс
Людмила Алексеева (слева) с Адой Никольской
Лариса Богораз
Юлий Даниэль
Лариса Богораз
Анатолии Марченко
Лариса Богораз с сыном Сашей и с Анатолием Марченко
Лариса Богораз в ссылке
Сталин с «девочкой в матроске» — Гелей Маркизовой
Слева направо: Елена Рутман, Людмила Алексеева, Роман Рутман, Лариса Богораз, Анатолии Марченко
Слева направо: Алик Есенин-Вольпин, Наташа Садомская и ее муж Борис Шрагин
Татьяна Великанова
Татьяна Ходорович
Валерий Чалидзе
Борис Шрагин
Софья Васильевна Каллистратова
Генерал-майор Петр Григоренко
Юрий Галансков
Александр Гинзбург
Сергей Ковалев
Павел Литвинов
Александр Лавут
Анатолий Якобсон (Тоша)
Инициативная группа по защите прав человека в СССР.
Слева направо: Сергей Ковалев, Татьяна Ходорович, Татьяна Великанова, Григорий Подъяпольский, Анатолий Левитин (Краснов)
Елена Боннэр, Андрей Сахаров, Лев Копелев и Раиса Орлова
А. Д. Сахаров и С. В. Каллистратова
Михаил Алексеев
Людмила Алексеева и Андреи Амальрик — сидят, Виталий Рубин — стоит
А. Д. Сахаров с диссидентами. Галина Салова, Кронид Любарский, Борис Вайль — сидят, Ирина Каплун — стоит справа
Юрий Орлов
У здания суда во время процесса над Юрием Орловым. В центре — Андрей Сахаров
Нина Строкатая
Иван Светличный
Ирина Якир
Петр Якир
«Нищие сибариты» провожают Николая Вильямса в эмиграцию. Слева направо: Елена Копелева (Грабарь), Леопольд (Владимир) Медведский, Николай Вильямс, Юрий Гастев, Ирина Янская — сидят; Виктор Иоэльс, Александр Волынский, Юрий Цизин — стоят
Последний вечер в Москве перед эмиграцией. Слева направо: Людмила Алексеева, Марина Белоусович, Валентина Ефименко — сидят, Анатолий Щаранский, Лариса Богораз и Сергей Алексеев — стоят
1
…Летом, по улице Горького загрохотали танки, двигавшиеся по направлению к Кремлю — О танках Кантемировской и Таманской дивизий, введенных в Москву по приказу министра обороны Н. А. Булганина в день ареста Л. П. Берии (26.06.1953), известно только со слов очевидцев. До сих пор никакие документы на сей счет не опубликованы. Возможно, они хранятся в военных архивах и все еще имеют гриф секретности.
2
«Братство нищих сибаритов» — компания студентов мехмата МГУ и Московского химико-технологического института (МХТИ) им. Менделеева, возникшая в 1945 году в Москве. В феврале 1945 члены «Братства» изобрели и испытали несколько химических составов слезоточивого и взрывчатого действия — уничтожали дверные почтовые ящики, гипсовые бюсты Сталина в библиотеке МХТИ и в парке сельскохозяйственной академии им. Тимирязева, 20 февраля сорвали заседание Московского математического общества, разбив колбу со слезоточивым газом. Задачами «Братства» были провозглашены: проведение «акций» наподобие вышеописанных, всепроникающее чувство юмора и античинопочитание. В июле — октябре пятеро из семерых членов «Братства» были арестованы. Судебная коллегия Мосгорсуда 27 февраля 1946 года приговорила Н. Н. Вильямса и Л. А. Медведского к семи годам лагерей и трем годам поражения в правах, Ю. А. Цизина к шести годам лагерей и двум годам поражения в правах, Л. М. Малкина и Ю. А. Гастева к пяти годам лагерей и двум годам поражения в правах. Верховный суд СССР 10 июля 1946 года снял обвинение в создании антисоветской организации и снизил приговор Вильямсу и Медведскому до пяти лет и двух лет поражения в правах, а Цизину, Малкину и Гастеву до четырех лет без поражения в правах. История «Братства» стала известна из статьи Гастева, опубликованной в первом выпуске исторического сборника «Память» (1976).
3
…Они стали «спецпоселенцами» — Спецпоселенцы (спецпереселенцы) — особая категория населения СССР: лица, выселенные из мест проживания, преимущественно в отдаленные районы, без судебной или квазисудебной процедуры. В 1930-е — это были «кулаки» и «подкулачники», с конца 1930-х начались выселения по национальному признаку, после войны на положение «спецпоселенцев» были переведены «власовцы» и те, кто подозревался в коллаборационизме. Общее число выселенных к 1945 году превысило 5 млн человек. В 1948-м народы, выселенные под предлогом сотрудничества с гитлеровцами, Указом Президиума Верховного Совета СССР были объявлены «поселенными навечно», вводился срок наказания за побег — 25 лет. Режим спецпоселения стал смягчаться в 1954 году и был снят в 1956-м. Несколько народов (крымские татары, немцы и др.) не получили возможности возвращения. Крымские татары вернулись в Крым явочным порядком в 1989–1990 годах, возвращение немцев на территорию бывшей республики немцев Поволжья так и не состоялось.
4
…Марксистов-реформаторов — девять человек, включая Покровского и руководителя организации Льва Краснопевцева — Кружок выпускников, преподавателей и студентом МГУ, сложившийся в 1956–1957 годах вокруг историка Л. Н. Краснопецева. Его работа «Основные моменты развития русского революционного движения в 1861–1905 годах», объяснявшая кризис социалистической системы, стала программной для кружка. В июле 1957, сочтя «разоблачение антипартийной группы» удобным моментом, члены кружка составили и распространили листовки с критикой Н. С. Хрущева и призывами к проведению партийной дискуссии, внеочередного съезда партии, созданию рабочих советов на предприятиях (по примеру Югославии), забастовкам протеста. Около 300 листовок, подписанных «Союз патриотов», были распространены в разных районах Москвы. Девять членов группы (в т. ч. Л. А. Рендель и Н. Н. Покровский) были в августе 1957-го арестованы, а в феврале 1958-го осуждены к длительным срокам заключения. К остальным членам группы были применены внесудебные меры: исключение из КПСС, ВЛКСМ, увольнение с работы.
Первая публикация о «кружке Краснопевцева» появилась в самиздатском историческом сборнике «Память» (1981). Документы о «деле Краснопевцева» из архивов ЦК КПСС и КГБ стали публиковаться после 1991 года. Кружок стал одним из самых известных ныне подпольных марксистских организаций периода «оттепели».
5
…Группы студентов пятого курса, которые держались вместе и называли себя «товарищество» — «Тесное содружество» — кружок студентов старших курсов мехмата МГУ, возникший в сентябре 1948-го. Его лидером был студент пятого курса Владимир Эдельштейн, который сочинил устав и гимн кружка. Члены кружка (В. А. Эдельштейн, А. Х. Лившиц, М. А. Акивис, Н. Я. Гиндина и др., всего 11 человек) обсуждали политические вопросы и читали ходившие в списках неподцензурные тексты (стихотворения, приписываемые М. И. Алигер и И. Г. Эренбургу). В марте 1949-го кружок был «раскрыт» администрацией университета, большинство его участников было исключено из партии и комсомола, а лидеры были отчислены из университета «за попытку создать группу, противостоящую комсомольской организации, за распространение националистических настроений и слухов».
6
«Союз борьбы за дело революции» — антисталинская организация, созданная в 1950 в Москве несколькими студентами и школьниками. В организационный комитет вошли сначала три человека (Борис Слуцкий, Владлен Фурман и Сусанна Печуро), потом присоединились еще двое (Евгений Гуревич и Владимир Мельников). Члены кружка считали, что необходим возврат к ленинским идеям построения государства. В январе — марте 1951 года все члены СДР были арестованы. Военная коллегия Верховного суда СССР (14.02.1952) приговорила трех человек к высшей мере наказания (Слуцкий, Фурман и Гуревич), десять человек к 25 годам лагерей и пяти годам поражения в правах, трех человек к десяти годам лагерей. В 1956-м дело СДР было пересмотрено: 25-летние сроки снизили до пяти лет, три человека, получившие по десять лет, были реабилитированы, троим казненным расстрел заменили десятью годами. В 1989 реабилитировали всех членов кружка. СДР, пожалуй, первая послевоенная молодежная организация, получившая известность еще в начале 1970-х. Это произошло после того, как в 1973 году, за границей, появилась анонимная публикация воспоминаний члена кружка М. А. Улановской (отдельной книгой ее мемуары вышли в 1982 году, переизданы в России в 1994-м).
7
В Новосибирске Юлика трижды вызывали на допросы в КГБ и предписали вернуться в Москву. Это означало, что арест неизбежен. Дело Синявского и Даниэля — первое громкое политическое дело послесталинского периода. Литераторы А. Д. Синявский и Ю. М. Даниэль, в течение нескольких лет тайно публиковавшие за границей свои беллетристические произведения под псевдонимами Абрам Терц и Николай Аржак соответственно, были арестованы в сентябре 1965 года по обвинению в «антисоветской агитации и пропаганде». В советской печати началась пропагандистская кампания против писателей. В феврале 1966-го Верховный суд РСФСР приговорил их к семи (Синявского) и пяти (Даниэля) годам лишения свободы.
По ходу развития дела С. и Д. вокруг него разворачивалась широкомасштабная общественная кампания в защиту арестованных писателей, как в СССР, так и за рубежом. Впервые за несколько десятилетий в официальные советские инстанции были направлены десятки индивидуальных и коллективных обращений против преследований по политическим мотивам.
5 декабря 1965 года на Пушкинской площади в Москве прошел «митинг гласности», одним из лозунгов которого стало требование открытости предстоящего суда над С. и Д.
Материалы, связанные с этим делом, вошли в составленный А. И. Гинзбургом осенью 1966-го документальный сборник, который в декабре того же года был издан за рубежом под названием «Белая книга».
Дело С. и Д. стало первым звеном в цепи событий, приведших к консолидации отдельных диссидентских компаний, кружков и групп вокруг правозащитной идеи и к возникновению в СССР общественного движения в защиту прав человека.
8
«Митинг гласности» — первая в СССР правозащитная манифестация. Состоялась в Москве на Пушкинской пл. 5.12.1965, в День Конституции СССР, и прошла под лозунгами требования гласности суда над арестованными писателями А. Д. Синявским и Ю. М. Даниэлем (дело Синявского и Даниэля) и уважения к Советской Конституции. Инициатором митинга был А. С. Вольпин. Он также являлся основным автором «Гражданского обращения» — листовки, содержавшей приглашение прийти на «митинг гласности» и распространявшейся в нескольких московских вузах членами группы СМОГ. К началу митинга у памятника Пушкину собралось, по различным оценкам, от нескольких десятков, до полутора-двух сотен человек. Манифестанты были разогнаны милицией и сводным оперативным отрядом горкома комсомола; несколько человек подверглись кратковременному аресту. Впоследствии митинг у памятника Пушкину 5 декабря, переосмысленный как молчаливая манифестация в поддержку преследуемых по политическим мотивам, стал ежегодной традицией. В 1977 году в связи с принятием новой Конституции и установлением новой даты празднования Дня Конституции ежегодный митинг был перенесен на 10 декабря — День прав человека ООН.
5 декабря 1965 года часто называют днем рождения правозащитного движения в СССР.
9
Демонстрацию организовали молодые смутьяны… — Демонстрация 22 января 1967 года — правозащитная манифестация в Москве на Пушкинской пл., организованная В. К. Буковским. Группа молодежи, собравшаяся у памятника Пушкину, протестовала против прошедших незадолго до этого политических арестов А. И. Гинзбурга, Ю. Т. Галанскова, А. А. Добровольского и В. И. Лашковой и требовала отмены «антиконституционных» политических статей Уголовного кодекса РСФСР — 70 и недавно введенных 1901 и 1903. Наиболее активные организаторы и участники манифестации (В. К. Буковский, И. Я. Габай, В. Н. Делоне, Е. И. Кушев, В. А. Хаустов) были арестованы; четверо из них осуждены на двух судебных процессах по ст. 1903 Уголовного кодекса РСФСР (Буковский и Хаустов — к лишению свободы).
Осенью 1967-го П. М. Литвинов подготовил документальный сборник «Правосудие или расправа?», посвященный делу о демонстрации 22.01.1967. В 1968-м этот сборник вышел за рубежом.
10
СМОГ («Смелость, Мысль, Образ, Глубина», другие толкования: «Сжатый Миг Отраженной Гиперболы»; «Самое молодое общество гениев») — самодеятельное творческое объединение молодых поэтов и художников, возникшее в Москве в 1965 году. Одно из первых и самое известное творческое объединение, отказавшееся подчиняться контролю государственных и партийных инстанций. Лидерами его были поэты Леонид Губанов, Владимир Батшев, Владимир Алейников, Юрий Кублановский. Выпустили несколько самиздатских сборников: «Здравствуйте, мы гении», «Авангард», «Чу!», «Рикошет» и др. Издавали журнал «Сфинксы». Помимо занятий собственно литературой смогисты организовывали различные эпатажные публичные акции, пытались возобновить встречи на «Маяковке» (в 1965-м на пл. Маяковского был зачитан манифест СМОГ), приняли участие в подготовке «митинга гласности».
Власти преследовали смогистов: исключали из институтов, высылали из Москвы, насильственно помещали в психиатрические больницы и т. д. После 1966-го активность СМОГа постепенно сошла на нет.
11
…Он написал работу, оспаривавшую официальный взгляд на происхождение российской государственности от племенного устройства славян — «Норманны и Киевская Русь», не опубликована, сохранилась в составе архивно-следственного дела А. А. Амальрика (Государственный архив административных органов Свердловской области, ф. 1, оп. 2, д. 44 031).
12
…другой политический процесс — над активистами самиздата Юрием Галансковым, Александром Гинзбургом, Алексеем Добровольским и Верой Лашковой — «Процесс четырех», «дело Гинзбурга и Галанскова» — один из самых известных политических процессов 1960-х. Четырех молодых москвичей арестовали в январе 1967 по обвинению в «антисоветской агитации и пропаганде». Центральным пунктом обвинения против А. И. Гинзбурга было составление и публикация им за границей «Белой книги» по делу А. Д. Синявского и Ю. М. Даниэля; Ю. Т. Галанскову инкриминировали помощь Гинзбургу в подготовке «Белой книги» и составление второго тома альманаха «Феникс» («Феникс-66»); А. А. Добровольскому — авторство одного из текстов, помещенных в этом альманахе; В. И. Лашковой — участие в подготовке «Белой книги» и «Феникса—66» в качестве машинистки. Кроме того, их обвинили в «преступной связи» с эмигрантской организацией «Народно-трудовой союз». В январе 1968 Мосгорсуд приговорил Гинзбурга к пяти годам лишения свободы, Галанскова — к семи, Добровольского — к двум и Лашкову — к одному году.
Арест четверых стал одним из поводов для демонстрации 22 января 1967 года на Пушкинской пл., а само «дело четырех» — причиной второй протестной кампании против политических преследований, развернувшейся в 1967–1968 годах и принявшей существенно большие масштабы, чем кампания 1965–1966-го в защиту А. Д. Синявского и Ю. М. Даниэля. Под десятками индивидуальных и коллективных обращений в защиту Гинзбурга и Галанскова было собрано в общей сложности свыше 700 подписей. В ходе этой кампании завершилась консолидация диссидентов Москвы и некоторых других крупных городов СССР вокруг правозащитной идеи.
Из материалов, касающихся этого дела и общественной кампании в их защиту, П. М. Литвинов (при участии А. А. Амальрика) составил документальный сборник «Процесс четырех».
13
…Студенческие волнения в Польше, жестоко подавленные в марте 1968 года — 16 января 1968 года ЦК Польской объединенной рабочей партии под давлением посольства СССР принял решение снять со сцены признанный антисоветским спектакль «Дзяды» по одноименной поэме А. Мицкевича, поставленный в Национальном театре Варшавы. 30 января студенты Варшавского университета провели демонстрацию протеста у театра и памятника поэту. Когда в начале марта было объявлено об исключении из университета двоих студентов (евреев по национальности), вспыхнули студенческие волнения, поддержанные в других городах Польши. В Варшаве их подавляли с применением дубинок и слезоточивого газа. Власти обвинили в организации волнений «сионистов». В Польше развернулась кампания антисемитизма, вызвавшая эмиграцию более 80 % еврейского населения страны. Наиболее активных студентов и преподавателей изгнали из вузов. В Варшавском университете были временно закрыты философский и экономический факультеты.
14
«Хроника текущих событий» («Хроника») — машинописный информационный бюллетень, собиравший и фиксировавший факты политических преследований и др. посягательств на права человека в Советском Союзе, а также информировавший читателей о борьбе советских граждан против подавления общественной свободы. Первое и главное периодическое издание советских правозащитников, летопись правозащитного движения и диссидентской активности в СССР.
Хроника выходила в течение 15 лет; первый выпуск бюллетеня датирован 30.04.1968 г.; последний, 64-й, датированный 30.06.1982 г., фактически был подготовлен в 1983 г. Кроме того, к осени 1983 был готов, но не вышел в свет из-за ареста выпускающего редактора, Ю. А. Шихановича, 65-й выпуск, датированный 31.12.1982 г. Таким образом, за 15 лет было выпущено 63 номера «Хроники» (помимо не увидевшего света 65-го выпуска, не вышел также выпуск 59-й: его материалы были изъяты КГБ в феврале 1981-го, во время обыска в квартире одного из составителей, Леонида Вуля, и редакция решила, не возобновляя работу над ним, сразу перейти к следующему выпуску).
Объем выпусков «Хроники» колебался от 10–20 страниц плотной машинописи в начальный период издания до 150–200 страниц — в конце.
«Хроника» делилась на две части. Первая содержала подробное изложение главных, на взгляд составителей, событий, произошедших между датой, которой был помечен предыдущий выпуск, и датой текущего номера. Вторая состояла из постоянных рубрик, образованных по тематическому и, отчасти, жанровому признаку: «Аресты, обыски, допросы», «Внесудебные преследования», «В тюрьмах и лагерях», «Новости самиздата» и др.
Стиль «Хроники» — фактографический, сдержанный, безоценочный — также определился уже в первом выпуске и оставался неизменным до конца. Неизменными оставались и основные принципы издания: стремление к максимальной точности и полноте информации, объективность в ее подаче.
Выпуски бюллетеня готовились в Москве и распространялись по стране в самиздате. Впоследствии «Хроника» переиздавалась за границей: сначала — издательством «Посев», затем выпуски с 1-го по 27-й были изданы в виде двухтомника Фондом им. Герцена в Амстердаме, а начиная с 1974 года все выходившие номера регулярно публиковались на русском и английском языках нью-йоркским издательством «Khronika Press», специально созданным для этой цели П. М. Литвиновым и Э. Клайном. Начиная с середины 1970-х, эти выпуски подпольно привозились в СССР, что наряду с передачами зарубежных радиостанций заметно расширило аудиторию бюллетеня. Однако наиболее важную роль в консолидации правозащитной активности вокруг «Хроники» сыграл самиздатский способ ее распространения. Сеть ее «распространителей-корреспондентов» стала базовой инфраструктурой правозащитного движения в СССР. Это обстоятельство оказало заметное влияние на характер самого движения, например, именно этим можно объяснить доминирование в нем мониторинговой информационно-публикаторской компоненты.
В конце 1972 года КГБ шантажом и угрозами добился приостановки издания. После выхода в свет 27-го выпуска (15.10.1972) «Хроника» в течение полутора лет не выходила. Работа над бюллетенем была возобновлена в 1973-м, и 7 марта 1974 года Т. М. Великанова, С. А. Ковалев и Т. С. Ходорович представили зарубежным журналистам три новых номера «Хроники», содержание которых покрывало паузу в издании. При этом они заявили, что принимают на себя ответственность за ее дальнейшее распространение.
Имена тех, кто готовил выпуски, не оглашались. Однако было известно, что основателем и бессменным (вплоть до своего ареста в декабре 1969) составителем «Хроники» была Н. Е. Горбаневская; она практически единолично подготовила первые 11 номеров бюллетеня. В дальнейшем над составлением «Хроники» обычно работал небольшой коллектив или даже несколько групп, состав которых часто менялся. Определяющую роль в этой «редакции» играли обычно люди, бравшие на себя функцию «выпускающего редактора»; после ареста Горбаневской такими «выпускающими редакторами» были А. А. Якобсон, С. А. Ковалев, Т. М. Великанова, А. П. Лавут, Ю. А. Шиханович. Организационные функции, связанные с подготовкой и распространением «Хроники», с начала 1970-го и вплоть до своего ареста в ноябре 1979-го выполняла Татьяна Великанова.
Люди, причастные к изданию бюллетеня, ее корреспонденты и распространители подвергались систематическим преследованиям. Так, по обвинению в причастности к изготовлению и/или распространению бюллетеня в разные годы были арестованы и осуждены Н. Е. Горбаневская, Ю. А. Шиханович (дважды), П. И. Якир, В. А. Красин, Г. Г. Суперфин, С. А. Ковалев, А. П. Лавут, Т. М. Великанова.
«Хроника текущих событий» — наиболее полный и точный свод исторических сведений о диссидентской активности и политических преследованиях в СССР в 1968–1982 годах. Тексты всех выпусков размещены на сайте общества «Мемориал».
15
25 августа 1968 года здесь ждали назначенного часа остальные участники демонстрации — «Демонстрация семерых» — манифестация протеста против вторжения войск стран Варшавского договора в Чехословакию, проведенная на Красной площади в Москве 25 августа 1968 года, через четыре дня после ввода войск. Участники демонстрации (хотя в литературе укоренилось название «демонстрация семерых», на самом деле их было восемь: Константин Бабицкий, Татьяна Баева, Лариса Богораз, Наталья Горбаневская, Вадим Делоне, Владимир Дремлюга, Павел Литвинов, Виктор Файнберг) развернули на парапете у Лобного места плакаты с лозунгами, протестующими против вторжения. Все демонстранты были схвачены и арестованы; двое (Баева и Горбаневская) отпущены; шестеро остальных — осуждены по обвинению в «заведомо ложных измышлениях, порочащих советский строй» и «групповых действиях, нарушающих общественный порядок» (ст. 1901 и 1903 УК РСФСР).
«Демонстрации семерых» посвящен самиздатский документальный сборник «Полдень», составленный Горбаневской.
16
Инициативная группа по защите прав человека в СССР — первая в СССР открыто действовавшая независимая гражданская ассоциация. Создана в мае 1969 в Москве по инициативе П. И. Якира и В. А. Красина. Кроме них в нее вошли: москвичи Т. М. Великанова, Н. Е. Горбаневская, С. А. Ковалев, А. П. Лавут, А. Э. Левитин, Ю. А. Мальцев, Г. С. Подъяпольский, Т. С. Ходорович и A. A. Якобсон, ленинградец В. Е. Борисов, украинцы Г. О. Алтунян и Л. И. Плющ, активист крымско-татарского движения из Узбекистана М. Джемилев. Представляла собой авторский коллектив, готовящий тексты открытых обращений, адресованных по преимуществу в ООН и содержащих сведения о политических преследованиях в СССР. Практически все участники группы подвергались разного рода репрессиям; 11 из 15 ее членов были арестованы и осуждены, семеро вынуждены были покинуть страну.
17
Комитет прав человека в СССР— творческая ассоциация, созданная в Москве в ноябре 1970 «для изучения проблемы обеспечения и пропаганды прав человека в СССР», вторая (после Инициативной группы по защите прав человека в СССР) независимая гражданская организация. Основателями Комитета стали В. Н. Чалидзе, А. Д. Сахаров и А. Н. Твердохлебов, позднее в него вошли И. Р. Шафаревич и Г. С. Подъяпольский. А. С. Вольпин, Б. И. Цукерман, а также — анонимно — С. В. Каллистратова, они принимали участие в его работе в качестве экспертов. Неофициальным печатным органом Комитета стал выпускаемый Чалидзе самиздатский журнал «Общественные проблемы». Характер и формы деятельности Комитета не вполне обычны для диссидентской среды конца 1960-х — начала 1970-х: его заседания определялись подробным регламентом, а публикации имели демонстративно академический характер; в его учредительных документах подчеркивалось стремление к конструктивному сотрудничеству с властью. По сути это была первая в СССР попытка создания независимого экспертно-аналитического центра. Комитет прав человека оказался также первой диссидентской ассоциацией, получившей международный статус: он стал ассоциированным членом Международной лиги прав человека (Нью-Йорк) и Международного института прав человека (Институт Рене Кассена, Париж). Деятельность Комитета сошла на нет к середине 1970-х, после отъезда Чалидзе в США, выхода из него Твердохлебова и смерти Подъяпольского.
18
В июне Якира арестовали — дело Якира и Красина (суд над Якиром и Красиным) — один из наиболее известных политических судебных процессов 1970-х. П. И. Якир и В. А. Красин, видные участники правозащитного движения, члены Инициативной группы по защите прав человека в СССР, были арестованы летом 1972 в Москве по обвинению в «антисоветской агитации и пропаганде». На следствии оба дали подробные показания, в т. ч. об анонимных участниках правозащитного движения, о каналах передачи самиздата на Запад. Из следственного изолятора КГБ «Лефортово» были доставлены обращения Якира и Красина к единомышленникам на воле, в которых они призывали к «почетной капитуляции». Показания Якира и Красина повлекли за собой многочисленные обыски и допросы и, возможно, вопреки обещаниям, которые они получили от следователей КГБ, сыграли определенную роль в некоторых арестах 1972–1973 годов. Одновременно КГБ шантажом добился приостановки издания «Хроники текущих событий».
На суде (Москва, 27.08–1.09.1973), а также на пресс-конференции, отрывки из которой демонстрировались по советскому телевидению, Якир и Красин признали себя виновными и заявили, что раскаиваются в своей «антигосударственной деятельности, направлявшейся и финансировавшейся иностранными спецслужбами». Приговорены к небольшим срокам заключения, вскоре замененным трехлетней ссылкой. Оба были освобождены до истечения срока ссылки.
В начале 1970-х авторитет Якира и Красина (особенно Якира) среди интеллигенции, сочувствующей диссидентам, был весьма высок; их поведение на следствии и суде и публичное покаяние вызвали замешательство и заметно повлияли на уровень общественной поддержки диссидентских инициатив. Для преодоления кризиса, вызванного делом Якира и Красина, потребовалась точная нравственная реакция диссидентских правозащитных институтов, серьезное повышение профессионализма и гражданской ответственности правозащитников. Сразу после суда Инициативная группа по защите прав человека в СССР выпустила заявление, в котором опровергла утверждения Якира и Красина о связи правозащитников с иностранными спецслужбами и возложила ответственность за эту ложь на КГБ, принудивший подсудимых повести себя подобным образом. В мае 1974 года возобновился выпуск «Хроники». К моменту создания Московской Хельсинкской группы (май 1976) кризис правозащитного движения был в основном преодолен.
19
Московская Хельсинкская группа (Общественная группа содействия выполнению хельсинкских соглашений в СССР, Московская группа «Хельсинки», МХГ) — крупнейшая правозащитная организация 1970-х. Создана 12 мая 1976 года в Москве. Организатором и первым руководителем МХГ стал Ю. Ф. Орлов. Группа поставила своей задачей сбор, верификацию, систематизацию и предание гласности информации о нарушениях прав человека и других гуманитарных аспектов Заключительного акта Совещания по безопасности и сотрудничеству в Европе, подписанного главами европейских правительств в Хельсинки 1 августа 1975 года. Основной формой предания гласности собранных сведений МХГ выбрала выпуск тематических информационных документов, которые рассылались правительствам стран-участниц Хельсинкских соглашений и передавались в СМИ. За шесть лет работы группа собрала и переработала огромное количество информации, выпустила 195 документов и несколько обзоров, а также, совместно с другими правозащитными ассоциациями, ряд сообщений и заявлений. Документы МХГ отличались высоким уровнем ответственности за достоверность и полноту публикуемых сведений и отказом от публицистической риторики и политических деклараций. МХГ соединила в себе правозащитные традиции Инициативной группы по защите прав человека в СССР и заявку Комитета прав человека в СССР на профессиональный уровень аналитической работы, став первой профессиональной правозащитной организацией в СССР. Зимой 1976/1977 при МХГ возникли две специализированные правозащитные организации: Рабочая комиссия по расследованию использования психиатрии в политических целях и Христианский комитет защиты прав верующих в СССР.
Возникновение и деятельность МХГ инициировали создание аналогичных групп в нескольких республиках СССР, возникли Литовская Хельсинкская группа, Украинская Хельсинкская группа, Грузинская Хельсинкская группа и Армянская Хельсинкская группа. За рубежом были созданы наблюдательные группы и комитеты поддержки советских хельсинкских групп. Впоследствии эти группы расширили свою деятельность, занявшись сбором информации о нарушениях прав человека не только в СССР, но и в других странах, и объединились в Международную Хельсинкскую федерацию по правам человека, ныне — одну из наиболее влиятельных и авторитетных правозащитных ассоциаций в мире.
Репрессии против членов МХГ начались вскоре после возникновения группы. С начала 1977-го более десяти членов группы были арестованы и осуждены, несколько человек — вынуждены эмигрировать из страны. Осенью 1982-го под угрозой судебной расправы над одним из трех оставшихся в СССР на свободе членов МХГ, 75-летней С. В. Каллистратовой, группа вынуждена была заявить о прекращении своей деятельности.
В 1989 году МХГ была воссоздана в новом составе. Сначала она функционировала в основном как общественно-политический клуб бывших диссидентов, выпускавший заявления по различным актуальным темам. Затем Л. И. Богораз, ставшая членом группы, организовала при МХГ регулярный просветительский семинар для региональных активистов правозащитных организаций. В 1996 году новый председатель МХГ Л. М. Алексеева (член МХГ с момента основания) превратила группу в действующую правозащитную структуру. К настоящему времени Московская Хельсинкская группа стала одной из самых известных и успешных правозащитных организаций России.