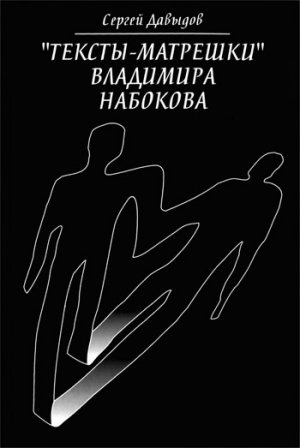
Об авторе
Сергей Давыдов принадлежит к третьему поколению русских эмигрантов. Он родился в Праге в 1945 г. Накануне его рождения советские войска освободили Чехословакию; дед Давыдова, известный филолог А. Л. Бем был расстрелян, отец арестован и отправлен в лагеря. Давыдова с матерью сослали в далекую Словакию. Судьба распорядилась так, что в 1957 г. Н. С. Хрущев во время официального визита в Чехословакию обратил внимание на двенадцатилетнего пионера Давыдова и после краткой беседы обещал мальчику разыскать его отца. Обещание было выполнено: встреча с отцом состоялась в 1958 г. в Артеке. Давыдов вернулся к матери, учился в Карловом университете в Праге; в августе 1968 г. семья эмигрировала на Запад. Степень магистра Давыдов получил в Мюнхенском университете (1972), докторскую диссертацию защитил в США в Йельском университете (1978). С тех пор он преподает русскую словесность в Миддлбери колледже штата Вермонт. Основные исследования Сергея Давыдова посвящены Пушкину и Набокову. Почти каждый год он приезжает работать в Петербург, в Пушкинский Дом.
Книга «„Тексты-матрешки“ Владимира Набокова», небольшим тиражом вышедшая в Мюнхене в 1982 году — первая монография о Набокове на русском языке. Она обращена к проблемам эстетики, философии и поэтики. Чрезвычайно яркая по своим идеям, монография Сергея Давыдова стала классикой для всех специалистов по творчеству Набокова: без ссылок на неё не обходится почти ни одно большое исследование, посвященное автору «Лолиты». Книга давно уже превратилась в библиографическую редкость. Прошло уже больше двух десятилетий со времени её выхода в свет, а читательский спрос на монографию только растёт. Для настоящего издания книга существенно переработана.
От автора
Предлагаемая читателю работа — моя диссертация, написанная в 1976 году в Йельском университете под руководством В. Г. Эрлиха. В 1982 году мюнхенское издательство Отто Загнера напечатало ее небольшим тиражом. «Тексты-матрешки» — первая работа, которую я написал по-русски (мой дед принадлежал к первой волне эмиграции, я родился и вырос в Чехословакии, затем перебрался в Германию, а позже — в Америку). Мои русские друзья уверяют, что эта книга — первая монография о Набокове на русском языке — достойна переиздания в России.
Я приношу благодарность зачинщику этой идеи Борису Аверину, а также Марии Виролайнен и Татьяне Смирновой, любезно согласившимся осуществить редакторскую правку. Все оставшиеся погрешности, естественно, следует отнести на мой счет.
Кузьмолово, лето 2002
Введение
Сон
Об этом стихотворении Набоков написал следующее:
Это замечательное сочинение … можно было бы назвать «Тройной сон».
Некто (Лермонтов, или, точнее, его лирический герой) видит во сне, будто он умирает в долине у восточных отрогов Кавказских гор. Это Сон 1, который снится Первому Лицу.
Смертельно раненному человеку (Второму Лицу) снится в свою очередь молодая женщина, сидящая на пиру в петербургском, не то московском особняке. Это Сон 2 внутри Сна 1.
Молодой женщине, сидящей на пиру, снится Второе Лицо (этот человек умирает в конце стихотворения), лежащее в долине далекого Дагестана. Это Сон 3 внутри Сна 2 внутри Сна 1, который, сделав замкнутую спираль, возвращает нас к начальной строфе.{2}
Стихотворением Лермонтова и комментарием к нему Набокова мы открываем введение к настоящей работе, посвященной творчеству Владимира Владимировича Набокова (Сирина).
Уже в 1936 году критик Владимир Вейдле отметил:
Тема творчества Сирина — само творчество; это первое, что нужно о нем сказать. Соглядатай … шахматист Лужин, собиратель бабочек Пильграм, убийца, от лица которого рассказано «Отчаяние», приговоренный к смерти в «Приглашении на казнь» — все это разнообразные, но однородные символы творца, художника, поэта.{3}
Настоящая работа посвящена теме творчества в прозе Набокова. Я намерен в ней остановиться на тех набоковских произведениях, которые обращаются к этой теме прямо, т. е. без посредничества символа или аллегории. Из многочисленных романов и рассказов, написанных Набоковым на русском и английском языках на протяжении более полувека, я выбрал лишь четыре текста. Они относятся ко второй половине «русского» периода творчества Набокова, к 1930–1940 годам. Это рассказ «Уста к устам» (1933), а также романы «Отчаяние» (1932–1933), «Приглашение на казнь» (1935) и «Дар» (1935–1937).
Их роднит не только общая тема творчества, но и то, что их героями являются писатели, сочинения которых частично или полностью вошли в виде «внутреннего» текста в каждое из четырех произведений. В рассказе «Уста к устам» это роман героя, Ильи Борисовича, давший название рассказу. В романе «Отчаяние» — одноименная повесть героя-убийцы, Германа. Роман «Приглашение на казнь» содержит гностическую исповедь, написанную приговоренным к смертной казни героем. Последний из рассматриваемых, роман «Дар», состоит полностью из произведений главного героя Федора.
Литературное произведение, которое содержит один или несколько написанных героем текстов, я предлагаю называть «текст-матрешка», по аналогии с куклой-матрешкой. «Внешний» авторский текст соответствует внешней кукле, в то время как «внутренний» текст героя, вошедший в авторский текст, соответствует внутренней кукле (или куклам, если текстов несколько).
В своем творчестве Набоков тяготеет именно к такому типу текста. Эта тенденция намечалась уже в первом его романе «Машенька» (1926), который содержал воспоминания героя Ганина.{4}
Но своего полного развития эта форма достигает у Набокова лишь в начале 30-х годов. Начиная с рассказа «Уста к устам» и романа «Отчаяние», тип «текста-матрешки» определяет построение чуть ли не всех произведений Набокова, вплоть до последнего английского романа «Смотри на арлекинов!» (1974).{5}
Данный тип текста — явление отнюдь не новое в истории литературы. Мы находим «текст-матрешку» в самой колыбели европейской литературы, у Гомера. В восьмой книге «Одиссеи» слепой певец Демодок поет при дворе короля Алкиноя три песни.{6} Вторая и третья — это изящные «матрешки», миниатюрные образцы гомеровского стиля. Их содержанием являются эпизоды, описанные Гомером в «Илиаде». К типу «текста-матрешки» следует отнести, например, импровизации итальянского поэта в «Египетских ночах», которые являются образцами поэзии самого Пушкина.{7} К подобному же типу текста принадлежат и известные «сцены на сцене» в «Гамлете» Шекспира и в «Чайке» Чехова, произведения, содержащие дневник героя, как, например, «Журнал Печорина» в «Герое нашего времени» Лермонтова или, чтоб привести пример поновее, «Дневник Эдварда» в романе «Фальшивомонетчики» А. Жида. Романом в романе является рукопись булгаковского Мастера о Понтии Пилате, причем между рукописью героя («внутренний» текст) и «внешним» текстом романа устанавливается замысловатая связь фабульных и сюжетных перекличек. К категории «текста-матрешки» надо отнести и «произведения о том, как создавались произведения». Примером этого типа служит «История села Горюхина» Пушкина. Ее рассказчик, «покойный» Иван Петрович Белкин, помещает в свой рассказ им же написанную «Историю села Горюхина» («внутренний» текст) и одновременно описывает самый процесс создания «Истории» («внешний» текст рассказа).{8}
Тип «текста-матрешки», в котором литературная установка сдвигается с повествования на процесс создания этого повествования, нашел широкое распространение в литературе XX века. Приведем лишь несколько примеров из русской литературы 20–30-х годов, то есть того времени, к которому относится творчество самого Набокова (русского периода). Роман Замятина «Мы» (1920) состоит из дневниковых записей героя Д-503 о том, как писался роман «Мы». Рассказы Б. Пильняка «Расплеснутое время» (1924) и «Рассказ о том, как создаются рассказы» (1926) тоже являются своеобразными «текстами-матрешками». «Внутренним» текстом первого рассказа служит одна страница романа, написанная стариком писателем. Своим архаичным стилем эта страница резко выделяется на контрастном по отношению к ней фоне авангардного рассказа Пильняка. «Внутренним» текстом второго рассказа служит роман японского писателя Тагаки и дневник его русской жены. В «Рассказе о том, как создаются рассказы» — три автора. Любопытной разновидностью «текста-матрешки» является роман Л. Леонова «Вор» (1928), который своим построением напоминает «Фальшивомонетчиков» А. Жида (1925).{9} В романе два писателя — автор, Леонов, и его герой, писатель Фирсов. Последний собирает материалы для собственного романа.
«Матрешечный» тип текста открывает для писателя ряд структурных возможностей, которые исключены в других видах текста. Остановимся лишь на некоторых свойствах «текстов-матрешек», имеющих прямое отношение к прозе Набокова и к теме настоящей работы.
«Текст-матрешка» дает писателю возможность двупланного построения текста, причем планы «внешнего» и «внутреннего» текстов развиваются совместно и синхронно, перекрывая друг друга, как на дважды экспонированной фотографии.{10} В «текстах-матрешках», как правило, выступают два автора, два рассказчика. Первый из них, автор «внешнего» текста, — сам автор, второй, автор «внутреннего» текста, — герой-писатель. Сосуществование в тексте двух авторов и их произведений принимает в «текстах-матрешках» разные виды: от полного антагонизма (как в рассказе «Уста к устам» или в романе «Отчаяние») до полного слияния двух голосов, двух текстов. В случае разногласия между словом героя и словом автора, между «внутренним» текстом героя и «внешним» текстом автора-текст героя, прочитанный на контрастном фоне авторского текста, воспринимается читателем как «чужое слово»,{11} как «чужой текст». Расширив концепт «чужого слова» М. Бахтина до понятия «чужой текст», мы будем говорить о «двуголосности» «текстов-матрешек». Авторский текст, как правило, отмежевывается от «чужого» текста героя и вступает с ним в диалогические, полемические отношения. «Внутренние» тексты в произведениях Набокова часто являются набором общепринятых литературных схем, которые «внешний» текст пародирует.{12} Такова, например, ситуация в рассказе «Уста к устам». Иногда авторский текст вступает в соревнование с «внутренним» текстом героя. В таких палинодических поединках двух писателей автор, как правило, одерживает победу над своим менее удачливым героем-писателем. Примером тому можно считать «Приглашение на казнь».
Не менее интересны «тексты-матрешки», в которых «внутренний» текст является первоначальной стадией, черновиком, наброском или замыслом будущего произведения — «внешнего» текста. В произведениях этого типа авторы «внешнего» и «внутреннего» текстов сливаются в фигуру двуединого рассказчика. Такой схеме соответствуют «Фальшивомонетчики» А. Жида и роман Л. Леонова «Вор». Это построение легло также в основу «Дара» — последнего из «русских» романов Набокова. В «текстах-матрешках», изображающих «внешний» текст in statu nascendi,[1] сдвигается установка с предмета изображения, с модели на самый процесс изображения. Этот тип текста напоминает нам автопортреты художников, пишущих перед зеркалом собственный портрет, или картины, на которых изображены: художник, его модель и одновременно холст с отображением этой модели.{13}
В произведениях о том, как создавались произведения, Набоков, как правило, «сшивает белыми нитками» весь словесный материал. Все литературные приемы здесь выставляются наружу, намеренно обнажаются. Об этом аспекте творчества Набокова пишет В. Ходасевич:
Тут, мне кажется, ключ ко всему Сирину. Его произведения населены не только действующими лицами, но и бесчисленным множеством приемов, которые, точно эльфы или гномы, снуя между персонажами, производят огромную работу: пилят, режут, приколачивают, малюют, на глазах у зрителя ставя и разбирая те декорации, в которых разыгрывается пьеса. Они строят мир произведения и сами оказываются его неустранимо важными персонажами. Сирин их потому не прячет, что одна из главных задач его — именно показать, как живут и работают приемы.{14}
В «произведениях о произведениях» действительность, как правило, вытесняется за рамки художественного текста. Одну из наиболее наглядных иллюстраций такого «изгнания» действительности из художественного текста мы находим в романе «Ада». Я имею в виду то место, когда автор глазами героя (Вана Вина) наблюдает за героиней (Адой), которая срисовывает с иллюстрации в ботаническом атласе цветок, который в процессе мимикрии подражает большой ночной бабочке, которая, в свою очередь, подделывается под скарабея. В этой миметическо-мимикрической цепи, состоящей из семи звеньев, не только вопрос о «действительности», но и сама «действительность» становится беспредметной. Это место из «Ады» можно считать набоковской формулой «изгнания действительности» из художественного произведения. Здесь раскрывается полная условность реалистического метода в искусстве, основанном на миметическом принципе отражения, и таится артистическое кредо автора. В антимиметическом творчестве Набокова предмет искусства — само искусство. Обратимся к этому творчеству, заглянем внутрь набоковских «матрешек».
Глава первая
РОМАН В РАССКАЗЕ («УСТА К УСТАМ»)
В. Набоков
- Сатира — поучение,
- пародия — игра.
1. Два плана пародии
Люблю я неудачника тревожить.
В. Набоков
В 1933 году Набоков написал рассказ «Уста к устам», появившийся в печати лишь в 1956 году.{15} Причины этой четвертьвековой задержки будут рассмотрены в конце главы.
«Уста к устам» — первый набоковский «текст-матрешка» и на редкость интересный материал для литературоведческого исследования. В этом рассказе Набоков полностью и в наиболее обнаженной форме использовал ряд структурных возможностей, которые «текст-матрешка» предоставляет писателю. В романе «Машенька» 1926 года Набоков еще не воспользовался теми возможностями, которые открывает этот вид текста. В «Машеньке» не было того разногласия между словом героя и словом автора, той диалогичности между внутренним и внешним текстом, которая выступает как структурная доминанта не только в рассказе «Уста к устам», но и во всех последующих «матрешках» Набокова.{16}
«Уста к устам» — трагикомический рассказ о русском эмигранте, вдовце Илье Борисовиче, на старость лет написавшем невероятно бездарный, мелодраматичный роман под названием «Уста к устам». Прямыми цитатами из рукописи романа, а также гротескным пересказом его фабулы рассказ Набокова фрагментарно воспроизводит роман Ильи Борисовича. Роман героя составляет таким образом «внутренний» текст, в то время как одноименный рассказ Набокова является «внешним» текстом.
В этой части главы моей задачей будет рассмотреть взаимоотношения обоих текстов на разных структурных уровнях, начиная с плана фабулы и сюжета и кончая уровнем стиля. Во второй части я постараюсь соотнести рассказ Набокова с другими литературными и бытовыми рядами.
Рассказ «Уста к устам» — идеальный образец «текста-матрешки». В нем «внешний» текст не только точно подражает «внутреннему», но одновременно от него значительно отличается. Отличительным признаком отдельных кукол матрешки, кроме их величины, является, как правило, определенное художественное превосходство куклы побольше (точнее детали, богаче раскраска и шкала красок и пр.). «Внешний» текст, таким образом, не только своим объемом, но и эстетически превосходит «внутренний». Обратим сначала внимание на сходство между «внешним» текстом рассказа Набокова и «внутренним» текстом романа Ильи Борисовича.
Не трудно заметить, что роман Ильи Борисовича послужил внутренней моделью для одноименного рассказа Набокова. Рассмотрим, каким образом происходит перекодировка романа в рассказ, сначала в плане фабулы. Для этой цели необходимо вкратце пересказать как роман, так и рассказ.
Роман Ильи Борисовича начинается в театре, где его герой, «одинокий» и «колоссально богатый» Долинин, влюбляется в случайную соседку по ложе, юную Ирину.
Еще рыдали скрипки, исполняя как будто гимн страсти и любви, но уже Ирина и взволнованный Долинин быстро направлялись к выходу из театра. Их манила весенняя ночь, манила тайна, которая напряженно встала между ними. Сердца их дрожали в унисон.[2]
Но скоро Долинин, «еще ни разу не обладавший Ириной», узнает, что она «увлечена другим, молодым художником» (V, 345).
Долинин с ней поговорил по душам, она ему сказала, что никогда не покинет его, потому что слишком ценит его прекрасную одинокую душу, но, увы, телом принадлежит другому, и Долинин молча поклонился. Наконец настал день, когда он сделал завещание в ее пользу, настал день, когда он застрелился (из маузера)…
(V, 345)
В одноименном рассказе Набокова, составляющем «внешний» текст, директор берлинской торговой фирмы, Илья Борисович (в английской версии рассказа у него появляется фамилия «Tal»{17}), увлекся на старости лет литературой. Он пишет бездарный роман, походящий скорее на пародию. К удивлению Ильи Борисовича, группа молодых парижских писателей модного альманаха «Арион», при посредничестве некоего Евфратского, предлагает напечатать роман в их авангардном альманахе (где печатаются такие знаменитости, как «русский Джойс» — Галатов). С этой минуты Илья Борисович, промышляющий устройством ванных помещений, с восторгом входит в новую для него роль литератора. Однако вместо ожидаемого номера, в котором должны были появиться первые главы романа, он получает от Евфратского известие, что по финансовым причинам альманах прекращает свое существование. Влюбленный в свой роман Илья Борисович переводит в Париж «некоторую сумму». Когда долгожданный номер «Ариона» наконец появляется, он содержит всего три страницы романа, озаглавленные почему-то «Пролог к роману», а не «Уста к устам» и подписанные к тому же псевдонимом А. Ильин. Тем не менее Илья Борисович очень рад. Ему предстоит встреча с главным редактором «Ариона» Галатовым, приехавшим из Парижа в Берлин. Накануне, узнав, что Галатов будет в театре, Илья Борисович едет туда же и у гардероба ненароком слышит разговор между дамой и незнакомым ему господином (как вскоре выясняется, самим Галатовым):
— Извините, по-моему, если вы печатаете только потому, что он дает деньги…
— Тише, тише, — сказал господин. — Не разглашайте наших тайн.
(V, 350)
Потрясенный Илья Борисович догадывается, что речь идет о нем. Он в панике бросается к гардеробу за своими вещами, но тут к нему подскакивает Евфратский и представляет Илье Борисовичу Галатова. Тот неуклюже помогает Илье Борисовичу надеть пальто. Вырвавшись наконец, герой выбегает из театра, забыв в гардеробе свою трость, за которой ему придется вернуться.
Как уже было сказано, роман Ильи Борисовича служит моделью для одноименного рассказа Набокова. Тема обоих произведений — несчастная любовь. В романе одинокий Долинин влюбляется в юную Ирину, в рассказе у вдовца Ильи Борисовича начинается любовный роман с романом. В романе влюбленный Долинин напрасно мечтает о минуте, когда Ирина сама к нему придет и воскликнет:
— Возьми меня, мою чистоту, мое страдание… Я твоя. Твое одиночество — мое одиночество, и как бы долго или кратко ты ни любил меня, я готова на все, ибо вокруг нас весна зовет к человечности и добру, ибо твердь и небеса блещут божественной красотой, ибо я тебя люблю…
(V, 341)
В рассказе литератор-любитель Илья Борисович с трепетом, и тоже напрасно, мечтает о литературном признании, о появлении своего романа в «Арионе».
Роман роднит с рассказом также и общая тема «измены». В романе Ирина изменяет Долинину, отдавая предпочтение молодому художнику; в рассказе «Арион» изменяет Илье Борисовичу, предпочитая молодых писателей, модных «русских Джойсов». В романе обманутый богач Долинин делает денежное завещание в пользу Ирины, в рассказе «вполне состоятельный» и тоже обманутый Илья Борисович финансирует издателей «Ариона».
Разочарованный в любви Долинин кончает жизнь самоубийством. Любительское увлечение Ильи Борисовича, его литературные амбиции оказываются в переносном смысле самоубийственными. В художественной системе Набокова творческая неудача равнозначна физической смерти. Во многих романах Набокова («Защита Лужина», «Камера обскура», «Отчаяние») вслед за творческим провалом художника следует его смерть. Не случайно в конце рассказа вскользь говорится о смерти Ильи Борисовича:
И еще он думал о том, что его полностью оценят, когда он умрет, и вспоминал, собирал в кучку крупицы похвал, слышанных им за последнее время, и тихо ходил взад и вперед по тротуару, и погодя вернулся за тростью.
(V, 351)
Биографические детали, которыми писатель Илья Борисович наделил своего героя Долинина, Набоков нарочито сопоставляет с подробностями жизни самого Ильи Борисовича:
Долинин был просто «пожилой»; Илье Борисовичу шел пятьдесят пятый год. Долинин был «колоссально богат» — без точного объяснения источников дохода; Илья Борисович, директор фирмы, занимавшейся устройством ванных помещений и, кстати сказать, получившей в тот год заказ облицевать изразцами пещерные стены нескольких станций подземной дороги, был вполне состоятелен. Долинин жил в России, вероятно на юге, и познакомился с Ириной задолго до последней войны. Илья Борисович жил в Берлине, куда эмигрировал с женой и сыном в 1920 году.
(V, 340)
Или:
Наконец настал день, когда он [Долинин] сделал завещание в ее пользу, день, когда он застрелился (из маузера), настал день, когда Илья Борисович, блаженно улыбаясь, спросил Любанскую, принесшую последнюю порцию переписанных страниц, сколько он ей должен, и попытался ей переплатить.
(V, 345)
Последовательный принцип сюжетной мимикрии сменяется в плане личных имен анаграмматизмом и двуязычной игрой. Появившаяся в английской версии рассказа фамилия Ильи Борисовича — Tal — копирует фамилию «Долинин» (der Tal по-немецки «долина»). Имя героини романа, «Ирина» — неполная анаграмма альманаха «Арион», а «молодой художник» в романе соответствует «молодому писателю» в рассказе. Таким образом, усиливается параллельная, мимикрическая связь между «внутренним» и «внешним» текстом «матрешки».{18}
Если на уровне фабулы проводится аналогия между «внутренним» и «внешним» текстами, то на уровне сюжета акцент переносится на разницу между ними. В сюжетном плане текст рассказа вступает с текстом романа в определенные диалогические отношения. Стилистические манеры Ильи Борисовича и Набокова взаимно полемичны между собой. Если в плане фабулы в результате этого разногласия сдвигались и перекодировались целые схемы и ситуации, то в плане сюжета мы видим перекодировку и сдвиги более мелких единиц. Согласно М. Бахтину, «диалогические отношения возможны не только между целыми (относительно) высказываниями, но диалогический подход возможен и к любой значимой части высказывания».{19} Роман начинается со сцены в театре; рассказ сценой в театре кончается. Мотив театра, таким образом, замыкает композиционное кольцо рассказа. Инверсивная перекличка сюжета романа с сюжетом рассказа создает внешние рамки рассказа. Из сюжета романа Ильи Борисовича Набоков заимствовал всего лишь одну случайную сцену у гардероба и несколько связанных с ней мотивов: номерок, пальто, трость… На них он основывает сюжетное построение своего рассказа. Рассмотрим, каким образом он эксплуатирует этот минимальный инвентарь, одолженный из романа Ильи Борисовича.
Рассказ открывается прямой цитатой из черновика романа.{20} Мелодраматичный тон первой цитаты гротескно срывается в тот момент, когда действие романа подходит к сцене в гардеробе театра:
— Дайте мне ваш номер от гардеробной вешалки, — промолвил Долинин (вычеркнуто).
— Позвольте, я достану вашу шляпку и манто (вычеркнуто).
— Позвольте, — промолвил Долинин, — я достану ваши вещи (между «ваши» и «вещи» вставлено «и свои»). Долинин подошел к гардеробу и, предъявив номерок (переделано: «оба номерка»)…
(V, 339)
Затем автор рассказа переключает внимание читателя с рукописи Ильи Борисовича на него самого:
Тут Илья Борисович задумался. Неловко, неловко замешкать у гардероба. Только что был вдохновенный порыв, вспышка любви между одиноким, пожилым Долининым и случайной соседкой по ложе, девушкой в черном; они решили бежать из театра, подальше от мундиров и декольте. Впереди мерещился автору Купеческий или Царский сад, акации, обрывы, звездная ночь. Автору не терпелось дорваться вместе с героями до этой звездной ночи. Однако надо было получить вещи, а это нарушало эффект.
(V, 339)
Следует ряд комментариев по поводу «чисто лирического» таланта Ильи Борисовича и его неумения справляться с такими «житейскими подробностями, как, например, открывание и закрывание дверей или рукопожатия, когда в комнате много действующих лиц и один или двое здороваются со многими» (V, 339–340). Последнее замечание подготавливает гротескную сцену в конце рассказа.
Писание было для Ильи Борисовича неравной борьбой с предметами первой необходимости; предметы роскоши казались гораздо покладистее, но, впрочем, и они подчас артачились, застревали, мешали свободе движений…
(V, 340)
Намек на предметы роскоши прокладывает путь мотиву, который сыграет центральную роль в рассказе:
…и теперь, тяжело покончив с возней у гардероба и готовясь героя наделить тростью, Илья Борисович чистосердечно радовался блеску ее массивного набалдашника и, увы, не предчувствовал, какой к нему иск предъявит эта дорогая трость, как мучительно потребует она упоминания, когда Долинин, ощущая в руках гибкое молодое тело, будет переносить Ирину через весенний ручей.
(V, 340)
Сцену в гардеробе и эпизод с тростью можно трактовать как ключевые в рассказе, что мотивировано стилистической беспомощностью Ильи Борисовича, не способного совладать с этими мотивами в романе. Как гардероб, так и трость предъявят двойной иск Илье Борисовичу и сыграют роковую роль не только в его произведении, но и в его жизни. В романе трость Долинина предъявит свой «иск» Илье Борисовичу, когда тот приступит к описанию весенней сцены с ручьем и ему придется вернуться к тому месту рукописи, у которого он «едва не застрял навеки» (V, 341), а именно, к сцене у гардероба. Ему придется отобрать у героя «дорогую трость», которой он его так старательно «наделил» в начале романа, и таким образом освободить его руки, чтоб тот мог «ощутить в руках» (а не в руке!) «гибкое молодое тело» Ирины, перенося ее через весенний ручей (V, 340). Иными словами, педантичному писателю придется «пожертвовать эффектом ради правдоподобия» (V, 339). Сцена в гардеробе, которая чуть не оказалась роковой для романа Ильи Борисовича, сыграет роковую роль и в его жизни. Не случайно как раз перед гардеробом театра ему придется подслушать разговор, который полностью разрушит его иллюзию о себе как об удачливом, признанном литераторе. Вдобавок, когда Илья Борисович поспешно покидает театр, он забывает в гардеробе свою трость, и, следовательно, подражая в жизни собственному искусству (ср. трость Долинина в романе), Илье Борисовичу придется вернуться за ней в это роковое для него место.
В набоковской художественной системе «трость» превращается в некий инструмент возмездия, которым автор испытывает и наказывает, а подчас и казнит своих героев, писателей-неудачников. Илья Борисович первый, но не единственный герой Набокова, пострадавший от трости. Для героя «Отчаяния» Германа, задумавшего осуществить «совершенное убийство» и создать «безупречное произведение искусства», таким роковым предметом окажется двоюродная сестра «трости» — «палка». Как «совершенное» убийство, так и повесть о нем обречены на провал из-за одной допущенной ошибки с «палкой». Как в случае Германа, так и в случае Ильи Борисовича авторская ирония связана с тем, что расправа над героями свершается орудием, им самим принадлежащим. Палкой или более благородной тростью Набоков каламбурно наказывает своих героев за их неудачи, промахи и падения.
По словам Бахтина, двуголосное слово рассказчика направлено «и на предмет речи как обычное слово, и на другое слово, на чужую речь».{21} В нашем случае чужой речью является текст романа. Слово Набокова не только подражает слову Ильи Борисовича, но резко отличается от него, а порою вступает с ним в острую полемику. С первой же строчки рассказа писательский стиль Набокова начинает соревноваться с «чужим», неприемлемым для него стилем Ильи Борисовича. Приведем пример такого соревнования. Вспомним неуклюжую, с многократными исправлениями и вычеркиваниями, попытку Ильи Борисовича описать в начале своего романа сцену в гардеробе.
В противовес этому Набоков мимоходом создает в конце своего рассказа четыре контрварианта такой же сцены. Первый вариант — классический, с акустической установкой:
Спектакль еще не начинался, в холодном вестибюле потрескивал русский разговор. Илья Борисович сдал старухе в черном трость, котелок, пальто, заплатил, опустил жетон в жилетный карманчик и, медленно потирая руки, огляделся.
(V, 350)
В ясном стиле реалистической прозы XIX века здесь спародировано стремление Ильи Борисовича к педантической подробности описаний. Звукоподражательная попытка передать колорит русской речи накоплением сонорных «р» — прием чисто сиринский. Контрастируя с обстоятельностью этого варианта, второй вариант той же сцены лаконичен:
Илья Борисович очутившись опять у гардероба, протянул свой жетон. Старуха в черном, — 79, вон там…
(V, 351)
Затем следует третий вариант — гротескный, напоминающий чем-то гоголевскую сцену между Чичиковым и Маниловым:
— Вот и наш редактор, — сказал Евфратский, и Галатов, выкатив глаза и пытаясь не дать Илье Борисовичу опомниться, хватал его за рукав, помогая ему, и быстро говорил:
— Очень рад познакомиться, очень рад познакомиться, позвольте помочь.
— Ах, Боже мой, оставьте, — сказал Илья Борисович, борясь с пальто, с Галатовым, — оставьте меня. Это гадость. Я не могу. Это гадость.
— Явное недоразумение, — молниеносно вставил Галатов.
— Оставьте, пожалуйста, — крикнул Илья Борисович и, вырвавшись из его рук, сгреб с прилавка котелок и, все еще надевая пальто, вышел.
(V, 351)
Последний и, по-моему, наиболее эффектный вариант на заданную тему — вариант «нулевой». Он вовсе не развернут, но на его существование указано в последнем предложении рассказа: Илья Борисович «тихо ходил взад и вперед по тротуару, и погодя вернулся за тростью» (V, 351). Это предложение служит комическим эпилогом к скрытому в рассказе рассказу о «похождениях трости», напоминающему «похождения колеса» в «Мертвых душах».{22}
Ряд попыток Ильи Борисовича описать сцену у гардероба и четыре набоковских контрварианта превращают «Уста к устам» в своего рода поединок между двумя артистами. В этом смысле рассказ можно было бы назвать палинодическим произведением на заданную тему, в которой «внешний» текст (рассказ) отвечает на вызов «внутреннего» текста (романа) и одерживает над ним победу, но силы участников не равны, и потому соревнование писателей скорее напоминает Апеллеса, дающего уроки рисования сапожнику.
Степень литературного невежества Ильи Борисовича лучше всего иллюстрирует его отношение к русской литературе и к Пушкину в частности. О преклонении Набокова перед Пушкиным хорошо известно. Отношение к Пушкину определяет для Набокова не только меру таланта его героев-писателей, но также писателей и критиков вообще.{23} Пушкина Илья Борисович «конечно, признавал, но знал его более по операм, и вообще находил его „олимпически спокойным и не способным волновать“» (V, 234). Из русской прозы он «уважал Лугового, ценил Короленко, находил, что Арцыбашев развращает молодежь» (V, 342). Илья Борисович любил «подтрунить над декадентами» (V, 342), а о «беллетристике поновее», к которой не в последнюю очередь принадлежал и сам Набоков, «говорил, разводя руками: „Скучно пишут!“, чем повергал Евфратского в какой-то тихий экстаз» (V,342).
За это невежество над Ильей Борисовичем вершится расправа, инструментом которой служит его собственное искусство. Поскольку роман о жизни Долинина послужил моделью для рассказа о жизни Ильи Борисовича, мы встречаемся здесь с образцовым примером ситуации, в которой «жизнь» подражает «искусству». Если в рассказе есть мораль, то ее можно выразить в форме тривиального силлогизма: жизнь, подражающая плохому искусству, разделяет участь этого искусства. Жалкая жизнь Ильи Борисовича — лучшее доказательство этого силлогизма. Набоков не без наслаждения производит вивисекцию героя по собственному же рецепту последнего. Скальпель в руке Набокова — это, конечно, перо, мокаемое в чернильницу героя.
Заставляя жизнь Ильи Борисовича подражать его же искусству, Набоков выходит за рамки романа, привлекая и другие «шедевры» Ильи Борисовича:
Его литературный стаж был давен, но невелик: некролог в «Южном вестнике» о местном либеральном купце (1910 год), два стихотворения в прозе (август 1914 года и март 1917 года) там же и книжка, содержавшая этот же некролог и эти же два стихотворения в прозе, — хорошенькая книжка, появившаяся в разгар Гражданской войны.
(V, 340)
В каком-то смысле можно сказать, что Набоков, подставляя творчеству Ильи Борисовича кривое зеркало своего рассказа, создал своеобразный, трагикомический некролог «местному либеральному купцу» Илье Борисовичу. Эквивалентом либерализма служит увлечение Ильи Борисовича литературой. Набоков беспощаден к страданиям своих бездарных героев-писателей. Его расправа над Ильей Борисовичем напоминает расправу Аполлона над неудачником Марсием, который дерзнул вызвать предводителя Муз на музыкальное соревнование и опозорился. Возмущенный Аполлон привязал Марсия к дереву и содрал с него кожу.{24} Иными словами, Аполлон заставил артиста разделить участь его убогого искусства. Не первый ли это случай в истории искусства, когда судьба искусства определяет личную участь? Но между богами и художниками слова есть одна существенная разница: «поэты не убивают».{25} В рассказе есть и другая мораль. Если жизнь, подражающая дурному искусству, неизбежно разделяет его участь, это отнюдь еще не значит, что и произведение, подражающее бездарному произведению, обречено стать бездарным. Жизнь Ильи Борисовича есть лучшее доказательство первого силлогизма, замечательный рассказ Набокова — второго.
Несмотря на все явные параллели и аналогии, между одноименными рассказом и романом, конечно, больше разницы, чем сходства. Текст Набокова лишь слегка соприкасается с текстом Ильи Борисовича. Это соприкосновение и есть каламбурный поцелуй — «уста к устам», — давший название роману и рассказу. По всем правилам каламбура, здесь сливаются два слова, два текста, близкие по внешним признакам, но несоизмеримо далекие по своему художественному значению. Первые «уста» являются не больше чем омонимом вторых, а поцелуй походит скорее на издевку.
Тем не менее рассказ вряд ли можно назвать пародией на роман Ильи Борисовича. «Уста к устам» — пастиш в точном смысле этого слова.{26} Из лоскутков чужого текстового материала сшито собственное произведение. Своей техникой рассказ напоминает маньерестские картины Джузеппе Арчимбальдо, в которых художник из разнородных самостоятельных элементов, например из разных морских животных, рыб, ракушек, креветок и пр., компонует аллегорический портрет.{27} Для привередливого Набокова роман Ильи Борисовича не достоин пародии в том смысле, как ее определяет герой «Дара» Федор Годунов-Чердынцев: «Пародия всегда сопутствует истинной поэзии» (IV, 199). В этом возвышенном смысле пародия у Набокова является знаком почтения к пародируемому писателю. Но имеется у Набокова и второй вариант пародии, гротескный, а подчас даже издевательский. Об этих двух типах пародии Набоков говорил:
Когда поэт Цинциннат Ц. в самом грезоподобном и поэтичном из моих романов обвиняет собственную мать (не вполне заслуженно) в том, что она — пародия, он использует это слово в привычном смысле: «гротескная имитация». Когда же Федор в «Даре» упоминает о «духе пародии», радугой играющем над струей подлинной «серьезной поэзии», он говорит о пародии как о легкомысленной, тонкой, пересмешливой игре, такой как пушкинская пародия на Державина в «Exegi monumentum».{28}
По отношению к роману Ильи Борисовича рассказ Набокова — это «гротескная имитация», и его следует отнести к низкому типу пародии.
Но трагикомический рассказ Набокова можно прочитать и как пародию в высоком смысле этого слова. Для этой цели нам необходимо обратиться к произведению более значительного автора, чем Илья Борисович. В подтексте рассказ «Уста к устам» связан с «Шинелью» Гоголя. В своей книге о Гоголе Набоков пишет:
Но по прочтении Гоголя глаза могут гоголизироваться, и человеку порой удается видеть обрывки его мира в самых неожиданных местах. Я объехал множество стран, и нечто вроде шинели Акакия Акакиевича было страстной мечтой того или иного случайного знакомого, который никогда и не слышал о Гоголе.{29}
Гротескная вивисекция Ильи Борисовича исполняется гоголевским скальпелем и в гоголевском трагикомическом тоне. Для сравнения процитируем два аналогичных по тону отрывка:
Молодые чиновники подсмеивались и острились над ним, во сколько хватало канцелярского остроумия, рассказывали тут же пред ним разные составленные про него истории, про его хозяйку, семидесятилетнюю старуху, говорили, что она бьет его, спрашивали, когда будет их свадьба, сыпали на голову ему бумажки, называя это снегом. Но ни одного слова не отвечал на это Акакий Акакиевич, как будто бы никого и не было перед ним…{30}
Литературные неудачники, мелкие журналисты, корреспонденты каких-то бывших газет измывались над ним с диким сладострастием. С таким гиком великовозрастное хулиганье мучит кошку, с таким огоньком в глазах немолодой, несчастливый в наслаждениях мужчина рассказывает гнусный анекдот. Глумились, разумеется, за его спиной, но громко, развязно, совершенно не опасаясь превосходной акустики в местах сплетен. Вероятно, до тетеревиного слуха Ильи Борисовича не доходило ничего.
(V, 347)
Косноязычного чиновника Акакия Акакиевича можно считать прямым предшественником литератора Ильи Борисовича. Первый механически переписывает документы, второй — стертые литературные клише. Обоих роднит общий по своей сути «задор» (воспользуемся этим словечком из «Мертвых душ»). Страстный, но короткий роман Акакия Акакиевича с шинелью находит свое отражение в страстном и тоже коротком увлечении Ильи Борисовича романом. Как в случае с «шинелью», так и в случае с «книгой» мы наблюдаем аналогичную эротизацию неодухотворенного предмета. Альманах «Арион» в руках Ильи Борисовича превращается в «пухлую розовую книгу», Илья Борисович всаживает «белый нож в толстое слоистое тело книги» (V, 348). В сладостном предвкушении новой шинели Акакий Акакиевич чувствует себя «как будто бы он женился, как будто какой-то другой человек присутствовал с ним, как будто он был не один, а какая-то приятная подруга жизни согласилась с ним проходить вместе жизненную дорогу, — и подруга эта была не кто другая, как та же шинель на толстой вате, на крепкой подкладке без износу».{31} Под влиянием любовной затеи с романом Илья Борисович «расцвел», начал ходить даже «новой, беллетристической походкой» (V, 347). Акакий Акакиевич, прогуливаясь в новой шинели, «шел в веселом расположении духа, даже подбежал было вдруг, неизвестно почему, за какой-то дамой, которая, как молния, прошла мимо и у которой всякая часть тела была исполнена необыкновенного движения».{32} «Гибнет Акакий Акакиевич, собственно говоря, от любви», пишет Д. Чижевский в своей статье о «Шинели».{33} «Задорам» Акакия Акакиевича и Ильи Борисовича положен конец в катастрофической развязке, в сцене грабежа. Шинель и роман пришлись героям не по плечу.
Мошенничество редактора парижского «Ариона» Галатова как бы завершает тему, начатую Акакием Акакиевичем в «Шинели»: «Ну уж эти французы! что и говорить, уж ежели захотят что-нибудь того, так уж точно того…».{34} Патетические слова Акакия Акакиевича «Оставьте меня, зачем вы меня обижаете?» перекликаются с восклицаниями Ильи Борисовича в роковой сцене перед гардеробом театра:
— Ах, Боже мой, оставьте, — сказал Илья Борисович, борясь с пальто, с Галатовым, — оставьте меня. Это гадость. Я не могу- Это гадость… <…>
— Оставьте, пожалуйста, — крикнул Илья Борисович и, вырвавшись из его рук, сгреб с прилавка котелок и, все еще надевая пальто, вышел.
(V, 351)
Упоминание «пальто» в начале и конце этого отрывка недвусмысленно подсказывает литературный контекст, в котором следует читать эту гротескную сцену.
С этим контекстом могут быть соотнесены и персонажи, связанные с «Арионом». Евфратский исполняет роль искусителя, «чёрта» Петровича, который натолкнул Акакия Акакиевича на грешную и пагубную мысль о новой шинели. Галатову «с красивыми бараньими глазами» выпадает роль грабителя: не случайно Илья Борисович борется с Галатовым за свое пальто.
При сопоставлении «Шинели» с рассказом «Уста к устам» обнаруживается весьма парадоксальная роль автора Набокова. «Одноглазый черт» Петрович отказался починить изношенный капот Акакия Акакиевича, следуя евангелистам: «Никто не приставляет заплаты к ветхой одежде, отодрав от новой одежды, а иначе и новую раздерет, и к старой не подойдет заплата от новой».{35}
— Да кусочки-то можно найти, кусочки найдутся, — сказал Петрович, — да нашить-то нельзя: дело совсем гнилое, тронешь иглой — а вот уж оно и ползет.
— Пусть ползет, а ты тотчас заплаточку.
— Да заплаточки не на чем положить
— Ну, да уж прикрепи. Как же этак право того!..
— Нет, — сказал Петрович решительно, — ничего нельзя сделать. Дело совсем плохое.{36}
По-моему, Набоков взялся именно за ту задачу, от которой отказался даже «черт» Петрович. Из старого капота Ильи Борисовича Набоков решился создать новую шинель, т. е. развернуть поношенную ткань романа так, чтобы на потертые места легла свежая материя рассказа. Результат: шинель поверх капота, или капот романа с заплатами с барского плеча рассказа. В этом шутовском одеянии свежая ткань рассказа прикладывается, как «уста к устам», к потертой словесной ткани романа. Говоря словами Набокова:
По рецепту рассказа «Уста к устам» Набоков скроил немало произведений. Из чужого текста, иногда им же самим придуманного, Набоков перенимает приемы, характеры, темы, целые композиционные схемы и стили и, подчиняя их в своих «матрешках» новому единству, создает из этих лоскутков оригинальные пародии и пастиши.{38}
Как мы убедились, пародия в рассказе «Уста к устам» является двунаправленной. Автор одновременно оперирует двумя типами пародии — низким и высоким. По отношению к роману Ильи Борисовича это «гротескное перекривливание». По отношению к Гоголю это высокая игра пушкинского типа, о которой в романе «Дар» говорится, что она «всегда сопутствует истинной поэзии». Высокую пародию следует воспринимать как комплимент пародируемому тексту и его автору, в данном случае Гоголю, о «Шинели» которого Набоков писал:
И вот, если подвести итог, рассказ развивается так: бормотание, бормотание, лирический всплеск, бормотание, лирический всплеск, бормотание, фантастическая кульминация, бормотание, бормотание и возвращение в хаос, из которого все возникло. На этом сверхвысоком уровне искусства литература, конечно, не занимается оплакиванием судьбы обездоленного человека или проклятиями в адрес имущих.{39}
Не в последнюю очередь рассказ Набокова роднит с повестью Гоголя и общий тон стилистических перебоев трагического комическим, патетического гротескным. Заключительные слова вышеприведенной цитаты можно без оговорок отнести и к герою-неудачнику Илье Борисовичу.
Литературные критики, в том числе и русские, долго были склонны рассматривать творчество Набокова вне традиций русской литературы и не раз отмечали «нерусскую черту» в его творчестве.{40} Между тем не подлежит сомнению, что рассказ «Уста к устам» продолжает линию русской литературы XIX века, посвященную чиновникам-неудачникам, от которых Илья Борисович унаследовал не одно «родимое пятнышко».{41} Но не сам тип, а скорее тема пишущих неудачников привлекает Набокова. Акакий Акакиевич не в состоянии перевести письмо из первого лица в третье. Он лишь механически переписывает. Предмет его «задора» — шинель. В отличие от него, Макар Девушкин Достоевского не только переписывает, но и сам пишет. Он уже обладает собственным сентиментальным эпистолярным стилем. Предмет его «задора» — одушевленное существо, Варенька. Илья Борисович, третий в цепи «пишущих неудачников», пошел еще дальше по линии «чернильной самостоятельности». Он переписывает обветшалые литературные клише и создает из этих общих мест собственное литературное произведение. Любовный роман «Уста к устам» — предмет «задора» писателя-любителя Ильи Борисовича. Во всех трех случаях трагический конец связан с грабежом. «Акакий Акакиевич — Макар Девушкин — Илья Борисович» — контекст, в котором следует читать рассказ «Уста к устам».
Илья Борисович является первым в ряду «пишущих неудачников» Набокова. Творческая неудача писателя — тема, которой Набоков одержим. Эту тему он будет преследовать из романа в роман, и только в самом конце «Дара» — последнего из русских романов — ряд творческих неудач и полуудач героя переплавляется в художественную удачу его романа.
Однако и в «Даре» облик и манера Ильи Борисовича будут воплощены в фигуре литератора Буша.
2. План сатиры
В. Набоков. «Неоконченный черновик» (1931)
- меня страшатся потому,
- что зол я, холоден и весел,
- что не служу я никому,
- что жизнь и честь мою я взвесил
- на пушкинских весах, и честь
- осмеливаюсь предпочесть.
В первой части главы были рассмотрены два уровня пародии. Главное внимание было уделено соотношению двух текстов в рассказе-матрешке. Роман Ильи Борисовича, как мы убедились, послужил моделью для рассказа Набокова. Если выйти за рамки рассказа и рассмотреть этот текст во внелитературном, бытовом плане, то мы увидим, что рассказ Набокова и тут ведет себя по всем правилам «матрешки». Соотношение текста с внетекстовыми рядами подчиняется тому же принципу мимикрии, который определяет внутритекстовые трансформации романа в рассказ. Рассказ Набокова — реалистичен! Его фабула основана на одном скандальном случае, действительно происшедшем в 1931 году. Ответственность за него несут литературные недруги Набокова Георгий Иванов и Георгий Адамович.{42} Вот почему рассказ, написанный в начале 30-х годов, появился в печати чуть ли не с четвертьвековым опозданием. Его чуть не напечатали в «Последних новостях», где литературным критиком был Адамович. В предисловии к английскому изданию рассказа Набоков пишет:
Марк Алданов, состоявший в более коротком, чем я, знакомстве с «Последними новостями» (с которыми я вел веселую войну в 30-е годы), сообщил мне то ли в 1931-м, то ли в 1932-м, что в последний момент рассказ «Уста к устам», окончательно принятый к публикации, в итоге не напечатан. «Разбили набор», — хмуро пробормотал мой друг. Он был опубликован только в 1956 году издательством Чехова в Нью-Йорке в моем сборнике «Весна в Фиальте». К тому времени все, в ком можно было заподозрить отдаленное сходство с действующими лицами, благополучно и бесследно умерли.{43}
Прототипом «Ариона» послужил сборник «Числа», выходивший в 30-х годах в Париже.{44} Активными сотрудниками этого сборника, напоминавшего предреволюционный «Аполлон», были Георгий Адамович и Георгий Иванов. После выхода 4-го номера сборнику грозила преждевременная кончина. Как и в рассказе Набокова, причины были финансовые. Спасителем и жертвой «Чисел» оказался некто Александр Буров, так же как Илья Борисович, написавший бездарный роман под названием «Была земля». «Числа» напечатали в 5-м номере первую главу романа, т. е. ровно три страницы, с примечанием «Продолжение следует». В 6-м номере «Чисел» редакция почему-то назвала эту первую главу «Прологом». Ср. в рассказе «Уста к устам»:
Озаглавлено было «Пролог к роману» … И в скобках: «Продолжение следует». Маленький кусок, три с половиной странички… <…> Но почему «Пролог к роману», а не просто «Уста к устам», глава 1? Ах, это совершенно неважно.
(V, 349)
В последующих номерах «Числа» отрывками напечатали весь роман А. Бурова, и в завершение Адамович здесь же, в № 7/8, поместил похвальную рецензию на него.
Все это должно было вызвать раздражение Набокова, тем более что «Числа» с самого начала своего существования заняли крайне враждебную позицию по отношению к его творчеству. В первом же номере сборника на Набокова с ожесточением набросился Георгий Иванов, назвав писателя «пошляком-журналистом, графом-самозванцем, втирающимся в высшее общество; кухаркиным сыном, черной костью, смердом».{45} Немалую роль в этом скандальном выпаде сыграли личные, семейные мотивы. За год до этого Набоков напечатал в газете «Руль» рецензию на роман И. Одоевцевой «Изольда».{46} Набоков не выразил восторга по поводу романа молодой поэтессы, но молодая поэтесса была женой Георгия Иванова. Тот воспользовался первым же случаем, чтобы отплатить Набокову. Вслед за Адамовичем он обвинил Набокова в «перелицовывании заграничных образцов»,{47} заявив, что в «Короле, даме, валете» старательно скопирован средний немецкий образец, а в «Защите Лужина» — французский. Какие именно образцы имел в виду рецензент, не сказано.{48}
На Набокова ополчились не только Иванов и Адамович, но и другие сотрудники «Чисел». Несомненно, рассказ «Уста к устам» — ответный сатирический удар. Набоков — не злободневный писатель, но в этом рассказе он решил посмеяться над своими гонителями. «Уста к устам» можно прочесть как шуточное опровержение обвинений, выдвинутых сотрудниками «Чисел». Рассказ изобилует тем, что обычно отсутствует в набоковском творчестве. Вымысел и изощренная фантазия, за избыток которой его, как правило, критиковали, здесь уступает место действительности, факту, документу, т. е. тем чертам творчества, в защиту которых «Числа» программно выступали.{49} Г. Адамович вряд ли мог бы назвать «Уста к устам» «правдоподобным мирком, созданным холодным и холостым воображением».{50} Здесь — не «чистое искусство, искусство для искусства», за которое Г. Адамович не раз упрекал автора, а «злободневная тема, бытописательный документ».
Адамович писал о Набокове: «Все наши традиции в нем обрываются».{51} Иванов, как только что говорилось, обвинял его в подражании немецким и французским образцам. Словно отвечая им обоим, Набоков использовал в своем рассказе образцы исключительно русские. «Уста к устам» можно назвать сатирическим рассказом о жизни и творчестве русского Парнаса, причем фабула взята «из жизни», а сюжет — «из творчества». Никого не называя, Набоков по очереди пародирует писателей и поэтов, которым «Числа», не печатавшие ни Ходасевича, ни Алданова, ни Бунина, ни самого Набокова, отдавали предпочтение. Выше было показано, как детали романа Ильи Борисовича переходят в рассказ Набокова. Ту же технику мелких заимствований Набоков применяет и к произведениям, напечатанным в «Числах». Приведем несколько примеров таких миниатюрных подтекстов рассказа.
Название рассказа Набоков позаимствовал из стихотворения берлинской поэтессы Раисы Блох, над которой однажды уже посмеялся в рецензии на ее книгу «Мой город».{52} В № 2/3 «Чисел» было напечатано безвкусное стихотворение Блох:
Фабула романа Ильи Борисовича тоже не полностью принадлежит Набокову. Встреча в театре и внезапная «вспышка любви» между Долининым и «случайной соседкой по ложе» Ириной, которыми роман Ильи Борисовича открывается, заимствованы из романа Александра Бурова «Была земля», печатавшегося в 5, 6, 7/8 номерах «Чисел». Вот этот запятнанный запятыми отрывок:
Разве не подлинный ужас, можно сказать, преступное легкомыслие, когда в медовые дни, всего две недели после венца, проездом домой, из Дрездена, сначала в Италию, в отеле «Савой», он, счастливый, нежный супруг, параллельно, в том же отеле, совершенно случайно, отпраздновал еще одну, такую же, необычайную по обстановке, восхитительную встречу, с такой же красавицей, юной женой графа Бастиари!.. В театре, в «Скала», рядом с его ложей сидела такая величественная, прекрасная итальянка, «нежнейший мрамор» в обществе какого-то старика, мужа или отца, и с этого момента, — долго потом вспоминал, вспомнил, быть может жалел Стратонов, — он ничего больше не видел, не слышал. И ужас его, и нечаянная радость его были еще сильней, когда, после театра, их столы в ресторане того же отеля оказались случайно рядом, и — быть греху — и это несомненно обреченность, их апартаменты и лоджия оказались смежными! Значит, кому-нибудь это было нужно, кому-то понадобилось такое испытание, такое, если угодно, грехопадение, и Стратонов, и графиня Бастиари, случайно встретившиеся, никогда друг друга до того не видавшие, не знавшие друг друга, случайно скрестившись взглядами, в которых легко читалась и мольба, и признание, и покорность судьбе, — и поздно, до горячего восхода, зачем-то горели в будуаре Бастиари огни…{54}
Кстати, о запятых. Набокову удалась тонкая насмешка над «Числами», которые продолжали печатать бездарные тексты А. Бурова. Когда Илья Борисович передал одну копию своего законченного романа редактору для исправлений,
Евфратский ограничился тем, что в одной из первых строк вставил красным карандашом темпераментную запятую. Илья Борисович аккуратно перевел эту запятую на экземпляр, предназначенный «Ариону»…
(V, 345)
Своим «темпераментным» существованием эта запятая обязана не только злоупотреблявшему запятыми А. Бурову, но и наборщику 9-го номера «Чисел», в которых печатался рассказ того же Бурова «Мужик и три собаки». Между первым и вторым абзацем рассказа наборщик вставил лишнюю запятую. Не замеченная корректором, она на самом деле «темпераментно» выделяется на 27-й странице:
Сестры чуют, не столько разумом, сколько сердцем, когда оставлять больных с близкими, и когда им вновь, тихим ангелом, входить.
,Больная одиннадцать суток боролась со смертью, за секундный глоток воздуха, и сестра Елизабет, и муж больной, Никита Демьянович Сериков, ни на минуту не оставляли ее глаз…{55}
Это одна из наиболее тонких и, по-моему, наиболее удачных шуток Набокова.
Как уже говорилось, неумелые попытки педантичного Ильи Борисовича совладать со сценой у гардероба и связанными с нею мотивами «пальто, котелка, номерка и трости» побудили самого Набокова описать сцену четыре раза. Имея ключ к подтексту рассказа, нетрудно подыскать источник этой назойливо повторяющейся сцены. В отрывке из романа Георгия Иванова «Третий Рим», который был напечатан в «Числах», мы находим такой эпизод:
Снимая с Вельского пальто, беря его палку и котелок, швейцар, признавший в нем по вещам и виду «настоящего» барина (в лицо Вельского он не знал), сказал как-то таинственно: «Без номерка будет, я к себе уберу — как бы не обменили…»{56}
Одной параллелью дело не ограничивается. В пятом номере «Чисел» Георгий Адамович напечатал рассказ «Рамон Ортис». В этом рассказе об игроке сцена у гардероба повторяется дважды. Первый раз — до случившейся с героем катастрофы, второй раз — после:
Отдавая пальто, он подумал, что нечетный номер на вешалке был бы хорошим знаком. Барышня улыбнулась, протягивая ему номерок, и сказала «девятнадцать». Никогда она этого не делала прежде. Рамон Ортис не в силах был промолчать: «Ваш возраст, вероятно?»
<…>
Он поспешно спустился, бросил номерок на прилавок, схватил пальто, будто боясь опоздать куда-то. Однако спешить ему было некуда, оставалась только одна потребность — идти, идти, идти, и хорошо бы, если бы дул в лицо ветер, резкий с дождем. Но дождя не было.{57}
Ср. аналогичное место в рассказе «Уста к устам»:
Илья Борисович сдал старухе в черном трость, котелок, пальто, заплатил, опустил жетон в жилетный карманчик и, медленно потирая руки, огляделся.
<…>
…Очутившись опять у гардероба, протянул свой жетон. Старуха в черном, — 79, вон там… Он страшно заторопился, он уже размахнулся, чтобы влезть в рукав пальто, но тут подскочил Евфратский и с ним тот, тот…
(V, 350–351)
Повторение этой сцены и ее композиционное место в обоих рассказах (до и после катастрофы) обнажают прямую связь между текстами Адамовича и Набокова. Вдобавок Набоков остроумно передразнивает не совсем удачный каламбур героя Адамовича (связь номерка и возраста). Раз барышне, «вероятно», девятнадцать лет, то старухе Набокова, конечно, семьдесят девять. Между рассказами Адамовича и Набокова можно отыскать еще целый ряд сюжетных и фабульных перекличек.{58}
Доминантным мотивом сцены у гардероба в рассказе «Уста к устам», как мы помним, была трость. Возможно, на мысль о ней Набокова натолкнул рассказ Зинаиды Гиппиус «Перламутровая трость», напечатанный в № 7/8 «Чисел». У Набокова была и личная причина кольнуть Зинаиду Гиппиус. В 1916 году, прочитав книжку стихов семнадцатилетнего Набокова, она сказала его отцу: «Пожалуйста, передайте вашему сыну, что он никогда писателем не будет» (V, 291). В рассказе Гиппиус обстоятельно описана роскошная трость, давшая ему название,{59} но на этом, как ни странно, ее роль кончается. Не хотел ли Набоков, ставший вопреки предсказанию З. Гиппиус писателем, поддразнить поэтессу? Ведь по знаменитому чеховскому рецепту, «если в начале рассказа говорится о том, что гвоздь вбит в стену, то в конце рассказа на этом гвозде должен повеситься герой».{60} «Ни один аксессуар не должен остаться неиспользованным в фабуле, ни один эпизод не должен остаться без влияния на фабульную ситуацию», — пишет Б. Томашевский в своем учебнике поэтики.{61} Как бы в противовес этой «лишней трости» Зинаиды Гиппиус Набоков нагружает свою «трость» фабульными, сюжетными, композиционными и стилистическими функциями, задействованными во «внутреннем» и «внешнем» тексте «матрешки».
В № 7/8 «Чисел» Набоков почерпнул и фамилию «Tal», которой он наделил Илью Борисовича в английском переводе. Вслед за последней частью романа А. Бурова «Была земля» Георгий Адамович напечатал в этом номере похвальную рецензию на роман. На той же странице, одной строчкой ниже инициалов «Г. А.», которыми Адамович подписал свою рецензию, расположено заглавие следующей рецензии: «Анна Таль, „Клетчатое солнце“».{62} Это интересный случай метонимической подстановки по смежности. Случайная синтагма «Г. А. — Анна Таль» находит свое соответствие в именах протагонистов рассказа — Галатова и Ильи Борисовича Tal (псевдоним: И. Анненский).{63} Не менее интересно развернуть и следующую причудливую комбинацию. Герой уже упомянутого романа Георгия Иванова «Третий Рим», Вельский, чтобы рассеять мысли о самоубийстве, начинает произносить вслух первые пришедшие ему на ум слова:
— Тра ла ла ла, — барабанил он, — Ла дона мобиле. Тигр и Евфрат. Тигр и Евфрат. Среди зеленых волн, лобзающих Тавриду, на утренней заре я видел Нереиду…{64}
Во-первых, название реки прямо отсылает нас к «журналисту с именем — вернее, с дюжиной псевдонимов» (V, 341), Евфратскому, в рассказе Набокова. Во-вторых, в словах Вельского можно услышать эхо двух стихотворений, напечатанных в том же номере «Чисел». Первое из них — стихотворение М. Цветаевой «Нереида», второе — стихотворение жены Иванова, Ирины Одоевцевой, «Баллада о Гумилеве».{65} В нем поэтесса ведет воображаемый разговор с возвратившимся из Африки Гумилевым:
С этим стихотворением Ирины Одоевцевой связано название пьесы, на которую пошел, но которую так и не посмотрел Илья Борисович, — «Черная пантера». Исполнительницей главной роли в ней названа актриса из Риги Евгения Дмитриевна. В английской версии рассказа у актрисы появляется фамилия «Гарина». В ней анаграмматически соединяются инициалы «Г. А.» с именем «Ирина» (в рассказе им соответствуют редактор Галатов и Ирина). О том, что Набоков использовал это стихотворение, свидетельствует и описание афиши, которое он счел нужным вставить в английскую версию рассказа:
Любительский плакат изображал Гарину полулежащей на шкуре пантеры, застреленной ее любовником, который впоследствии должен был застрелить ее саму.{67}
Эта помещенная в рассказ пьеса, содержание которой мотивировано стихотворением Одоевцевой, является еще одной миниатюрной «куколкой» «текста-матрешки».
Набоков опутывает своего героя Илью Борисовича, а вслед за ним читателя, сетью анаграмматических знаков и намеков, масок и гримас, текстов и подтекстов, которые сводятся к общему знаменателю — «Числа». В этой каббалистике леопард И. Одоевцевой, подстреленный Гумилевым, перекликается с тигром Георгия Иванова, а с афиши им подмигивает черная пантера Набокова. На ее шкуре актриса Гарина анаграмматично «совокупляет» поэтессу Ирину Одоевцеву с критиком Г. Адамовичем. В рассказе с ними перекликаются героиня романа Ирина и редактор «Ариона» Галатов. Ирина и «Арион» составляют неполную анаграмму.
Между прочим, греческое предание об Арионе и стихотворение Пушкина на ту же тему также составляют контекст рассказа. Как сообщает Геродот, поэт Арион покинул родной Лесбос и странствовал со своей лирой по чужим землям. Однажды по пути в Коринф команда корабля, на котором плыл Арион, ограбила поэта и собиралась бросить его за борт. Поэт вымолил разрешение пропеть в последний раз, после чего сам бросился в воду. Он не утонул: на звук его лиры приплыл дельфин, на спине которого Арион счастливо причалил к берегам Коринфа. Здесь он дождался прихода судна, чтоб предать грабителей в руки закона.{68}
Стихотворение Пушкина «Арион» принято толковать как связанное с первой годовщиной казни декабристов:
Предание об Арионе и стихотворение Пушкина могут служить метафорическим выражением личных отношений Набокова с «русским Парнасом». Как известно, «Числа» замахивались на Пушкина{70} и неоднократно пытались выбросить Набокова за борт русской литературы. Поэтому мне представляется неслучайным, что Набоков в своем рассказе иронически использовал название стихотворения Пушкина для парижского журнала «Арион», прототипом которого явились «Числа». Быть может, таким образом Набоков хотел передать своим собратьям по перу, которые нередко «ощущали как измену иных поэзий торжество» (Адамович),{71} собственное, сиринское послание: из «плавающих и путешествующих, недугующих и страждущих» на корабле русской литературы в изгнании погибнут все, кроме одного, «таинственного певца» с именем райской птицы — Сирина. В 1956 году, когда рассказ впервые появился в печати, по словам Набокова, «все, в ком можно было заподозрить отдаленное сходство с действующими лицами, благополучно и бесследно умерли»,{72} в то время как сам он, написавший о себе в 1931 году:
единственный из писателей эмиграции был на пути к настоящей славе. Таким образом, в сатирическом плане рассказа «Уста к устам» раскрывается и моральное послание Набокова-Сирина, который много лет спустя признался:
Сказать по правде, я верю, что в один прекрасный день явится новый оценщик и объявит, что я был вовсе не фривольной птичкой в ярких перьях, а строгим моралистом, гонителем греха, отпускавшим затрещины тупости, осмеивавшим жестокость и пошлость — и считавшим, что только нежности, таланту и гордости принадлежит верховная власть.{74}
Глава вторая
ПОВЕСТЬ В РОМАНЕ («ОТЧАЯНИЕ»)
1. Повесть Германа о двойниках
Ходасевич. «Сумерки» (1921)
- Вот человек идет. Пырнуть его ножом — …
- А люди черными сбегутся муравьями
- Из улиц, со дворов, и станут между нами
- И будут спрашивать: за что и как убил —
- И не поймет никто, как я его любил.
В 1932 году Набоков написал роман «Отчаяние», который представляет собой интересный вариант «текста-матрешки». Он содержит неоконченную повесть героя, Германа, составляющую десять глав романа, и его дневниковые записи, вошедшие в последнюю главу.
Как герой рассказа «Уста к устам» Илья Борисович, промышляющий устройством ванных помещений, так и Герман, промышляющий шоколадом, — дельцы. Оба они начинающие литераторы. Но в отличие от бездарного литературного неудачника Ильи Борисовича, Герман — «гениальный новичок». Илья Борисович отправил рукопись своего романа редактору русского эмигрантского альманаха Галатову; Герман отдает рукопись своей повести русскому «густо психологическому беллетристу» (III, 492). За ложным намеком на Достоевского угадывается Набоков, которого никак нельзя заподозрить не только в «густом», но и вообще ни в каком психологизме. На существование таинственного литератора Герман не раз указывает:
Решив наконец дать рукопись мою человеку, который должен ею прельститься и приложить все старания, чтобы она увидела свет, я вполне отдаю себе отчет в том, что мой избранник (ты, мой первый читатель) — беллетрист беженский, книги которого в СССР появляться никак не могут.
(III, 493)
Вот с этим-то литератором у Германа складываются сложные отношения.
Повесть Германа является вставным, «внутренним» текстом романа Набокова. Но отношение между «внутренним» текстом и текстом романа усложнены тем, что рукопись Германа идентична роману. Авторство Набокова проявляется лишь в разнице жанровых определений текста. Герман называет свое произведение «повестью» или «рассказом», в то время как Набоков определяет свой текст как роман.{75} Эта тонкая, но значительная разница намекает на существование двух пластов текста: пласта героя и пласта автора, хотя автор в романе себя никак прямо не проявляет. В «Отчаянии» диалогическое отношение авторского текста к тексту героя выявить трудно из-за отсутствия прямого авторского слова, которое в рассказе «Уста к устам» так резко выделялось на словесном фоне романа Ильи Борисовича.
В конце настоящей главы я попытаюсь выделить в рукописи Германа филигранный сиринский почерк, вступающий в своеобразную полемику с текстом героя.
«Отчаяние» — роман о двойниках, о двойничестве вообще. Фабула его такова. Торговец шоколадом Герман случайно обнаружил в бродяге Феликсе своего двойника. Это открытие, или, лучше сказать, откровение, наводит Германа на мысль об идеальном убийстве. Суть его плана состоит в том, чтобы выдать убийцу за жертву, в том, чтобы создать впечатление, будто убит не Феликс, а сам Герман. На самом же деле Герман, «перевоплотившись» в Феликса, будет продолжать жить в свое удовольствие на деньги, вырученные за собственную смерть от страхового общества. Но в искусно задуманном и выполненном плане убийства обнаруживается существенная ошибка. Очевидного для Германа сходства между двойниками, убийцей и жертвой, никто не видит, и полиция быстро устанавливает личность убийцы.
Тем не менее «Отчаяние» вряд ли можно назвать криминальным романом в узком смысле этого слова; задуманное убийство Герман воспринимает с самого начала как своего рода художественное произведение, как творчество. «…Я сравнил бы нарушителя того закона, который запрещает проливать красненькое, с поэтом, с артистом…» (III, 397), — передразнивает Герман автора «Преступления и наказания». В самом деле, Герман напоминает скорее художника, чем убийцу. Это Гёте когда-то о себе заявил, что нет преступления, на которое он не чувствовал бы себя способным. Убийство как искусство — повторяющееся в повести сравнение. Ср., например:
…я, гениальный новичок, еще не вкусивший славы мучительно жаждал, чтобы это мое произведение, законченное и подписанное девятого марта в глухом лесу, было оценено людьми…
(III, 506)
Следовательно, после того как мир не признал его убийство гениальным, Герман пытается добиться признания как литератор, создавая художественный вариант преступления, вторичную его модель.
Рассмотрим неоконченную повесть Германа, составляющую «внутренний» текст романа.
Как фабула этой повести (убийство), так и ее сюжет (вторичная модель убийства, т. е. повесть о нем) подчиняются принципу сходства. В плане фабулы принцип сходства находит свое выражение в теме двойничества, причем доминантная роль принадлежит мотиву зеркала. По миметическому принципу последовательной зеркальной симметрии двойничество героев доведено до пародийного предела: Феликс, зеркальное отражение Германа, — левша. Центральной идее двойничества, на которой основана повесть, соответствует в сюжетном плане симметрическая композиция текста. Проанализируем эти явления симметрии сначала в плане фабульного и сюжетного времени повести.
В переводе на сюжетный уровень линейное время фабулы подвергается определенной симметрической перекодировке по принципу зеркального отражения. В результате этой перекодировки временные планы прошедшего и будущего начинают как бы отражать друг друга.{76} Их зеркальное соотношение вводит в текст прием двойной временной перспективы. Герман пишет свою повесть постфактум, и, соответственно, она выдержана в грамматическом прошедшем времени. Тем не менее он намеренно скрывает от читателя собственное ощущение ретроспективы, камуфлируя и подделывая ее под «проспективу». Иными словами, то, что для Германа является уже прошедшим, предлагается читателю как предвосхищение будущего. Так, например, описывая во второй главе желтый столб, рассказчик отмечает:
Мне теперь кажется, что, увидев его впервые, я как бы его узнал: он мне был знаком по будущему.
(III, 417)
Будущее, на которое Герман открыто намекает, сокрыто от читателя. Оно будет описано лишь в девятой главе:
Наконец вдали желтым мизинцем выпрямился знакомый столб и увеличился, дорос до естественных своих размеров…
(III, 498)
В той же второй главе Герман описывает летнюю поездку (июнь) на место будущего преступления (март), которое он опишет лишь в девятой главе. Летняя местность преждевременно наделяется признаками будущего:
Действительно, место было глухое. Сдержанно шумели сосны, снег лежал на земле, в нем чернели проплешины… Ерунда, — откуда в июне снег? Его бы следовало вычеркнуть. Нет, — грешно. Не я пишу, — пишет моя нетерпеливая память. Понимайте как хотите — я ни при чем. И на желтом столбе была мурмолка снега. Так просвечивает будущее.
(III, 418–419)
Ряд мотивов второй главы (желтый столб, кража автомобиля, междометие «гоп-гоп», кисточка для бритья и др.) восходит к главе девятой. Эта двунаправленность времени еще более очевидна при повторном чтении, когда читатель, как и Герман, обладает той же двойной перспективой déjà vu и расставляет все мотивы в соответствующие им временные координаты. Набоков во многих романах использует этот прием, и только при повторном чтении перед читателем раскрывается полностью двойная временная перспектива текста, которая создает амбивалентное синхронное сюжетное время, в котором на одном уровне находятся горизонты прошлого, настоящего и будущего.
Двойная перспектива временных планов определила и композицию повести Германа:
Мое создание похоже на пасьянс, составленный наперед: я разложил открытые карты так, чтобы он выходил наверняка, собрал их в обратном порядке, дал приготовленную колоду другим, — пожалуйста, разложите, — ручаюсь, что выйдет!
(III, 471)
Согласно замыслу Германа, повесть должна была состоять из десяти глав и кончаться классическим эпилогом с happy end.{77} По аналогии с наперед сложенными для пасьянса картами, Герман строит свою повесть о двойниках по принципу симметрии. Между пятой и шестой главой проходит ось, разделяющая повесть на две равные части, причем одна ее половина является как бы отражением другой. В каком-то смысле Герман заставляет композицию своей повести о двойниках подражать ее теме. На оси, проходящей между пятой и шестой главой повести, как на поверхности зеркала, встречаются координаты симметрично распределенных мотивов. Вторая и девятая главы с зеркальной точностью укладываются по сторонам этой оси.
Последняя, одиннадцатая глава не предусматривалась Германом. Она была написана после того, как, прочитав свою законченную повесть, он обнаружил в ней роковую ошибку. Композиционно эта глава принадлежит не повести, а роману.{78}
В повести встречается также целый ряд других мотивов, которые попарно, но не с абсолютной симметрией, ложатся по сторонам этой оси. Так, например, запрятанная во второй главе в лесу бутылка водки обнаружена полицией после убийства, в десятой главе. Феликс, раздетый догола в пятой главе, снова раздевается догола в девятой главе. Револьвер из третьей главы выстрелит, по чеховскому рецепту, в девятой главе. Повесть Германа о двойниках изобилует мотивами-«двойниками», отражающими друг друга. Следуя этому зеркальному механизму композиции повести, читатель может вслед за Германом проследить «плавные, планетные пути всех предметов и начертать пунктиром их орбиты» (III, 520). Желтый столб, отмечающий поворот на пути к участку Ардалиона, к которому повесть неоднократно возвращается, служит вехой, необходимой для ориентации в топографии текста.
Одержимость Германа симметрией продиктовала и хронологию фабульного времени. Все три встречи Германа с Феликсом распределены тоже симметрично:
Месяц октябрь, лежащий посередине между маем и мартом следующего года, выступает в роли зеркала, разделяющего и отражающего временные планы фабулы. На зеркальной призме октября (осень) встречаются временные координаты первой и последней встречи двойников. По-моему, не случайно, что именно к этому времени года относится следующая картина абсолютной зеркальной симметрии:
Незадолго до первого октября как-то утром мы с женой проходили Тиргартеном и остановились на мостике, облокотившись на перила. <…> Когда падал лист, то навстречу ему из тенистых глубин воды летел неотвратимый двойник. Встреча их была беззвучна. Падал кружась лист, и кружась стремилось к нему его точное отражение. Я не мог оторвать взгляда от этих неизбежных встреч. «Пойдем», — сказала Лида и вздохнула. «Осень, осень, — проговорила она погодя, — осень. Да, это осень».
(III, 433)
В этой картине Герман нам дает формулу, раскрывающую перед читателем всю суть художественного построения повести.
Интересно отметить, что к созданному здесь образу Набоков возвращается не раз. Аналогичное описание есть в «Других берегах»:
Порою лепесток, роняемый цветущим деревом, медленно падал и со странным чувством, что, наперекор жрецам, подсматриваешь нечто такое, чего ни богомольцу, ни туристу видеть не следует, я старался схватить взглядом отражение этого лепестка, которое значительно быстрее, чем он падал, поднималось к нему навстречу; и было страшно, что фокус не выйдет, что благословленное жрецами масло не загорится, что отражение промахнется и лепесток без него поплывет по течению; но всякий раз очарованное соединение удавалось, — с точностью слов поэта, которые встречают на полпути его или читательское воспоминание.
(V, 430)
Здесь падающий на поверхность воды лепесток уподоблен поэтическому слову. Картине сообщается определенное поэтическое содержание, и ее можно прочитать как метафору творчества, тайны творчества. По-моему, именно в этом контексте следует толковать и осеннюю картину в «Отчаянии». Метафора падающего и встречающего свое отражение листа относится, конечно, к самой повести Германа. Подобно осенним листьям, страницы — «листы» — повести встречаются на полпути со своими отражениями. Их «беззвучные» и «неизбежные» встречи (III, 433) происходят на зеркальной призме, разделяющей пятую и шестую главы. На это обстоятельство, по-моему, наглядно намекает и эпизод с книгой, которую Герман подарил Лиде:
Однажды я ей привез с вокзала пустяковый криминальный роман в обложке, украшенной красным крестовиком на черной паутине, — принялась читать, адски интересно, просто нельзя удержаться, чтобы не заглянуть в конец, — но так как это все бы испортило, она, зажмурясь, разорвала книгу по корешку на две части и заключительную спрятала, а куда — забыла, и долго-долго искала по комнатам ею же сокрытого преступника, приговаривая тонким голосом: «Это так было интересно, так интересно, я умру, если не узнаю».
(III, 410)
В этом криминальном романе, в описании которого лишний раз обнажается симметрическая конструкция текста, нетрудно узнать книгу «Отчаяние».
Для нарциссического Германа зеркало становится кумиром, а зеркальное сходство — гарантией творческого успеха. Но как мы знаем, сходства между двойниками не оказалось, а симметрически задуманная композиция повести осталась невыполненной. Герман вынужден написать лишнюю, одиннадцатую главу, и предназначенный для конца повести happy end он приводит задним числом в форме ложного эпилога. Перефразируя Набокова, можно сказать, что фокус не вышел, благословленное жрецами масло не загорелось, отражение промахнулось и лепесток без него поплыл по течению.
Для правильного истолкования промахов Германа необходимо рассмотреть эстетические предпосылки, на которых основывается его литературное творчество. Остановимся на первой из них, на самом понятии сходства как эстетической категории. В связи с этим понятием полезно рассмотреть взаимоотношения Германа с другим героем романа, художником Ардалионом.
Герман и Ардалион составляют в романе соперничающую пару художников, отстаивающих противоположные эстетические позиции. Если писателя Германа можно назвать «зеркало-поклонником», то художник Ардалион будет, несомненно, «зеркалоборцем». Во второй главе подвыпивший Ардалион высказывает мысль, которая дает ключ к пониманию причин Герма-новых неудач:
«Вы еще скажите, что все японцы между собою схожи. Вы забываете, синьор, что художник видит именно разницу. Сходство видит профан.»
<…>
«Но согласитесь, — продолжал я, — что иногда важно именно сходство».
«Когда прикупаешь подсвечник», — сказал Ардалион.
(III, 421)
На самом деле сходства между Германом и Феликсом не больше, чем между Эйфелевой башней и подсвечником. В последней главе романа, в своем письме к Герману Ардалион еще раз повторяет ту же мысль: «…схожих людей нет на свете и не может быть, как бы Вы их ни наряжали» (III, 523). Если перевести эти возражения Ардалиона на язык эстетики, то оппозицию сходства и различия можно истолковать как антиномию миметического и антимиметического принципа в искусстве, к которой я еще вернусь. Несмотря на свое презрение к Ардалиону, Герман в нем ощущает какую-то непонятную силу.
…Этот въедливый портретист — единственный человек, для меня опасный.
(III, 473)
Герман постепенно догадывается, что угроза, исходящая от Ардалиона, заключается в его «опасных глазах» (III, 473). Рассмотрим более подробно тему глаз в романе.
В «Отчаянии», рядом с повестью Германа, создается еще одно параллельное художественное произведение. Это написанный Ардалионом «кубистический» портрет Германа. Он выступает в романе как палинодическое произведение, созданное в противовес повести Германа и его эстетическому мировозрению. В третьей главе этот портрет описан на нескольких этапах его создания. Самая интересная стадия — вторая, когда портрет еще не закончен. Для нас не так важно само обстоятельство незаконченности, которое роднит этот портрет с произведением Германа, как тот факт, что на незаконченном портрете отсутствуют глаза. Этим, безусловно, навеян и ночной кошмар Германа, который, словно пародируя Нарцисса, смотрится в лужу и замечает, что у его отражения нет глаз (III, 427). Как неоконченный портрет, так и ночной кошмар недвусмысленно намекают на определенную неполноценность Германовых глаз. Даже в законченном портрете зеркалопоклонник Герман не находит ничего общего со своим обликом:
Вообще сходства не было никакого. Чего стоила, например, эта ярко-красная точка в носовом углу глаза, или проблеск зубов из-под ощеренной кривой губы. Все это — на фасонистом фоне с намеками не то на геометрические фигуры, не то на виселицы.
(III, 430)
Намек на виселицу, которую Герман подсознательно обнаружил в пророческом, как мы еще увидим, портрете, — это и намек на «опасные глаза» Ардалиона, предвидевшего участь Германа, о чем свидетельствует еще одна деталь. За три месяца до убийства, во время встречи Нового года, Лида спрашивает Ардалиона:
«За что пьет Герман?» …
«А я почем знаю, — ответил тот. — Все равно он в этом году будет обезглавлен…»
(III, 463)
Герман слеп и по отношению к другой картине Ардалиона — натюрморту, который он обнаружил во время своей поездки в Тарниц в местной табачной лавке: «трубка на зеленом сукне и две розы» (III, 438). После возвращения в Берлин оказалось, «что это не совсем две розы и не совсем трубка, а два больших персика и стеклянная пепельница» (III, 461).
Тема «неполноценных» глаз Германа продолжается и в седьмой главе. Обращаясь к девочке в парке, Герман притворяется близоруким:
«Вот что, детка, я плохо вижу, очень близорук, боюсь, что не попаду в щель, — опусти письмо за меня вон в тот ящик»
<…>
Пускай психологи выясняют, навела ли меня притворная близорукость на мысль тотчас исполнить то, что я насчет Ардалиона давно задумал, или же, напротив, постоянное воспоминание о его опасных глазах толкнуло меня на изображение близорукости.
(III, 473)
По-моему, не психологу, а литературоведу следует ответить на этот вопрос. Фабульно не связанные переклички мотивов близоруких глаз Германа и вещих глаз Ардалиона создают своеобразную сюжетную тему соперничества двух художников, двух мировоззрений. В ней раскрывается вся суть художественной неполноценности Германа, неполноценности его эстетического мировоззрения.{79}
На самом деле для Германа внешний мир почти не существует. Его глаза устремлены внутрь самого себя. Самосозерцанием созданный внутренний мир Германа — это замкнутый солипсический космос Нарцисса, непричастного к окружающему миру. Глаза Германа как будто покрыты зеркальным слоем амальгамы. Отсюда следует, что никакого обнаруженного Германом очевидного сходства между Феликсом и им самим быть не могло. В неполноценных, лишенных наблюдательности глазах Германа заключается причина первой неудачи, т. е. провала идеального плана убийства.
В отместку художнику Герман вешает написанный Ардалионом портрет в конце ложного эпилога своей повести, чтобы таким образом унизить как художника, так и его произведения.
А уж к самому концу эпилога приберегается особенно добродушная черта, относящаяся иногда к предмету незначительному, мелькнувшему в романе только вскользь:
на стене у них висит все тот же пастельный портрет, и Герман, глядя на него, все так же смеется и бранится. Финис.
(III, 507)
В противовес этому портрету, причинившему Герману столько досады, Герман создает в своей повести шутовской портрет Ардалиона, иронически подделываясь под технику живописи:
…довольно, довольно о шуте Ардалионе! Последний мазок на его портрет наложен, последним движением кисти я наискось в углу подписал его. Он получше будет той подкрашенной дохлятины, которую этот шут сотворил из моей физиономии. Баста! Он хорош, господа.
(III, 525)
Концовки этих фрагментов — «финис» и «баста» — словно отражаются друг в друге. Так Герман, за которым осталось последнее слово, кончает диалог между двумя враждующими эстетами, зеркалопоклонником и зеркалоборцем. Яблоком раздора для них оказалось понятие сходства. Основав как свое преступление, так и свое произведение на последовательном принципе зеркального мимесиса, Герман тем самым обрек их на провал. Под пистолетом и под пером подслеповатого Германа то и другое превратилось в пародию на самое себя.
Обратим внимание и на другие эстетические аксиомы, которыми руководствуется в своем творчестве Герман. В десятой главе «Отчаяния» он заявляет, что «всякое произведение искусства — обман» (III, 506).
Искусство как обман, искусство как прекрасная ложь — понятия древние, как сама история поэтики. Уже Аристотель говорил про Гомера, что тот научил поэтов искусству обмана. Произведение Германа от первой до последней строчки основано на обмане, и Герман это обстоятельство не только не скрывает, но даже им щеголяет.
Маленькое отступление: насчет матери я соврал.
(III, 398)
Ти-ри-бом. И еще раз — бом! Нет, я не сошел с ума, это я просто издаю маленькие радостные звуки. Так радуешься, надув кого-нибудь. А я только что здорово кого-то надул. Кого? Посмотрись, читатель, в зеркало, благо ты зеркала так любишь.
(III, 411)
Вариант приятный, освежительный, передышка, переход к личному, это придает рассказу жизненность, особенно когда первое лицо такое же выдуманное, как и все остальные. То-то и оно: этим приемом злоупотребляют, литературные выдумщики измочалили его, он не подходит мне, ибо я стал правдив.
(III, 422)
…Я почему-то подумал, что Феликс прийти не может… что я сам выдумал его, что создан он моей фантазией, жадной до отражений…
(III, 438)
Пристрастие Германа к сочинительству порою напоминает «запой праздномыслия» или «умственное распутство» Иудушки из «Господ Головлевых», который, запершись в кабинете, «изнывал над фантастической работой: строил всевозможные, несбыточные предположения, учитывал самого себя, разговаривал с воображаемыми собеседниками и создавал целые сцены, в которых первая случайно взбредшая на ум личность являлась действующим лицом».{80}
В контексте искусства, понятого как обман, особая роль выпадает датировке последней записи Германа. Эта дата — «1-го апреля», — последовательно доводящая до конца принцип обмана, ставит еще раз, задним числом, все написанное Германом под сомнение. Не случайно 1 апреля — день рождения наименее надежного из рассказчиков, которых когда-либо производила русская литература, а именно, Николая Васильевича Гоголя-Яновского.
Обман как художественный метод Герман применяет не только к собственному творчеству. Им определяется и отношение Германа к другим литературным произведениям. Например, фабула пушкинского «Выстрела» в пересказе Германа такова:
Сильвио наповал без лишних слов убивал любителя черешен и с ним — фабулу, которую я, впрочем, знал отлично.
(III, 424)
Абсолютно ненадежный рассказчик Герман напоминает нам известный софизм с критянином, который заявляет, что все критяне лгут. В заявлении, что «всякое произведение искусства — обман» логической ошибки не усматривается. Это утверждали и классические поэтики: «Nunquam ne failit, qui omnia confingit»,[3]{81} то же самое утверждают и авторы поэтик современных, в частности Р. Якобсон:
Не верьте поэту … художник разыгрывает нас и тогда, когда заявляет, что на сей раз представит нам не Dichtung, a чистую Wahrheit, и тогда, когда заверяет, что данное произведение — чистейшая выдумка, что «стихотворство всегда есть ложь, а поэту, который не приступает к вранью с первого же слова, — грош цена».[4]{82}
И то же самое заявляет Набоков:
Ложный ход в шахматной задаче, иллюзия решения или волшебство фокусника: я немного занимался фокусами в детстве. Я любил делать простые трюки — превращать воду в вино и всякие такие штуки; но, думаю, я попал в хорошую компанию, потому что всякое искусство — обман, так же как и природа; все обман в этом добром мошенничестве — от насекомого, которое притворяется листом, до ходких приманок размножения. Вы знаете, с чего началась поэзия? Мне все кажется, что она началась, когда пещерный мальчик бежал сквозь огромную траву к себе в пещеру, крича на бегу: «Волк, волк», а никакого волка не было.{83}
Писателей принято называть сочинителями, но из этого еще не следует, что всех сочинителей можно назвать писателями, в искусстве это лишь одна сторона медали. Ошибка Германа заключается в следующем: заявив, что «всякое произведение искусства — обман» (III, 506), и исключив возможность сопоставления сочинения с действительностью, Герман надеялся исключить заодно и возможность ошибки, обеспечив таким образом неизменный успех своему «вечно правдивому» произведению. На логически безупречной предпосылке Герман построил ложный вывод. У произведения искусства, как бы фантастично оно ни было, есть своя внутренняя правда. Истинное искусство обязано своим существованием не одной лишь силе воображения сочинителя. «Верность вымыслу»{84} — лишь предпосылка, но никак не гарантия успеха произведения. Набоков однажды написал следующие слова по поводу несамостоятельности воображения:
Я сказал бы, что воображение — это форма памяти. <…> Воображение зависит от ассоциативной силы, а ассоциации питаются и подсказываются памятью. Когда мы говорим о живом личном воспоминании, мы отпускаем комплимент не нашей способности запомнить что-либо, но загадочной предусмотрительности Мнемозины, запасшей для нас впрок тот или иной элемент, который может понадобиться творческому воображению, чтобы скомбинировать его с позднейшими воспоминаниями и выдумками. В этом смысле и память, и воображение являются формами отрицания времени.{85}
В поэтике Набокова воображение и память взаимообусловлены.{86} Кажется, что Герману, вслед за Набоковым, понятна эта аксиома истинного творчества. Герман неоднократно ссылается на свою изумительную память:
…обладая фотографической памятью, я запомнил бульвар, статую и еще другие подробности, — это снимок небольшой, однако, знай я способ увеличить его, можно было бы прочесть, пожалуй, даже вывески, — ибо аппарат у меня превосходный.
(III, 432–433)
Герман все время утверждает, что не он, а его союзница-память пишет за него повесть. Из всего сказанного следует, что Герман обладает всеми качествами истинного писателя. Однако, вопреки всем его утверждениям, нам нетрудно найти примеры, доказывающие как раз противоположное. Так, например, во второй главе Герман мгновенно забывает, что Лида делала не кофе, а гоголь-моголь. В четвертой главе оказывается, что Герман не запомнил названия бульвара, который якобы так отлично запечатлелся в его памяти. В шестой главе Герман плохо запомнил уже нам знакомый натюрморт Ардалиона. В десятой главе Герман не помнит, описывал ли уже кабинет Орловиуса.
Таким образом, мы наблюдаем у Германа не один, а два патологических дефекта. Наряду с признаками афатического расстройства способности распознавать сходство, у Германа обнаруживается сильное расстройство анамнетической функции. Если первым дефектом можно объяснить провал задуманного плана убийства, то вторым объясняется неспособность героя написать безупречную криминальную повесть.
Если отнести повесть Германа к данному жанру, «Отчаяние» можно сравнить с «криминальным» романом Достоевского «Преступление и наказание». Этого «густо психологического» автора Герман не раз передразнивает. Но вместо психологически-религиозной развязки Достоевского Набоков предлагает в своем романе развязку чисто литературную. Вопрос, конечно, не в том, кто убийца, а в том, с чем связан художественный просчет, который погубил произведение и его творца.
Если повесть Германа является зеркальным отражением преступления, а криминалистическое расследование ведет к обличению преступника и к раскрытию его ошибки, то та же ошибка, по всем правилам литературного следствия, должна обнаружиться и в самом тексте повести. Вот почему после провала идеального плана, в одиннадцатой сверхурочной главе, Герман с таким трепетом принимается за перечитывание своей рукописи:
В ночной рубашке, стоя у стола, я любовно утряхивал в руках шуршащую толщу исписанных страниц. Затем лег опять в постель, закурил папиросу, удобно устроил подушку под лопатками, — заметил, что рукопись оставил на столе, хотя казалось мне, что все время держу ее в руках; спокойно, не выругавшись, встал и взял ее с собой в постель, опять устроил подушку, посмотрел на дверь, спросил себя, заперта ли она на ключ или нет, — мне не хотелось прерывать чтение, чтобы впускать горничную, когда в девять часов она принесет кофе; встал еще раз — и опять спокойно, — дверь оказалась отпертой, так что можно было и не вставать; кашлянул, лег, удобно устроился, уже хотел приступить к чтению, но тут оказалось, что у меня потухла папироса, — не в пример немецким, французские требуют к себе внимания; куда делись спички? Только что были у меня. Я встал в третий раз, уже с легкой дрожью в руках, нашел спички за чернильницей, а вернувшись в постель, раздавил бедром другой, полный коробок, спрятавшийся в простынях, — значит, опять вставал зря. Тут я вспылил, поднял с пола рассыпавшиеся страницы рукописи, и приятное предвкушение, только что наполнявшее меня, сменилось почти страданием, ужасным чувством, что кто-то хитрый обещает мне раскрыть еще и еще промахи, и только промахи. Все же, заново закурив и оглушив ударом кулака строптивую подушку, я обратился к рукописи.
(III, 520–521)
Этот длинный отрывок я привел полностью по двум причинам. Во-первых, потому, что здесь отдаляется и затормаживается роковая развязка, т. е. полное разоблачение Германа как убийцы и как писателя; во-вторых — из-за назойливого мотива папиросы. Согласно древней блатной традиции, «закурить» — значит капитулировать. Преступник, которому уже некуда отступить, перед тем как отдаться в руки закона, закуривает. По той же традиции палач накануне казни предлагает приговоренному закурить.{87}
Классический исследователь детективного жанра Ван Дайн когда-то написал:
Разгадка должна всегда присутствовать в тексте, так чтобы читатель, перечитав книгу, убедился, что он мог бы найти ее, если бы у него хватило сообразительности.{88}
Вот каким образом автор подводит своего героя, а с ним и читателя, к роковой развязке, сокрытой в самом тексте Германа:
«…Садись, скорее, нам нужно отъехать отсюда».
«Куда?» — полюбопытствовал он.
«Вон в тот лес».
«Туда?» — спросил он и указал…
Палкой, читатель, палкой. Палкой, дорогой читатель, палкой. Самодельной палкой с выжженным на ней именем: Феликс такой-то из Цвикау. Палкой указал, дорогой и почтенный читатель, палкой, — ты знаешь, что такое «палка»? Ну вот — палкой, — указал ею, сел в автомобиль и потом палку в нем и оставил, когда вылез… Вот какая вещь — художественная память! Почище всякой другой. «Туда?» — спросил он и указал палкой. Никогда в жизни я не был так удивлен…
Я сидел в постели, выпученными глазами глядя на страницу, не мною же — нет, не мной, а диковинной моей союзницей — написанную фразу, и уже понимал, как это непоправимо. Ах, совсем не то, что нашли палку в автомобиле и теперь знают имя, и уже неизбежно это общее наше имя приведет к моей поимке, — ах, совсем не это пронзало меня, а сознание, что все мое произведение, так тщательно продуманное, так тщательно выполненное, теперь в самом себе, в сущности своей, уничтожено, обращено в труху допущенною мною ошибкой.
(III, 521–522)
Пять раз на протяжении повести упоминается эта несчастная палка, и пять раз она остается не замечена Германом. Даже в самом конце, уже после провала его замысла, Герман непоправимо слеп и глух по отношению к этой палке, в данном случае к буквенному составу слова «палка».
Палка, — какие слова можно выжать из палки? Пал, лак, кал, лампа (sic!).
(III, 527)
В романе «Отчаяние» палка выступает не только как определенный символ падения (палка — пал — падение), но является одновременно и неким инструментом возмездия, которым автор наказывает героя за его преступление. Второй раз у Набокова ошибка с палкой (тростью) оказалась роковой для писателя и его произведения. В первый раз, в уже рассмотренном нами рассказе «Уста к устам», «трость» два раза мстит незадачливому литератору Илье Борисовичу. Второй раз, в «Отчаянии», двоюродная ее сестра — «палка» — предъявляет свой двойной иск незадачливому Герману. Ирония в том, что повесть, которую Герман писал в доказательство своей гениальности как убийцы и как писателя, превращается в доказательство его провала. Герман оказался дважды убийцей. Перефразируя его же нелепый пересказ пушкинского «Выстрела» (III, 424), можно сказать, что Герман наповал убивает любителя воробьев, а с ним и фабулу своего произведения. Детективный рассказ оказался дефектным. Как убийство двойника, так и повесть о нем оказались самоубийственными для убийцы и автора.
2. Роман Набокова о двойниках
Quem Juppiter perdere vult dementat prius.[5]
Как уже говорилось, «Отчаяние» — не только повесть героя, но также и роман Набокова. И если в рассказе «Уста к устам» роман Ильи Борисовича послужил внутренней моделью для одноименного рассказа Набокова, то в романе «Отчаяние» дело обстоит сложнее, потому что «внутренний» текст (т. е. повесть Германа и его дневниковые записи) тождествен «внешнему» (т. е. роману Набокова). Нам остается ответить на вопрос, каким же образом сосуществуют под одним названием два произведения двух авторов, а также каким образом Набоков закрепляет за собой авторство. Рассмотрим сперва взаимоотношение двух писателей, пишущих одну и ту же книгу: Набокова и Германа.
Ходасевич назвал Германа «подлинным, строгим к себе художником».{89} Действительно, Герман сам себя считает писателем незаурядным, даже гениальным, о чем он без малейшего стеснения не раз заявляет:
…как я здорово пишу…
(III, 473)
Если бы я не был совершенно уверен в своей писательской силе, в чудной своей способности выражать с предельным изяществом и живостью — Так, примерно, я полагал начать свою повесть.
(III, 397)
Если бы не абсолютная вера в свои литературные силы, в чудный дар…
(III, 517)
Герману свойственна самонадеянная надменность и непоколебимая уверенность в своем таланте. Но рядом с Германом существует в романе еще один «русский литератор, живущий поблизости» (III, 507). На его присутствие Герман не раз намекает, его Герман избрал своим первым читателем, ему он собирается отправить рукопись своей повести. Этот русский писатель, похваливший даже однажды Германов слог, конечно, Набоков. Герман к нему запросто обращается на «ты»:
Вот я упомянул о тебе, мой первый читатель, о тебе, известный автор психологических романов, — я их просматривал, — они очень искусственны, но неплохо скроены. Что ты почувствуешь, читатель-автор, когда приступишь к этой рукописи? Восхищение? Зависть? Или даже — почем знать? — воспользовавшись моей бессрочной отлучкой, выдашь мое за свое, за плод собственной, изощренной, не спорю, изощренной и опытной, — фантазии, и я останусь на бобах? Мне было бы нетрудно принять наперед меры против такого наглого похищения. Приму ли их — это другой вопрос. Мне, может быть, даже лестно, что ты украдешь мою вещь. Кража — лучший комплимент, который можно сделать вещи. И знаешь, что самое забавное? Ведь, решившись на приятное для меня воровство, ты исключишь как раз вот эти компрометирующие тебя строки, — да и кроме того, кое-что перелицуешь по-своему (это уже менее приятно)…
(III, 445)
Литератор, которого Герман подозревает в том, что он может присвоить его рукопись, не появляется в тексте лично, как воплощенный и действующий персонаж. Тем не менее он участвует в романе как своеобразный призрачный герой, полупрозрачный персонаж на службе у автора, который в вопросах искусства разбирается отлично. Своим невидимым карандашом Набоков неоднократно вмешивается как в ход событий, так и в отношения между двойниками, подобно «Зету», который вмешивается в переписку между «Иксом» и «Игреком»:
Так Икс продолжает писать Игреку, а Игрек Иксу на протяжении многих страниц. Иногда вступает какой-нибудь посторонний Зет, — вносит и свою эпистолярную лепту, однако только ради того, чтобы растолковать читателю (не глядя, впрочем, на него, оставаясь к нему в профиль) событие, которое без ущерба для естественности или по какой другой причине ни Икс, ни Игрек не могли бы в письме разъяснить.
(III, 431–432)
Нельзя сказать, что Герман не замечает эти вмешательства невидимого автора ex machina. Порою он чувствует, что его перо, на которое он «как-то слишком понадеялся», выбившись из строя, своевольно пляшет (III, 450).
Если подобрать для этого автора роль из готового запаса штампов, то это, несомненно, будет роль вредителя. Он расставил в романе изысканную сеть ловушек, капканов и других тонких приспособлений, в которые должен попасться герой, и с их помощью не без удовольствия разрушает одну за другой иллюзии самодовольного Германа.
К числу «тонких» (в литературно-техническом смысле) вредительских приемов можно отнести своеобразный вариант мифа о Нарциссе. Так, например, Герман после убийства своего двойника рассматривает его лицо:
И пока я смотрел, в ровно звеневшем лесу потемнело, — и, глядя на расплывшееся, все тише звеневшее лицо передо мной, мне казалось, что я гляжусь в недвижную воду.
(III, 502)
«Недвижная вода» здесь выступает в роли зеркала, глядясь в которое радуется нарциссически-самодовольный Герман. И вот эту зеркальную гладь автор, как некое мифологическое существо, принявшее облик ветра, ехидно искажает. Герман крайне чувствителен к такому ветру:
…смерть — это покой лица, художественное его совершенство, жизнь только портила мне двойника: так ветер туманит счастие Нарцисса, так входит ученик в отсутствие художника и непрошенной игрой лишних красок искажает мастером написанный портрет.
(III, 405)
В ночной кошмар Германа, навеянный портретом Ардалиона, тоже вторгается набоковский ветер:
…когда я ложился ничком, то видел под собой… лужу, и в луже мое, исковерканное ветровой рябью, дрожащее, тусклое лицо, — и я вдруг замечал, что глаз на нем нет.
(III, 427)
В английском варианте «Отчаяния» Набоков развивает тему Нарцисса более подробно, добавляя ряд эпизодов, отсутствующих в первоначальном тексте.
В пятой главе Герману удается справиться с преследующим его ветром:
…я довольно долго шел по улице, удаляясь от памятника, — и все останавливался, пытаясь закурить, — ветер вырывал у меня огонь, наконец я забился в подъезд, надул ветер, — какой каламбур!
(III, 438)
Но Герману недолго суждено торжествовать. В конце повести опять поднимается ветер. В десятой, предпоследней главе, «испанский ветер треплет в саду цыплячий пух мимоз» (III, 528). Этот ветер вскоре усиливается, и Герман наблюдает в окно, как «ветер грубо приподымает и отворачивает исподнюю листву маслин» (III, 508). Из-за ветра Герман даже перестает выходить наружу:
…меня пугал этот беспрестанный, все сокрушающий, слепящий, наполняющий гулом голову мартовский ветер, убийственный горный сквозняк.
(III, 508)
На шестой день его пребывания в пансионе
…ветер усилился до того, что гостиница стала напоминать судно среди бурного моря, стекла гудели, трещали стены, тяжкая листва с шумом пятилась и, разбежавшись, осаждала дом. Я вышел было в сад, но сразу согнулся вдвое, чудом удержал шляпу и вернулся к себе.
(III, 509–510)
По мере того как растет рукопись Германа, ветер становится все сильнее. Шесть дней — это шесть дней творения, в которые рождается повесть Германа. «Пух мимоз», «листья маслин», «тяжкая листва» — это каламбурная реализация метафоры: «листья деревьев — листы рукописи», к которой Набоков в своем творчестве не раз возвращается.{90} Вот эту-то рукопись решил разрушить автор-вредитель, принявший обличье ветра. Перефразируя слова Блока из стихотворения «Художник», то, что здесь происходит, — не «вихрь с моря», скорей это «сирины райские в листьях поют».{91}
В одиннадцатой главе Герман, не дописавший до конца последнюю главу своей повести, выходит в сад и на него внезапно веет «чем-то тихим, райским». (III, 518)
Я даже сначала не понял, в чем дело, — но встряхнулся, и вдруг меня осенило: ураганный ветер, дувший все эти дни, прекратился.
(III, 518)
Но было бы ошибочно считать эту «райскую тишину» в «седьмой день Творения» заслуженной наградой творцу. Это скорее затишье перед последней бурей, передышка перед роковой развязкой. Герман поднимает с пола рассыпавшиеся страницы рукописи и, полный приятного предвкушения, принимается перечитывать написанное. Но скоро «приятное предвкушение, только что наполнявшее» его, «сменилось почти страданием, ужасным чувством, что кто-то хитрый обещает» ему «раскрыть еще и еще промахи, и только промахи» (III, 521). Герман дочитывает до рокового места. Катастрофическая развязка с палкой, которой автор наказывает своего героя, окончательно разрушает последнюю иллюзию Германа о себе как писателе:
Я стоял над прахом дивного своего произведения, и мерзкий голос вопил в ухо, что меня не признавшая чернь, может быть, и права… Да, я усомнился во всем, усомнился в главном, — и понял, что весь небольшой остаток жизни будет посвящен одной лишь бесплодной борьбе с этим сомнением, и я улыбнулся улыбкой смертника и тупым, кричащим от боли карандашом быстро и твердо написал на первой странице слово «Отчаяние», — лучшего заглавия не сыскать.
(III, 522)
Это он, сказочный сочинитель с именем райской птицы Сирин, шевелил крыльями, подымал ветер, тревожил «недвижную гладь ветровой рябью и туманил счастье Нарцисса». Это его «мерзкий голос вопил Герману в ухо, что не признавшая его чернь, может быть, и права». Это он, автор-вредитель, извел своего героя, предал его постыдному наказанию палкой и наконец, как бы следуя классическому «Quem Juppiter perdere vult dementat prius», довел Германа до сумасшествия, до отчаяния.
Яблоком раздора между автором и Германом оказалось опять-таки зеркало. Указав Герману ошибку, которая и довела его до отчаяния, автор заставил героя присоединить к симметрически задуманным десяти главам его повести сверхурочную, одиннадцатую главу. Эта последняя глава романа состоит из дневниковых записей полусумасшедшего несостоятельного писателя. Своим вмешательством автор-вредитель сдвинул ось симметрии повести, на зеркальной призме которой должны были сходиться координаты всех ее элементов. Он разбил, или по крайней мере сдвинул, зеркало, помещенное Германом между пятой и шестой главой повести. В этом контексте следует понимать и «самую жуткую из примет» — «разбитое зеркало» (III, 411) (начало романа), а также страх зеркалопоклонника, вырождающийся, после провала повести (конец романа), в открытую ненависть Германа к зеркалам:
Зеркала, слава Богу, в комнате нет, как нет и Бога, которого славлю.
(III, 526)
В романе «Дар» другой герой-писатель, Федор Годунов-Чердынцев, высказывает по поводу зеркала одну набоковскую мысль. Речь идет об искусстве:
…всякое подлинно новое веяние есть ход коня, перемена теней, сдвиг, смещающий зеркало.
(IV, 417)
Этим «сдвигом зеркала» в повести Германа Набоков по-своему создал новое равновесие в романе и тем самым окончательно восстановил свою власть, временно захваченную литературным самозванцем Германом. Этим сдвигом положены конец повести Германа и начало романа Набокова. Успех автора-вредителя окончательно решает вопрос об авторстве.
Для Набокова не существует схожего, существуют только аналогичное. Герман создал Феликса по своему подобию, увидев в нем двойника, Набоков создал Германа по образу своему, сделав его писателем. Подобно тому как герой повести Феликс «прикарманил» и продал серебряный карандаш Германа, выдав его за свой (III, 404, 442), Герман присваивает сиринское «перо», чужую рукопись, выдавая ее за свою. «Отчаяние» — это роман о двойниках, о двойничестве. Но читатель, прочитавший внимательно роман, знает, что «сходство видит профан» (III, 421) и что никаких двойников не бывает. Если между Германом и Феликсом сходства не оказалось, следовательно, его не должно быть и между автором и Германом. Между ними есть параллель, но не сходство.
Герман мнил себя автором, великим манипулятором, творцом. Мановением «свободной» руки он создавал пейзажи, заселял их людьми, решал их судьбы. Два раза, в первой и пятой главе, он, уподобляясь творцу, «создавал» двойника, начиная «строить» его с ног и до головы.
…Я начал с ног, как бывает в кинематографе, когда форсит оператор. Сперва: пыльные башмачища, толстые носки, плохо подтянутые; затем — лоснящиеся синие штаны… и рука, держащая сухой хлебец. Затем — синий пиджак и под ним вязаный жилет дикого цвета. Еще выше — знакомый воротничок, теперь сравнительно чистый. Тут я остановился. Оставить его без головы или продолжать его строить?
(III, 440)
«Сотворяя» Феликса, Герман действует как демиург, забывая о том, что и сам он — создание Всевышнего Творца.{92} Вот здесь, в противоположности демиургического и божественного принципов заключается разница между Германом и автором, определяющая неравнозначность их творчества.
Самонадеянный Герман поневоле и с крайним негодованием вынужден признать неполноценность своего положения — положения персонажа в чужом романе, — но он не примиряется с ним. Герман ведет отчаянную, неравную борьбу против своего создателя, борьбу за авторство. В контексте этой борьбы персонажа с его творцом, как правильно предлагает Филд,{93} следует толковать и «теологическую шутку» в шестой главе, в которой персонаж открыто объявляет протест против своего абсурдного положения куклы в чужом сочинении.
Небытие Божье доказывается просто. Невозможно допустить, например, что некий серьезный Сый, всемогущий и всемудрый, занимался бы таким пустым делом, как игра в человечки…
(III, 457)
Если я не хозяин своей жизни, не деспот своего бытия, то никакая логика и ничьи экстазы не разубедят меня в невозможной глупости моего положения, — положения раба Божьего, — даже не раба, а какой-то спички, которую зря зажигает и потом гасит любознательный ребенок — гроза своих игрушек. Но беспокоиться не о чем. Бога нет, как нет и бессмертия…
(III, 458)
Псевдотеологическая атака Германа против Бога напоминает нам Алису, не примирившуюся с мыслью, что она существует лишь во сне Красного Короля. Монолог Германа при первом чтении как бы не имеет ничего общего с остальным текстом повести. Тем не менее этот «карамазовский» выпад против Создателя является ключом к правильному пониманию романа. О его важности свидетельствует, в частности, его центральное место в композиции романа. Хотя монолог был написан только после десятой главы, Герман его помещает в шестую главу, т. е. как раз в середину, но не своей повести, состоявшей из десяти глав, а романа Набокова, в котором их одиннадцать.
Бунт Германа — это бунт лжетворца, демиурга, претендующего на авторство самозванца, против подлинного автора. Этот автор-вредитель сдвинул ось, на которой вращался зеркальный космос солипсиста Германа, и тем самым показал своему герою, что он хозяин «космоса-книги». Герою, как бы тот ни старался убедить читателя, что он сам себя придумал, отведено место персонажа на страницах книги.
Ходасевич в 1937 году написал:
Жизнь художника и жизнь приема в сознании художника — вот тема Сирина, в той или иной степени вскрываемая едва ли не во всех его писаниях…{94}
С Ходасевичем трудно не согласиться. Как автор, так и персонаж — условные литературные приемы художественного текста. «Отчаяние» следует читать как роман о жизни этих приемов в сознании художника, в котором автор и его персонаж вступают в открытый конфликт. Из этого сражения выходит победителем автор, а провал Германа — хоть и не лишенный блеска, но все же провал. Разрушив полуудачную повесть персонажа, автор создает из его руин свой роман, преподнося падение героя как свою победу. В этом смысле «Отчаяние» — роман о примате авторского сознания.
В цитированной статье Ходасевич написал об «Отчаянии»:
Тут показаны страдания художника подлинного, строгого к себе. Он погибает от единой ошибки, от единого промаха, допущенного в произведении, поглотившем все его творческие силы… До отчаяния его доводит то, что в провале оказывается виновен он сам, потому что он только талант, а не гений.{95}
У Набокова нет снисхождения к слабостям художника. Он признает только гениев и жестоко расправляется с героями-неудачниками. Для него творчество (но только истинное творчество) в состоянии раздвинуть, переступить узкие рамки, в которые смертное существо — человек — заключен. Истинное искусство, продукт платонического вечного Эроса, иногда побеждает строй времени и прорывается к бессмертию.
Критик Розенфилд определяет мотивы, которыми руководствуется Герман, как «современное извращение примитивного сознания, жаждущего бессмертия».{96} Автор дает понять своему герою, задумавшему обеспечить себе бессмертие через творчество, что этот путь для него закрыт. Набоковский силлогизм: «другие смертны, да, / Я — не „другой“: Я буду жить всегда»,{97} в случае Германа не сработает. Жертвоприношение Германа и его жертва Феликс будут богами отвергнуты, «благословенное жрецами масло не загорится». «…Бога нет, как нет и бессмертия…» (III, 458), — заявляет Герман, который был вынужден признать себя смертным. Он должен примириться со своей «бессрочной отлучкой» (III, 78), он закуривает свою последнюю папиросу (III, 191–192), и после совершенного провала как плана убийства, так и замысла повести, он улыбается «улыбкой смертника» (III, 194). Сквозь его пророческий портрет, написанный Ардалионом, просвечивают виселицы (III, 430). «Все равно он в этом году будет обезглавлен — за сокрытие доходов» (III, 463), — говорит соперник Германа Ардалион, и можно добавить: за сокрытие авторских доходов. Зная, что его ожидает, Герман отвергает возможность покончить с собой:
Убить себя я не хочу, это было бы не экономно, — почти в каждой стране есть лицо, оплачиваемое государством, для исполнения смертной услуги. И затем — раковинный гул вечного небытия.
(III, 526)
Нет сомнения, что над Германом свершается жестокая расправа, напоминающая нам расправу Немезиды над Нарциссом. В преданиях Гесиода, Гомера и Овидия Немезида выступает как персонификация справедливого возмездия, которым олимпийские боги карали людскую самонадеянность, суету и извращенные поступки.{98} Так был наказан Нарцисс, отвергший любовь юных нимф.
Он приговорен за свой гордый поступок к самосозерцательной любви к самому себе и умирает, глядя на свое отражение в воде. «Русский писатель», живущий поблизости от героя, в своем олимпийском возмущении карает, наподобие Немезиды, нарциссического героя за его гордыню. В конце концов «Отчаяние» — это роман Набокова, в котором персонаж Герман вел себя мерзко, «по-хамски», а творить хамство в храме искусства — непростительно.
Автор — свирепый бог мира, который он сам сотворил, и лютый судия людей, которыми он этот мир заселил. Гордыня — самый страшный из грехов. Не случайно Данте помещает Сатану, восставшего против Бога-отца, в последний, девятый круг ада.{99} Поэтому смертью Германа вопрос о его бессмертии не исчерпывается, а только ставится. Посмотрим, какой вариант потусторонности уготовил разгневанный автор своему кощунствующему герою, отрицающему и Бога и бессмертие.
Ответы на этот последний вопрос романа даны в форме шарад и криптографической загадки. Первую шараду Герман задает уснувшей Лиде:
Отгадай: мое первое значит «жарко» по-французски. На мое второе сажают турка, мое третье — место, куда мы рано или поздно попадем. А целое — то, что меня разоряет.
(III, 426)
Разгадка: chaud — кол — ад = шоколад. Таким образом, «жар, казнь и ад» создают первый образ потусторонности для Германа. (Ср. также: «Мой шоколад, матушка, к чорту идет…» — III, 426). Криптографическая загадка находится в седьмой главе. Разгадка дается расшифровкой иррационального почерка, с помощью которого автор разыгрывает Германа на манер Алисы, водящей карандашом Белого Короля.{100} Герман пишет на почте письмо Феликсу:
Казенное перо неприятно трещало, я совал его в дырку чернильницы, в черный плевок; по бледному бювару, на который я облокотился, шли, так и сяк скрещиваясь, отпечатки неведомых строк — иррациональный почерк, минус-почерк, — что всегда напоминает мне зеркало… <…> Между тем худосочное перо в моей руке писало такие слова: «Не надо, не хочу, хочу, чухонец, хочу, не надо, ад».{101}
(III, 468)
Наконец, в кошмарном сне Германа содержится еще одна литературная шарада:
В течение нескольких лет меня преследовал курьезнейший сон: будто нахожусь в длинном коридоре, в глубине — дверь, — и страстно хочу, не смею, но наконец решаюсь к ней подойти и ее отворить; отворив ее, я со стоном просыпался, ибо за дверью оказывалось нечто невообразимо страшное, а именно: совсем пустая, голая, заново выбеленная комната, — больше ничего, но это было так ужасно, что невозможно было выдержать.
(III, 424)
Эта комната, напоминающая «вечность на аршине пространства» Раскольникова или «комнатку с пауками, эдак вроде деревенской бани» Свидригайлова{102} — и есть тот ад, который Сирин устроил для потомка Каина и Сатаны — Германа. В английской версии «Отчаяния» Набоков помещает в эту абсолютно пустую комнату — стул. (Не натолкнула ли русского писателя на этот добродушный жест любовь к комфорту, свойственная американскому читателю?) Предмет мебели, поставленный в эту пустую, выбеленную комнату, намекает на электрический стул и создает некий разбавленный эквивалент русского ада Раскольникова и Свидригайлова.
Не станем упрекать Германа за то, что он, подобно другому герою Достоевского, «возвращает Творцу билет». Забавно и то, что 33 года спустя, в предисловии к английскому изданию «Отчаяния», Набоков еще раз напоминает о посмертном местопребывании Германа:
Герман и Гумберт сходны лишь в том смысле, в каком два дракона, нарисованные одним художником в разные периоды его жизни, напоминают друг друга. Оба они — негодяи и психопаты, но все же есть в раю зеленая аллея, где Гумберту позволено раз в год побродить в сумерках. Германа же ад никогда не помилует.{103}
В отвлеченном смысле «Отчаяние» можно, конечно, прочитать как пародию на романы Достоевского. В «Отчаянии» переплетаются темы двойничества, преступления и наказания, надрыва и бунта, есть целый ряд прямых и косвенных намеков на автора «Двойника», «Записок из подполья», «Преступления и наказания» и «Братьев Карамазовых». Но, по-моему, вряд ли в «густом психологизме» Достоевского следует искать корни «Отчаяния» и его автора, наиболее антипсихологичного из писателей. В романе есть лишь пародийные отклики на Достоевского, которого Набоков, как известно, недолюбливал. Истинные корни «Отчаяния» надо искать скорее в другой, не русской литературной традиции, в традиции «убийства как искусства».
3. Убийство как искусство
Убийство, воспринятое как искусство, — известное понятие в истории эстетики. В XIX веке английский писатель Де Квинси написал свое знаменитое эссе «Убийство как одно из изящных искусств», в котором разработаны теоретические предпосылки этого нового вида искусства. Убийство здесь рассматривается как художественное произведение. Этические соображения уступают место чисто эстетическим критериям. В духе «эстетики безобразного» Де Квинси рассматривает такие отталкивающие явления, как, например, язву желудка или моральную извращенность, как эстетические объекты:
Истина, однако, заключается в том, что, невзирая на свою предосудительность per se[6] — в сравнении с другими представителями своего класса, и вор и язва вполне могут обладать бесчисленными градациями достоинств. Сами по себе и вор и язва являются изъянами, это справедливо; но поскольку сущность их состоит в совершенстве, то именно непомерное совершенство и превращает их в нечто совершенное.{104}
Основоположником этого нового жанра — «убийства как искусства», согласно Де Квинси, является Каин:
Как изобретатель убийства и основоположник данного вида искусства, Каин был, по-видимому, выдающимся гением.{105}
Согласно Де Квинси, убийца — это художник, а убийство — его художественное произведение. Герман в самом начале романа повторяет аналогичную мысль.
Тут я сравнил бы нарушителя того закона, который запрещает проливать красненькое, с поэтом, с артистом…
(III, 397)
Интерпретация убийства как искусства неоднократно повторяется в «Отчаянии»:
Поговорим о преступлениях, об искусстве преступления…
(III, 470)
Если правильно задумано и выполнено дело, сила искусства такова, что, явись преступник на другой день с повинной, ему бы никто не поверил, — настолько вымысел искусства правдивее жизненной правды.
(III, 471)
Герман — «непонятый поэт» (III, 505), «гениальный новичок» (III, 506) в этом жанре, задумавший сотворить совершенное в эстетическом смысле убийство. Де Квинси тоже пишет о сложностях, связанных с непогрешимым исполнением такого произведения искусства, как совершенное убийство:
…ни один художник не может быть уверен, что ему удастся вполне осуществить свой предварительный замысел. Возникают различные препятствия: жертвы не выказывают должного хладнокровия, когда к их горлу подступают с ножом: они пытаются бежать, брыкаются, начинают кусаться; и если художники-портретисты нередко жалуются на скованность своих моделей, то представители нашего жанра сталкиваются, как правило, с излишней живостью повадки.{106}
Это перекликается с аналогичным образом в «Отчаянии»:
…смерть — это покой лица, художественное его совершенство; жизнь только портила мне двойника: так ветер туманит счастье Нарцисса, так входит ученик в отсутствие художника и непрошенной игрой лишних красок искажает мастером написанный портрет.
(III, 405)
Можно сказать, что Герман решил преодолеть обе сложности, о которых говорит Де Квинси. Изысканной идеей сотрудничества между жертвой и убийцей он сводит на нет «различные препятствия». Умертвив свою жертву, т. е. устранив таким образом «излишнюю живость», Герман-художник придает своей модели абсолютную неподвижность, необходимую для успешного завершения художественного произведения, книги. Следующие слова, которые Г. Адамович написал о Набокове, как нельзя лучше характеризуют самого Германа:
Люди, о которых рассказывает Набоков, очерчены в высшей степени метко, но — как у Гоголя — им чего-то недостает, чего-то неуловимого и важнейшего: последнего дуновения, или, может быть, проще — души. Оттого, вероятно, снимок так и отчетлив, что он сделан с мертвой, неподвижной натуры, с безупречно разрисованных и остроумнейшим образом расставленных кукол, с какой-то идеальной магазинной витрины, но не с живого мира, где нет ни этого механического блеска, ни этой непрерывной игры завязок и развязок.{107}
Последовательно применяя принцип «убийства как искусства», Герман пишет свое произведение с мертвой модели, и, следовательно, мир, который он таким образом создает, — это мертвый, зеркальный, косный космос повести. В этом смысле «Отчаяние» является полной реализацией сравнения «убийство как искусство», причем это сравнение Де Квинси переводится Набоковым в метафору. Вместо сравнительной частицы «как» Набоков ставит между убийством и искусством знак равенства и, в свою очередь, делает убийцу Германа настоящим писателем, художником.
В своем сочинении Де Квинси уделяет особое внимание известному убийце Уильямсу, которого он относит «к высшей элите художников, обладавших самой аристократической требовательностью к себе»{108}. Ради одной детали, которая как нельзя лучше совпадает с обстоятельствами убийства в «Отчаянии», приведу полностью комментарий Де Квинси по поводу двух убийств, совершенных Уильямсом и ошеломивших в декабре 1811 года всю Англию:
Относительно убийств, принадлежащих Уильямсу, — наиболее величественных и последовательных в своем совершенстве из когда-либо имевших место, — то я не в праве касаться их походя. Для всестороннего освещения их достоинств потребуется целая лекция — или даже курс лекций. Однако один любопытный факт, связанный с этой историей, я все же приведу, он доказывает, что блеск гения Уильямса совершенно ослепил взор криминальной полиции. Все вы, не сомневаюсь, помните, что орудиями, с помощью которых Уильямс создал свое первое великое произведение (убийство Марров), были нож и молоток корабельного плотника. Так вот, молоток принадлежал старику шведу, некоему Джону Петерсону, и на ручке были нанесены его инициалы. Этот инструмент, оставленный Уильямсом в доме Марров, попал в руки следователей. Но не секрет, джентльмены, что печатное уведомление об этих инициалах привело к немедленному разоблачению Уильямса: опубликованное раньше, оно предотвратило бы второе выдающееся его деяние (убийство Уильямсонов), совершенное двенадцать дней спустя. Тем не менее следователи скрывали эту улику от публики на протяжении долгих двенадцати дней — вплоть до осуществления второго замысла. Когда же таковой наконец воплотился, сообщение о находке передали в печать — очевидно, сознавая, что художник уже обеспечил себе бессмертную славу и блистательная его репутация не способна пострадать от какой-либо случайности.{109}
В случае Уильямса — молоток с инициалами, в случае Германа — палка с выжженным именем жертвы явились уликой против преступника. В том и другом случае полиция не сразу сообщила об этой улике, предоставив убийце возможность совершить второе преступление. Вторым преступлением Уильямса стало убийство Уильямсонов. Вторым «преступлением» Германа стало его произведение, повесть. И Уильямс, и Герман совершили второе «произведение-преступление» в доказательство гениальности первого. Брезгливого художника Уильямса раздражало, что пресса начала приписывать ему всякое провинциальное дело:
Между тем одинокий художник, вкушая покой в самом сердце Лондона и укрепляя свой дух сознанием собственного величия, подобно доморощенному Аттиле — «бичу Божиему» … безмолвно готовил веский ответ периодическим изданиям — и на двенадцатый день после дебюта возвестил о своем присутствии в Лондоне публикацией, которая довела до всеобщего сведения абсурдность мнений, приписывавших ему пасторальные наклонности: он вторично потряс общественность, истребив без остатка еще одно семейство.{110}
Герман совершил свое второе «преступление», т. е. написал повесть, тоже в доказательство своей гениальности, в защиту «идеального убийства», в котором публика не приметила ничего оригинального. Уильямс убил Уильямсонов. Звуковое, почти омонимическое сходство в именах убийцы и жертвы перекликается с двойничеством Германа и Феликса. Но не станем заниматься перечислением сходных черт, потому что, говоря словами «Отчаяния», «не все японцы между собою схожи и сходство видит только профан» (41), а, по словам Де Квинси,
Этот вульгарный goût de comparaison[7] приведет нас к гибели. У каждого произведения свои особенности, всякий раз неповторимые.{111}
Глава третья
ГНОСТИЧЕСКАЯ ИСПОВЕДЬ В РОМАНЕ («ПРИГЛАШЕНИЕ НА КАЗНЬ»)
1. Метафизика
…[Бог] пытке невинных посмеивается.
Иов 9: 23
Перейдем к рассмотрению другого произведения Набокова, роману «Приглашение на казнь», который тоже принадлежит к типу «текста-матрешки». Этот роман содержит произведение героя («исповедь» Цинцинната), составляющее одну десятую часть текста. По словам Набокова, первый черновик романа был написан «за две недели восхитительного возбуждения и сдерживаемого вдохновения»{112} в 1935 году. Роман печатался в 1935–1936 годах в «Современных записках» (№ 58–60), а в 1938 году вышел отдельной книгой в Париже. Более двадцати лет спустя на вопрос критика: «К какому из ваших романов вы питаете наибольшую привязанность, какой ставите выше других?» — Набоков ответил: «Наибольшую привязанность — к „Лолите“, выше всех ставлю — „Приглашение на казнь“».{113}
Роман сразу обратил на себя внимание русской эмигрантской критики, которая сочла его одним из наиболее удачных произведений молодой эмигрантской литературы. О романе писали В. Ходасевич, П. Бицилли, С. Осоргин, В. Варшавский и др. Подробное рассмотрение этих критических отзывов заслуживает отдельной работы. В виде вступления к настоящей главе я ограничусь лишь кратким перечислением основных идей трех критиков.
С литературоведческой точки зрения наиболее ценные открытия содержатся в статьях П. Бицилли. В статье «Возрождение аллегории»{114} Бицилли провел ряд интересных параллелей между Набоковым и русскими писателями XIX века: Гоголем, Достоевским, Салтыковым-Щедриным. Отвечая на шаблонные выступления русской эмигрантской критики, которая неоднократно отмечала «нерусскую черту» в творчестве Набокова,{115} Бицилли указал на «родимые пятнышки»,{116} которые свидетельствуют о связи «Отчаяния» и «Приглашения на казнь» с традицией русской литературы XIX века.
Бицилли говорит об аллегоризме романа. Бердяев назвал свою эпоху «новым средневековьем». Бицилли пишет, что «при чтении Сирина то и дело вспоминаются образы, излюбленные художниками исходящего средневековья».{117} В рецензии на «Приглашение на казнь» Бицилли в аллегорическом смысле толкует и роль центральных героев романа:
Цинциннат и м-сье Пьер — два аспекта «человека вообще», everyman'a английской средневековой «площадной драмы», мистерии. «М-сье-пьеровское» начало есть в каждом человеке, покуда он живет, т. е. покуда пребывает в том состоянии дурной дремоты, смерти, которое мы считаем жизнью. Умереть для «Цинцинната» и значит — вытравить из себя «м-сье Пьера»…{118}
Возражения вызывает лишь предложенное критиком истолкование конца романа. Его причудливый финал вообще является источником разногласий. Бицилли предлагает следующее объяснение:
Единственное, что суждено Цинциннату после «казни», это — идти туда, где его ждут «лица, подобные ему». Это — то «бессмертие», которого страшился герой «Отчаяния», не имеющее конца продолжение того же самого, что было здесь в этой «жизни»…{119}
Я считаю, что Цинциннат отнюдь не разделяет посмертную участь Германа. В этой главе я попытаюсь показать, чем отличается «ад» Германа от «бессмертия» Цинцинната.
В рецензии 1939 года Бицилли рассмотрел ряд формальных элементов романа «Приглашение на казнь», в частности — аллитерации, ассонансы, синэстетизм, метафору, каламбуры и функции этих приемов в семантическом плане. В формальном отношении, пишет Бицилли, «Сирин идет так далеко, как, кажется, никто до него, — поскольку подобные дерзания у него встречаются в контекстах, где они поражают своей неожиданностью: не в лирике, а в повествовательной прозе».{120}
Отметив тождество содержания и формы в творчестве Набокова, Бицилли усматривает в пресловутых «нетках» формулу романа:
Сирин показывает привычную реальность как «целую коллекцию разных неток», т. е. абсолютно нелепых предметов: «всякие такие бесформенные, пестрые, в дырках, в пятнах, рябые, шишковатые штуки…» — и сущность творчества в таком случае сводится к поискам того «непонятного и уродливого зеркала», отражаясь в котором «непонятный и уродливый предмет» превращался бы в «чудный стройный образ».{121}
В 1937 году была напечатана статья Владислава Ходасевича «О Сирине», в которой Набоков провозглашался «по преимуществу художником формы, писательского приема». По поводу «Приглашения на казнь» Ходасевич писал:
Есть у Сирина повесть, всецельно построенная на игре самочинных приемов. «Приглашение на казнь» есть не что иное, как цепь арабесок, узоров, образов, подчиненных не идейному, а лишь стилистическому единству (что, впрочем, и составляет одну из «идей» произведения.) В «Приглашении на казнь» нет реальной жизни, как нет и реальных персонажей, за исключением Цинцинната. Все прочее — только игра декоративных эльфов, игра приемов и образов, заполняющих творческое сознание или, лучше сказать, творческий бред Цинцинната.{122}
Если следовать Ходасевичу, который рассматривает роман как игру «самовитых приемов» и их обнажение в тексте, то вопрос о казни Цинцинната избыточен. Ходасевич последовательно доводит эту мысль до конца, утверждая, что «Цинциннат не казнен и не не казнен». Финал, в котором Цинциннат попадает туда, «где, судя по голосам, стояли существа, подобные ему», Ходасевич толкует следующим образом:
Тут, конечно, представлено возвращение художника из творчества в действительность. Если угодно, в эту минуту казнь совершается, но не та и не в том смысле, как ее ждал герой и читатель: с возвращением в мир «существ, подобных ему» пресекается бытие Цинцинната-художника.{123}
Материал, из которого строится произведение, и материал, из которого состоит «действительность», настолько разнородны и несоизмеримы, что мир творчества и действительность выступают по отношению друг к другу как непреодолимая антиномия. Согласно Ходасевичу, «переход из одного мира в другой, в каком бы направлении он ни совершался, подобен смерти».{124}
Таким образом, по мнению Ходасевича, роман «Приглашение на казнь», как и другие произведения Набокова, посвящен теме «соотношения миров», и смерть Цинцинната, Пильграма или Лужина следует понимать как определенный транзитный пункт на рубеже этих миров. Хотя с таким толкованием согласиться легче, чем с заключением Бицилли, оно все-таки не исчерпывает содержание романа, что я и постараюсь показать в этой главе.
Третий критик, заслуживающий внимания, — В. Варшавский. Прозу Набокова он считает «единственной блистательной и удивительной удачей молодой эмигрантской литературы».{125} По поводу «Приглашения на казнь» Варшавский пишет, что всякое художественное произведение «остается несоизмеримым со всеми интеллектуальными схемами, даже теми, которые мог бы предложить сам автор».{126} Не принимая выводов Ходасевича, Варшавский предлагает многоаспектную интерпретацию романа.
Критик выделяет в «Приглашении на казнь» оппозицию социального и индивидуального. «Социализированной жизни» коллектива, основанной на принципе добровольного подчинения и сотрудничества, руководствующейся регламентированными обрядами и табу, противостоит индивидуальное начало свободной воли, творчества и неподчинения тоталитарному коллективу. Варшавский считает «Приглашение на казнь» утопическим романом, предупреждающим о том, что «победа любой формы тоталитаризма будет означать „приглашение на казнь“ для всего свободного и творческого, что есть в человеке».{127}
В художественном плане оппозиция индивидуального и социального находит свое выражение в противостоянии истинного творчества условному, псевдореалистическому жанру литературы. Согласно Варшавскому, роман можно прочитать как пародию на социалистический реализм казенной советской беллетристики.
Набоков, будто желая показать, как легко достигается эта видимость действительности, фабрикует ее у нас на глазах и сейчас же разоблачает как подлог.{128}
В противоположность Ходасевичу, который считает, что суть творчества Цинцинната заключается «в создании окружающего его бреда», Варшавский усматривает творческую заслугу Цинцинната как раз в «прозрении проступающей сквозь этот бред истинной действительности мира и своего личного неуничтожимого существования».{129}
Варшавский определяет предмет романа как метафизический и, вспоминая пушкинское сожаление о том, что «метафизического языка у нас вовсе не существует», в свою очередь сожалеет, «что Набоков занимается беллетристикой, а не метафизикой».
Религиозный смысл романа охарактеризован Варшавским в самых общих чертах:
…сколько бы Набоков ни твердил о своем безбожии, цинциннатовское утверждение рождается из вечного устремления души к мистическому соединению с чаемым абсолютным бытием и, тем самым, с божественной любовью.{130}
Интересно и, по-моему, не случайно, что на этот мистически-религиозный момент в творчестве Набокова указывали и оба предыдущих критика. Ходасевич писал о «божественной природе» творчества Сирина, которое называл «поэтическим уродством-юродством»:
В художественном творчестве есть момент ремесла, хладного и обдуманного делания. Но природа творчества экстатична. По природе искусство религиозно, ибо оно, не будучи молитвой, подобно молитве и есть выраженное отношение к миру и Богу.{131}
Бицилли в конце своей рецензии на роман отмечал два момента в творчестве Набокова. Первый из них — «удивление, смешанное с ужасом перед тем, что обычно воспринимается как нечто само собою разумевшееся», второй — «смутное видение чего-то, лежащего за всем этим, „сущего“. В этом — сиринская Правда».{132}
В настоящей главе я бы хотел обратить внимание на эту трудно уловимую метафизическую сторону «поэтического уродства-юродства» Набокова, на это «сущее», лежащее «за», к которому стремятся автор и его герой. Я постараюсь показать, в чем заключается суть сиринской метафизики, а также суть преступления и прозрения его героя Цинцинната. Я предлагаю рассмотреть определенный теологический миф, который лежит в основе романа и может послужить ключом к открытию его метафизического смысла. Я также постараюсь раскрыть механизм и цель перекодировки этого теологического мифа в художественную систему Набокова.
Герой «Приглашения на казнь» обвинен в страшнейшем из преступлений и приговорен за него к смертной казни. Его мистическое преступление однажды в повествовании определено как «гносеологическая гнусность». В английской версии романа «гносеологическая гнусность» переводится автором как «gnostical turpitude». Может быть, именно этому обстоятельству обязан своим появлением эпитет «гностический», применяемый иногда критиками к романам Набокова.{133} Джулиан Мойнаган прямо называет «гносеологическое» преступление Цинцинната «гностическим».{134}
Гностицизм — эклектическое религиозное направление, возникшее в эпоху позднего эллинизма и раннего христианства на территориях распавшейся империи Александра Македонского. Отдельные гностические секты просуществовали до середины средних веков. Это учение совмещало элементы эллинистической философии, восточных религий, иудаизма и христианства, хотя гностицизм относился враждебно к Ветхому Завету, а некоторые его секты были враждебны и христианству.
Гностицизм отрицает воскресение плоти и ставит под сомнение божественность плоти Христа. Еретические взгляды гностиков подвергались нападкам со стороны христианских отцов церкви, благодаря чему ряд ценных фрагментов гностической мысли дошел до нас в составе патристической литературы.
В основе гностического учения, как явствует из самого названия, лежит мистическое познание — «гнозис»:
Гнозис, как особая форма рационального типа познания per se[8] ведет к исцелению и спасению. Гностик может прийти к такому познанию через акт божественного откровения, чаще всего данного при посредничестве Спасителя или Посланника. Гнозис — это познание благого внекосмического верховного божества, его эманаций (эонов), и области личного, божественного по своей природе человеческого духа, который был пленен сонмом демонов во главе с их создателем. Силы, сотворившие этот мир, повергают гностика в состояние оцепенения и забвения своей природы, но призыв из области Света выводит его из этого состояния и дает ему возможность осознать свое истинное положение в этом мире, вспомнить свое происхождение и вступить на путь восхождения в область Света.{135}
Гностические мифы дуалистичны, что отражают выстроенные в их рамках модели макрокосма и микрокосма. Модель макрокосма предполагает наличие двух принципов: божественного (светлого, пневматического) и демиургического (темного, гилического). Согласно гностическим преданиям, космос, включая человека, был создан не всевышним Богом, а демиургом (демиургами). Бог-дух, существующий как эманация светлых лучей, или как пневма, не имеет касательства к материальному миру.{136} В гностической литературе его именуют «Светлым Лучом», «Безвестным Отцом», «Неизреченным», «Непознаваемым Богом», «Первоначалом», «Первоотцом». Материальный космос, называемый «Тибил», «Heimarmene» или «Дом смерти»,{137} и плотский человек были созданы «выкидышем тьмы» — демиургом.
…Демиург, созидавший мир по идеям высшей области Божества, хотел внести в реальное бытие подобие неизъяснимой Вечности и Беспредельности, но создал лишь несовершенное время и пространство, в которое заключено существование.{138}
Космос был создан демиургом с целью заточить и сокрыть в лже-субстанции времени и пространства «божественный луч, пневму». По своей замысловатой архитектуре это мироздание, состоящее из семи замкнутых макрокосмических и семи микрокосмических сфер, напоминает тюрьму. В макрокосмическом плане семь сфер соответствуют числу планет. Врата космических сфер стерегут семь планетных демонов, заимствованных из вавилонского пантеона, в звериных масках египетских богов.{139} В гностических мифах их называют «архонтами», т. е. «ангелами земли».{140}
Модель микрокосмоса аналогична макрокосмической модели: душа человека заточена в семь плотских оболочек, соответствующих семи вожделениям.{141} Архонты опутали душу человека изысканной сетью прельстительных обманов и привили ей страх перед смертью. Заточенная и обманутая душа пребывает в этом «мертвом доме» в бессознательном состоянии одурманенной, спящей монады. Душа (искра, пневма) принадлежит Богу, но архонты препятствуют ее соединению с ним, посмертному возвращению души к Богу.
Гностическое учение элитарно. Не всем людям дана эта божественная искра, пневма. Лишь для немногих избранных существ, в которых она пребывает, предусматривается спасение. Все остальные, бессознательно погруженные в порочную материю «гилические существа», обречены на гибель.{142} Задачей гностика является раскрыть в себе светлое пневматическое начало, «внутреннего человека», высвободить его из плотской и космической тюрьмы и возвратить в «царство вечной жизни».{143}
Но поскольку бытие Божие сокрыто и в пределах предметного мира непознаваемо, весть о нем приходит извне через провозвестника, приносящего откровение. В этом откровении и заключается спасительное познание — «гнозис», познание истинного Бога и верного пути к нему. В гностическом откровении избраннику дается инструкция для спасения с указанием ритуалов, которые делают «внутреннего человека» неуязвимым в окружении мировой скверны.{144} Гностику дается также набор магических формул и паролей, обезвреживающих власть архонтов и прокладывающих освободительный путь для посмертного восхождения души сквозь охраняемые врата космических сфер.{145}
В посмертном возвращении всех лучей — пневмы — к первоисточнику эсхатологическое учение гностиков усматривает апокалипсический конец космического и земного бытия.{146} При реинтеграции всей духовной сущности материальный мир утрачивает свой первоначальный смысл тюрьмы, а с ним и оправдание для дальнейшего существования. Материальный космос и плоть человека окончательно уничтожаются.
Рассмотрим, каким же образом роман Набокова и его герой укладываются в схему гностического мифа. Итак, в четвертой главе читатель узнает, что «страшнейшее из преступлений», в котором Цинциннат обвинен, — «гносеологическая гнусность» (IV, 87). За это преступление, которое я предлагаю толковать как гностическое, Цинциннат заточен в каменную крепость. «Дорога обвивалась вокруг ее скалистого подножия и уходила под ворота: змея в расселину» (IV, 47). «Змея» — центральный гностический символ. В гностических мифах она является царем тьмы и зла:
Я порождение змеиной природы и сын искусителя. Я сын того … кто восседает на престоле и имеет власть над поднебесным творением <…> кто обвивает сферу … чей хвост покоится в его пасти.
(Пистис София){147}
В гностическом гимне о скитаниях души — «Гимне перла» — перл, символ души, стережет змея.{148}
Тюремная крепость сама заключена в космическую тюрьму, снабженную подставной бутафорской луной (луна — гностический символ одного из семи архонтов), которую невидимый манипулятор то снимает, то прикрепляет к кулисе ночи. Временем в крепости заведует «часовой», стирающий и рисующий заново часовые стрелки на тюремной стене и отбивающий произвольные часы. В коридорах крепости расставлены сторожа в собачьих масках: «стражник в песьей маске с марлевой пастью» (IV, 49), «солдат с мордой борзой» (IV, 179), напоминающие не только опричников, но также звериные маски архонтов, стражников планетных сфер (одному из них, в частности, принадлежит маска пса{149}).
К камере Цинцинната приставлен ключник Родион. Тюрьмой заведует директор и тюремный врач Родриг Иванович сообща с адвокатом Романом Виссарионычем. Но всем «домом смерти» на самом деле руководит палач м-сье Пьер Петрович. Интересно, что в фонетическом плане все тюремные силы, тюремщики Цинцинната отмечены сонорным «р».{150}
Крепость, в которую заключен Цинциннат, построена наподобие гностического лабиринта.{151} Всякий тюремный коридор приводит Цинцинната обратно в камеру.
На стене камеры висит пергаментный лист. В две колонки на нем расположены подробные правила для заключенных (IV, 49), напоминающие Заповеди Моисея. Враждебное отношение гностиков к законам Ветхого Завета достаточно известно. «Ошибкой попал я сюда…» (IV, 99), — говорит Цинциннат, заброшенный в этот «мнимый мир мнимых вещей» (IV, 85), который гностик Марцион назвал «cellula creatoris».[9]{153}
Тюремная решетка накладывает свою клетчатую печать на все предметы, окружающие Цинцинната. Дочка директора тюрьмы Эммочка ходит в «клетчатом платье и клетчатых носках» (IV, 67), чистый лист бумаги и стол, на котором пишет Цинциннат, вовлечены тоже в эту игру решеточной мимикрии.
Описание плоти моющегося в лохани Цинцинната выдержано в том же духе:
Был он очень худ, — и сейчас, при закатном свете, подчеркивавшем тени ребер, самое строение его грудной клетки казалось успехом мимикрии, ибо оно выражало решетчатую сущность его среды, его темницы.
(IV, 82)
В гностических текстах «тюрьма» является не только символом заключенности человека в материальном мире, но и символом человеческой плоти, в которой томится душа-узница{154}.
Тюрьма сулит человеку смерть.
Гностический дуализм души и плоти, света и тьмы, божественного и демиургического реализуется в «Приглашении на казнь» в аналогичных оппозициях. Рассмотрим первую из них. Плотский Цинциннат страдает от ревности, тоскует по Тамариным Садам, дорожит своей жизнью и боится смерти. Но «главная его часть находилась совсем в другом месте», пишет Набоков, «а тут, недоумевая, блуждала лишь незначительная доля его» (IV, 118). В этом плотском, покорном узнике живет еще другой «добавочный Цинциннат» (IV, 50), «призрак Цинцинната» (IV, 50, 56, 59), мятежный духовный двойник, представляющий «внутреннего человека». Этот «второй Цинциннат» противодействует «первому Цинциннату»:
…Цинциннат не сгреб пестрых газет в ком, не швырнул, — как сделал его призрак — сопровождающий каждого из нас — и тебя, и меня, и вот его…
(IV, 56)
Или:
— Я покоряюсь вам, — призраки, оборотни, пародии. Я покоряюсь вам… и другой Цинциннат истерически затопал…
(IV, 66)
Можно привести целый ряд примеров такого «голядкинского» двойничества. Ограничимся лишь последним случаем раздвоения в самом конце романа, когда Цинциннат, положив голову на плаху, ожидает удара топора:
…Один Цинциннат считал, а другой Цинциннат уже перестал слушать удаляющийся звон ненужного счета — и подумал: «Зачем я тут? Отчего так лежу?» — и, задав себе этот простой вопрос, он отвечал тем, что привстал и осмотрелся.
(IV, 186)
В теме двойничества и соперничества двух Цинциннатов реализуется дуализм души и плоти. Духовный «Цинциннат Второй» берет наконец верх над «Цинциннатом Первым». Плотский Цинциннат как бы растворяется в своей духовной сущности. Интересно отметить, что при попытке автора описать плотскую сторону Цинцинната возникает момент неуловимости, непостижимости объекта реалистическими средствами объективного описания. Причина — в плотской неполноценности Цинцинната, находящей свое выражение в переплетении мотивов прозрачности, света и воздуха:
Прозрачно побелевшее лицо Цинцинната, с пушком на впалых щеках и усами такой нежности волосяной субстанции, что это, казалось, растрепавшийся над губой солнечный свет … Открытая сорочка, распахивающийся черный халатик, слишком большие туфли на тонких ногах, философская ермолка на макушке и легкое шевеление… прозрачных волос на висках — дополняли этот образ, всю непристойность которого трудно словами выразить, — она складывалась из тысячи едва приметных, пересекающихся мелочей, из светлых очертаний как бы не совсем дорисованных, но мастером из мастеров тронутых губ, из порхающего движения пустых, еще не подтушеванных рук, из разбегающихся и сходящихся вновь лучей в дышащих глазах… но и это все, разобранное и рассмотренное, еще не могло истолковать Цинцинната: это было так, словно одной стороной своего существа он неуловимо переходил в другую плоскость…
(IV, 118–119)
Как уже говорилось, гностики разделяют людей на «пневматических» и «гилических». Цинциннат весь пронизан светлой воздушной субстанцией. О его пневматической сущности свидетельствует и центральный эпизод его детства: ему захотелось «выскользнуть из бессмысленной жизни»; из окна третьего этажа он «прямо с подоконника сошел на пухлый воздух и медленно двинулся вперед» (IV, 103). Вероятно, последовавшее затем падение ребенка можно рассматривать как параллель гностическому мифу о падении, с которого начинается божественная драма:
Душа (дух), часть Первой Жизни (или Света), была низвержена в мир (в тело). В большинстве гностических систем возникновению мира и человеческого существования предшествует падение частицы божественного начала. … [Это и] есть гностический эквивалент первородного греха.
Душа, однажды обратившись в материю, полюбила ее и стала жаждать удовольствий плоти. Душа не пожелала больше расстаться с материей. Таким образом возник мир. С тех пор душа забыла самое себя, свою родную обитель, своего истинного творца, свою вечную природу.{156}
Падение ребенка, не подозревающего о существовании законов земного притяжения, можно интерпретировать как падение пневматического начала в материальный и плотский мир. Напомним, что Цинциннат двинулся из окна, увидев «старейшего из воспитателей … толстого, потного, с мохнатой черной грудью» (IV, 103), протянувшего к мальчику «мохнатую руку, в зловещем изумлении» (IV, 104).
Контраст «пневматического» и «гилического» (свободного и тюремного) создает центральную оппозицию романа. Сонорное «р» в именах тюремщиков, «а его тюремщиками были все», включая Марфиньку и ее любовников, является звуковым индексом этой гилической субстанции. Только в именах Цинцинната Ц., его матери Цецилии Ц. и в именах детей (Полина, Диомедон и Эммочка) это «р» отсутствует. Здесь следует упомянуть о фонетической символике гностиков, в которой гласным звукам приписываются мистические божественные качества, в то время как согласные символизируют порочную материю и воспринимаются как порча в гармонии звуков.{157} Палач, румяный толстячок м-сье Pierre Петрович, воплощает квинтэссенцию физического и физиологического существования.
Остановимся на этой фигуре «поразительного мускульного развития», с бирюзовой татуировкой женщины на бицепсе (IV, 184) и татуировкой зеленых листиков вокруг левого соска, чтобы сосок казался бутоном розы (IV, 145). Когда м-сье Пьер занимается акробатикой, его голова наливается «красивой розовой кровью», а глаза наливаются как у «спрута» (IV, 115). Он поднимает в зубах стул и оставляет в спинке мертвой хваткой «впившуюся в нее вставную челюсть» (IV, 116). В любовных делах м-сье Пьер тоже считает себя борцом. Обладая «такой пружиной, что — ух!» (V, 134), он любит окружить себя зеркалами и смотреть «как там кипит работа» (IV, 135). Его просветительный доклад о наслаждениях, который он читает Цинциннату, — это набор эротических, гастрономических и поэтических пошлостей, включая даже «блаженство отправления естественных надобностей» (IV, 140). В конце одного такого физиологического экскурса м-сье Пьера Цинциннат спрашивает:
— Почему от вас так пахнет?
<…>
— Это у нас в семье, — пояснил он с достоинством, — ноги немножко потеют. Пробовал квасцами, но ничто не берет. Должен сказать, что, хотя страдаю этим с детства и хотя ко всему страданию принято относиться с уважением, еще никто никогда так бестактно…
— Я дышать не могу, — сказал Цинциннат.
(IV, 136)
В гностических текстах эпитеты зловония относятся почти без исключения к порочной плоти («зловонное тело») {158}, в то время как душе приписываются благоухающие атрибуты:
В образе задыхающегося от плотского зловония Цинцинната полностью реализуется антагонизм духа (pneuma) и материи (hyle).
Гностическое знание обязывает гностика избегать дальнейшего загрязнения в окружающем его мире и свести контакт с ним до минимума.{160} Цинциннат избегает физического прикосновения к своему палачу («Не тронь!.. Не троясь!» (98), «Сам, сам…» (162, 216) и даже пытается отделить от себя свою собственную плотскую часть. Для этой цели гностик проделывает ряд ритуальных упражнений, так называемых «разоблачений», в которых душа снимает с себя оболочку за оболочкой. Эти упражнения подготавливают путь для посмертного восхождения души:
Вооруженная … гнозисом, душа после смерти совершает восхождение, у каждой сферы оставляя часть своего … «облачения» … Таким образом, дух, избавившись от чуждого ему скарба, достигает бога за пределами этого мира и воссоединяется с божественной субстанцией.{161}
В гностических текстах «одеяние» метафорически обозначает плоть, в которой, как в смирительной рубашке, находится душа гностика.
Горе, горе! Я страдаю в одеянии — теле, в которое меня повергли. Как часто я должен снимать его, как часто я должен надевать его, вновь и вновь вступать в борьбу…
(Гинза, 461){162}
Вот еще один пример из «Гимна перла»:
И их безобразное грязное платье я снял и оставил в их стране.{163}
Цинциннат тоже проделывает ритуал «разоблачения», в котором он постепенно переходит от метафорического «разоблачения» к конкретному «развоплощению», что можно счесть полной реализацией гностической метафоры. В последовательной конкретизации «разоблачения» раскрывается подлинный смысл этой метафоры, в которой «одеяние» обозначает «плоть»:
«Какое недоразумение!» — сказал Цинциннат и вдруг рассмеялся. Он встал, снял халат, ермолку, туфли. Снял полотняные штаны и рубашку. Снял, как парик, голову, снял ключицы, как ремни, снял грудную клетку, как кольчугу. Снял бедра, снял ноги, снял и бросил руки, как рукавицы, в угол. То, что оставалось от него, постепенно рассеялось, едва окрасив воздух. Цинциннат сперва просто наслаждался прохладой; затем, окунувшись совсем в свою тайную среду, он в ней вольно и весело —
Грянул железный гром засова, и Цинциннат мгновенно оброс всем тем, что сбросил, вплоть до ермолки.
(IV, 61–62)
Поведение Цинцинната напоминает поведение героя гностического мифа, который пытается обмануть сторожей архонтов и утаить свою гностическую сущность:
Я скрылся от Семерых, я совершил насилие над собой и принял телесную форму.
(Гинза, 112){164}
Другой пример «разоблачения»:
На меня этой ночью, — и случается так не впервые, — нашло особенное: я снимаю с себя оболочку за оболочкой, и наконец… не знаю, как описать, — но вот что знаю: я дохожу путем постепенного разоблачения до последней, неделимой, твердой, сияющей точки, и эта точка говорит: я есмь! — как перстень с перлом в кровавом жиру акулы, — о мое верное, мое вечное… и мне довольно этой точки, — собственно, больше ничего не надо.
(IV, 98)
В гностической символике, как я уже писал, «перл» символизирует «душу». Обыкновенно «перл» потерян и его надо найти:
Перл чаще всего находится посреди моря на песчаном дне:
В манихейском мифе дождевая капля падает с неба в море. Попав в раковину устрицы, она превращается в перл. Водолазы ныряют на дно моря и выносят перл на поверхность.{169} По-моему, в этом контексте можно прочесть и следующее место в «Приглашении на казнь»:
И все это — не так, не совсем так, и я путаюсь, топчусь, завираюсь, — и чем больше двигаюсь и шарю в воде, где ищу на песчаном дне мелькнувший блеск, тем мутнее вода, тем меньше вероятность, что найду, схвачу.
(IV, 102)
«Мелькнувший блеск» здесь, может быть, относится к перлу — символу души.
В большинстве гностических мифов оппозиция души и материи (плоти) реализуется в контрасте света и тьмы. Всевышний Бог — это лучезарное существо, пребывающее в царстве света. Царству вечного света противостоит власть тьмы:
…полон зла … полон лжи и обмана … мир беспросветной тьмы … мир смерти без вечной жизни, мир, в котором добрые дела погибают и намерения обращаются в ничто.
(Гинза, 14){170}
Из царства света в земной мир проникает иногда божественный луч и поселяется в душе избранника:
Тех, чье духовное начало освещено лучом божественного света (а таких мало) — тех демоны избегают … все остальные одержимы, их души и тела уносят демоны, которые обожают свою работу.
(Герметический Корпус){171}
В гностических мифах земной мир предстает как гегемония тьмы над фрагментами света. «Какие звезды, — какая мысль и грусть наверху, — а внизу ничего не знают», — говорит Цинциннат (IV, 56). Свет в этом «темном доме» является чужим, нездешним элементом. Обратим внимание, каким образом в «Приглашении на казнь» используется контраст света и тьмы и какое значение приписывается членам этой оппозиции.
Для Цинцинната физическое существование представляется как затмение — затмение плотью («я еще не только жив, то есть собою обло ограничен и затмен» — IV, 98), в то время как его истинная жизнь начинается с просветлений («постепенно яснеет дымчатый воздух, — и такая разлита в нем лучащаяся, дрожащая доброта, так расправляется моя душа в родимой области» — IV, 101). Иногда в темноте камеры Цинцинната появляется странная, почти мистическая световая россыпь:
Камера наполнилась доверху маслом сумерек, содержавших необыкновенные пигменты.
(IV, 49)
…Цинциннат лежал навзничь и смотрел в темноту, где тихо рассыпались светлые точки, постепенно исчезая.
(IV, 53)
…в тесных видениях жизни разум выглядывал возможную стежку… играла перед глазами какая-то мечта… словно тысяча радужных иголок вокруг ослепительного солнечного блика на никелированном шаре…
(IV, 87)
Темноте крепости, освещаемой подставной луной, и темноте камеры, освещаемой электрической лампочкой, противостоит солнечный свет. Он обладает определенными мистическими свойствами, которые Цинциннат замечал еще ребенком. Сидя на подоконнике перед тем, как шагнуть на «пухлый воздух», ребенок видел «белые облака, пропускавшие скользящее солнце, которое вдруг проливало такой страстный, ищущий чего-то свет» (IV, 103). Этот «ищущий чего-то свет», возможно, и толкнул героя на бессознательный поступок пневматика, и этот день, отмеченный солнцем, можно считать началом гностического сознания Цинцинната. В экстатические моменты погружения в какую-то мистическую стихию кажется, что «вот-вот, в своем передвижении по ограниченному пространству кое-как выдуманной камеры, Цинциннат так ступит, что естественно и без усилия проскользнет за кулису воздуха, в какую-то воздушную световую щель» (IV, 119). Тесная сопряженность «воздуха» и «света» в «Приглашении на казнь» позволяет толковать эти мотивы в гностическом контексте «пневмы» и «света».
Рассмотрим еще одно своеобразное развитие оппозиции света и тьмы в романе. Гностическое преступление Цинцинната состоит в том, что он — единственный «непрозрачный» человек в мире «прозрачных» существ. «Чужих лучей не пропуская», Цинциннат производил на окружающих его наблюдателей «диковинное впечатление одинокого темного препятствия в этом мире прозрачных друг для дружки душ» (IV, 55). Категории «непрозрачности» и «прозрачности» как будто находятся в противоречии с очерченной здесь оппозицией «светлого» и «темного» начал. По логике, непрозрачность Цинцинната должна была бы относиться к семантическому полю «темного». Но для этого сдвига имеется свое объяснение. Цинциннат является «непроницаемым темным препятствием» только для посторонних, чуждых его гностическому существу обывателей незамысловатого прозрачного мира, в то время как для автора, разделяющего с героем его «гностическую гнусность», Цинциннат является прозрачным, о чем свидетельствует его принадлежность к «воздушно-солнечной» стихии (IV, 118–119).
Цинциннат отдает себе отчет в своей аномалии, в своей непохожести на окружающих его людей. Чтобы скрыть эту отмеченность, «он научился все-таки притворяться сквозистым, для чего прибегал к сложной системе как бы оптических обманов, но стоило на мгновение забыться, не совсем так внимательно следить за собой, за поворотами хитро освещенных плоскостей души, как сразу поднималась тревога» (IV, 55). Не слишком удачные попытки Цинцинната закамуфлировать свою истинную сущность напоминают аналогичные приемы героев гностических мифов:
Таким образом, «непроницаемость» Цинцинната — качество относительное, выступающее как различительный признак только по отношению к «прозрачным» душам. Члены оппозиции здесь обменялись признаками, но семантическая функция оппозиции осталась неизменной. Для своего гностического бога Цинциннат и дальше продолжает быть «светлым, пневматическим» существом.
Антиномиям «материи и души», «тьмы и света», «демиургического и божественного» соответствует оппозиция «тут» и «там»:
Тупое «тут», подпертое и запертое четою «твердо», темная тюрьма, в которую заключен неуемно воющий ужас, держит меня и теснит. Но какие просветы по ночам…
(IV, 101)
Тюремному «тут» противостоит божественное «там»:
…там на воле гуляют умученные тут чудаки; там время складывается по желанию… Там, там — оригинал тех садов, где мы тут бродили, скрывались; там все поражает своею чарующей очевидностью, простотой совершенного блага; там все потешает душу…
(IV, 101)
К рассмотрению этой оппозиции и к эволюции понятия «там» я еще вернусь.
Согласно известной валентинианской формуле, мистическое познание («гнозис») определяется так:
Ответы на эти вопросы ведут к спасительному познанию — «гнозису». В учениях гностиков бытие Божие сокрыто. Бог — «безвестный отец», в этом мире он — чужая, неизреченная и непознаваемая сущность, его бесприметная природа не выдает тайны о нем. Поэтому божественное откровение передается гностику через посланника, провозвестника, который приходит «извне».
Из Области Света на Землю, которой правят демонические силы, послано божественное существо, чтобы освободить Искры Света, родившиеся в мире Света, но павшие в довременную эпоху и изгнанные в человеческие тела. Этот посланник принимает человеческий образ и исполняет на Земле поручение своего отца…{174}
Будущий избранник настороженно прислушивается ко всем знакам, проникающим «извне». Он старается опознать в них божественную примету, оповещающую о приходе провозвестника-спасителя, к появлению которого гностик всю жизнь готовится. «…в тесных видениях жизни разум <Цинцинната> выглядывал возможную стежку…» (IV, 87).
Крепость, в которую Цинциннат заточен, усеяна множеством таких примет, приходящих «извне». Но большинство из них оказываются ложными — может быть, из-за того, что Цинциннат разумом, а не мистическим чутьем угадывал в них спасительные знаки. Поставив стул на стол, Цинциннат пытается дотянуться до тюремного окошка, чтоб выглянуть наружу. На стене он читает полустертую фразу, написанную каким-то предшественником: «Ничего не видать, я пробовал тоже» (IV, 59).
К числу примет безусловно принадлежит «небесный луч», появившийся в тюремном коридоре:
В одном месте … нежданно и необъяснимо падал сверху небесный луч и дымился, сиял, разбившись на щербатых плитах…
(IV, 67)
Этот луч служит сигналом появления Эммочки, дочки директора. На нее Цинциннат возлагает надежды, ожидая, что она, как сказочная фея, спасет его. В каталоге книг, принесенном ему в камеру, он обнаруживает серию картинок, нарисованных детской рукой, скорее всего — Эммочкой. На них последовательно изображен план побега (IV, 79–80).
К тайным знакам «извне», от которых Цинциннат ожидает спасения, можно отнести и приближающийся с каждым днем стук — герой думает, что это спаситель, пробивающий туннель в его камеру. Ср. похожий вариант спасения в тексте Гинзы:
Цинциннат с нетерпением ожидает этого момента и готовится к нему, но когда наконец «желтая стена на аршин от пола дала молниевидную трещину … и внезапно с грохотом разверзлась» (IV, 143), вместо ожидаемого спасителя оттуда вылезают директор тюрьмы с м-сье Пьером, чтоб пригласить Цинцинната на стакан чаю в соседнюю камеру. М-сье Пьер, который до сих пор выступал как соузник и союзник Цинцинната, попавший в тюрьму якобы за попытку освободить его, вместо чая угощает Цинцинната видом на «широкий, светлый топор» («чайку мы с вами попьем после») и раскрывает таким образом свою настоящую роль палача (IV, 147). Когда Цинциннат возвращается ползком в свою камеру, туннель вдруг выводит его на волю, где его ожидает Эммочка. Она берет Цинцинната за руку и ведет через ряд дверей прямо в столовую директора; там Родриг, его жена и м-сье Пьер сидят вокруг самовара и распивают чай. Говоря словами Набокова, автора «Ани в Стране чудес», «это был самый глупый чай», на котором кто-либо когда-либо присутствовал (I, 402). В гностических текстах для архонтов характерны обман и издевательство:
Истинный посланник Бога, провозвестник Утра предупреждает:
К числу таинственных знаков можно отнести также «несколько потрепанных томиков плотненького труда на непонятном языке, принесенных по ошибке» в камеру Цинцинната (IV, 120). Цинциннат не знает, на каком они языке. «Мелкий, густой, узористый набор, с какими-то точками и живчиками внутри серпчатых букв, был, пожалуй, восточный, — напоминал чем-то надписи на музейных кинжалах» (IV, 121–122). Небольшая доля исследовательского воображения позволяет отнести эти древние томики на восточном языке к гностическим книгам, писавшимся, как известно, на арамейском, коптском, иранском, турецком, персидском, греческом и даже китайском языках.
Более надежным посланником оказывается мать Цинцинната, Цецилия Ц. Горьким опытом наученный Цинциннат не сразу верит в ее подлинность, подозревая, что над ним опять издеваются и «угощают … ловкой пародией на мать» (IV, 126). Мать рассказывает Цинциннату, родившемуся «от безвестного прохожего» (IV, 55), предание о его отце. Цинциннат спрашивает:
— <…> Неужели он так-таки исчез в темноте ночи и вы никогда не узнали, ни кто он, ни откуда, — это странно…
— Только голос, — лица не видала, — ответила она все так же тихо.
(IV, 126)
От матери Цинциннат узнает и о своем сходстве с отцом: «„Ах, Цинциннат, он — тоже…“ — „Что — тоже?“ — „Он тоже, как вы, Цинциннат…“» (IV, 127). Безликое существование безвестного отца и его таинственное описание может быть соотнесено с гностическим концептом «непознаваемого неизреченного Бога», называемого: «чуждый Бог», «Другой», «Безвестный отец».{178} Эта весть о «безвестном отце», безусловно, содержит элемент гностического откровения, вследствие чего Цинциннат меняет свое отношение к матери:
Он вдруг заметил выражение глаз Цецилии Ц., — мгновенное, о, мгновенное, — но было так, словно проступило нечто, настоящее, несомненное в этом мире, где все было под сомнением, словно завернулся краешек этой ужасной жизни и сверкнула на миг подкладка. Во взгляде матери Цинциннат внезапно уловил ту последнюю, верную, все объясняющую и от всего охраняющую точку, которую он и в себе умел нащупать.
(IV, 129)
Гнозис — это познание непознаваемого Божества, и потому его содержание характеризует высокая степень неопределенности. Это познание складывается часто via negationis,[10] как аппроксимация непостижимого.
Откровение [Бога] дается при утрате разума и речи.{179}
Этот момент непостижимости сказывается в «Приглашении на казнь» в неоднократных попытках Цинцинната назвать, описать и передать безымянное, неописуемое, непередаваемое. Приведем несколько примеров таких topos ineffabilitatis,[11] накапливания «гнозиса», неопределенности его содержания. Многократно повторяемое в восьмой главе романа «я кое-что знаю» (IV, 99) относится к мистическому знанию:
Да, из области, другим заказанной и недоступной, да, я кое-что знаю, да…
(IV, 99)
Я кое-что знаю. Я кое-что знаю. Но оно так трудно выразимо! Нет, не могу… хочется бросить, — а вместе с тем — такое чувство, что, кипя, поднимаешься как молоко, что сойдешь с ума от щекотки, если хоть как-нибудь не выразишь.
(IV, 99)
Мне страшно, — и вот я теряю какую-то нить, которую только что так ощутимо держал. Где она? Выскользнула!
(IV, 99)
Но все это — не то… Стой! Вот опять чувствую, что сейчас выскажусь по-настоящему, затравлю слово.
(IV, 100)
…я, как кружка к фонтану, цепью прикован к этому столу, — и не встану, пока не выскажусь… Повторяю (ритмом повторных заклинаний, набирая новый разгон), повторяю: кое-что знаю, кое-что знаю, кое-что… Еще ребенком я знал без узнавания, я знал без удивления, я знал, как знаешь себя, я знал то, что знать невозможно, — знал, пожалуй, еще яснее, чем знаю сейчас.
(IV, 99)
Согласно классической валентинианской формуле, «гнозис» — это знание ответов на вопросы: кем мы были и во что мы превратились? где мы были и куда нас забросило? куда мы уходим и от чего нас смерть избавляет? что такое рождение и что такое воскресение? Это мистическое знание складывается, как мозаика, из отдельных просветов, прозрений и откровений Цинцинната, идущего мучительным путем поиска сокрытых истинных ответов. Вначале тайна еще не раскрыта. Но, постепенно прозревая, Цинциннат начинает разоблачать мнимую сущность «наскоро сколоченного и покрашенного мира» (IV, 73), «образца кустарного искусства» (IV, 99). Цинциннат раскрывает мистификации, с помощью которых «крашенная сволочь», его тюремщики, манипулируют им.
С гностической точки зрения, восьмую главу романа можно считать центральной в эволюции гностических прозрений Цинцинната. Его попытки постигнуть непостижимое приводят в конце этой главы к первому знаменательному откровению, когда он обнаруживает в собственном прошлом свою невесомую пневматическую сущность и принадлежность к минувшему, не подлежащему физическим законам бытию. В том эпизоде, когда ребенок шагает прямо из окна третьего этажа в сад, намечено сразу несколько ответов на первые гностические вопросы: мы были детьми рая, но превратились во взрослых земли; из утраченного рая идеального существования мы были заброшены в плотскую и космическую тюрьму. О значении этой главы в романе свидетельствует тот факт, что именно ее выбрал автор для сборника «Nabokov's Congeries».{180}
Другое знаменательное откровение содержится в двенадцатой главе, где Цинциннат узнает о своем безвестном отце и о своем сходстве с этим безликим нездешним существом, пропавшим в темноте ночи. Это и есть гностическое откровение, в котором восстанавливается генетическая линия, ведущая к Цинциннату безвестного Бога.
Ответ на вопрос: куда мы уходим? — прост. Смерть составляет центральную тему «Приглашения на казнь». В «мертвом доме» Цинциннат ведет борьбу со смертью, со своим палачом и своим страхом перед смертью. Можно сказать, что тюрьма — материализованная метафора этого страха, а тюремщики — его аллегорические карнавальные персонификации. Но начиная с восьмой главы все отчетливее намеки на призрачность смерти:
А чего же бояться? Ведь для меня это уже будет лишь тень топора, и низвергающееся «ать» не этим слухом услышу. Все-таки боюсь!
(IV, 100)
Подобно самой смерти, играющей в шахматы с человеком, Цинциннат в тринадцатой главе играет в шахматы со своим палачом и, кстати, выигрывает. Но только к концу романа герой приходит к окончательному всезавершающему познанию смерти. Он разоблачает карнавальную мистерию смерти и открывает истинную, гностическую тайну о ней. Верный путь к ответам на вопросы о смерти намечается в восемнадцатой главе:
Ведь я знаю, что ужас смерти — это только так, безвредное, — может быть, даже здоровое для души, — содрогание, захлебывающийся вопль новорожденного или неистовый отказ выпустить игрушку, — и что живали некогда в вертепах, где звон вечной капели и сталактиты, смерторадостные мудрецы, которые — большие путаники, правда, — а по-своему одолели, — и все-таки смотрите, куклы, как я боюсь, как все во мне дрожит…
(IV, 166–167)
В этом коротком, но значительном отрывке затронуто сразу несколько ключевых гностических тем. Во-первых, здесь дается ответ на вопрос: от чего нас смерть избавляет? Смерть представляется как радостное событие, высвобождающее душу из тюрьмы. Во-вторых, здесь формируется мысль о смерти как о новом рождении («захлебывающийся вопль новорожденного» — IV, 166), в которой можно усмотреть ответ на вопрос о возрождении. В-третьих, в этом отрывке указано на подвиг «смерторадостных мудрецов», что можно понять как намек на подвижников гностической веры, преодолевших смерть. И наконец, здесь в последний раз повторяется тема страха.
В девятнадцатой, предпоследней главе окончательно снимается последняя оболочка страха. Толчок к этому последнему прижизненному откровению дает эпизод с ночной бабочкой, которую накануне казни тюремщик Родион приносит камерному пауку на съедение. Но гостинец не достается пауку:
…великолепное насекомое сорвалось, ударилось о стол, остановилось на нем и вдруг … снялось. <…> Полет — ныряющий, грузный — длился недолго. Родион поднял полотенце и, дико замахиваясь, норовил слепую летунью сбить, но внезапно она пропала; это было так, словно самый воздух поглотил ее.
(IV, 174)
Возможно, что ночная бабочка, избежавшая смерти, — тоже знак, навеянный гностической символикой. У гностиков имеется эмблема «Ангел смерти». Ангел на ней изображен в виде крылатой ноги, наступающей на «бабочку» (символ души и жизни).{181} Способ, каким бабочка в романе растворилась в воздухе, напоминает одну способность, которой обладает и пневматик Цинциннат. Я имею в виду тот момент в совершенном им ритуале полного «развоплощения», когда «то, что оставалось от него, постепенно рассеялось, едва окрасив воздух» (IV, 61), а также и тот особенный способ передвижения Цинцинната по ограниченному пространству камеры, когда кажется, что он «естественно и без усилия проскользнет за кулису воздуха, в какую-то воздушную световую щель» (IV, 119).
Один только Цинциннат видел, куда села бабочка. В этом знаке, поданном ночной бабочкой, избежавшей смерти накануне казни самого Цинцинната, зашифрован ответ на последний гностический вопрос. Непосредственно после этого откровения Цинциннат зачеркивает на последнем имевшемся у него листе бумаги последнее написанное им в этой жизни слово «смерть». Цинциннат достигает той стадии гностического познания, когда смерть представляется ему радостным пробуждением от дурного сна действительности, окончательным освобождением души из «мертвого дома», населенного душами «более мертвыми», чем у Гоголя.{182} Если «жизнь» в этом «мертвом доме» воспринимается как «смерть», то конец этой жизни, «смерть сама», является искуплением и новым рождением. Это и есть ответ на последний гностический вопрос.
Совокупность ответов на все гностические вопросы уже сама по себе есть спасение.
Тот, кто достигнет такого гнозиса и изымет себя из космоса … тот не может быть долее удержан здесь и поднимается над архонтами.
(Евангелие от Евы){183}
В момент казни, пока один — смертный — Цинциннат еще считает до десяти, второй Цинциннат — бессмертный гностик, поднимает голову с плахи и покидает эшафот, оставляя позади мир и его сторожей — Родиона и Родрига, уменьшившихся во много раз, и палача м-сье Пьера, уменьшившегося до размера личинки. В этой игре масштабами фигурок создается оптическая иллюзия посмертного восхождения Цинцинната. Вслед за реинтеграцией духовной сущности, подлежащей спасению, и ее возвращением к первоисточнику, к богу, наступает эсхатологический момент, когда уничтожается лишенный пневмы и света материальный космос.
Здание всего Тибила рассыплется в прах, и небесный свод пошатнется.
(Гинза, 311){184}
Подобным образом сбывается это эсхатологическое пророчество в «Приглашении на казнь»:
Мало что оставалось от площади. Помост давно рухнул в облаке красноватой пыли. <…> Все падало. Винтовой вихрь забирал и крутил пыль, тряпки, крашеные щепки, мелкие обломки позолоченного гипса, картонные кирпичи, афиши; летела сухая мгла; и Цинциннат прошел среди пыли, и падших вещей, и трепетавших полотен, направляясь в ту сторону, где, судя по голосам, стояли существа, подобные ему.
(IV, 187)
Это душа последнего в мире гностика восходит к богу, существующему за пределами жизни Цинцинната, за пределами его земного рождения и смерти. Его душа, подобно блудному сыну, возвращается к безвестному и безликому своему отцу, который еще до рождения Цинцинната растворился «в темноте ночи» (IV, 126), но передал сыну божественную искру. Незримые голоса «подобных ему существ» принадлежат душам гностических братьев, обитающих в царстве вечной жизни и приветствующих Цинцинната. Для сравнения приведем пример типичной концовки из текста «Гинзы»:
Отказом от «приглашения на казнь» и опровержением смерти кончается роман Набокова. Описав круг, роман возвращается к своей отправной точке — к эпиграфу из несуществующей книги несуществующего автора:
«Comme un fou se croit Dieu
nous nous croyons models».
Delalande. «Discours sur les ombres»[12]
2. Поэтика
Усмешка создателя образует душу создания.
В. Набоков
Рассмотрев теологические элементы в романе Набокова, следует сказать также несколько слов о поэтических элементах в теологии гностиков. Каждый из дошедших до нас гностических текстов представляет собой своеобразное художественное произведение. Современный исследователь в области гностицизма, Ганс Ионас, пишет:
При первом знакомстве с гностической литературой читатель будет поражен некоторыми повторяющимися формулами, которые сами по себе, даже без обращения к более широкому контексту, вызывают некое глубинное переживание и особое чувство, они заставляют увидеть действительность так, как это свойственно гностическому сознанию. Эти формулы могут включать в себя как отдельные слова с символическими значениями, так и развитые метафоры. Они значимы не столько в силу их повторяемости, сколько благодаря их красноречивости и зачастую — неожиданной новизне.{186}
Мандейские тексты, например, это по преимуществу стихотворные гимны и литургии; они необыкновенно богаты аллегориями и другими средствами художественной выразительности.
Традиционные категории иудаизма и христианства (например, категории добра и зла) в силу инверсивной, а иногда даже извращающей первоначальный смысл переоценки наполняются в гностических мифах новым, неожиданным содержанием. В кощунственном учении гностиков, презирающих теологическую традицию и ее кумиров, отчетливо сказывается определенная провокативная тенденция, желание ошеломить, шокировать сторонников традиционных религий необыкновенными выходками. Гностик Василид, например, утверждает, что распят был не Иисус Христос, а Симон Киринеянин, несший его крест.{187} Иисус дал ему свой облик, чем ввел всех в заблуждение. Сам же он невидимо стоял возле распятого Симона, глумясь над обманутыми палачам.{188}
Гностицизм — еретическое направление. Существовали секты гностиков, исповедовавшие культ Иуды, Каина, Евы, Фомы Неверующего и пр. Ряд гностических текстов можно прочитать как пародию на ветхозаветные и новозаветные теологические догмы. Презрение к кумирам, пренебрежение физической действительностью и абсолютная вера в свободу духа ставят гностика в положение превосходства над заблуждающейся непросвещенной чернью («Procul este, profani»[13]). Надменное отношение «правоверных» гностиков к христианской «черни» напоминает «атеистические» строки Набокова в стихотворении «Слава»:
«Бытие безымянное, существенность беспредметная» (IV, 57), — прочитал Цинциннат надпись на тюремной стене. Истинная сущность Божества раскрывается для гностика в мистическом акте наименования. Звукам алфавита при этом выпадает особая роль.
…Значения, приписываемые [буквам алфавита], восходят к символике чисел, знаков зодиака, часов дня и т. д. Один из ранних Отцов Церкви, Ипполит, цитирует замечание, приписываемое Марку Пифагорейцу: «Если произнести по отдельности все гласные, входящие в наименования семи небес (планет. — С. Д.), эти гласные составят единую систему, звуки которой, будучи переданы вниз, становятся творцом…»{189}
Ср. в стихотворении «Слава»:
Мистическая вера в силу фонетики per se позволяла гностику включать в ритуалы и гимны звуки, совершенно лишенные смысла, которыми создавался заумный музыкальный эффект. Каждой из гласных приписывался определенный цвет.{190} Слуховой хроматизм гностиков можно рассматривать как своеобразный поэтический синэстетизм. Во второй главе «Других берегов» и в «Память, говори» Набоков подробно пишет о своей audition colorée и составляет «азбучную радугу» из звуков русского и английского алфавитов. Семи цветам радуги он приписывает следующие фонетические эквиваленты: ВЁЕПСКЗ; VGYPSZK (V, 158).{191}
Все эти характеристики роднят гностическую литературу с произведениями художественной литературы или, по крайней мере, с теми ее чертами, которые встречаются у самого Набокова. В его произведениях мы находим и ошеломляющие выходки, и пристрастие к эксцентрическим поворотам общепринятых идей, и эстетический аристократизм, и нетерпимость к неподлинности и заурядности, и презрение к идолам и идеологиям толпы, а также пренебрежение к действительности во имя совершенного искусства. Наконец, параллель к гностическим мифам можно увидеть и в личной судьбе писателя: в мытарствах изгнанника, отрезанного от родной почвы и непризнанного на чужбине, одержимого единственной мечтой — чтобы его книги читались на родине Пушкина.
Все эти обстоятельства напоминают прототипическую ситуацию гностических мифов, в которых душа героя, изгнанная из родимой области света, приговорена к скитаниям на чужбине и к мечте о возвращении:
Иди, иди, наш сын и наш образ … в этом мире или в мирах? Тьмы, куда ты идешь, — ужасные страдания ждут тебя там. Поколение за поколением ты пребудешь там, пока мы не забудем тебя. Твоя форма останется там, пока мы не прочтем по тебе отходную молитву.
(Гинза, 152)
В этом мире я жил тысячи мириадов лет, и никто не знал о том, что я там … Из года в год, из поколения в поколение пребывал я там, и они не знали, что я жил в их мире.
(Гинза, 153){192}
С большинством текстов гностической литературы Набоков мог познакомиться в осуществленных в 1910–1920-х годах переводах на английский и немецкий языки.{193} Существует и обширный русский источник 1913 года, книга Ю. Н. Данзаса «В поисках за божеством: Очерки из истории гностицизма». К тому времени, когда писалось «Приглашение на казнь», были доступны в переводах также все мандейские тексты «Гинзы» и «Евангелия Иоанна», из которых взято большинство приведенных примеров, а также тексты мандейских гимнов. В гностической литературе можно найти еще целый ряд фрагментов, напрашивающихся на сравнение с набоковским текстом, но я не стану останавливаться на них, а обращу внимание на определенную цель, для которой писатель использовал в «Приглашении на казнь» гностический миф.
Борис Зайцев сказал однажды о Набокове, что это автор, «у которого нет Бога, а может быть и дьявола».{194} В «Приглашении на казнь» мы имеем дело с перекодировкой теологической модели. На основе гностического мифа Набоков создает своеобразную собственную теологию. Я постараюсь дать характеристику этой эстетико-теологической модели и определить, какие роли (а их будет несколько) принадлежат здесь автору.
Первая из них — роль гностического провозвестника, приносящего откровение. В гностических мифах посланник Бога — неземное существо. Он проникает в земной мир «извне». В применении к роману таким существом, находящимся «вне» романного мира, окажется сам автор. В тексте «Гинзы» посланник Бога рекомендует себя следующим образом:
Я есмь слово и сын словес, который пришел от имени Явара. Великая Жизнь … послала меня наблюдателем века сего, чтобы я стряхнул с них сон и пробудил дремлющих. Она сказала мне: «Иди и выбери себе последователя из Тибила … Избери его из мира…»
(Гинза, 295){195}
Нетрудно обнаружить в романе художественное воплощение этих строк. «Сын словес», Сирин, опускается в лишенный божественного присутствия тюремный мир, в котором заключен гностик Цинциннат. Главная характеристика этого мира — полное отсутствие культуры. Здесь нет поэзии, поэтического слова — «логоса».
Окружающие понимали друг друга с полуслова, — ибо не было у них таких слов, которые бы кончались как-нибудь неожиданно, на ижицу, что ли, обращаясь в пращу или птицу, с удивительными последствиями.
(IV, 56–57)
Поэтическое слово автора опускается на крыльях райской птицы Сирина в мир Цинцинната в эпоху полного обнищания поэтического слова, когда оно деградировало до уровня кооперативно-коммуникативного средства, в эпоху, когда, по словам Цинцинната, «давно забыто древнее врожденное искусство писать» (IV, 100) и луна сторожит статую последнего поэта. Автор делает Цинцинната своим избранником потому, что он — последний гностик, последняя реликвия истлевшей и забытой культуры. Не случайно зарождение «гностического» сознания в ребенке, открывшем свою нездешнюю сущность, совпадает со временем, когда Цинциннат научился писать:
Хорошо же запомнился этот день! Должно быть, я тогда только что научился выводить буквы, ибо вижу себя с тем медным колечком на мизинце, которое надевалось детям, умеющим уже списывать слова с куртин в школьном саду, где петунии, флоксы и бархатцы образовали длинные изречения.
(IV, 102–103)
В тот день Цинциннат шагнул из окна третьего этажа. И первая фраза процитированного фрагмента, и мотив падения ребенка из окна связаны с культурным контекстом русской словесности. Они перекликаются со строками стихотворения Ходасевича «Не матерью, но тульскою крестьянкой…»:
Стихотворение Ходасевича посвящено пушкинской теме: няне поэта Елене Кузиной, «волшебному ее языку» («сей язык, завещанный веками, любовней и ревнивей берегу») и, наконец, «счастью, подвигу песнопения», которому поэт «служит каждый миг». Вот в этом контексте русской словесности, в контексте культурной грамоты, следует воспринимать и подвиг Цинцинната.
Еще ребенком Цинциннат садился с книгой на берегу реки, «и вода бросала колеблющийся блеск на ровные строки старых, старых стихов» (IV, 106). С юношеского возраста, по причине малого роста, Цинциннат работал в мастерской игрушек. Здесь изготовлялись куклы-писатели для школьниц:
…тут был и маленький волосатый Пушкин в бекеше, и похожий на крысу Гоголь в цветистом жилете, и старичок Толстой, толстоносенький, в зипуне … Искусственно пристрастясь к этому мифическому девятнадцатому веку, Цинциннат уже готов был совсем углубиться в туманы древности и в них найти подложный приют…
(IV, 58)
Преклонение Набокова перед этими тремя именами известно. По вечерам Цинциннат «упивался старинными книгами» (IV, 57), он читал «Евгения Онегина» и уже в камере читал знаменитый исторический роман «Quercus», героем которого является дуб.{197} Цинциннату казалось, что автор «сидит… где-то в вышних ветвях» дуба, «высматривая и ловя добычу» (IV, 120). В этом мире, лишенном культуры, жалуется Цинциннат, «нет <…> ни одного человека, говорящего на моем языке, или короче: нет ни одного человека» (IV, 102). Единственный отдаленный намек на нечто человеческое — «прищемленная, выплющенная», «переплетенная в человеческую кожу» (IV, 157,158) фигура тюремного библиотекаря.
Цинциннату … сдавалось, что, вместе с пылью книг, на нем осел налет чего-то отдаленно человеческого.
(IV, 157)
Не случайно в седьмой главе библиотекарь наказан директором тюрьмы.
Таким образом, отличительным признаком Цинцинната, выделяющим его из черни, является культура. С нею и связано начало «гносеологической гнусности» героя. Причастный к культуре Сирина, Цинциннат становится избранником автора.
Каким же образом «сын словес» указывает своему избраннику истинный и спасительный путь? В тексте «Гинзы» посланник дает гностическому избраннику исписанные листы бумаги:
В первой главе автор кладет на стол в камере Цинцинната «чистый лист бумаги» и «изумительно очинённый карандаш» (IV, 48). Герой правильно истолковал этот знак и уже в четвертой главе принялся за «небольшой труд». «Кто-нибудь когда-нибудь прочтет и станет весь как первое утро в незнакомой стране» (IV, 74). Первые написанные Цинциннатом слова подсказаны прямо автором. Его голос проникает в камеру одновременно с появлением книг из тюремной библиотеки. (Присутствие книги в текстах Набокова почти всегда служит сигналом, указывающим на близость автора.) «Какая тоска. Цинциннат, какая тоска! Какая каменная тоска, Цинциннат…» (IV, 71), — внушает авторский голос. «Тоска, тоска, Цинциннат. Опять шагай, Цинциннат, задевая халатом то стены, то стул» (IV, 72), — продолжает анапестический голос автора навязывать Цинциннату свою тему.
Если человек обладает Гнозисом, он уже — существо свыше. Когда его призывают, он слышит, откликается и обращается к Тому, кто позвал его, чтобы вознестись к Нему. И он знает, зачем он был призван. Обладающий Гнозисом исполняет волю Того, кто позвал его, желает делать то, что любо Ему, и получает утешение.
(Евангелие Истины){199}
Призыв доходит до Цинцинната. Его первые строки подхватывают внушенную автором тему: «Но разве могут домыслы эти помочь моей тоске? Ах, моя тоска, — что мне делать с тобой, с собой?» (IV, 74). В конце записи вновь повторяется та же тема: «Какая тоска, ах, какая…» (IV, 75).
Столкновение со словом высекает творческую искру. С первых же строк Цинциннат обнаруживает в себе до сих пор неведомый ему творческий порыв:
Я не простой… я тот, который жив среди вас… Не только мои глаза другие, и слух, и вкус, — не только обоняние, как у оленя, а осязание, как у нетопыря, — но главное: дар сочетать все это в одной точке…
(IV, 74)
Так Цинциннат осознает и формулирует свое призвание, свою отмеченность. В камере смертника рождается поэт. «Гносеологическая гнусность» — это восприятие мира всеми пятью чувствами, это художественная одаренность, которой наделил Цинцинната его творец. Вдохновение — это и есть «пневма», только на языке светской культуры. Теперь уничтожению начинает противостоять творческое начало. Единственный вопрос, который мучает Цинцинната: «Успею ли я?» «Зеленое, муравчатое Там» (IV, 53) Тамариных Садов, которые казались Цинциннату единственным светлым островком в его жизни; дубовая роща, где он когда-то гулял и целовался с Марфинькой, уступают на этой стадии место новому лучезарному «там» творчества:
Там, там — оригинал тех садов, где мы тут бродили, скрывались; там все поражает своей чарующей очевидностью, простотой совершенного блага; там все потешает душу, все проникнуто той забавностью, которую знают дети…
(IV, 101–102)
Это назойливое «там» в переводе с языка теологии на язык поэзии превращается в эстетическое «там», в «là-bas» из стихотворения Бодлера «Приглашение к путешествию» — название, как нельзя более подходящее для толкования «Приглашения на казнь». В стихотворении есть рефрен:
Кроме того, лучезарное «там» — лейтмотив стихотворения Руперта Брука, переведенного Набоковым на русский язык.{201} В этом стихотворении о тропических рыбах иронически развивается религиозная тема. Пересказывая его, Набоков восхищенно пишет:
В этих стихах, в этой дрожащей капле воды, отражена сущность всех земных религий. И Брук сам — «грезящая рыба», когда, заброшенный на тропический остров, он обещает своей гавайской возлюбленной совершенства заоблачного края, «где живут Бессмертные, — благие, прекрасные, истинные, — те Подлинники, с которых мы — земные, глупые, скомканные снимки. Там — Лик, а мы здесь только призраки его. Там — верная беззакатная Звезда и Цветок, бледную тень которого любим мы на земле. Там нет ни единой слезы, а есть только Скорбь. Нет движущихся ног, а есть Пляска. Все песни исчезнут в одной Песне. Вместо любовников будет Любовь…»
(V, 730)
Нет сомнения, что новое «там» Цинцинната наполнено новым, поэтическим содержанием. Речь идет об области творчества, о мире, созданном в произведении истинного искусства. О таком мире Набоков написал:
Для меня художественное произведение существует лишь постольку, поскольку оно дает мне то, что грубо можно назвать эстетическим блаженством, иначе говоря, ощущением, что я каким-то образом причастен к тем сферам бытия, где искусство (любознательность, нежность, доброта и восторг) является нормой.{202}
По мере того как Цинциннат, перерождаясь, становится поэтом, прежнее «там» Тамариных Садов сменяется новым «там» творчества. Этот переход сопровождается причудливыми метаморфозами введенного в роман мотива дерева. «Древо» — центральный символ в гностических мифах. Для примера приведу гностическое описание «лжерая» из апокрифического Евангелия Иоанна:
Первый архонт поместил Адама в рай, сказав, что здесь будет «наслаждение» для него. Он попытался обмануть его, ибо наслаждение их горько и красота их беззаконна. Их наслаждение — обман, и их древо — вражда. Их плод — яд, от которого нет исцеления, и их обещания — смерть. Но их древо было посажено как «древо жизни». Я разоблачу для тебя тайну их «жизни» — это Ложный Дух.{203}
В «Приглашении на казнь» мотив дерева составляет определенный «тематический узор».{204} Во-первых, «дубы» метонимически характеризуют «Тамарины Сады». Мотив «дуба» тесно связан с любовью Цинцинната к Марфиньке: «И все-таки: я тебя люблю. Я тебя безысходно, гибельно, непоправимо… Покуда в тех садах будут дубы, я буду тебя…» (IV, 82). Во-вторых, «дуб» прямо связан с темой смерти. Плаха, на которой казнят Цинцинната, — «покатая, гладкая дубовая колода, таких размеров, что на ней можно было свободно улечься, раскинув руки» (IV, 184) (намек на распятие). В-третьих, мотив дуба сопрягается с темой творчества. «Дуб» («Quercus») название романа, который читает Цинциннат. Прямую связь между творчеством и деревом Набоков раскрывает и в своей автобиографии. Говоря о творческом вдохновении, он пишет:
…когда я ныне впадаю в этот давний транс, я совершенно готов, очнувшись, очутиться высоко на некоем дереве, над крапчатой скамейкой моего отрочества, прижимаясь животом к толстой, удобной ветке и покачивая рукой среди листьев, по которым ходят тени других листьев.{205}
Здесь мы, конечно, имеем дело с реализацией метафоры «дерево — книга», причем, «листья» соответствуют «листам».{206} Итак, в ожидании казни на дубовой плахе, под впечатлением от «знаменитого романа» о дубе меркнут воспоминания о дубах Тамариных Садов, и их «зеленое, муравчатое Там» уступает место новому «там» творчества.
О том, что развертывание этого узора внутренне сопряженных мотивов намеренно, свидетельствует еще одно обстоятельство. По дороге на лобное место Цинцинната везут мимо его дома:
Цинциннат не хотел смотреть, но все же посмотрел. Марфинька, сидя в ветвях бесплодной яблони, махала платочком…
(IV, 182)
Здесь раскрывается ложная природа «древа познания», связанного с земной любовью. Образу Марфиньки, сидящей в ветвях «бесплодной яблони», противостоит образ автора, сидящего высоко в ветвях дуба. С него в одиннадцатой главе в камеру Цинцинната, в тюремный бутафорский сон героя падает плод — «бутафорский желудь» (IV, 122). В бутафорском мире, где все подлежит сомнению, конечно, и сны наполнены бутафорией. А может быть, желудь оказывается бутафорией еще и по той причине, что он — плод чужого искусства, в то время как Цинциннат пытается создать свое собственное произведение. Появление желудя с «древа творца» побуждает Цинцинната к собственному творчеству.
В тюремной камере новорожденный писатель Цинциннат создает в течение 20 дней (каждому дню соответствует одна глава романа) собственное литературное произведение, исповедь. Эта исповедь состоит из писем, дневниковых записей, воспоминаний, философских этюдов. За исключением восьмой главы, которая полностью принадлежит Цинциннату, эти фрагменты разбросаны по всему роману, начиная с первой и кончая девятнадцатой главой.{207} В совокупности написанное Цинциннатом составляет одну десятую текста романа (приблизительно 20 страниц из 200). Карандаш, этот «просвещенный потомок указательного перста» (IV, 48), несколько исписанных листов и слабая надежда на бессмертие созданных строк — вот все, чем Цинциннат отвечает на сделанное ему приглашение на казнь. Герой ясно осознает, что единственное спасение, на которое заключенный может рассчитывать в тюремной жизни, — его собственное воображение. Целиком отдаваясь воображению и воспоминаниям, Цинциннат как бы повторяет набоковский софизм о том, что «и память, и воображение являются формами отрицания времени»,{208} и наполняет этот софизм конкретным смыслом: отрицанием окончательности, смерти.
По мере того как укорачивается карандаш, в первой главе «длинный как жизнь любого человека, кроме Цинцинната» (IV, 48), в восьмой главе «укоротившийся более чем на треть» (IV, 98), и, наконец, в предпоследней девятнадцатой главе ставший «карликовым» (IV, 175), растет творчество Цинцинната, который пытается «исписать» страх перед смертью, обезоружить, обезвредить смерть.
А чего же бояться? Ведь для меня это уже будет лишь тень топора, и низвергающееся «ать» не этим слухом услышу. Все-таки боюсь! Так просто не отпишешься.
(IV, 100)
Борьба со смертью или, лучше сказать, борьба за бессмертие ведется Цинциннатом на этих неловко исписанных листах, к рассмотрению которых я еще вернусь. Последнее предсмертное желание Цинцинната касается исключительно посмертной творческой судьбы:
«Сохраните эти листы, — не знаю, кого прошу, — но: сохраните эти листы … я так, так прошу, — последнее желание, — нельзя не исполнить. Мне необходима, хотя бы теоретическая, возможность иметь читателя, а то, право, лучше разорвать. Вот это нужно было высказать. Теперь пора собираться».
(IV, 167)
Чем короче становится карандаш, тем слабее оказывается страх Цинцинната перед смертью. Последнее написанное им слово на последнем листе зачеркнуто. Это слово — «смерть» (IV, 175).
В первом разделе главы говорилось об эпизоде с ночной бабочкой, принесенной на съедение тюремному пауку, но избежавшей смерти, — о событии, после которого Цинциннат зачеркивает слово «смерть». Этот эпизод я отнес к числу гностических примет. Контекстные координаты мотива бабочки помогают определить его семантическую функцию в набоковской художественной системе. Во-первых, здесь нетрудно усмотреть вмешательство автора-энтомолога, который послал великолепную, «величиной с мужскую ладонь», «с пятном в виде ока» (IV, 173) бабочку в камеру Цинцинната накануне казни, чтобы с помощью этой приметы указать Цинциннату на призрачность и несостоятельность смерти. Антропоморфные атрибуты этой «божественной» приметы — деликатный намек на присутствие личности автора-человека.
Во-вторых, в связи с ночной бабочкой, избежавшей смерти, нельзя не вспомнить рассказ Набокова «Рождество», вошедший в сборник «Возвращение Чорба». У героя этого рассказа только что умер сын. Перед смертью, в бреду мальчик рассказал отцу об индийской бабочке. В сочельник отец перевез «тяжелый, словно всею жизнью наполненный» гроб в деревню (I, 164). После похорон он зашел в комнату сына, где среди прочих вещей нашел «коробку из-под английских бисквитов с крупным индийским коконом» (I, 168). Сын вспоминал о нем, когда болел, и жалел, что оставил в деревне, но утешал себя тем, что «куколка в нем, вероятно, мертвая» (I, 166). Просматривая дневник сына, отец думал о смерти:
«Завтра Рождество, — скороговоркой пронеслось у него в голове. — А я умру. Конечно. Это так просто. Сегодня же…»
<…>
Смерть, — тихо сказал — Слепцов … На мгновение ему показалось, что до конца понятна, до конца обнажена земная жизнь — горестная до ужаса, унизительно бесцельная, бесплодная, лишенная чудес…
(I, 167–168)
Но в этот момент что-то щелкнуло. Это в теплой комнате прорвался кокон, и на глазах отца расправила крылья «до предела, положенного им Богом … громадная ночная бабочка, индийский шелкопряд, что летает, как птица, в сумраке, вокруг фонарей Бомбея», и крылья «вздохнули в порыве нежного, восхитительного, почти человеческого счастья» (I, 168). В этой причудливой метаморфозе — превращении умершего незадолго до сочельника сына в родившуюся в рождественскую ночь индийскую ночную бабочку — реализуется в западном, христианском контексте восточный миф о переселении души, причем «гроб» и «кокон» становятся эквивалентами. Как в «Рождестве», так и в «Приглашении на казнь» ночная бабочка служит приметой, указывающей на несостоятельность смерти.
В-третьих, мотив бабочки у Набокова связан с темой бессмертия и во внепоэтическом плане. Энтомологические открытия Набокова в этой области обеспечили ему своеобразное бессмертие на страницах энциклопедий и на наклейках музейных экспонатов, о чем Набоков-поэт говорит в английском стихотворении «A Discovery» (1943):
Кратко подведем итоги. Подобно посланнику из гностического мифа, автор сделал своим избранником Цинцинната как существо близкой ему культуры. Он положил на стол Цинцинната листы бумаги и длинный карандаш и продиктовал ему первые слова. В камере смертника родился поэт. На исписанных листах Цинциннат ведет борьбу со смертью. Причастность к тайне творчества, «гнозис», спасительное познание — вот что передал своему избраннику «сын словес» Сирин, создавший Цинцинната по образу и подобию своему писателем, творцом. Конечность существования преодолевается через творчество, в котором заключена единственная надежда смертного на бессмертие.
Но не всякое творчество может заслужить право на посмертное пребывание в литературном раю. Напомним, что незадачливому литератору Илье Борисовичу в этом было отказано — так же как и талантливому, но отнюдь не гениальному писателю-убийце Герману. Только истинному и непогрешимому искусству вручает Сирин билет в свой рай. Рассмотрим поэтому, как формируется творчество Цинцинната, в чем заключаются его недостатки и достоинства и каким образом сосуществуют в этом «романе-матрешке» слово героя со словом автора.
Цинциннат — начинающий писатель. Исписанные листы клетчатой бумаги — его первый литературный опыт, типичный для незрелого, но талантливого, еще только формирующегося автора. Стиль Цинцинната, насыщенный междометиями и многоточиями, недоговоренностями и повторами, скачками от предмета к предмету и назойливым преследованием одной темы можно назвать косноязычием или даже высоким косноязычием.
Поначалу тайна творчества не раскрывается. Цинциннат, «дрожа над бумагой, догрызаясь до графита» карандаша, ведет упорную борьбу за слово. Ему кажется, что он «сойдет с ума от щекотки, если хоть как-нибудь не выразится» (IV, 99). Целый ряд «topoi ineffabilitates», о которых я уже писал в связи с неизреченностью гностического бога, — не что иное, как отчаянные усилия Цинцинната овладеть словом и побороть косноязычие.
Вот опять чувствую, что сейчас выскажусь по-настоящему, затравлю слово. Увы, никто не учил меня этой ловитве, и давно забыто древнее врожденное искусство писать…
(IV, 100)
Или:
И все это — не так, не совсем так, — и я путаюсь, топчусь, завираюсь, — и чем дольше двигаюсь и шарю в воде, где ищу на песчаном дне мелькнувший блеск, тем мутнее вода, тем меньше вероятность, что найду, схвачу. Нет, я еще ничего не сказал или сказал только книжное…
(IV, 102)
В контексте художественного творчества гностический символ души — «перл» — это «живое слово», «слово-Психея». Такое значение вскрывается в книге Набокова о Гоголе:
Русские, которые считают Тургенева великим писателем или судят о Пушкине по гнусным либретто опер Чайковского, лишь скользят по поверхности таинственного гоголевского моря и довольствуются тем, что им кажется насмешкой, юмором или броской игрой слов. Но водолаз, искатель черного жемчуга, тот, кто предпочитает чудовищ морских глубин зонтикам на пляже, найдет в «Шинели» тени, сцепляющие нашу форму бытия с другими формами и состояниями, которые мы смутно ощущаем в редкие минуты сверхсознательного восприятия.{210}
Но даже когда Цинциннату удается, как жемчужину в глубинах вод, найти и схватить искомое слово, «извлеченное на воздух», оно «лопается, как лопаются в сетях те шарообразные рыбы, которые дышат и блистают только на темной, сдавленной глубине» (IV, 101). Таким образом, как «перл в кровавом жиру акулы» (IV, 98), так и «мелькнувший блеск на песчаном дне» (IV, 102) сводятся к понятию поэтического слова, «слова-психеи».
Вопреки приближающейся казни у Цинцинната нет «никаких, никаких желаний, кроме желания высказаться — всей мировой немоте назло» (IV, 99). Здесь можно привести еще одно интересное сопоставление с гностицизмом. Согласно валентинианцу Марку, «конец видимого мира наступит тогда, когда будут исчерпаны все возможные сочетания звуков и букв… и все произносимое (т. е. все получившее Божественный импульс к существованию) сольется в один конечный звук, подобно тому, как человеческая молитва заканчивается общим возгласом: аминь».{211}
Попытки Цинцинната пробиться к «живому слову» чрезвычайно неловки, но иногда под его пером возникают необыкновенно точные детали, удивительно меткие, двумя штрихами набросанные портретные миниатюры, как, например, описание Марфиньки в пятой главе:
Я уже не могу собрать Марфиньку в том виде, в каком встретил ее в первый раз, но, помнится, сразу заметил, что она приоткрывает рот за секунду до смеха, — и круглые карие глаза, и коралловые сережки, — ах, как хотелось сейчас воспроизвести ее такой, совсем новенькой и еще твердой, — а потом постепенное смягчение, — и складочка между щекой и шеей, когда она поворачивала голову ко мне, уже потеплевшая, почти живая. Ее мир. Ее мир состоит из простых частиц, просто соединенных; простейший рецепт поваренной книги сложнее, пожалуй, этого мира, который она, напевая, печет, — каждый день для себя, для меня, для всех.
(IV, 80–81)
В статье «Слово и культура» (1921) Мандельштам написал:
Слово — Психея. Живое слово не обозначает предмета, а свободно выбирает, как бы для жилья, ту или иную предметную значимость, вещность, милое тело. И вокруг вещи слово блуждает свободно, как душа вокруг брошенного, но не забытого тела.{212}
Эти слова поэта можно отнести к Цинциннату, который у нас на глазах из слова создает Марфиньку и вокруг неё его слово «блуждает, как душа вокруг брошенного, но не забытого тела».
У Цинцинната порою встречаются на редкость смелые сравнения и метафоры, как, например, уже упомянутый «перстень с перлом в кровавом жиру акулы» (IV, 98), напоминающий о балладе Шиллера «Поликратов перстень», или «шарообразные рыбы» слов, лопающиеся при извлечении на воздух. Его стиль кишит дерзкими аллитерациями, как, например, в описании Марфиньки, которая «жмурясь, пожирала прыщущий персик» и «глотая, еще с полным ртом, каннибалка, топырила пальцы, блуждал осоловелый взгляд, лоснились воспаленные губы…» (IV, 132). Здесь варьируются группы (ж-р, п-ж-р, п-рс) и (ла, ол, ал, ла, аль, ал, ел, ля, ла, ли, ал).{213}
Тем не менее Цинциннат постоянно ставит под сомнение художественность этих неровных, но весьма талантливых строк:
Или ничего не получится из того, что хочу рассказать, а лишь останутся черные трупы удавленных слов, как висельники… вечные очерки глаголей, воронье… Мне кажется, что я бы предпочел веревку, оттого что достоверно и неотвратимо знаю, что будет топор…
(IV, 99)
Цинциннат не только разделяет участь своих слов, своего творчества — он полностью отождествляет себя с ними. Личная судьба отступает для него на задний план, не о ней печется герой накануне казни:
…у меня лучшая часть слов в бегах и не откликаются на трубу, а другие — калеки. Ах, знай я, что так долго еще останусь тут, я бы начал с азов и, постепенно, столбовой дорогой связных понятий, дошел бы, довершил бы, душа бы обстроилась словами…
(IV, 175)
Но Цинциннат одновременно догадывается, в чем заключается достоинство истинно поэтического слова-Психеи:
Не умея писать, но преступным чутьем догадываясь о том, как складывают слова, как должно поступить, чтобы слово обыкновенное оживало, чтобы оно заимствовало у своего соседа его блеск, жар, тень, само отражалось в нем и его тоже обновляя этим отражением, — так что вся строка — живой перелив; догадываясь о таком соседстве слов, я, однако, добиться его не могу, а это-то мне необходимо для несегодняшней и нетутошней моей задачи. Не тут! Тупое «тут», подпертое и запертое четою «твердо», темная тюрьма, в которую заключен неумело воющий ужас, держит меня и теснит.
(IV, 101)
Оживающее слово, о котором здесь говорится, — не что иное, как авторское слово, и характеристику, которую ему дает Цинциннат, можно всецело отнести к стилистическому методу самого Набокова. Таким образом оппозиция «тут» и «там» наполняется еще одним смыслом. «Тут» принадлежит тюремному слову Цинцинната, в то время как «там» относится к свободному художественному слову автора:
Там — неподражаемой разумностью светится человеческий взгляд; там на воле гуляют умученные тут чудаки; там время складывается по желанию, как узорчатый ковер, складки которого можно так собрать, чтобы соприкоснулись любые два узора на нем, — и вновь раскладывается ковер, и живешь дальше, или будущую картину налагаешь на прошлую, без конца, без конца…
(IV, 101)
Эти слова Цинцинната о ткани времени Набоков повторит в «Других берегах» («Этот волшебный ковер я научился так складывать, чтоб один узор приходился на другой» — V, 233), а также в «Парижской поэме»:
Сосуществование героя и автора в романе — как соприкосновение «тематических узоров» на словесном материале двух текстов находит свое выражение в метафоре материи и подкладки. Так, например, рассуждая о побеге и спасении, Цинциннат возлагает все надежды на собственное воображение. Но одновременно ему кажется, «что еще кто-то об этом печется… Какие-то намеки… Но что, если это, если это обман, складка материи, кажущаяся человеческим лицом…» (IV, 114), Цинциннат ставит под сомнение существование неизвестного спасителя (автора?). При встрече с матерью герою показалось, что в выражении ее глаз «словно завернулся краешек этой ужасной жизни, и сверкнула на миг подкладка. Во взгляде матери Цинциннат внезапно уловил ту последнюю, верную, все объясняющую и от всего охраняющую точку, которую он и в себе умел нащупать» (IV, 129). В предпоследней главе Цинциннат «обнаружил дырочку в жизни, — там, где она отломилась, где была спаяна некогда с чем-то другим, по-настоящему живым, значительным и огромным…» (IV, 174). Ключевые мотивы, на которых развивается этот «тематический узор» — «складка», «подкладка», которую Цинциннат, живущий на оборотной стороне материи, увидел сквозь «дырочку». Это и есть стежка, сшивающая два текста: героя и автора — точка соприкосновения двух «тематических узоров», двух словесных тканей, или пуповина, связующая первоотца-автора через мать Цецилию с героем Цинциннатом. («…поэт Цинциннат Ц. в самом грезоподобном и поэтичном из моих романов обвиняет собственную мать (не вполне заслуженно) в том, что она — пародия…» — говорит Набоков в одном из интервью).{214}
Цинциннат постепенно догадывается, что над его ограниченным и неполноценным творческим миром, который реализуется «тут», существует другой творческий мир автора — «там», откуда «неподражаемой разумностью светится человеческий взгляд» (IV, 101), а не премудрое око Божие.
Там, там — оригинал тех садов, где мы тут бродили, скрывались, там все поражает своею чарующей очевидностью, простотой совершенного блага; там все потешает душу, все проникнуто той забавностью, которую знают дети; там сияет то зеркало, от которого иной раз сюда перескочит зайчик…
(IV, 101–102)
Мотив зеркала появляется и в другом месте, где передвижение Цинцинната «по ограниченному пространству кое-как выдуманной камеры» сравнивается с «бегущим отблеском поворачиваемого зеркала» (IV, 119). К числу «зеркальных» метафор можно, наконец, отнести и небезызвестные игрушки «нетки», состоящие из набора абсолютно уродливых и нелепых предметов, которые полагалось рассматривать в кривом зеркале. В зеркале «нет на нет давало да» (IV, 129) и уродливые штуки преображались в изящные образы.
Можно было — на заказ — даже собственный портрет, то есть вам давали какую-то кошмарную кашу, а это и были вы, но ключ от вас был у зеркала.
(IV, 129)
Обнаружив механизм поворачиваемого в руках автора зеркала, Цинциннат начинает сомневаться в реальности собственного существования, своих любви и страдания, а также в реальности всего окружающего. Он начинает осознавать призрачность своей жизни в качестве персонажа в чужом романе и, следовательно, отдавать себе отчет в неполноценности собственного творения. «Пишу я темно и вяло, как у Пушкина поэтический дуэлянт» (IV, 100), весьма кстати замечает Цинциннат, отождествив себя с персонажем романа и уступив авторское место настоящему творцу.
В пространстве романа отчетливо ощущается стилизация кукольного и театрального мира. Сцена романа — это «наскоро сколоченный и покрашенный мир» (IV, 173), освещаемый электрическими лампочками или бутафорской луной. На крашеной сцене выступает «крашеная сволочь» (IV, 77), т. е. куклы, актеры в масках и париках. Здесь есть и намек на существование рампы, актеры выходят на сцену невпопад (ср. преждевременный выход Родрига в первой главе), Родриг с Родионом меняются ролями, причем обе роли исполняет один актер. Эшафот — тоже сцена, и на зрелище публичной казни действительны «талоны циркового абонемента» (IV, 156). В этом спектакле играют свою роль и «бутафорский желудь» (IV, 122), и «чудно отшлифованные слезы» (IV, 168), и тюремный паук, который тоже оказывается марионеткой. В конце «Приглашения на казнь» разбираются декорации театральной сцены романа.
В тексте имеются и косвенные намеки на существование Цинцинната как куклы. Обратим внимание на следующий отрывок:
Ведь я знаю … что живали некогда в вертепах, где звон вечной капели и сталактиты, смерторадостные мудрецы, которые — большие путаники, правда, — а по-своему одолели, — и хотя я все это знаю, и еще знаю одну главную, главнейшую вещь, которой никто здесь не знает, — все-таки смотрите, куклы, как я боюсь…
(IV, 166–167)
Слово «вертеп» обозначает пещеру или притон преступников и развратников. Но имеется еще одно значение этого слова. «Вертеп» — это старинный кукольный театр, или же просто — большой ящик с марионетками, с которым питомцы духовных академий ходили по городам и селам. Из этого ящика получалась двухъярусная сцена для устройства кукольных представлений. В верхнем ярусе представлялись так называемые «духовные действа» религиозно-библейского содержания, например — Рождение Христа, Поклонение волхвов, Избиение младенцев и пр. В нижнем ярусе разыгрывались шутовские «интермедии». Рукою вертепщика, скрытого позади и невидимого для зрителей, приводились в движение куклы, сам же он говорил за них, изменяя голос сообразно роли. В приведенном отрывке мы имеем дело с тонким приемом игры на омонимах, причем в семантическом плане параллельно реализуются оба значения слова «вертеп». Отчаянное обращение Цинцинната к куклам в конце этого отрывка только подчеркивает возможность такого толкования.
Между вертепным театром и романом можно провести следующую структурную параллель. Двухъярусности вертепа соответствует двуплановая структура романа, причем «духовным действам», принадлежащим к высокому жанру, соответствует высокий теологический пласт романа, а вертепным «интермедиям» — теологический фарс, возникший в результате художественной перекодировки гностического мифа и превращения: Бога — в автора, космоса — в книгу, гностика — в прозревшего героя.
Всякий теологический миф создает определенную модель космоса и человека, их первопричины и конца. В мифе о приглашенном на казнь Набоков воспроизводит модель собственного романа. Онтология и мифология здесь — одно и то же. Роль творца-первопричины принадлежит в этом мифе автору, создавшему в романе бутафорский космос, населенный куклами. «Приглашение на казнь» можно рассматривать как своеобразный «вертепный роман», в котором разыгрывается трагикомическая мистерия, мистерия-фарс. Автор находится за рамками условного «физического» времени и пространства книги, в которой живут персонажи, и как таковой он является метафизическим существом «извне».
Цинциннат знает, что он «окружен куклами» (IV, 133) и, «в куклах зная толк» (IV, 114), он отдает себе отчет в своем собственном положении куклы в руках создавшего его мир автора. Это и есть та «главная, главнейшая вещь, которой никто здесь не знает» (IV, 167), гнозис персонажа, который открыл своего творца. Другой прозревший герой Набокова, писатель Герман, в момент такого же откровения объявляет отчаянный бунт против «невозможной глупости» своего «положения, — положения раба Божьего, — даже не раба, а какой-то спички, которую зря зажигает и потом гасит любознательный ребенок — гроза своих игрушек» (III, 458).
Подобно Всевышнему Творцу, сотворившему рай и ад, небо, землю и человека, творец Сирин создает миры и заселяет их человечками. В этом священодействии, в «поэтическом юродстве-уродстве» автор берет на себя роль демиурга. Он создает свою эстетику, положения которой подобны тезисам теологии. Произведение истинного искусства эквивалентно священному тексту. Сирин — очень привередливый бог, и на его эстетических небесах сияют лишь немногие избранные, в то время как ниже небо кишит множеством божков-самозванцев. На Олимп литературного бессмертия, в сиринский эстетический рай, не допускаются «литературные бражники» и еретики. Набоков строго стережет врата этого рая, не впуская в них ни Илью Борисовича, ни Германа, ни ряд знаменитостей, вроде Достоевского, Тургенева, Сартра и пр. Для самого Сирина, конечно, предусмотрено место в этом раю.{215}
Прозрением Цинцинната открываются в «Приглашении на казнь» новые темы. Это темы примата творческого сознания, зависти и соперничества, а также любви героя-писателя к истинному творцу, автору.
«Слова у меня топчутся на месте … Зависть к поэтам. Как хорошо, должно быть, пронестись по странице и прямо со страницы, где остается бежать только тень, — сняться — и в синеву…»
(IV, 167)
Слово Цинцинната вступает в диалогические отношения со словом автора, соревнуясь с ним, оно пытается освободиться, встать на «собственные ноги», стать самостоятельным. В противовес авторскому творению Цинциннат создает в романе собственное параллельное произведение, художественные достоинства которого я уже отмечал. Первый стимул получен от автора, который наделил Цинцинната долей собственного поэтического вдохновения. Творческий потенциал героя неудержимо растет. «Ритмом повторных заклинаний, набирая новый разгон» (IV, 102) для новой поэтической ворожбы, Цинциннат пускается во все более и более головокружительные словесные предприятия, и его одаренная пневмой вдохновения сущность становится порою неуловимой для самого автора:
Казалось, что вот-вот, в своем передвижении по ограниченному пространству кое-как выдуманной камеры, Цинциннат так ступит, что естественно и без усилия проскользнет за кулису воздуха, в какую-то воздушную световую щель, — и уйдет туда с той же непринужденной гладкостью, с какой передвигается по всем предметам и вдруг уходит как бы за воздух, в другую глубину, бегущий отблеск поворачиваемого зеркала.
(IV, 119)
В контексте взаимоотношений персонажа и автора «ограниченное пространство кое-как выдуманной камеры» тождественно, конечно, книге, в которую Цинциннат заключен, в то время как «туда», «в другую глубину» относится к свободному миру автора, в руках которого находится «поворачиваемое зеркало». В моменты такой самостоятельности Цинцинната раздраженный владелец кукол — хозяин романа — автор приостанавливает ускользающего из-под авторского пера мятежного героя:
…и так это все дразнило, что наблюдателю хотелось тут же разъять, искромсать, изничтожить нагло ускользающую плоть и все то, что подразумевалось ею, что невнятно выражала она собой, все то невозможное, вольное, ослепительное, — довольно, довольно, — не ходи больше, ляг на койку, Цинциннат, так, чтобы не возбуждать, не раздражать, — и действительно, почувствовав хищный порыв взгляда сквозь дверь, Цинциннат ложился или садился за стол, раскрывал книгу.
(IV, 119)
Это автор наводит порядок в своем романе и возвращает героя в книгу. Как уже было сказано, появление книги в тексте Набокова сигнализирует близость автора.
Владислав Ходасевич написал однажды:
Жизнь художника и жизнь приема в сознании художника — вот тема Сирина, в той или иной степени вскрываемая едва ли не во всех его писаниях…{216}
Если отнести сказанное Ходасевичем к «Приглашению на казнь», то получится, что это роман о жизни двух приемов в сознании художника: приема «автора» и приема «персонажа». Как «автор-рассказчик», так и «персонаж» являются литературными приемами, и, как почти во всех романах Набокова, автор выступает в роли «прозрачного», «призматического» героя романа. В одном из интервью Набоков заявил:
…замысел романа закреплен в моем воображении накрепко, и каждый персонаж следует тем путем, который я для него навоображал. Я в этом частном мире — абсолютный диктатор, поскольку только я один и отвечаю за его прочность и подлинность.{217}
В «Приглашении на казнь» настоящий тюремщик — автор. Рядом с ним фигуры Родрига, Родиона и м-сье Пьера кажутся жалкими карикатурами. Это он, всевластный владелец вертепа, окружил в своем кукольном романе Цинцинната стенами «кое-как выдуманной камеры» (IV, 119), понастроил изысканные лабиринты, приставил к его камере стражников и разыграл в своем вертепе на глазах у Цинцинната кошмарную мистерию-буфф, издевательский valse macabre.[15] (Ср. «тур вальса» (IV, 48), который предложил Цинциннату тюремщик Родион в начале романа, или само галантное название романа, который, кстати, должен был называться «Приглашение на отсечение головы»).{218}
Гоголь когда-то писал о «припадках тоски», с которых начинался у него творческий процесс:
На меня находили припадки тоски, мне самому необъяснимой … Чтобы развлекать себя самого, я придумывал себе все смешное, что только мог выдумать. Выдумывал целиком смешные лица и характеры, поставлял их мысленно в самые смешные положения, вовсе не заботясь о том, зачем это, для чего, и кому от этого выйдет какая польза.{219}
Эти строки, перекликающиеся с «умственным распутством» Иудушки из «Господ Головлевых», о котором я писал в связи с героем «Отчаяния» Германом, можно отнести и к Набокову. С такого «припадка тоски» начинается, по-моему, творческий порыв самого Набокова, а вслед за ним то же происходит с Цинциннатом. Вспомним еще раз первые, подсказанные автором, строки в четвертой главе: «Какая тоска. Цинциннат, какая тоска! Какая каменная тоска, Цинциннат…» (IV, 71), и ответ Цинцинната на этот вызов: «Но разве могут домыслы эти помочь моей тоске? Ах, моя тоска, — что мне делать с тобой, с собой?» (IV, 74). Что же делает автор? Чтобы развеять тоску, сочиняет свой мир и начинает играть в человечки.
Если здесь провести параллель с гностическим мифом, роль автора в мире-романе совпадет с ролью демиурга, архонта; следовательно, тюрьма, «мертвый дом», созданный в романе, — это сама книга «Приглашение на казнь». В ней заключен Цинциннат, и его бунт — бунт гностика, усомнившегося в подлинности мира, бунт против творения, против демиурга, в котором прозревший Цинциннат обнаружил человеческое существо. «Там — неподражаемой разумностью светится человеческий взгляд» (IV, 101), а не премудрое око Божие.
В этом контексте заманчивой представляется идея, что добивающийся бессмертия Цинциннат не может умереть, поскольку он только персонаж романа и как таковой никогда не жил, кроме как на страницах книги, в то время как единственное смертное здесь существо — сам автор. Посмотрим, каким образом Цинциннат формулирует эту ехидную шутку. Читая роман «Quercus», Цинциннат
…начинал представлять себе, как автор, человек еще молодой, живущий, говорят, на острове в Северном, что ли, море, сам будет умирать, — и это было так смешно, — что вот когда-нибудь непременно умрет автор, — а смешно было потому, что единственным тут настоящим, реально несомненным была всего лишь смерть, — неизбежность физической смерти автора.
(IV, 121){220}
Автор, «человек еще молодой», может быть, — сам Набоков, а «остров в Северном море» находится на той же карте, где и набоковские Зоорландия («Подвиг»), Ultima Thule («Ultima Thule», «Solus Rex»), Зембла («Бледное пламя»).{221} Цинциннат смеется над физической природой писателя — смертного человека. В романе «Бледное пламя» поэт мнит себя бессмертным и отрицает аристотелевский силлогизм: «…другие смертны, да, / Я — не „другой“: Я буду жить всегда»,{222} а затем его ревнивый комментатор Чарльз Кинбот на цинциннатовский манер замечает, что это «годится разве мальчику в утешение. С течением жизни мы понимаем, что мы-то и есть эти „другие“».{223} В бунте Цинцинната против тирании творения, против демиургического начала автора-творца можно услышать гностический отзвук 81 (82) псалма.{224}
Подведем некоторые итоги. Я попытался дать характеристику гностического мифа и провести ряд параллелей между ним и романом. Затем я старался показать, каким образом перекодирован этот миф в художественной системе романа. В книге о Гоголе Набоков писал:
…под поэзией я понимаю тайны иррационального, познаваемые при помощи рациональной речи.{225}
В своем «уродстве-юродстве» Набоков добивается именно такого иррационального мистического эффекта. Ему удается создать ощущение метафизической реальности, мистического прозрения и опыта чисто литературными, «рациональными» средствами. На основе теологического гностического мифа Набоков создает свой собственный миф, воспроизводящий модель романа. При этом автору выпадает двойная роль. Первая из них — роль посланника Бога, провозвестника и спасителя. Вторая — роль творца-демиурга, архонта, деспотического властелина и владельца этого мира. Может быть, в дуалистическом совмещении двух принципов «добра и зла» (напомним слова Б. Зайцева: «У Сирина нет Бога, а может быть, и дьявола») таится библейская идея испытания или же, в контексте романа, идея испытания героя автором. Проследим эту дуалистическую линию до конца.
Согласно многим эсхатологическим мифам гностиков, демиург уничтожает свое творение:
Господи, дай мне разрушить мир, который я сотворил.
Или:
Она <Руха> поднялась и уничтожила свое владение.{226}
В апокалипсическом конце романа, в момент казни Цинцинната Первого, автор-демиург уничтожает сотворенный им мир. Роман разрушается, потому что прозревший последний гностик Цинциннат не поверил в бутафорскую действительность этого мира, и автор жестом демиурга разбирает сцену своего романа. Этот жест заставляет вспомнить последние строки стихотворения Ходасевича «Горит звезда, дрожит эфир…»:
Но из трухи рухнувшего мира-романа «сын словес», провозвестник и спаситель Владимир Набоков (само имя рифмуется с «redeemer», как он в шутку поясняет в одном из интервью){228} спасает «Цинцинната Второго», Цинцинната избранника, одухотворенного пневмой поэтического вдохновения, выдержавшего до конца авторское испытание. «Цинциннат Второй» поднимает голову с дубовой плахи и сквозь «сухую мглу» направляется «туда», «где, судя по голосам, стояли существа, подобные ему» (IV, 187) и, можно добавить, подобные не только ему, но и его автору. Персонаж романа возвращается к своему творцу. Таким образом, вдобавок к той доле творческого вдохновения, таланта и свободы, которую Цинциннат унаследовал от своего отца-творца в начале романа, Цинциннат отвоевывает в конце книги и долю писательского бессмертия. В эпиграфе из несуществующей книги — «Discours sur les ombres» вымышленного писателя Delalande «Comme un fou se croit Dieu nous nous croyons mortels» — заключается послание автора.
Творец-поэт лишь одной стороной своего существа — человек, смертный. Другой, трансцендентальной, стороной поэт — auctor — приближается к бессмертному существу, Богу. В художественной системе Набокова поэт-творец — антропоморфное божество, «человекобог».{229} Об этом аспекте сиринского творчества В. Ходасевич, мнением которого Набоков всегда дорожил, написал так:
Сознание поэта, однако ж, двоится: пытаясь быть «средь детей ничтожных мира» даже «всех ничтожней», поэт сознает божественную природу своего уродства-юродства — свою одержимость, свою, не страшную, не темную, как у слепорожденного, а светлую, хоть не менее роковую, отмеченность перстом Божиим…
В художественном творчестве есть момент ремесла хладного и обдуманного делания. Но природа творчества экстатична. По природе искусство религиозно, ибо оно, не будучи молитвой, подобно молитве и есть выраженное отношение к миру и Богу. Это экстатическое состояние, это высшее «расположение души к живейшему приятию впечатлений и соображению понятий, следственно и объяснению оных», есть вдохновение. Оно и есть то неизбывное «юродство», которым художник отличен от не-художника. Им-то художник и дорожит, его-то и чтит в себе, оно-то и есть его наслаждение и страсть. Но вот что замечательно: говоря о вдохновении, о молитвенном своем состоянии, он то и дело сочетает его с упоминанием о другом занятии, сравнительно столь, кажется, суетном, что здоровому человеку самое это сочетание представляется недостойным, вздорным, смешным. Однако этим своим занятием он дорожит не менее, чем своим «предстоянием Богу», и порой вменяет его себе в величайшую заслугу, обосновывая на ней даже дерзостную претензию на благодарную память потомства, родины, человечества.{230}
Глава четвертая
РОМАН В РОМАНЕ («ДАР»):
РОМАН КАК «ЛЕНТА МЁБИУСА»
Незадолго до выхода «Дара» — последнего из романов Набокова «русского» периода — В. Ходасевич, который регулярно отзывался о произведениях Набокова, написал:
Я, впрочем, думаю, я даже почти уверен, что Сирин, обладающий великим запасом язвительных наблюдений, когда-нибудь даст себе волю и подарит нас безжалостным сатирическим изображением писателя. Такое изображение было бы вполне естественным моментом в развитии основной темы, которою он одержим.{231}
Произведением, специально посвященным теме писательства, принято считать роман «Дар». Но эта тема, как я пытался показать, возникла у Набокова намного раньше. Героем целого ряда произведений, написанных до «Дара», был писатель-неудачник. Пишущие герои набоковских романов составляют определенный ряд, обладающий собственной логикой и внутренней эволюцией: Илья Борисович, первый и самый бездарный в ряду пишущих героев, — более одаренный, но все же несостоятельный писатель Герман, — Цинциннат, чья творческая полуудача по своим художественным достоинствам несравненно выше повести Германа. Произведения героев, в разной степени наделенных талантом, представляют собой определенные стадии эволюции, ведущей к творческому совершенству. Этот многоступенчатый путь приводит к первому подлинному художнику — к герою «Дара» Федору Годунову-Чердынцеву.
Рассказ «Уста к устам» появился в 1933 году, «Отчаяние» — в том же году, «Приглашение на казнь» — в 1935-м, «Дар» — в 1937-м. Если прочитать эти произведения как одну книгу, как некий «сверхроман», мы увидим, что он посвящен одной теме — теме рождения поэта. Отдельные произведения составляют как бы отдельные тома такого «сверхромана». В каждом из них содержится текст, написанный героем. Тип текста, содержащий в себе другой текст, я назвал «текстом-матрешкой». В «матрешках» «внешний» авторский текст вступает с «внутренним» текстом героя в диалогические отношения, напоминающие сократовский диалог. Сократ «акушерским методом» извлекал из мыслей своих собеседников зародыши истины и таким образом постепенно добирался до той истины, которую мы называем последней. Произведя на свет ряд несостоятельных героев-писателей, Набоков наконец в самом конце многотомного диалога, в романе «Дар», создал истинного художника.
Если развить сравнение с Сократом, который сам себя называл «повивальной бабкой», можно сказать, что Набокову выпала роль роженицы, которая после ряда поэтических «недоносков» (Илья Борисович, Герман, Цинциннат) разрешилась наконец здоровым ребенком (Федором). Рождение поэта в последнем из «русских» романов Набокова — это счастливая концовка, happy end «сверхромана», посвященного творцам и творчеству.
В рассказе «Уста к устам» «внутренним» текстом был бездарный роман Ильи Борисовича. «Отчаяние» — роман о том, как убийца Герман писал повесть «Отчаяние». «Внутренний» текст «Приглашения на казнь» составили дневниковые записи Цинцинната. Роман «Дар» — наиболее сложная из набоковских «матрешек». Это «роман-коллаж», состоящий из целого ряда внутренних текстов, как стихотворных, так и прозаических. В рассмотренных мною «матрешках» я пытался прочитать «внутренние» тексты героев на контрастном по отношению к ним фоне авторского «внешнего» текста. «Внутренний» текст я воспринимал как чужой элемент, как «чужое слово». Слово автора отмежевывалось от слова героя и вступало с ним в диалог, в полемику.
Диалогическими я назвал и те ситуации, когда сам автор действовал в произведении как прием, как призрачный протагонист, auctor ex machina. Антагонизм авторского слова и слова героев-писателей принимал разные формы: легкой пародии, издевательства, скрытого вредительства и даже открытой вражды. Но антагонизм между автором и его пишущими героями смягчался прямо пропорционально талантливости «внутреннего» текста.
В рассказе «Уста к устам» автор заставил Илью Боисовича шаг за шагом повторить в собственной жизни жалкую судьбу его романа, а также судьбу им же самим сочиненного героя Долинина. В конце этой издевательской вивисекции автор каламбурно наказал незадачливого писателя тростью. Творческая неудача писателя была равнозначна смерти.
В «Отчаянии» автор, словно ветер, шевелящий листья деревьев, тревожил страницы Германовой рукописи. В этом романе автор-вредитель сдвинул ось, вокруг которой вращался зеркальный космос героя-солипсиста и его повести. Вдобавок он предал Германа постыдному наказанию палкой и довел отчаявшегося героя до сумасшествия. За творческое падение Герман был наказан не только смертью — криптографические намеки сулят ему посмертное пребывание в аду.
Чтобы следующий герой ясно понял, что за творческую неудачу писатель поплатится головой, Набоков откровенно пригласил его на казнь. В «Приглашении на казнь» художественное мастерство Цинцинната обрело опасную близость к границе, отделявшей творчество автора от творчества его героев. Порою (как, например, в центральной восьмой главе, целиком написанной Цинциннатом), казалось, что герой уже стоит одной ногой по ту сторону этой линии. Вот почему в момент казни автору не вполне удалось обезглавить героя. Творческой частью своего существа Цинциннат уже находился на территории автора. Благодаря творческой полуудаче, или, лучше сказать, почти-удаче, Цинциннат был в конце книги лишь полуказнен.
Как уже было сказано, прямо пропорционально дарованию героев смягчается антагонизм между ними и автором. Самую нижнюю из ступенек этой иерархии занимал графоман Илья Борисович, вторую — писатель-самозванец Герман. На третьей стоял poeta nascens — Цинциннат. В отличие от Цинцинната, Федор — poeta fit. Роман «Дар» содержит ряд замыслов, а также несколько законченных произведений Годунова-Чердынцева, созданных в процессе его творческого становления.
«Дар» — это роман-коллаж, состоящий из «внутренних» текстов героя. От главы к главе нарастает творческий потенциал Федора и постепенно исчезает разница между авторским текстом и текстом героя. В какой-то степени это внутреннее развитие отражает путь, пройденный пишущими героями предыдущих произведений Набокова,[16] в этом смысле «Дар» можно считать одним из ключей ко всему «русскому» периоду творчества Набокова. В конце романа герой становится его автором. Обратим внимание на процесс сближения между героем и автором, а также на любопытный симбиоз их текстов.
В первой главе «Дара» еще ощущается разногласие между словом автора и словом героя. «Внутренний» текст первой главы — книга «Стихи», посвященная теме детства. Эти юношеские стихи Федора на фоне зрелой прозы Набокова воспринимаются как пародии, как «чужое», но все же «не совсем чужое» слово. Ведь стихи Федора — это собственные стихотворения молодого Набокова. Симбиоз героя и автора упрочивается и заимствованием противоположного рода: инициалами Федора Годунова-Чердынцева Набоков подписал несколько зрелых стихотворений.{232} Наиболее автобиографичному из героев, своему любимцу Федору, автор дарит собственное любимое стихотворение: «Однажды мы под вечер оба…».{233} Возникший в первой главе рассказ о самоубийстве Яши Чернышевского — это рассказ «Подарок», за подписью Сирина напечатанный отдельно до выхода «Дара».{234} «Подарок» синекдохически соотносится с романом «Дар». В силу таких текстовых и биографических заимствований в значительной мере стушевывается разногласие между художественным словом героя и словом автора.
Внутренний текст второй главы «Дара» — рассказ Федора о его отце-путешественнике, который не вернулся из экспедиции. В поисках отца Федор отправляется в воображаемое путешествие по Азии. Он идет по следам знаменитых путешественников: Пушкина, Пржевальского и Грумм-Гржимайло.{235} В его рассказе описан маршрут, о котором мечтал когда-то сам Набоков. В 1918 году девятнадцатилетний Набоков собирался в экспедицию с Грумм-Гржимайло, но обстоятельства помешали этому предприятию. В каком-то смысле повествование героя — литературная компенсация несбывшейся мечты автора. Рассказ Федора, может быть, не очень удачен, но пройденный путь оказался полезным для молодого писателя. Повествовательный ритм «Путешествия в Арзрум» стал внутренним ритмом Федора, и образ Пушкина начал сливаться в его воображении с мыслями об отце. Глаз Федора обладает теперь меткой наблюдательностью, присущей путешественнику-натуралисту и необходимой художнику. Оба они должны с предельной точностью описывать впервые увиденное и пережитое, называть безымянно.{236} В этом смысле «путешествие» Федора, вошедшее во вторую главу «Дара», имеет с авторским словом больше общего, чем может показаться на первый взгляд. В «Даре» под пристальным взглядом натуралиста описан редкостный представитель человеческого рода: homo scribens.
Переход к третьему произведению Федора происходит по законам истории русской литературы: «Расстояние от старого до нового жилья было примерно такое, как где-нибудь в России от Пушкинской — до улицы Гоголя» (IV, 327). От Пушкина идет прямой путь к Гоголю.{237} Четвертую главу составляет гротескная биография Н. Г. Чернышевского. Федор построил эту biographie romancée (IV, 380) на жанровой парадоксальности. Его задача — совместить биографию и сочинительство, то есть, пользуясь словами Чернышевского, — «жизнь» (действительность) и «искусство». Результат — «биография-буфф», абсурдное житие абсурдного подвижника. Эта биография лишена такой фантастики, как у Гоголя или, скажем, у Достоевского, чей «Крокодил» был воспринят публикой как выпад против Чернышевского.{238} Жизнеописание Чернышевского Федор основал на биографических фактах, излагаемых с учетом теоретических (философских и эстетических) взглядов самого Чернышевского. Но, вопреки документальному методу, результат, которого Федор достигает, фантастичен.{239} Этого эффекта Федор добивается не столько подбором фактов (часто до крайности тривиальных), сколько их причудливым сопоставлением и толкованием. Это гротескное травести жизни и творчества Чернышевского следует традиции менипповой сатиры.
Мениппова сатира направлена не столько на людей как таковых, сколько на типы человеческого сознания. Педанты, начетчики, сумасброды, выскочки, виртуозы, энтузиасты, восторженные и некомпетентные профессионалы всех мастей — мениппова сатира интересуется их жизненными занятиями, а не их социальным поведением. Для менипповой сатиры человек — это рупор идей … Постоянной темой служит высмеивание philosophus gloriosus[17] <…> Романист рассматривает зло и глупость как социальную болезнь, а автор менипповой сатиры видит в них болезнь интеллекта, раздражающий педантизм, олицетворением и символом которого служит philosophus gloriosus … Мениппова сатира отличается от эпоса … поскольку она не сосредотачивается на подвигах героев, а свободно предается интеллектуальной игре воображения и насмешливому наблюдению, которое порождает карикатуру. Мениппова сатира отличается и от плутовского романа с его интересом к структуре современного общества. Сущность менипповой сатиры в том, что она навязывает нам при взгляде на мир единую интеллектуальную схему. Эта схема, организующая повествование, ломает общепринятую повествовательную логику. Возникает впечатление неадекватности текста, но это всего лишь неадекватность читателя, склонного судить такую сатиру с романоцентрических позиций.{240}
Мениппова сатира представляет собой диалогический жанр.{241} В ее основе лежит идейно-философский конфликт. В четвертой главе «Дара» развивается конфликт между эстетическими взглядами материалиста-прагматика Чернышевского и Федора — идеалиста, поклонника чистого искусства. Согласно диссертации Чернышевского об «Эстетических отношениях искусства к действительности»,
…прекрасное есть полное проявление общей идеи в индивидуальном явлении … Истинное определение прекрасного таково: «прекрасное есть жизнь» … Действительность не только живее, но и совершеннее фантазии. Образы фантазии — только бледная и почти всегда неудачная переделка действительности. Прекрасное в объективной действительности вполне прекрасно. Прекрасное в объективной действительности совершенно удовлетворяет человека … Создания искусства ниже прекрасного в действительности и с эстетической точки зрения.{242}
Таковы, вкратце, главные умозаключения Чернышевского. «Единственно, впрочем, — допускает Чернышевский, — чем поэзия может стоять выше действительности, это украшение событий прибавкой эффектных аксессуаров и сопоставлением характера описываемых лиц с теми событиями, в которых они участвуют» (IV, 415). Вот этой погрешностью в логике эстетических воззрений Чернышевского и воспользовался Федор.
В четвертой главе «Дара» на жизнь Чернышевского падает свет искусства, и то, что в рассказе «Уста к устам» произошло с жизнью Ильи Борисовича, случается (только более беспощадно) с жизнью Чернышевского. «Прибавкой эффектных аксессуаров и согласованием описываемого лица с событиями», т. е. по собственному рецепту Чернышевского, Федор виртуозно обессмысливает жизнь и творчество славного шестидесятника. Вольное творческое сознание поэта шаг за шагом определяет бытие материалиста Чернышевского. Если век назад Чернышевский «казнил» «чистую поэзию» (IV, 416), то век спустя, в сотую годовщину со дня рождения Н. Г. Чернышевского, чистая поэзия пером Федора совершает казнь над Чернышевским. В своем олимпийском негодовании Федор порою напоминает Аполлона, который наделяет короля Мидаса за его невежество ослиными ушами.
Искусство сатиры и гротеска достигает в четвертой главе «Дара» предельной высоты, но хотя талант Федора очень близок Набокову, он все-таки еще отмежевывается от произведения героя.
Биография [Чернышевского] в «Даре» написана героем, который чем-то похож на меня, но сам я не написал бы ее таким образом.{243}
В последней, самой важной для нас главе романа снимается последняя преграда, отделяющая слово героя от слова автора. В пятой главе, этой самой сложной из набоковских «матрешек», происходит причудливая, но тем не менее закономерная метаморфоза. То, что не удалось Герману в «Отчаянии», удается Федору. Герой романа «Дар» становится автором романа «Дар». Как выясняется в конце книги, роман, который мы только что прочитали, — будущее, еще не написанное произведение Федора.{244} «Дар» — это роман, которого еще нет, но который будет создан; это черновик молодого автора, который станет беловиком зрелого писателя.
Набоков однажды заявил: «Вы можете только перечитать роман. Или пере-перечитать роман».{245} Если применить совет Набокова к роману «Дар», произойдет следующее. При первом чтении мы воспринимаем «Дар» как роман зрелого писателя Набокова, в который, как в «матрешку», вошли разные произведения молодого, еще только формирующегося писателя Федора. При первом чтении будущий роман Федора лишь незаметно просвечивает между строк. Федор думает: «Или роман. Это странно, я как будто помню свои будущие вещи, хотя даже не знаю, о чем будут они. Вспомню окончательно и напишу» (IV, 374).{246} Но при втором чтении мы уже читаем тот же текст «Дара» как роман, написанный героем, который сам стал его автором. Черновик Федора превратился в беловик, «внутренний» текст стал «внешним» текстом.
Эта причудливая метаморфоза, в которой герой возведен в статус автора, совершается по кругу. Кругообразная форма тщательно подготовлена в романе. Все произведения Федора, вошедшие в «Дар», роднит кольцевая композиция. Первое из них, книга стихов, открывалось стихотворением «Пропавший мяч» и замыкалось стихами «О мяче найденном» (IV, 215). Вторым произведением Федора стал рассказ о «треугольнике в круге».{247} Третье произведение — это кругообразный «рассказ-путешествие» о не вернувшемся и, вероятно, погибшем отце Федора. Путешествие Федора совершается следующим образом. Сквозь картину «Марко Поло покидает Венецию» (IV, 299) Федор отправляется по следам отца в воображаемую экспедицию по Азии. Во время этого «путешествия» сын превращается в своего отца и возвращается обратно по древней дороге, по которой шесть веков назад проходил Марко Поло (IV, 308).{248} Таким образом, рассказ, описав не круг, а скорее одно кольцо спирали, приходит к отправной точке, возведенной во вторую степень. Эта метаморфоза, в свою очередь, предвосхищает превращение героя в автора, Федора в Набокова.
Биографию Чернышевского Федор тоже задумал в виде кольца, так «чтобы получилась не столько форма книги, которая своей конечностью противна кругообразной природе всего сущего, сколько одна фраза, следующая по ободу, т. е. бесконечная…» (IV, 384). Биография начинается секстетом и кончается октетом опрокинутого сонета.{249} Подобно кольцу опрокинутого сонета в четвертой главе, и весь роман «Дар» облекается в кольцевую форму. Последние строки романа — это «онегинская» строфа. Четырехстопные ямбические строки благодаря удачно найденным переносам хорошо закамуфлированы в прозаическом тексте:
Прощай же, книга! Для видений — / отсрочки смертной тоже нет. / С колен поднимется Евгений, / — но удаляется поэт. / И все же слух не может сразу / расстаться с музыкой, рассказу / дать замереть… судьба сама / еще звенит, — и для ума / внимательного нет границы — / там, где поставил точку я: / продленный призрак бытия / синеет за чертой страницы, / как завтрашние облака, — / и не кончается строка.
(IV, 541)
«Завтрашние облака», которыми не кончается строка романа, перелетают в «облачный, но светлый день <…> первого апреля 192… года» (IV, 191), с которого роман «Дар» начинается.{250}
«Онегинская» строфа в конце романа приводит нас, таким образом, обратно к началу, но не романа Набокова (роман Набокова кончился), а нового романа Федора. Последний на протяжении романа успешно завершил цикл творческих метаморфоз. Созревший писатель Федор дорос до масштаба Набокова и, следовательно, на стыке кольца, на спайке двух текстов сам становится автором романа.
Но переход героя в автора осуществился не по кругу, который лежал в композиционной основе всех отдельных текстов романа, а скорее по ободу так называемой «ленты Мёбиуса». В отличие от ленты-кольца, на которой мы различаем внешнюю и внутреннюю поверхность, на «ленте Мёбиуса» внешняя поверхность переходит во внутреннюю. Из одной точки, одной непрерываемой линией, по «ленте Мёбиуса» можно перейти с изнанки на лицевую сторону ленты:
х — первое
у — второе чтение
Герой Федор, двигаясь по ободу такой ленты, начинает свой путь на поверхности х, т. е. на страницах романа Набокова, но, подходя к его концу, в промежутке между концом романа и его вторым началом, Федор оказывается на поверхности у, т. е. на страницах уже собственной книги. Внутренний текст «романа-матрешки» стал внешним, изнанка стала лицевой стороной, герой возведен в статус автора. О том, что Набоков заложил в основу своего романа принцип «ленты Мёбиуса», свидетельствует следующий отрывок, в котором бытие и сознание героя, «весь этот переплет случайных мыслей», приравнивается к «изнанке великолепной ткани, с постепенным ростом и оживлением невидимых ему образов на ее лицевой стороне» (IV, 489).
Но между композиционными кольцами отдельных произведений Федора и кругообразным построением его последнего произведения — «Дара» — есть существенная разница. Круг, созданный опрокинутым сонетом в четвертой главе, — порочный круг, а созданная им бесконечность — дурная бесконечность. Порочным был также круг, в котором вращался треугольник Рудольф — Оля — Яша: (Рудольф любил Олю, Оля Яшу, Яша Рудольфа, и т. д.) Круг, описанный стихотворениями о потерянном и найденном мяче, а также кругообразный «рассказ-путешествие», во время которого сын превращается в своего пропавшего отца, подходят ближе к замыслу «Дара», в котором герой становится автором. Таким образом, можно сказать, что контуры целого (романа «Дар») просвечивают сквозь отдельные его части (вставные тексты героя) так же, как микроформой отдельных внутренних кукол матрешки определяется макроформа внешней куклы.
Во всех «внутренних» текстах романа была сделана попытка разомкнуть созданный ими круг. Но полностью это удается лишь в последнем из них, а именно — в романе «Дар». Здесь порочные круги отдельных произведений создают разомкнутую спираль романа. В своей автобиографии Набоков пишет:
Спираль — одухотворение круга. В ней, разомкнувшись и высвободившись из плоскости, круг перестает быть порочным. …Гегелевская триада, в сущности, выражает всего лишь природную спиральность вещей в отношении ко времени.
(V, 312)
«Дар» — это книга о творческом процессе, о рождении и взрастании творческого сознания, о становлении поэта. Это роман о творческой эволюции. Его герой, начинающий поэт Федор, поднимается вверх по этой спирали (каждому витку соответствует один «внутренний» текст) и становится в конце концов настоящим писателем. Герой романа становится автором этого романа, персонаж Федор преображается в В. В. Набокова — человека. Федор — первый герой в творчестве Набокова, которому удалось преодолеть границу между искусством в жизнью, перебраться с изнанки, т. е. со страниц романа, на лицевую его сторону, отождествиться с автором, чье имя стоит на обложке книги, с автором, проживающим вне романа. Путь, пройденный Федором, является закономерным завершением процесса, в котором формировалось и созревало творческое сознание поэта.
Заключение
В настоящей работе на примере четырех «текстов-матрешек» Набокова я пытался продемонстрировать четыре стадии эволюции творческого сознания. Илья Борисович, Герман, Цинциннат и Федор составляют в паноптикуме Набокова целую плеяду писателей с небольшой библиотекой ими написанных произведений. В своей олимпийской нетерпимости Набоков оказался необыкновенно жесток к творческим недостаткам и неудачам своих героев. Подобно мифологическому божеству, Набоков испытывал, карал и казнил своих героев. Илья Борисович — это Марсий, наказанный Аполлоном. Герман — Нарцисс, наказанный Немезидой. Цинциннат — гностик, пытаемый и казненный архонтами на земле, но вознесенный за верность Творцу в вечное «Царство Небесное». За всеми этими мифическими существами стояло антропоморфное божество — auctor. В художественной системе Набокова автор и есть единственный бог космоса-книги, который он сам сотворил, единственный деспот и судья человеков, которых он сам сочинил по образу и подобию своему писателями. Автор карал своих героев не столько за их художественную неудачу и падение, сколько за невежество или грех. Художественная неудача и падение — не причина, а следствие авторского негодования.
Романы Набокова — это романы о сознании автора и героев, об их взаимоотношениях и, не в последнюю очередь, о примате авторского сознания над сознанием героя.{251}
Не все в равной степени отдавали себе отчет в том, что над их творчеством господствует сознание их создателя.
Илья Борисович из рассказа «Уста к устам» даже не догадывался о существовании силы, руководящей его жизнью и творчеством.
Герман из романа «Отчаяние» подозревал и, под конец своей повести, прямо ощущал присутствие и вмешательство невидимого создателя и разрушителя. Но в своей демиургической гордости лжетворец Герман не примирился с идеей Всевышнего Творца, он отрицал его существование: «Бога нет, как нет и бессмертия» (III, 458). За бунт демиурга против законного Творца ревнивый бог-автор уничтожил творение непокорного героя. После провала двух замыслов — убийства и повести — Герман отдает себе полный отчет в существовании автора, сдвинувшего ось, вокруг которой вращался его солипсически построенный космос.
В отличие от Германа, герой «Приглашения на казнь» Цинциннат, вопреки всему окружающему, не только осознал существование Творца, но во имя этого безымянного бога-отца отрекся от земной жизни. Согласно теологической метафоре романа, «гностик» — это поэт, который во имя искусства отрекся от действительности. В своей исповеди Цинциннат не только признал примат творчества своего создателя, но и объяснился в трепетной любви к нему. За это автор поднял с плахи полуказненного героя, выдержавшего все испытания. За то, что Цинциннат доказал несостоятельность окружающей его действительности и смерти, автор отдал своему герою и долю своего авторского бессмертия.
Последний из «русских» романов Набокова — «Дар», который автор считал лучшим своим произведением,{252} а критик Филд назвал «величайшим русским романом, созданным в нашем веке»,{253} — является завершением процесса, в ходе которого постепенно возникало и росло осознание героем своего творца. Этот путь, ведущий от бессознательности Ильи Борисовича к подсознанию и «полусознанию» Германа и к сознанию Цинцинната, привел в конце «Дара» к полному тождеству сознаний Федора и Набокова. «Я и Отец — одно. <…> … Отец во Мне и Я в Нем» (Ин. 10: 30, 38). В этом единстве героя и автора, «внутреннего» и «внешнего» текста, сотворенного и творящего таится залог творческого бессмертия.
Когда ты из двух сотворишь одно, когда внутреннее сделаешь внешним, а внешнее — внутренним и верхнее — нижним, когда мужское и женское ты сделаешь одним, так что мужское не будет мужским, а женское не будет женским, когда на месте одного глаза будут два, и рука — на месте другой руки, а нога — на месте другой ноги, и образ — на месте другого образа, лишь тогда внидешь ты в Царство.{254}
В этих апокрифических словах из «Евангелия от Фомы» заключается суть поэтического юродства Набокова в его последнем русском романе «Дар».
Эпилог
«Как бы то ни было, теперь все кончено: завещанное сокровище стоит на полке, у будущего на виду, а добытчик ушел туда, откуда, быть может кое-что долетает до слуха больших поэтов, пронзая наше бытие своей потусторонней свежестью — и придавая искусству как раз то таинственное, что составляет его невыделимый признак. Что ж, еще одна привычка нарушена, — своя привычка чужого бытия. Утешения нет, если поощрять чувство утраты личным воспоминанием о кратком, хрупком, тающем, как градина на подоконнике, человеческом образе. Обратимся к стихам».
(V, 590)
Так Владимир Набоков отозвался в 1939 году на смерть поэта Владислава Ходасевича. 2 июля 1977 года скончался автор процитированных строк. Его «завещанное сокровище стоит на полке, у будущего на виду».
Обратимся к книгам.
1
Лермонтов М. Ю. Собр. соч.: В 4 т. Л., 1979. Т. 1. С. 477.
2
Набоков В. Предисловие к «Герою нашего времени» // Набоков В. Собр. соч. американского периода: В 5 т. СПб., 1999. Т. 1. С. 525–526 (перев. С. Таска).
3
Вейдле В. В. Сирин. «Отчаяние» // В. В. Набоков: pro et contra. СПб., 1999. С. 242. (Впервые: Круг. 1936. № 1. С. 185).
4
См. главы VI, VIII, IX.
5
В «Подлинной жизни Себастьяна Найта» (1941) герой романа, «В.», пишет биографию писателя Себастьяна Найта. Роман «Лолита» (1955) «написан» его героем — Гумбертом Гумбертом. Роман «Бледное пламя» (1962) содержит поэму Джона Шейда и комментарии к этой поэме Чарльза Кинбота. В «Аде» (1968) герой Ван Вин пишет эссе «Ткань времени», которое становится романом «Ада». «Смотри на арлекинов!» — произведение, построенное на автозаимствованиях. В него косвенно вошли чуть ли не все произведения Набокова.
6
Интересно было бы знать, автобиографичен ли образ слепого барда Демодока или, наоборот, легенда о слепоте Гомера навеяна образом слепого певца. Наверное, навсегда останется необъясненным, подражало ли здесь искусство жизни или жизнь — искусству.
7
Ср. стихотворение Пушкина «Клеопатра» (1828) и строфу XIII неоконченной поэмы <«Езерский>» (1832–1835).
8
В виде «внутренних» текстов в рассказ вошли: «краткие исторические известия» (которые уже сами по себе являются «внутренними» текстами, поскольку они были обнаружены на страницах старых календарей за 1744–1799 годы), «Летопись Горюхинского дьячка», «замечания прежних старост» на полях «Ревижских сказок», стихотворение Архипа Лысого. В виде «внутреннего» текста сюда вошла сама «История села Горюхина», написанная рассказчиком И. П. Белкиным. Она имеет межтекстовые соотношения как в рамках самого произведения, так и за его пределами. Рассказчик «Истории села Горюхина» — это покойный Иван Петрович Белкин, который записал «Повести Белкина».
9
См.: Slonim M. Soviet Russian Literature: Writers and Problems: 1919–1977. 2nd ed. London, 1977. P. 202; Struve G. Russian Literature under Lenin and Stalin: 1917–1953. Oklahoma, 1971. P. 103.
10
Прием «двойной фотографии» наглядно реализован в стихотворении В. Ходасевича «Соррентинские фотографии» (1926).
11
Концепт «чужого слова» разработан в книге М. М. Бахтина: Бахтин М. Проблемы поэтики Достоевского. 1972. См. гл. 5 — «Слово у Достоевского».
12
Здесь мне хочется высказать одно подозрение, а именно, что «внутренним» текстом иногда становится неудавшееся произведение самого Набокова, которое строгий к себе автор приписывает своему герою и затем подвергает этот текст язвительной пародии. Такими неудавшимися текстами могут быть, например, повесть Германа в романе «Отчаяние» или поэма Джона Шейда в романе «Бледный огонь». Если так, то в том и другом случае мы имеем дело с приемом автопародии в творчестве Набокова.
13
См. картины Яна Вермеера «Художник в своей мастерской» или Йоста ван Винга «Апеллес, рисующий любовницу Александра Великого» (1590).
Johannes Vermeer «The Art of Painting»
Joos Winghe «Alexander de Grote, Apelles en Campaspe»
14
Ходасевич В. О Сирине // Ходасевич В. Литературные статьи и воспоминания. Нью-Йорк, 1954. С. 249–250.
15
Набоков В. Весна в Фиальте и другие рассказы. Нью-Йорк, 1956. С. 251–270. В этом сборнике Набоков датирует рассказ 1929 годом (см. с. 270), а в предисловии к английскому изданию (Nabokov V. A Russian Beauty and Other Stories. N. Y., Toronto, 1973. P. 46) — 1931–1932 годами. Датировка А. Филда: декабрь 1931 — тоже ошибочна, см.: Nabokov: A Bibliography. N. Y., 1973. Р. 93. Рассказ был написан не раньше 1933 года, прямые доказательства этого я приведу далее в настоящей главе.
16
В романе «Машенька» слово автора не вступает в диалогические отношения со словом героя. Контраст между лирической окраской внутреннего текста героя, Ганина, и гротескным фоном романа продиктован разностью предметов изображения, а не намеренно использованным «двуголосым словом». Лирический текст Ганина обращен к русскому прошлому, гротескный текст автора — к берлинскому настоящему.
17
Nabokov V. A Russian Beauty and Other Stories. P. 47.
18
К числу перекличек между именами в романе и рассказе следует отнести также основанную на принципе мимикрии игру между именем Ильи Борисовича и его литературным псевдонимом. Редактор «Ариона» Галатов неоднократно коверкает имя Ильи Борисовича, обращаясь к нему в письмах то как к Борису Григорьевичу, то как к Илье Григорьевичу (V, 344, 345). Вслед за причудливыми метаморфозами имени героя и его художественный псевдоним проделывает ряд аналогичных трансформаций. Не подозревая о существовании поэта Иннокентия Анненского, Илья Борисович подписал свой роман псевдонимом «И. Анненский» (V, 346), «выведенным из имени покойной жены» (V, 345). Редактор «Ариона» предложил заменить «И. Анненский» на «Илья Анненский», на что Илья Борисович охотно согласился. Но первые страницы романа появились в «Арионе» под псевдонимом «А. Ильин» (V, 349). Псевдоним в его литературной функции следует рассматривать как часть художественного текста, в данном случае псевдонимы Ильи Борисовича принадлежат роману, в то время как его бытовое имя принадлежит рассказу. Трансформации имени и отчества Ильи Борисовича в рассказе подражают метаморфозам его псевдонима в романе, чем еще раз наглядно демонстрируется мимикрическая связь между внутренним текстом романа и внешним текстом рассказа.
19
Бахтин М. Проблемы поэтики Достоевского. М. 1972. С. 314.
20
См. об этом в начале настоящей главы.
21
Бахтин М. Проблемы поэтики Достоевского. С. 316.
22
См.: Белый Андрей. Мастерство Гоголя. Л., 1934. С. 102.
23
Ср. в «Даре»: «…мерой для степени, чутья, ума и даровитости русского критика служит его отношение к Пушкину» (IV, 432). См. также стихотворение 1931 г. «Неоконченный черновик»: «Меня страшатся потому, / что зол я, холоден и весел, / что не служу я никому, / что жизнь и честь мою я взвесил, / на пушкинских весах, и честь / осмеливаюсь предпочесть» (V, 438).
24
«Метаморфозы» Овидия (VI, 382 и след.).
25
Набоков В. Лолита // Набоков В. Собр. соч. американского периода: В 5 т. СПб., 1997. Т. 2. С. 112.
26
«Это произведение, склеенное из разных фрагментов других произведений художника (или разных художников). В результате иногда возникает новое произведение наподобие попурри. Как правило, художественное намерение здесь сатирическое…» (Beckson К., Granz A. Literary Terms. N. Y., 1975, статья «Pastiche», перевод мой; переводы, приводимые далее без указания имени переводчика, выполнены мной. — С. Д.)
27
См. его картину «Аллегория Воды» (1566).
28
Набоков В. Интервью Альфреду Аппелю, сентябрь 1966 г. // Набоков В. Собр. соч. американского периода. Т. 3. С. 603–604 (перев. С. Ильина).
29
Набоков В. Николай Гоголь // Там же. Т. 1. С. 506 (перев. Е. Голышевой).
30
Гоголь Н. В. Шинель // Гоголь Н. В. Полн. Собр. соч. [Л.; М.], 1938. Т. 3. С. 143.
31
Шинель. С. 154.
32
Шинель. С. 160.
33
Чижевский Д. О «Шинели» Гоголя // Современные записки. Париж, 1930. № 67. С. 191.
34
Гоголь Н. В. Шинель. С. 159. Этими словами комментирует Акакий Акакиевич картину за освещенным окошком, «где изображена была какая-то красивая женщина, которая скидала с себя башмак, обнаживши таким образом всю ногу очень недурную; а за спиной ее, из дверей другой комнаты, выставил голову какой-то мужчина с бакенбардами и красивой испаньолкой под губой» (Там же). В этой «картине в рассказе» Гоголь зашифровывает развязку своего рассказа. Женщина, скинувшая башмак и обнажившая таким образом всю ногу, предвосхищает сцену грабежа шинели, в которой А. А. Башмачкин будет обнажен. Такое толкование как нельзя лучше подходит к толкованию «Шинели» самим Набоковым: «Процесс одевания, которому предается Акакий Акакиевич, шитье и облачение в шинель на самом деле — его разоблачение, постепенный возврат к полной наготе его же призрака» (Набоков В. Николай Гоголь. С. 507). В рассказе «Уста к устам» развязкой будет разговор между редактором Галатовым и дамой с лорнеткой, во время которого Илья Борисович будет «ограблен». Интересно отметить, что парижский редактор Галатов, «в пижонистом пиджаке, с красными бараньими глазами и черной бородкой», наделен весьма по-гоголевски подобранными атрибутами.
35
Лк, 5:36. См. также: Мк. 2:21: «Никто к ветхой одежде не приставляет заплаты из небеленой ткани: иначе вновь пришитое отдерет от старого, и дыра будет еще хуже».
36
Гоголь Н. В. Шинель. С. 150–151.
37
Набоков В. Парижская поэма (V, 425).
38
«Отчаяние» — это пародия неудачной повести в романе, «Дар» — это коллаж из отдельных произведений героя. Четвертая глава «Дара» — гротескный пастиш, склеенный из обрывков «жизни и творчества» Н. Г. Чернышевского. В «Бледном пламени» «уста разминулись с устами», стихотворение Джона Шейда и комментарии Чарльза Кинбота, составляющие этот роман, не имеют между собой ничего общего.
39
Набоков В. Николай Гоголь. С. 510.
40
М. Цетлин, Г. Адамович, Г. Иванов, М. Осоргин, М. Кантор, Г. Струве и др. Исключением можно считать П. Бицилли, указавшего на связь Набокова с Салтыковым-Щедриным и Гоголем. Г. Струве, писавший о «нерусскости» Набокова (см.: Струве Г. Русская литература в изгнании. Нью-Йорк, 1956. С. 282–285), тем не менее указал, сколь многим Набоков был обязан Андрею Белому.
41
Этим удачным термином я обязан П. Бицилли, который указал не одно «родимое пятнышко», унаследованное Набоковым от русской литературы. См.: Бицилли П. Возрождение аллегории // Современные записки. 1936. № 61. С. 191–204.
42
Этот случай был описан в кн.: Field A. Nabokov: His Life in Art. London, 1967. P. 174–175. Об отношениях Набокова с Г. Адамовичем и Г. Ивановым см. там же (Р. 51–53, 88–90); см. также сатирическое стихотворение Набокова «Из Калмбрудовой поэмы» (Руль. Берлин, 1931. 5 июля. С. 2). В этом мнимом переводе поэмы несуществующего автора Калмбруда Набоков высмеивает критиков Адамовича и Иванова. См. также рассказ Набокова «Василий Шишков».
43
Nabokov V. Russian Beauty and Other Stories. P. 46 (перев. О. Сконечной). «Веселая война» с «Последними новостями» отсылает к стихотворению Набокова «Поэты» (1939). Ср. авторское примечание к нему:
«Это стихотворение, опубликованное в журнале под псевдонимом „Василий Шишков“, было написано с целью поймать в ловушку почтенного критика (Г. Адамович, Последние новости), который автоматически выражал недовольство по поводу всего, что я писал. Уловка удалась: в своем недельном отчете он с таким красноречивым энтузиазмом приветствовал появление „таинственного нового поэта“, что я не мог удержаться от того, чтобы продлить шутку, описав мои встречи с несуществующим Шишковым в рассказе, в котором, среди прочего изюма, был критический разбор самого стихотворения и похвал Адамовича».
(V, 742)
44
С 1930 по 1934 год вышло всего восемь книг «Чисел», № 2/3 и 7/8 — сдвоенные номера.
45
Числа. 1930. № 1. С. 235. «Числа» не печатали не только Набокова, но также и Бунина, Алданова и Ходасевича.
46
См.: Руль. 1929. 30 октября. С. 5.
47
Числа. 1930. № 1. С. 234.
48
Не менее абстрактно говорит о «французских влияниях» на Набокова Адамович:
«„Защита Лужина“ написана черезвычайно искусно и, так сказать, по последней литературной моде. Первая часть романа особенно ясно отражала французские влияния. Мне тогда же один из читателей задал вопрос: чье влияние именно вы имеете в виду, что такое „французское влияние вообще“? Позволю себе вместо ответа привести короткую цитату из недавнего фельетона Жалу, критика распространеннейших „Нувелль Литерэр“, человека проницательного и вдумчивого: „Долгое время у нас в литературе царил адюльтер, и мы на это жаловались… Не кажется-ли вам, что теперь все эти школьные истории, эти блудные сыновья, эти удивительные юноши, эти вечные беглецы, — не кажется ли вам, что все это тоже становится общим литературным местом, в конце концов столь же скучным, как прежнее? Я говорю это в предостережение молодым писателям, избирающим дорогу, которая завтра будет исхожена вдоль и поперек“. Несомненно, что для русской литературы сиринская тема еще не является общим литературным местом. Но что по существу она неоригинальна, что это не „первоисточник“ — в этом тоже сомневаться невозможно».
(Последние новости. 1930. 13 февраля).
49
«Есть творчество — внутрь. Оно совершенно не требует вымысла, хотя и над ним можно „слезами облиться“. Оно ищет раскрытия того, что дано, и этим довольствуется. Другому, во вне вымысел нужен. Но Толстой на старости лет сказал (в воспоминаниях Микулич): „Как я могу написать, что по правой стороне Невского шла дама в бархатной шубе, если никакой дамы не было…“ Точка. Заповедь: больше нечего добавить. Нравственный закон художника. Не было дамы, значит, не надо о ней писать…».
(Адамович Г. Комментарии // Числа. 1930. № 1. С. 140).
В том же духе продолжает и Б. Поплавский:
«Действительно, „если дама в котиковом манто по Невскому не шла“, то и нельзя об этом писать. С какою рожею можно соваться с выдумкой в искусство? Только документ».
(Числа. 1930–1931. № 4. С. 171).
50
Адамович Г. Сирин // Последние новости. 1933. 4 января.
51
Там же.
52
Руль. 1928. 7 марта. Почти полвека спустя Набоков сожалел об этой рецензии:
«Раиса Блох. Я поступил с ней ужасно. От страшной смерти (в немецком концлагере. — С. Д.) ее спасла опечатка… Она была плохим поэтом, но мало ли что. Я не должен был писать того, что я написал о ней»
(Field A. Nabokov: His Life in Art. N. Y, 1977. P. 29–30).
53
Числа. 1930. № 2/3. С. 13.
54
Числа. 1932. № 6. С. 49.
55
Числа. 1933. № 9. С. 27.
56
Числа. 1930. № 2/3. С. 33.
57
Числа. 1931. № 5. С. 34, 40.
58
Так, например, Набоков деликатно передразнивает манерное тургеневское «мимо» (см.: Тургенев И. С. Дым // Тургенев И. С. Полн. собр. соч. и писем: В 28 т. М.; Л., 1965. Т. 9. С. 280), которым пользуется Адамович: «Не было жалости в его глазах, было только какое-то усталое, чуть-чуть насмешливое, сухое, равнодушное высокомерие — „считай, считай!“ — которое вдалеке, иссякая и теряясь, могло бы соприкоснуться с жалостью… Мимо» (Адамович Г. Рамон Ортис // Числа. 1931. № 5. С. 37). Ср. у Набокова: «„Она, вероятно, ему отдастся“, — предположил Евфратский. „Мимо, читатель, мимо,“ — ответил Илья Борисович (в смысле „пальцем в небо“)…» (V, 341). Мимолетная мечта Рамона Ортиса, после того как он проигрался на рулетке, о неизвестном доброхоте «в халате и ночном колпаке», который «присядет к столу и вышлет» для него «чек на двадцать три тысячи», перекликается с «некоторой суммой», которую Илья Борисович перевел в парижскую редакцию «Ариона». Оба героя, Рамон Ортис и Долинин, застрелились из пистолета.
59
«„Какая у вас красивая палка,“ — сказал я. Она молча протянула мне свою трость. Черное дерево внизу, а вся верхняя половина покрыта сплошь перламутровой инкрустацией» (Числа. 1934. № 7/8. С. 103).
60
Томашевский Б. Теория литературы: Поэтика. М.; Л., 1928. С. 145. Аналогичный пример приводит и В. Шкловский в кн. «О теории прозы» (М., 1929. С. 135).
61
Томашевский Б. Теория литературы: Поэтика. С. 145.
62
Числа. 1934. № 7/8. С. 201.
63
Что касается псевдонима «А. Ильин», которым редакция «Ариона» подписала пролог к роману Ильи Борисовича, то он, возможно, навеян псевдонимом Михаила Осоргина (М. А. Ильин), напечатавшего в № 28 «Современных записок» отрицательную рецензию на первый роман Набокова «Машенька».
64
Числа. 1930. № 2/3. С. 32.
65
Числа. 1930. С. 5–7, 8–11.
66
Числа. 1930. С. 9.
67
Nabokov V. A Russian Beauty and Other Stories. P. 61 (перев. О. Сконечной).
68
Herodotus, I, 23–24. Ср.: Rose H. J. A Handbook of Greek Mythology. N. Y., 1959. P. 300.
69
Пушкин. Полн. собр. соч. [М.; Л.], 1948. Т. 3. С. 58.
70
Адамович: «Пушкин иссякал в тридцатых годах, и не только Бенкендорф с Наталией Николаевной тут повинны. Пушкина точил червь простоты» (Числа. 1930. № 1. С. 142); «Пушкину удалось еще спасти „грацию“ от уже закрадывавшейся в нее глупости» (Числа. 1930. № 2/3. С. 168); «Непонятно, когда это успели накурить перед ним столько благонамеренного фимиама, что за дымом ничего уже не видно. К фимиаму большинство и льнет: удобно, спокойно. „Поклонник Пушкина, но человек неглупый…“ — эту фразу написал я как-то само собой, не сразу заметив ее парадоксальность» (Числа. 1934. № 7/8. С. 159). Поплавский: «А все удачники жуликоваты, даже Пушкин. А вот Лермонтов, это другое дело. Пушкин — дитя Екатерининской эпохи, максимального совершенства он достиг в ироническом жанре „Евгений Онегин“. Для русской же души все серьезно, комического нет, нет неважного, все смеющиеся будут в аду» (Числа. 1930. № 2/3. С. 309–310); «Какой болтовней кажутся Чайльд-Гарольды, „Chartreuse de Parme“, „Разбойники“ Шиллера и всякие повести Белкина… Пушкин последний из великолепных мажорных и грязных людей Возрождения. Но даже самый большой из червей не есть ли самый большой червь?» (Числа. 1930–1931. № 4. С. 171).
71
Строка из стихотворения «Стихам своим я знаю цену…».
72
В действительности Г. Иванов умер в 1958 году, Г. Адамович — в 1972 году. Но в произведениях Набокова «смерть» следует толковать в переносном смысле — как творческую неудачу. В своем превосходстве над русскими «парнасцами» Набоков никогда не сомневался. См. по этому поводу следующие строки из его последнего романа:
«Вторую половину тридцатых отметило в Париже чудотворное возвышение изгнаннических искусств, и с моей стороны было бы дурацкой претензией не признавать, что, какую бы чушь ни писал на мой счет кое-кто из самых бессовестных критиков, я оставался высшим достижением этого периода. В залах, где проходили чтения, в задних комнатах знаменитых кафе, на частных литературных вечерах я с удовольствием показывал моей спокойной и стильной спутнице призраков ада, проходимцев и проныр, величавых ничтожеств, участников всякого рода группок, тронутых гуру, благостных педерастов, пленительно истеричных лесбиянок, седовласых стариков-реалистов, одаренных, неграмотных критиков новой интуитивной школы (чьим незабвенным вождем был Адам Атропович)».
(Набоков В. Смотри на арлекинов! // Набоков В. Собр. соч. американского периода. Т. 5. С. 200 (перев. С. Ильина)).
«Адам Атропович» — конечно, Г. Адамович.
73
«Неоконченный черновик» (V, 438).
74
Набоков В. Интервью немецкому телевидению, 1971 г. // Набоков В. Собр. соч. американского периода. Т. 5. С. 617 (перев. С. Ильина).
75
См. титульный лист книги в первом издании (Берлин, 1936).
76
Зеркальные соотношения временных планов строятся по аналогии пространственных зеркальных отражений, и понятием зеркала я пользуюсь, конечно, в переносном смысле.
77
См. ложный эпилог повести в десятой главе романа.
78
«…приключилась беда. Думал, что будет всего десять глав, — ан нет!» (III, 518).
79
Тема неполноценных глаз в произведениях Набокова не раз повторяется. В романе «Камера обскура» Сирин наказывает героя, Кречмара, за его художественную «слепоту» настоящей слепотой. Еще более последовательно эта тема неполноценных глаз развивается в романе «Дар». Здесь близорукость Н. Г. Чернышевского подчеркивает его «слепоту» как литературного критика и эстетика. См. четвертую главу романа, а также четвертую главу настоящей работы.
80
Бицилли П. Возрождение аллегории // Современные записки. 1936. № 61. С. 195–196.
81
Minturo A. S. De Poeta. Venezia, 1559. P. 68. Цит. по: Gilbertová Ê., Êuhn Н. Déjiny estetiky. Praha, 1965. P. 396.
82
Jakobson R. Co je poezie? // Texte der russischen Formalisten. München, 1969. Bd. 2. S. 396.
83
Набоков В. Интервью телевидению Би-би-си, 1962 г. // Набоков В. Собр. соч. американского периода: в 5 т. СПб., 1999. Т. 2. С. 568–569 (перев. М. Маликовой под ред. С. Ильина).
84
Cм. стихотворение Федора Годунова-Чердынцева в романе «Дар» (IV, 338).
85
Набоков В. Интервью Альфреду Аппелю, сентябрь 1966 г. // Набоков В. Собр. соч. американского периода. Т. 3. С. 605–606 (перев. С. Ильина).
86
Ср. в «Аде»:
«… „третьего зрения“ (индивидуального, волшебного, подробного воображения), которым порой обладают и дюжинные, серые во всех иных смыслах люди и без которого память (даже память глубокого „мыслителя“ или гениального механика) представляет собой, если честно сказать, не более чем лекало или листок отрывного блокнота».
(Набоков В. Собр. соч. американского периода. Т. 4. С. 244 (перев. С. Ильина).
87
О том, что Набоков знает этот обычай, свидетельствует следующее место в «Приглашении на казнь». Директор тюрьмы предлагает приговоренному к смертной казни Цинциннату папиросу: «„Не бойтесь, это в крайнем случае только предпоследняя,“ — добавил он находчиво» (IV, 50). В духе той же традиции в английской версии «Отчаяния» Герман, перед тем как убить Феликса, соображает: «Should I offer him a cigarette? No, that would be in bad taste? <Предложить ему сигарету? Нет, это было бы пошлостью. — Англ.>» (Nabokov V. Despair. N. Y., 1970. P. 179. В русском подлиннике этого предложения нет.
88
Wright W. H. (Van Dine). The Great Detective Stories. N. Y., 1936. P. 9.
89
Ходасевич В. О Сирине // Ходасевич В. Литературные статьи и воспоминания. Нью-Йорк, 1954. С. 252.
90
См., например, в поэме «Слава» (1942): «„Твои бедные книги, — сказал он развязно, — / безнадежно растают в изгнании. Увы, / эти триста листов беллетристики праздной / разлетятся — но у настоящей листвы / есть куда упадать, есть земля, есть Россия, / есть тропа вся в лиловой кленовой крови, / есть порог, где слоятся тузы золотые, / есть канавы — а бедные книги твои / без земли, без тропы, без канав, без порога, / опадут в пустоте, где ты вырастил ветвь, / как базарный факир, то есть не без подлога, / и не долго ей в дымчатом воздухе цвесть“» (IV, 420–421). См. также разбор метафоры «дерево — книга» в третьей главе настоящей работы.
91
«С моря ли вихрь? Или сирины райские / В листьях поют? Или время стоит? / Или осыпали яблони майские / Снежный свой цвет? Или ангел летит?» (Блок А. Собр. соч.: В 8 т. М.; Л., 1960. Т. 3. С. 145).
92
«В изображении их первой запланированной встречи имеются намеки на то, что Феликс, описываемый рассказчиком, на самом деле вымышлен им; рассказчик волен закончить сцену или оставить ее незавершенной; в своей „гениальности“ он подобен богу, но это бог, сошедший с ума» (Nabokov: The Man and his Work / Ed. L. S. Dembo. Wisconsin, 1967. P. 74).
93
Field A. Nabokov: His Life in Art. London, 1967. P. 236.
94
Ходасевич В. О Сирине. С. 252.
95
Там же.
96
Rosenfield С. «Despair» and the Lust for Immortality // Nabokov: The Man and his Work. P. 73.
97
Набоков В. Бледное пламя // Набоков В. Собр. соч. американского периода. Т. 3. С. 317 (перев. С. Ильина).
98
См. статью «Nemesis» в кн.: Radice R. Who's Who the Ancient World. Penguin Books, 1973.
99
См.: «Ад», XXXIV, 34–36.
100
«Алиса с любопытством смотрела, как Король вытащил из кармана огромную запискую книжку и начал что-то писать в ней. Тут Алисе пришла в голову неожиданная мысль — она ухватилась за кончик огромного карандаша, который торчал у Короля за плечом, и начала писать сама.
Бедный Король совсем растерялся; с минуту он молча боролся с карандашом, но, как ни бился, карандаш писал свое, так что, наконец, Король произнес, задыхаясь:
— Знаешь, милочка, мне надо достать карандаш потоньше. Этот вырывается у меня из пальцев — пишет всякую чепуху, какой у меня и в мыслях не было…
— Какую чепуху? — спросила Королева, заглядывая в книжку.
(Алиса меж тем написала: „Белый Конь едет вниз по кочерге. Того и гляди упадет“.)».
(Кэрролл Л. Приключения Алисы в Стране чудес. Сквозь зеркало и что там увидела Алиса, или Алиса в Зазеркалье. М., 1978. С. 121. Перев. Н. М. Демуровой).
101
Русский каламбур со словом «ад» находит свое отражение в английском переводе романа: «Meanwhile the consumptive pen in my hand went on spitting words: can't stop, can't stop, cans, pots, stop, he'll to hell» (Nabokov V. Despair. P. 127–128).
102
См.: Достоевский Ф. М. Преступление и наказание // Достоевский Ф. М. Полн. собр. соч.: В 30 т. Л., 1973. Т. 6. С. 221.
103
В. В. Набоков: pro et contra. СПб., 1999. С. 61 (перев. Г. Левинтона).
104
Квинси Т. де. Убийство как одно из изящных искусств // Квинси Т. де. Исповедь англичанина, любителя опиума. М., 2000. С. 191–192 (перев. С. Л. Сухарева).
105
Там же. С. 194.
106
Там же. С. 221.
107
Адамович Г. В. Набоков // Адамович Г. Одиночество и свобода. Нью-Йорк, 1955. С. 214.
108
Квинси Т. де. Убийство как одно из изящных искусств. С. 267.
109
Там же. С. 226.
110
Там же. С. 260–261.
111
Там же. С. 241.
112
Набоков В. Интервью Альфреду Аппелю, сентябрь 1966 г. // Набоков В. Собр. соч. американского периода: В 5 т. СПб., 1999. Т. 3. С. 595 (перев. А. Ильина).
113
Там же. С. 621.
114
Бицилли П. Возрождение аллегории // Современные записки. 1936. № 61. С. 191–204.
115
См.: Адамович Г. Сирин // Последние новости. 1933. 4 января; Struve G. Notes on Nabokov as a Russian Writer // Nabokov: The Man and his Work. Ed. L. S. Dembo. Wisconsin, 1967. P. 46.
116
Эти «родимые пятнышки» можно назвать в современной терминологии «подтекстами» («субтекстами») в том смысле, в каком эти понятия применяет К. Тарановский в своих трудах. См.: Тарановский К. 1) Пчелы и осы в поэзии Мандельштама // То Honor Roman Jakobson. III. The Hague; Mouton, 1967; 2) The Problem of Context and Subtext in the Poetry of Osip MandelStam // Slavic Forum. The Hague; Mouton, 1974.
117
Бицилли П. Возрождение аллегории. С. 204.
118
Бицилли П. В. Сирин: Приглашение на казнь. Соглядатай // Современные записки. 1939. № 68. С. 477.
119
Бицилли П. Возрождение аллегории. С. 201.
120
Бицилли П. В. Сирин: Приглашение на казнь. Соглядатай.
121
Там же. С. 476.
122
Ходасевич В. О Сирине // Ходасевич В. Литературные статьи и воспоминания. Нью-Йорк, 1954. С. 250.
123
Там же. С. 250.
124
Там же. С. 251.
125
Варшавский В. Незамеченное поколение. Нью-Йорк, 1956. С. 214.
126
Там же. С. 215.
127
Там же. С. 222.
128
Там же. С. 216.
129
Там же. С. 218.
130
Там же. С. 223.
131
Ходасевич В. О Сирине. С. 246.
132
Бицилли П. В. Сирин: Приглашение на казнь. Соглядатай // Современные записки. 1939. № 68. С. 477.
133
См.: Nicols Ch. The Mirrors of Sebastian Knight // Nabokov: The Man and his Work. P. 85.
134
См. его предисловие к «Приглашению на казнь» в изд.: Набоков В. Приглашение на казнь. Париж, [б. г.]. С. 15: «Цинциннат Ц., в „Приглашении на казнь“, обвинен и, действительно, виновен в гностическом „преступлении“, поскольку мир для него неоднороден, т. е. является чередованием материально-непроницаемого и одухотворенно-прозрачного».
135
Haardt R. Gnosis: Character and Testimony. Leiden, 1971. P. 3–4. (Далее — сокращено: Haardt.)
136
См.: Данзас Ю. Н. В поисках за божеством: Очерк из истории гностицизма. СПб., 1913. С. 349.
137
См.: Jonas H. The Gnostic Religion. Boston, 1963. P. 43. (Далее — сокращенно: Jonas.)
138
Данзас Ю. Н. В поисках за божеством… С. 330.
139
Grant R. M. Gnosticism and Early Christianity. N. Y.; London, 1966. P. 48. (Далее — сокращенно: Grant, 1966.)
140
См.: Ibid. P. 62.
141
Cм.: Jonas. P. 44, 282.
142
См.: Haardt. P. 8; Jonas. P. 46, 282; Grant, 1966. P. 189.
143
См.: Jonas. P. 44.
144
См.: Ibid. P. 286.
145
См.: Ibid. P. 45; Grant, 1966. P. 63–64.
146
См.: Jonas. P. 45–46; Haardt. P. 8.
147
См.: Jonas. P. 116.
148
См.: Gnosticism: A Source Book of Heretical Writings from the Early Christian Period / Ed. R. M. Grant, N. Y., 1961. P. 117. (Далее — сокращенно: Grant, 1961.) О других значениях символа змеи см.: Jonas. P. 93, 116.
149
См.: Grant, 1966. Р. 48.
150
Само имя «Цинциннат Ц.», по-видимому, не связано с гностической традицией. О происхождении этого имени см.: Field A. Nabokov: His Life in Art. London, 1967. P. 195.
151
См. о нем: Jonas. P. 52.
152
Ibid.
153
Ibid. P. 55, 141, 334.
154
Ibid. P. 63.
155
Ibid. P. 63, 56.
156
Ibid. P. 62–63.
157
См. статью «Gnosticism» в кн.: The Catholic Encyclopedia / Ed. Fathers-Gregory.
158
См.: Jonas. P. 63.
159
Haardt. P. 387; см. также: р. 385.
160
Jonas. P. 46.
161
Ibid. P. 45.
162
Ibid. P. 56.
163
Grant, 1961. P. 120.
164
Jonas. P. 118; см. также: Haardt. P. 375. См. также аналогичное место романа, в котором рассказано, как Цинциннат притворялся прозрачным (IV, 55–56).
165
См.: Jonas. P. 127.
166
Grant, 1961. Р. 120.
167
Haardt. P. 387.
168
Grant, 1961. Р. 117 (ст. 12–13).
169
Jonas. Р. 126.
170
Ibid. P. 57.
171
Ibid. P. 282.
172
Haardt. P. 395. Ср. также: «Я укрылся от Семи, я унизил себя, я облачился в плоть» (Гинза, 112) — Ibid. P. 375.
173
Ibid. P. 4.
174
Ibid. P. 24.
175
Ibid. P. 389.
176
Jonas. P. 92, 68.
177
Haardt. Р. 392–393.
178
См.: Grant, 1966 (гл. «The Unknown Father»).
179
Jonas. P. 288.
180
Nabokov's Congeries. N. Y., 1968.
181
Cм.: A Dictionary of Symbols / Ed. J. E. Cirlot. N. Y., 1962. P. 33.
182
«Если после „Приглашения на казнь“ <…> перечесть Гоголя, то его „мертвые души“ начинают казаться живыми» (Бицилли П. Возрождение аллегории. С. 194).
183
Jonas. P. 60.
184
Haardt. P. 396; Jonas. P. 45–46.
185
Haardt. P. 378.
186
Jonas. P. 48.
187
См.: Мф. 27:32; Мк. 15:21; Лк. 23:26.
188
См.: Haardt. Р. 42; Данзас Ю. Н. В поисках за божеством… С. 256; Grant, 1961. Р. 34.
189
Ibid. Р. 176.
190
См. статью «Letters of the Alphabet» в кн.: A Dictionaly of Symbols.
191
Об инверсном зеркальном соотношении русской и английской «фонетической радуги» Набокова см.: Johnson D. В. Synesthesia, Polychronatism, and Nabokov // Russian Literature Triquarterly. 1972.1 3. P. 378–395.
192
Jonas. P. 54.
193
Mead G. R. S. Fragments of a Faith Forgotten. London, 1906; Echoes from the Gnosis. Vol. 1–10. London, 1906–1908; The Gnostic John the Baptizer: Selections from the Mandaean John-book. London, 1924; Lidzibarski M. Das Johannesbuch der Mandäer. Giessen, 1915; Mandäische Liturgien. Berlin, 1920; Ginza: Der Schatz, îder das Grosse Buch der Mandäer. Göttingen, 1925.
194
См.: Струве Г. Русская литература в изгнании. Нью-Йорк, 1956. С. 287.
195
Jonas. P. 80.
196
Ходасевич В. Тяжелая лира. М.; Пг, 1922. С. 21.
197
В романе о дубе можно уловить отдаленное эхо — воспоминание об известном дубе в «Войне и мире» Толстого.
198
Haardt. P 382.
199
Jonas. P. 89. См. также главы «The Call from Without» и «The Response to the Call».
200
Baudelaire Ch. Les Fleures du Mal. Paris, 1961. Ð. 58 («Там красота, там гармоничный строй, Там сладострастье, роскошь и покой» — перев. И. Озеровой). Не случайно в английской версии романа Набоков переводит русское «там» французским «là-bas». См.: Nabokov V. Invitation to a Beheading. N. Y., 1965. P. 94.
201
Впервые: Сирин В. Руперт Брук // Грани. Берлин, 1922. № 1. С. 214–215.
202
Times Literary Supplement. 1959. 13 Nov.
203
Jonas. P. 92.
204
См. о них в «Других берегах» (V, 152).
205
Набоков В. Память, говори // Набоков В. Собр. соч. американского периода. Т. 5. С. 507 (перев. С. Ильина). Цитируемой главы нет в «Других берегах».
206
Эта метафора была рассмотрена во второй главе настоящей работы (см. с. 61).
207
Места, содержащие текст Цинцинната: 1-я гл. — с. 48, 4-я гл. — с. 73–75, 5-я гл. — с. 80–82, 8-я гл. принадлежит полностью Цинциннату, 13-я гл. — с. 131–133, 18-я гл.-с. 166–167, 19-я гл.-с. 174–175 (страницы указаны по цитируемому изданию).
208
Набоков В. Интервью Альфреду Аппелю, сентябрь 1966 г. С. 606.
209
Nabokov V. Poems and Problems. N. Y., 1970. P. 155–156.
210
Набоков В. Николай Гоголь // Набоков В. Собр. соч. американского периода. Т. 1. С. 507.
211
Данзас Ю. Н. В поисках за божеством. С. 329.
212
Мандельштам О. Слово и культура М., 1987. С. 42.
213
В фонетической транскрипции безударное «о» превращается в «а». Об аллитерации в романе Набокова см. Бицилли П. В. Сирин. Приглашение на казнь. Соглядатай.
214
Набоков В. Интервью Альфреду Аппелю, сентябрь 1966 г. С. 603.
215
См. стихотворение «В раю» (II, 548).
216
Ходасевич В. О Сирине. С. 252.
217
Набоков В. Интервью Альфреду Аппелю, сентябрь 1966 г. С. 596.
218
См.: Набоков В. Предисловие к английскому переводу романа «Приглашение на казнь» // В. В. Набоков: pro et contra. СПб., 1999. С. 46 (перев. Г. Левинтона).
219
Гоголь Н. В. Полн. собр. соч. [Л.; М], 1952. Т. 8. С. 439. Ср. также в письме Гоголя к В. А. Жуковскому от 10 января 1848 г./29 декабря 1847 г.: «И эти-то самые болезнь и хандра были причиной той веселости, которая явилась в моих первых произведениях: чтобы развлекать самого себя, я выдумывал без дальнейшей цели и плана героев, становил их в смешные положения — вот происхождение моих повестей!» (Там же. Т. 14. С. 34).
220
Странная улыбка Ганина над телом мертвого поэта в романе «Машенька» не имеет ничего общего с ехидным смехом Цинцинната. Ганин улыбается не смерти Подтягина, а бессмертному бытию поэта, который «все-таки кое-что оставил» (II, 124). Цинциннат смеется над физической смертью автора. Улыбка Ганина — «radiant smile» читателя, читающего бессмертные строки, о которых Набоков пишет в своей книге «Николай Гоголь». Ср. также: «…есть детская улыбка в смерти» (рассказ «Письмо в Россию» в сб. «Возвращение Чорба» — I, 162).
221
«Мои измышления, мои круги, мои особые острова бесконечно защищены от отчаявшихся читателей» (Nabokov V. Strong Opinions. P. 241).
222
Набоков В. Собр. соч. американского периода. Т. 3. С. 317. (перев. С. Ильина).
223
Там же. С. 420.
224
Как известно, гностический концепт архонтов восходит к следующему месту из «Псалтири»:
«…вы — боги, и сыны Всевышнего — все вы. Но вы умрете, как человеки, и падете, как всякий из князей».
(Пс. 81:6–7)
Слово, переведенное в русской Библии как «князья», на иврите (archon) означает «ангел Земли» и имеет негативную коннотацию.
225
Набоков В. Николай Гоголь. С. 443.
226
Jonas. P. 64; Haardt. P. 346 (Гинза, III, 98).
227
Ходасевич В. Тяжелая лира С. 34.
228
Набоков В. Интервью для Нью-Йоркской телепрограммы «Television 13», 1965 г. // Набоков В. Собр. соч. американского периода. Т. 3. С. 552 (перев. С. Ильина).
229
Набоков говорил, что он исполняет роль антропоморфного божества (см.: Appel A. Introduction //Nabokov V. Lolita. N. Y., 1970. P. XXXI).
230
Ходасевич В. О Сирине. С. 245–246.
231
Ходасевич В. О Сирине // Ходасевич В. Литературные статьи и воспоминания. Нью-Йорк, 1954. С. 253–254.
232
См.: Field A. Nabokov: His Life in Art. London, 1967. P. 54, 248.
233
В интервью телевидению Би-би-си, 1962 г., Набоков сказал о нем: «Пожалуй, самое любимое мое русское стихотворение — то, которое я отдал главному герою этого романа (речь идет о „Даре“. — С. Д.). <…>. Однажды мы под вечер оба / Стояли на старом мосту. / Скажи мне, спросил я, до гроба / Запомнишь вон ласточку ту? / И ты отвечала: еще бы! / И как мы заплакали оба, / Как вскрикнула жизнь на лету! / До завтра, навеки, до гроба, — / Однажды, на старом мосту…» (Набоков В. Собр. соч. американского периода: В 5 т. СПб., 1997. Т. 2. С. 552–572 (перев. М. Маликовой под ред. С. Ильина).
234
Последние новости. 1937. 28 марта. Неоднократно переиздан в английском переводе: The New Yorker. 1963. March 23; The Portable Nabokov. 2 ed. N. Y., 1971. См. об этом рассказе в кн.: Flower D. Reading Nabokov. Ithaca, 1974. P. 83–90.
235
См.: «Путешествие в Арзрум» Пушкина, «Дневники и записные книжки третьего путешествия в Центральную Азию (1879–1880)» Н. М. Пржевальского, «Дневники и записные книжки», «Путешествие в Монголию и Западный Китай» Г. Грумм-Гржимайло. Этой информацией я обязан Омри Ронену.
236
«…он был счастлив среди еще недоназванного мира, в котором он при каждом шаге безымянное именовал» (IV, 303). См. также стихотворение Набокова «A Discovery» (1942).
237
«Глава вторая — это рывок к Пушкину … Третья глава сдвигается к Гоголю…» (Набоков В. Предисловие к английскому переводу романа «Дар» («The Gift») // В. В. Набоков: pro et contra. СПб., 1999. С. 50 (пер. Г. Левинтона).
238
Против такого толкования в «Дневнике писателя» за 1873 год выступал сам Достоевский: «Года полтора спустя мне вздумалось написать одну сказку, вроде подражания повести Гоголя „Нос“» (Достоевский Ф. М. Нечто личное // Достоевский Ф. М. Полн. собр. соч.: В 30 т. Л., 1980. Т. 21. С. 26.)
239
Подробнее см. об этом: Давыдов С. Что делать с «Даром» Набокова? // Общественная мысль. М., 1993. Т. 4. С. 59–75.
240
Frye N. Anatomy of Criticism, New Jersey, 1973. P. 309.
241
Ibid. P. 310. См. также: Бахтин М. Проблемы поэтики Достоевского. М, 1972. С. 189.
242
Чернышевский Н. Г. Полн. собр. соч.: В 15 т. М., 1949. Т. 2. С. 90–91.
243
Field A. Nabokov: His Life in Art. N. Y., 1977. P. 30.
244
См.: Field A. Habokov: His Life in Art. P. 242.
245
Hayman J. A Conversation with Vladimir Nabokov — with Digressions // The Twentieth Century. 1959. Vol. 166 (Dec). P. 449; Цит. по: Nicols Ch. The Mirrors of Sebastian Knight // Nabokov: The Man and his Work. Madison, 1967. P. 85.
246
Ср. аналогичную формулировку в «Отчаянии»: «Он мне был знаком по будущему» (III, 417).
247
Рассказ существует на правах парадокса. Федор не собирается его писать, но тем не менее создает его via negationis. Может быть, написанию этого рассказа в романе «Дар» воспрепятствовало его появление в «Последних новостях».
248
Превращение сына в отца выдержано и грамматически, в переходах от «я» к «он» — «мы» — и обратно к «я».
249
Об использовании сонетной формы в других произведениях Набокова см.: Field A. Nabokov: His Life in Art. P. 85.
250
Напомню, что 1 апреля — дата последней записи Германа в «Отчаянии», день рождения Гоголя и пушкинского И. П. Белкина. Это намек Набокова на нереальность и полную условность «действительности» в художественном произведении.
251
Формулировка О. Ронена. (См. также: Nabokov V. Strong Opinions. N. Y., 1973. P. 69, 95.)
252
«Это самый длинный и, по-моему, лучший, самый ностальгический из моих русских романов» (Набоков В. Интервью телевидению Би-би-си, 1962 г. С. 571).
253
Field A. Nabokov: His Life in Art. P. 249.
254
The Gospel According to Thomas: Coptic text established and translated by A. Guillamont, H. Puerch, G. Quispel. Leiden, 1959. Log. 22.