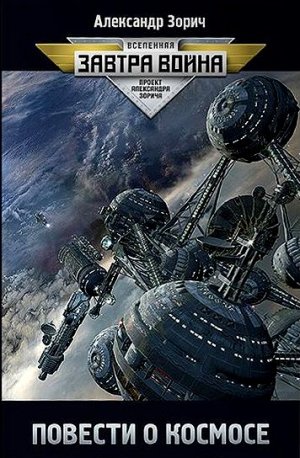
Топоры и Лотосы
1. Большой художник работает крупными мазками
Космический пейзаж на экранах был убогим, как личное дело интенданта Луны.
Патрульный крейсер «Симитэр» степенно швартовался ко второму ярусу башни регламентного обслуживания. Башня была прозвана репортерами НС–новостей «Пятым Интернационалом» за характерную конструкцию, на практике воплотившую фантазию старинного русского футуриста Татлина.
Гигантский мобил–док «Бетховен» вчера завершил ремонт повреждений, полученных во время рейда тойлангов на нашу передовую базу в секторе Свинцового Солнца. Полчаса назад «Бетховен» завершил расстыковку с «Пятым Интернационалом» и теперь медленно отползал прочь от Паллады, готовясь к выходу на джамп–траекторию.
Три легких корвета класса «Фламинго» болтались на высокой орбите Паллады с выключенными маршевыми двигателями. Они дожидались, когда неповоротливый «Бетховен» завершит свой скучный маневр.
Капитаны корветов имели приказ взять мобил–док под свою опеку и сопроводить его в район Сандеи, где концентрировались главные силы нашего флота.
Мобил–док должен был сменить отработавшие двигатели на двух крейсерах 5–й бригады линейных сил, а затем, под прикрытием кочующих крепостей Сандеи, служить передовой базой снабжения и госпиталем на 2000 капсул для личного состава флота и десанта. Предыдущий госпиталь, спецтранспорт «Парацельс», был уничтожен диверсионной группой тойлангов две недели назад вместе со всеми пациентами, персоналом и неконвенциональным складом боеготовых торпед.
Корветы, мобил–док, «Симитэр» и четыре смешанные батареи противокосмической обороны – вот все, чем располагали мы в секторе Паллады.
Больше и не требовалось. Война велась по всей галактике, но никогда не подходила к Солнечной системе ближе, чем на пять парсеков.
Мы вели войну уверенно и неторопливо. Враг номер один отступал к своей метрополии, системе Франгарн. Казалось, еще один натиск – и тойланги примут наши условия капитуляции, которые отбросят их в век парусных флотов, двуручных мечей и вялотекущих экспериментов с природным электричеством.
Служба офицера бортбезопасности чем–то сродни любительскому огородничеству. Баклажаны на грядках поливает автоматика, а ты лежишь в гамаке и дуреешь от безделья. Хочешь почувствовать себя героем? Берешь в руки лейку, трудишься полчаса, а потом… потом снова гамак и единение с внутренним «я».
Ладно еще присматривать за порядком на настоящем боевом гиганте – дредноуте или кочующей крепости. Там большая команда, много молодежи, там иногда хулиганят у стойки бара и бортбезопасность получает шансы раз в неделю поиграть мускулами, растаскивая буянов. Опять же: дредноуты все–таки бывают в деле. На борту бушуют пожары, под взорванным реактором от жара лопается бронепалуба и… да–да, есть упоение в бою!
В службе на «Бетховене» упоения не было и быть не могло. Живого отклика в моей душе не встречал и тот факт, что мои полномочия равнялись капитанским. И даже в чем–то их превосходили.
Полномочия… привилегии… статус…
Майор моего возраста – слезоточивый анекдот. Я же накануне перевода на должность начальника бортовой безопасности «Бетховена» получил знаки различия старшего лейтенанта. Ох, плохо быть королем сапожников…
В число моих привилегий на «Бетховене» входили: каюта с иллюминатором и живым фикусом; персональное кресло на ходовом мостике; право потребления новостей в любое время дня и ночи.
Пока наш док выходил на джамп–траекторию, я как раз и намеревался реализовать это право – под косыми взглядами капитана, навигатора и трех помощников, которые, в отличие от меня, занимались на ходовом мостике какой ни есть работой, а не сосредоточенным убийством времени.
Я достал инъектор и коробочку с новостными пилюлями. Непотребленных новостей было полно: война, спорт, война, политика, война, экономика, война, спорт, война, наука, война, война, война.
Не удивительно, что красно–желтых пилюль у меня скопилось так много: жестокая цензура Бюро–9 превращала военные новости в очень своеобразный продукт. Потреблять его было непросто.
Типовой сюжет: интервью с бойцами элитных подразделений (обычно – берсальерами) на фоне поверженной неприятельской техники.
Типовой тон репортера: озабоченный, вдумчивый, заискивающий.
Типовое настроение элиты: яростно–воодушевленное. Глаза горят демоническим огнем.
На вопросы про жизнь – ответы в духе «На линии огня нет командиров и подчиненных, мы все одна семья». На вопросы по существу – «Мы получили приказ работать цель… Мы работали цель… Отработали цель… Потери?.. На войне как на войне!».
Правда, насчет «работать цели» – это пилоты. Элитная пехота в интервью всегда говорит «выброска»: «попрыгали на выброску», «сходили в выброску», «пришли из выброски».
В конце сюжета – дежурное: «Ну что, ребята, следующее интервью уже на Эрруаке?»
В ответ – нечленораздельное, но одобрительное мычание.
Последний, художественный, так сказать, штрих репортажа: спины солдат, уходящих в ядовитый инопланетный туман.
Вот так. Поэтому военные новости я потреблял нерегулярно. И вовсе от них отказался бы, если б не безотрадное безделье на «Бетховене».
Я метил в пилюлю «наука», но так уж получилось, что мой ноготь подцепил одну из красно–желтых с войной. Значит, судьба.
Вздохнув, зарядил ее в инъектор. Полюбовался, как пилюля стремительно превращается в бесцветную жидкость. И, уперев жерло инъектора в шею, нажал на спуск.
Примерно минуту молекулярные агрегаты с записью новостей добирались до моих нейронных цепей и подготавливали весь биохимизм, необходимый для временной подмены реальной входной информации на суррогатную. Наконец гипервирусы умостились на моих нейронах как следует, обменялись сигнальными рибонуклеидами, синхронизировались – и понеслось!
Перед глазами вспыхнул логотип НС–новостей. После призывных фанфар и сублоготипа «Война за право быть» пошла реклама.
«Помоги флоту – купи Колизей».
«Часы Occident считают наносекунды до победы».
«Вечный двигатель невозможен! Настанет время и для «Энджин».
(Титр сладострастного рекламного сплэша: парочка три полных минуты психовремени занимается любовью в нарочито монотонном ритме, и когда потребителю уже начинает казаться, что его будут мучить вечно, мачо и мучача откидываются на смятые простыни и радостно хватаются за сигареты «Энджин».)
Реклама окончилась. Вокруг меня сгустились светло–желтые стены и мягкая мебель кают–компании какого–то военного звездолета. Разумеется, нашего. За одним из столов, над дымящейся чашкой чая сидел популярный репортер Клим Бершов. Его умные, чуть озабоченные глаза смотрели мне точно в переносицу.
Я сидел напротив Бершова в удобном неглубоком кресле. Передо мной на столе стояли два стакана и две чашки. Вода, апельсиновый сок, чай, кофе.
Я выбрал чай.
За что все любят новости в пилюлях? Вкус напитков прорабатывают на совесть. Есть кофеманы, которые по десять раз на дню новостями колются только ради условно бесплатных вкусовых ощущений – сами–то пилюли удовольствие недешевое.
Стоило мне отхлебнуть чаю, как Бершов заговорил.
– Мы с вами находимся на борту транспорта «Кавур». Здесь расположен штаб одного из десантных соединений, которому послезавтра предстоит атаковать Эрруак – последний оплот врага. На «Кавур» только что прибыл командующий передовым эшелоном высадки, контр–адмирал Алонсо ар Овьедо де Мицар.
«Куда смотрит Бюро–9?!»
Если б хитрый химизм пилюль не давил все негативные психосоматические реакции потребителя в зародыше, я обязательно поперхнулся бы чаем. Клим Бершов только что разгласил дуплетом две тайны: название штабного корабля и имя одной из ключевых персон Оперативной Ставки Флота!
– Адмирал любезно согласился уделить нашему каналу несколько минут, – продолжал Бершов, – и раскрыть некоторые секреты нашей несокрушимой обороны, давно занимавшие умы миллиардов людей во всей галактике. Да и среди тойлангов, – репортер тонко улыбнулся, – найдется немало любопытствующих, готовых распрощаться с половиной своих плавников, только бы узнать побольше о таинственном «Поясе Аваллона», о котором раньше можно было говорить лишь намеками…
Легок на помине, вошел Алонсо. Ответив на приветствие Бершова резким кивком, он занял свободное кресло.
– Господин адмирал, не хочу злоупотреблять вашим временем и терпением нашего гостя, – репортер кивнул в мою сторону, – а потому сразу задам самый острый вопрос: почему тойланги ни разу не пытались атаковать непосредственно Землю и другие планеты Солнечной системы? Ведь подпространство позволяет флоту любой численности подобраться к Земле вплотную. А дредноутам врага достаточно нескольких минут, чтобы уничтожить на нашей родной планете все живое!
Я знал Алонсо лично и по его недовольным гримаскам сразу понял, что нашего рыцаря высокой оперативно–штабной культуры раздражает каждое второе слово штатской обезьяны. И обращение «адмирал» (к контр–адмиралу!), и безграмотное «подпространство», и газетный штамп «уничтожить все живое».
Впрочем, Алонсо давал это интервью по высочайшему приказу главкома, то есть был вынужден воспринимать его как боевое задание. Поэтому он справился с раздражением и довольно дружелюбным, чуть снисходительным тоном объяснил:
– Все дело в блок–крепостях, расположенных на поверхности четырехмерной сферы в пространстве Аль–Фараби или, как вы выражаетесь, в подпространстве. Все нелинейные подходы к Солнечной системе, все Ячейки, Ребра и Лопасти Аль–Фараби контролируются этими сооружениями. Любое возмущение в нелинейных структурах заблаговременно обнаруживается автоматикой блок–крепостей. А интерференц–генераторы крепостей вырабатывают пучок встречных, противофазных возмущений…
Контр–адмирал выдавал военные тайны пачками. Я уже ничему не удивлялся и слушал Алонсо вполуха. Я–то по долгу своей былой службы в силовой и общей разведке примерно представлял себе, как устроена наша нелинейная космическая оборона. Но неужели в благоприятном для нас исходе всегалактической бойни не осталось ни малейших сомнений? И накануне штурма Эрруака было решено выставить на потребу публике святая святых нашей военной технологии?
– Позволю себе перебить вас, адмирал, и напомнить нашему гостю, что любой корабль – например, дредноут тойлангов – представляет собой в подпространстве волну, бегущую по Лопасти Аль–Фараби…
– Не волну, а пучок волн, – поправил Алонсо. – Но упрощенно, конечно, можно говорить о волне. Соответственно, интерференц–генераторы крепостей делают так, чтобы летящий в пространстве Аль–Фараби дредноут тойлангов попросту сгинул без следа, уничтоженный аналогичной встречной волной, идущей в противофазе.
– Как просто! Как красиво! – Бершов довольно убедительно симулировал энтузиазм любознательного полузнайки при встрече с новым чудом технологии.
– Это не так–то просто, – контр–адмирал самодовольно ухмыльнулся. – Это, я бы сказал, чертовски сложно. И адски дорого. На каждый запуск интерференц–генератора для уничтожения объекта в нелинейном пространстве уходит примерно столько же энергии, сколько и на изготовление этого же объекта с нуля. Хочешь уничтожить крейсер – затрать те же гигаватты, которые требуются на его постройку.
– С натурфилософской точки зрения, – ввернул Бершов, – это легко понять. Уже Лукрецию было ясно: «из ничего – ничто», то есть законы сохранения энергии и материи…
– Лукреций? В моем штабе нет такого офицера! – рявкнул Алонсо.
Это была допотопная шутка из малого типового набора, который кадровые военные используют, чтобы поднять свой рейтинг в глазах развитых школьников и молодых мичманов.
После секундной паузы репортер и контр–адмирал на пару залились взаимопонимающим смехом.
– А позволите задать неудобный вопрос? – спросил Бершов, когда оба отсмеялись. При этом репортер заговорщически подмигнул мне – пожалуй, чересчур фривольно.
– Спрашивайте, – со вздохом разрешил Алонсо.
– Эта система нелинейной обороны, которая, насколько я понимаю, и называется «Поясом Аваллона», она… надежна?
Контр–адмирал построжел.
– Ваш Лукреций, случайно, не писал, что абсолютно надежных систем не бывает? Так вот: их не бывает. Вероятность уничтожения целей нашими блок–крепостями – восемьдесят процентов. Это значит, что на учениях бесследно исчезали каждые четыре корабля–мишени из пяти…
Алонсо помолчал немножко, давая психозрителям время осознать эту статистику, и продолжил:
– Но какой адмирал, хоть землянин, хоть тойланг, отважится атаковать, когда знает, что еще до выхода из пространства Аль–Фараби, то есть до начала линейного сражения, он потеряет восемьдесят кораблей из ста? Кто согласится дать противнику такую фору? А ведь в Солнечной системе уцелевшие корабли будут встречены сорока пятью вымпелами Флота Метрополии! К этому следует добавить, что блок–крепости работают и как посты дальнего обнаружения. На расстоянии в несколько часов реального хода корабль засекается по вторичным возмущениям на Ребрах Аль–Фараби. Информация мгновенно передается в штаб и сразу же доводится до всех флотов, разбросанных по галактике. На случай массового вторжения предусмотрена тревога «Красный Смерч», по которой производится экстренный отзыв сотен боевых кораблей в Метрополию.
– Как я понимаю, «Красный Смерч» не объявлялся ни разу?
– Не объявлялся. А жаль – тойланги остались бы без всего флота и война была бы выиграна в один день. Но они не настолько глупы… Вот «Белый Смерч», то есть попытки одиночного проникновения вражеских разведчиков, случался трижды. И все три раза разведывательные рейдеры тойлангов бесследно растворялись в нелинейном пространстве, уничтоженные блок–крепостями. После этого тойланги перестали появляться в окрестностях Метрополии. Тойланги выяснили границы нашего могущества и больше рисковать не решаются.
– Тем более, что в последнее время им все больше приходится думать об обороне собственной планеты, верно?
– Именно так. А теперь – не обессудьте, мое время вышло. Я должен вернуться к своим прямым обязанностям: рисованию больших красных стрелок на штабных картах.
Бершов вежливо улыбнулся.
– Так что, адмирал, следующее интервью будет уже на Эрруаке?
– Следующее интервью будет на Земле. Правительство напомнило Ставке, что главная задача боевого планирования высадки – сбережение жизней наших солдат. Если сохранность биосферы и физическая целостность Эрруака войдут в противоречие с минимизацией наших потерь…
Тут наконец проявились следы деятельности цензуры, о которой я уже и думать забыл. Контр–адмирал заткнулся на полуслове, стены кают–компании исчезли и, после второй порции рекламы, моя высшая нервная деятельность вернулась в накатанное русло.
Я вновь обнаружил себя на ходовом мостике «Бетховена». Согласно часам, я пребывал в бессознательном состоянии двадцать семь секунд.
Норма. Обычная секунда равна примерно минуте психовремени, которое является мерой информационного обмена в наведенных новостных галлюцинациях. Это, кстати, в прошлом веке считалось главным аргументом в пользу перехода на новостные пилюли: экономия времени в пятьдесят и более раз!
Ясно, что за полминуты в большом мире мало что изменилось. «Бетховен» от Паллады отползал, «Симитэр» к ней подползал…
Все произошло быстро.
«Пояс Аваллона» был одновременно прорван в трех секторах.
Рраз! –вокруг Паллады с интервалом в пару секунд одна за другой вспыхнули сорок звездочек;
операторы батарей ПКО в полнейшем непонимании констатировали, что визуально наблюдаемые звездочки по данным радаров и грависканеров являются боевыми кораблями первого класса;
ответ на запрос «свой–чужой» – отрицательный;
«Боевая тревога! «Красный Смерч“! Нет, Семь Бездн Аль–Фараби под вашей задницей, повторяю: боевая тревога!!!»
Два! плотные клинья торпедных стай, паника, вспышки квантовых установок ближней обороны;
огонь, океаны лилового и оранжевого пламени, красный смерч, грохот захлопывающихся дверей;
компьютеры опережают наводчиков, хриплое «урра» – это рассыпался на молекулы первый крейсер тойлангов, вслед за ним исчезают в громоздящихся разрывах торпед еще три;
на входе в боевой пост кто–то орет не своим голосом – автоматическая переборка перебила бедолаге голень.
Три! тойлангов все больше;
вслед за первой штурмовой волной, составленной из устаревших типов кораблей и предназначенной на заклание нашей ПКО, из подпространства выходят линейные силы флота – стройные, изящные красавцы, похожие на алмазные сосульки, источенные черными прожилками батарей ближней обороны и закутанные в призрачное дрожание защитных полей;
ясно: тойланги уже выбросили в районе Паллады больше сотни кораблей первого класса;
против них выходят лишь семнадцать вымпелов Флота Метрополии.
Где же остальные!?
– Сир, только что приняты сообщения из сектора Трансплутона и из Пятого Октанта: Красный Смерч.
– К дьяволу, без них все ясно. Сколько нам еще болтаться на джамп–траектории?
– Три минуты восемнадцать секунд. Но, сир, мы числимся в основных списках флота и считаемся боевой единицей. Мы не имеем права покинуть сферу боя без приказа вышестоящего начальника.
Не знаю, что думал по поводу бредней своего старпома капитан Гриффин ап Гриффин, но в этот момент противник атаковал наш несчастный док. Нам очень повезло, что вся мощь удара сосредоточилась на Палладе и кораблях Флота Метрополии, а нам достались лишь несколько торпед. К тому же, нас поддержали огнем корветы.
Только две «бешеных торпеды» смогли прорваться через заградительный огонь и лопнули в нескольких километрах от мобил–дока, выбросив тучи мелких реактивных снарядов с кассетными боеголовками. Обычно такие штуки используют для экологичного уничтожения площадных планетарных целей вроде солнечных энергоустановок или антенн дальней связи. В нас их выпустили явно по недосмотру.
Основную массу снарядов приняло наше непомерно раздутое чрево, в котором могли вольготно разместиться четыре корвета или суперкрейсер. Но несколько штук задели и кое–что жизненно важное.
Первоклассная док–камера мгновенно превратилась в решето, заполненное вакуумом, а боевой пост, в котором я вел бесплодное общение со старпомом – в угольно–черную пещеру, где воцарились безмолвие и безвременье.
Наконец кто–то тихонько рассмеялся. Весьма нервно, замечу.
– Господа, у меня на коленях чья–то рука, – сообщил незнакомый голос.
Я сообразил, что как–то незаметно переместился из вращающегося кресла на пол. Сотрясение было настолько резким, а болевой шок настолько сильным, что мое сознание, по всей видимости, предпочло несколько секунд пребывать как можно дальше от тела.
– Это моя, правая, – прошипел я, открывая глаза и с трудом переворачиваясь на спину.
Оказалось, что угольно–черной пещерой боевой пост являлся только по моему мнению.
Света стало меньше, но кое–что еще работало, пара экранов светилась, а широкое панорамное окно видеонаблюдения продолжало мерцать в такт биениям неравного боя. Весь пост, от пола до потолка, был заляпан кровью. Рядом со мной лежал старший помощник, превратившийся в рубленую котлету. Я отвернулся.
– Поздравляю. Остальным, по–моему, повезло меньше.
Только теперь я заметил, что повсюду – в креслах, потолочных панелях, в консолях с аппаратурой – едва заметно подрагивают радужные диски. Настолько тонкие, что некоторые невозможно разглядеть, не изменив угла зрения.
– Здесь их тысячи, – словно бы угадав мои мысли, прокомментировал все тот же голос.
Я поднялся на ноги, что без правой руки оказалось не так уж и просто. Но ни боли, ни крови не было.
Кроме меня и незнакомого офицера в форме капитана берсальеров ни одной живой души на боевом посту мобил–дока «Бетховен» не осталось.
Офицер сидел на полу у входа в боевой пост. За его спиной щерилась длинными сколами развороченная взрывом переборка. Правее горбатилось то немногое, что осталось от капитана Гриффина ап Гриффина.
– Кто вы? – спросил я, неловко вытаскивая уцелевшей рукой пистолет из кобуры на правом боку.
Ничего не могу с собой поделать – как и любой офицер бортовой безопасности корабля, я терпеть не могу появления чужаков на ходовом мостике.
А этот человек был чужаком. По данным на конец истекших суток, среди экипажа и пассажиров не было ни одного капитана. И ни одного берсальера.
Мир вокруг летел в тартарары. Но я был вынужден исполнять свой долг. Даже осознавая, что «Бетховен» через минуту превратится в облако холодной пыли.
Берсальер посмотрел на мои нашивки (благо, они находились у него на коленях вместе с моей рукой), потом перевел взгляд на меня, потом понимающе усмехнулся.
– Меня зовут Джакомо Галеацци. Я был в отпуске на Земле. Прибыл на Палладу вчера на борту корвета «Серый фламинго». Добился назначения на «Бетховен» за полчаса до вашего отлета. Я очень боялся опоздать в свою роту. Вы ведь знаете, готовится вторжение… Точнее, готовилось…
– Номер вашей части, – потребовал я.
– Меня вносили в вашу базу данных.
Теоретически это было возможно. В последнюю смену в шлюзе «Бетховена» дежурил мой помощник, лейтенант Вяземский.
– Номер вашей части, – повторил я громче.
– Только что назначен командиром Семнадцатой Отдельной роты берсальеров, борт приписки – быстроходный десантный транспорт «Кавур». Можете проверить, я недавно переведен из другой части, постоянно дислоцированной в Метрополии. У меня блестящий послужной список. Не такой, как у вас, конечно, но…
Джакомо снова усмехнулся. Ох уж мне эти ухмылочки! Конечно, посмотрев на срез моей руки, любой осведомленный вояка поймет, что я – активант. И все–таки противно…
Я вяло махнул пистолетом – дескать, какая теперь разница? Такой послужной список, сякой…
– Вы что–нибудь понимаете в этом барахле? – я обвел широким жестом полумертвый боевой пост.
– А что тут понимать? Вон те здоровенные часы отсчитывают время до входа в подпространство. Мы ведь выведены автоматикой на джамп–траекторию… Если автоматика сработает, через минуту нас вынесет из этого пекла к чертям собачьим. А если нет – прощайте. Приятно было познакомиться, хоть вы и не представились.
– Искандер Эффендишах.
– А я думал, вы тоже итальянец…
– Нет. Я родился в Ширазе.
Четыре! Паллада чудовищно разбухла, увеличившись почти в полтора раза, потом озарилась изнутри малиновыми сполохами и, разбежавшись частой сетью ослепительных прожилок, превратилась в огромный пузырь свежей магмы.
Почти сразу вслед за этим я почувствовал, как тело мое теряет вес, а сознание – четкость.
Привет вам, Семь Бездн Аль–Фараби.
2. Нет такой боли, которую нельзя вытерпеть
Автоматика имеет одну приятную особенность: иногда она все–таки срабатывает.
Мириады бесплотных шумов, триллионы энергетических всплесков, нескончаемые шеренги разновысоких зубчиков на кардиограмме Вселенной промчались по Ребрам Аль–Фараби и в районе Сандеи вновь собрались в овеществленное нечто, в мобил–док «Бетховен».
Когда мы вышли из подпространства, я вздохнул с облегчением.
Джакомо улыбнулся.
– Здравствуйте еще раз. О этот новый сияющий мир!
Я попытался улыбнуться в ответ. Получилось неубедительно. Неожиданно для самого себя я признался:
– Честно говоря, в последний момент перед прыжком у меня возникло пренеприятное предположение: если тойланги смогли прорваться через пояс блок–крепостей, не означает ли это, что их знание о структуре Ребер Аль–Фараби качественно превосходит наше? И теперь они в состоянии уничтожить корабль землян в любой точке подпространства?
– Ерунда. Имей тойланги подобную технологию, они уничтожили бы корабли Флота Метрополии во время их прыжка от Солнца к Палладе. Но я своими глазами видел наши дредноуты, принявшие бой с тойлангами.
– Вы быстро соображаете, Джакомо.
– В пространстве Аль–Фараби все происходит быстро.
Я снова попытался улыбнуться. На этот раз попытка удалась.
Мы оба сидели на полу, в десяти шагах друг от друга. Боевой пост чудом сохранил герметизацию – очевидно, нас спас самозатягивающийся подбой внешней обшивки. Надо было что–то решать.
Впрочем, лишний раз напрягать серое вещество, оскудевшее от переизбытка впечатлений, не пришлось. За нас все решила штурмовая партия тойлангов.
Необычайно быстрым, но плавным движением Джакомо бережно отложил в сторону мою несчастную правую руку, одновременно с этим извлек из набедренной кобуры берсальерский «Гоч» и, грациозно обернувшись на сто восемьдесят градусов, взял под прицел коридор, который отлично просматривался сквозь звездообразную пробоину в переборке.
Мне лишних объяснений не потребовалось. Если берсальер извлекает из кобуры оружие – значит, что–то неладно в Датском королевстве.
В следующую секунду Джакомо открыл огонь – рассеянный, на предельной мощности, в общем, совершенно мясницкий. Тоже мне, снайпер… Теперь «Гочем» можно еще полчаса орехи колоть, пока пушка не перезарядится.
И все–таки хорошо, что Джакомо выстрелил первым. Самокорректирующиеся нити плазмы прочистили коридор на четыре поворота вперед. Если там были вирусы гриппа – нет больше вирусов гриппа. Если были тойланги – нет больше тойлангов. Но это не значит, что их не осталось вовсе.
Если берсальеры славны своей сверхчувствительностью, то мы, активанты, – наглостью.
– Вперед! – гаркнул я, подскакивая к Джакомо.
Свою оторванную правую руку я подобрал на бегу и кое–как запихал отчужденную конечность за пояс. Детям до 23 в просмотре отказано.
Капитан не стал спорить. Он вернул «Гоч» кобуре и вытащил из нагрудного кармана семизарядный LAIW. Плоская коробочка формата портсигара послушно распустилась в его ладони, превратившись в нечто среднее между эллинской пастушьей флейтой и моделью геликоптера от Леонардо да Винчи.
Мы продрались через сколы бронепластика, выбежали в коридор и, миновав легкой трусцой два поворота, вжались в стерилизованные плазмой стены. Дальше по коридору потрескивали, остывая, останки трех тойлангов в штурмовых скафандрах. Один из них был вооружен аналогом «Гоча». Если бы он выстрелил первым…
Да, точно, они хотели взять «Бетховен» на абордаж. И не по глупости, а по расчету обстреляли док «бешеными торпедами». Истребить живую силу с минимальным ущербом для оборудования, а после этого захватить корабль одним взводом – удачная тактическая импровизация.
Иначе как импровизацией этот бред объяснить невозможно. Зачем, собственно, тойлангам какой–то паршивый док, если сейчас их торпеды уже гвоздят по Земле?
При мысли об этом мне стало очень, очень грустно. Для сотен миллионов землян Апокалипсис уже вершится. А я мечусь в недрах бесполезной жестянки и не то спасаю свою жизнь (для кого?), не то защищаю имущество флота от тойлангов (во имя чего?).
LAIW в руке Джакомо, в отличие от меня, не рассуждал, а действовал. Оружие выпустило фантомный бот.
Внешне это выглядело так: та часть пистолета, которая придавала ему сходство с геликоптером Леонардо да Винчи, беззвучно продублировалась. Вперед по коридору, прижимаясь к потолку, шустро устремилось эфемерное полупрозрачное образование – наш разведчик и поводырь.
Через несколько секунд Джакомо молча показал мне четыре пальца. Это означало, что фантомный бот разведал еще четырех тойлангов и передал эту информацию на LAIW, а пистолет в свою очередь телепатически оповестил Джакомо.
Нет, все–таки хорошо, что я не пошел в берсальеры. Просто замечательно. Потому что прежде, чем Джакомо успел приказать пистолету уничтожить обнаруженные цели, невидимая, но необоримая сила швырнула его на пол.
Берсальер завыл, пытаясь сбросить с руки LAIW, который теперь, очевидно, представлялся ему куском раскаленного железа. Не тут–то было. Канал телепатической связи был заблокирован, оружие перестало слушаться хозяина и продолжало держаться за его ладонь цепким пауком.
В штурмовой группе тойлангов был кто–то, кому удалось запеленговать пистолет Джакомо и прицельно захлестнуть сознание берсальера телепатическим бичом. Помочь Джакомо было нечем. Пройдет еще полторы–две минуты – и он умрет. Перехватить и разорвать невидимую удавку практически невозможно. По крайней мере, без второго LAIW. А этого оружия у меня не было, да и управиться с ним я бы не смог: для этого нужно быть берсальером.
Это был конец или почти конец. Я, со своим простецким пистолетом прямого боя (скорее полицейская, нежели боевая модель), без правой руки и без скафандра мог теперь рассчитывать разве что на быструю смерть.
Я мысленно попрощался с Джакомо и бросился вперед.
В спасение я не верил. Тойланги обнаружат меня быстрее, чем я смогу применить свой разнесчастный «Фолькер». Плазма затопит коридор, а когда огню придет время исчезнуть, меня уже не будет.
Сейчас, сейчас, прямо вот в эту секунду блеснет вспышка, которую я даже не успею заметить – и всё. И – Вечность.
Череда вспышек. Трескучие хлопки, словно лопаются на сковородке крабы с гарниром из ширазских каштанов.
Я жив.
За поворотом коридора – голос. Человеческий голос, искаженный речевым эмулятором скафандра.
– Есть тут кто живой!?
Если это ловушка тойлангов, значит, я сейчас в нее попадусь. Спрятав «Фолькер» (если что – он мне не поможет), я сделал несколько шагов вперед и оказался под прицелом двух тяжелых пулеметов.
Это были берсальеры Семнадцатой Отдельной роты «Пиза». По крайней мере, об этом свидетельствовали нагрудные и наплечные нашивки с молниями, перекрещенными над Пизанской башней. Под сенью молний пламенело алое «17».
Нет больше вашей башни, ребята. Земли нет, и Пизы нет, и башни…
Берсальеры стояли по щиколотку в черных угольках. Надо полагать, это было все, что осталось от тойлангов.
Между мной и берсальерами в полу зияла грандиозная дыра. Сквозь нее была видна техническая палуба, над которой стайкой дымчато–янтарных сомиков зависли катера экстренного проникновения «Таракатус». Это где же нас вынесло, интересно, если десантники успели высадиться на мобил–доке почти мгновенно?..
– …ничего чудесного. «Бетховен» был запрограммирован на выход в центре ордера моей эскадры – он это и сделал. Док передавал «SOS» в автоматическом режиме, поэтому мы сразу же прощупали вас всеми средствами обнаружения. Впрочем, прилепившийся к вам абордажный катер тойлангов был прекрасно виден и невооруженным глазом. «Кавур» выбросил дежурный взвод берсальеров. В этом сражении мы победили, – закончил контр–адмирал Алонсо ар Овьедо де Мицар.
В смысловом ударении на «этом сражении» была легко объяснимая, но, слава Богу, пока еще не кощунственная ирония.
Главную новость я узнал сразу же после того, как меня вытащили из медицинского комбайна. Флот Метрополии уничтожен полностью. Единственный вымпел, которому удалось вырваться из Солнечной – собственно, мобил–док «Бетховен». Все батареи ПКО подавлены. Кроме Паллады, мы потеряли Ио, Деймос и Плутон. Военные объекты на Луне и Марсе стерты в порошок. Луна, кстати, треснула.
Но Землю тойланги пощадили. Более того – ими была оставлена в неприкосновенности циклопическая антенна АФ–связи, болтающаяся над Землей на геостационарной орбите.
Во время вторжения тойланги филигранно вырубили залпом нейтронных пушек один усилительный каскад антенны. Из–за этого сигнал «Красный Смерч» не был послан главным силам флота.
Через полчаса после разгрома Флота Метрополии тойланги захватили орбитальный центр АФ–связи, невесть как отремонтировали усилительный каскад (видать, заранее к этому приготовились) и сами связались с нашими главными силами. Поэтому о величайшей катастрофе в земной истории наш доблестный адмиралитет узнал от какого–то тойлангского задрипанца в чине Натиска Премудрости Живьем Родящего. То есть по–нашему – капитана спецназа.
– Так рука у вас точно в порядке?
– Да, конечно. Прирастили чисто, как и не отрывалась никогда.
Я демонстративно пошевелил пальцами перед носом у контр–адмирала. Ощущение было такое, будто от плеча до самых ногтей протянуты огненные струны. И неистовый скрипач пилит по ним железным смычком. Оууу!
– Вы хорошо переносите боль, – без энтузиазма констатировал контр–адмирал. – Скажите, Эффендишах, вам не кажется, что лучшее для нас – это ворваться в систему Франгарна и будь что будет?
– Но тогда их флот уничтожит Землю.
– А вдруг нет? Посудите сами, уже двенадцать часов как у них есть такая возможность. Но они ею пока не воспользовались. А мы зато сможем поставить под непосредственную угрозу Эрруак – их материнскую планету.
Вот так логика! Не желая, чтобы Алонсо сейчас закоснел в своем знаменитом упрямстве, что непременно произойдет, стоит мне только начать отговаривать его от удара по метрополии тойлангов, я осторожно заметил:
– Тойланги и впрямь далеко ушли путем трансгрессии конечно–множественных оппозиций…
– Простите? – переспросил контр–адмирал.
– Я хочу сказать, их методы логического анализа и, соответственно, принципы выработки решений сильно отличаются от наших.
– Вот видите, значит, у нас есть надежда!
– Может и есть. Но сколь бы оригинально не мыслили тойланги в сферах технологии, изящных искусств и социальной философии, их военно–политические решения, как вы знаете, в целом подобны нашим. На любой акт агрессии с нашей стороны тойланги ответят уничтожением Земли. Я считаю, что мы должны добиться переговоров. Пусть выдвинут свои условия. Мне кажется, что не в нашем положении…
Тут меня разобрала злость и я резко закончил:
– Непонятно, зачем я это говорю. Что может значить голос какого–то лейтенанта?
– Перестаньте, Эффендишах, – глаза адмирала метнули в меня пару берсальерских молний. – Если с ваших шевронов когда–то сорвали дубовые листья, это еще не значит, что вы имеете право быть просто исполнительным лейтенантом бортбезопасности вымпела вспомогательного флота.
– Однако именно им я пробыл последние два года.
– Как вы думаете, Эффендишах, почему я хотел узнать ваше мнение относительно вторжения в систему Франгарна?
Как меня злил этот разговор! О, это можно понять только если учесть, что я был разжалован из полковников в лейтенанты по инициативе капитана первого ранга Алонсо ар Овьедо де Мицар!
– Не знаю. Я даже не знаю, зачем вам говорить с каким–то увечным лейтенантом. В то время как вы, будучи человеком долга, должны пойти и застрелиться.
Адмирал снял шлем. Вся правая половина головы у него была залеплена искусственной кожей.
– Вы хорошо разбираетесь в древнем оружии. Вы меня поймете. Ствол револьвера разорвало в момент выстрела, пуля не смогла пробить череп. Я покинул медицинский комбайн час назад.
Я был впечатлен, но впечатляться солдату не пристало.
– В следующий раз рекомендую воспользоваться «Гочем». Этот не подведет.
– В следующий раз я так и сделаю, – отчеканил адмирал, снова надевая шлем. – А пока что вернемся от Вечности к животрепещущему нерву мировой истории. Я рад, что вы, как и большинство членов адмиралитета, считаете переговоры лучшим средством решения конфликта. Поэтому вашу кандидатуру на пост чрезвычайного посланца Сверхчеловечества можно считать утвержденной. В качестве офицера охраны в состав дипломатической миссии включен капитан Джакомо Галеацци. Вашим заместителем назначен полковник Петр–Василий Дурново. Верительные грамоты и прочие штатские документы получите в каюте Бюро–9. Там же будет проведен дополнительный инструктаж. В систему Франгарна вас доставит крейсер «Аль–Тарик». Вылет через два часа. Переговоры начнутся сразу после вашего прибытия. Поэтому советую выспаться здесь, на «Кавуре». Удачи, бригадный генерал Эффендишах.
«Член адмиралитета… Чрезвычайный посланец Сверхчеловечества… Дурново, старый хрен… Джакомо жив???»
Впрочем, все ведь понятно. Все ясно как день. Господа адмиралы наложили в штаны. Может даже, и вправду кто–то застрелился.
Тойланги вышли на связь через нашу орбитальную антенну, показали, что с Землей пока все в порядке и предложили переговоры. Предложили, разумеется, членам Оперативной Ставки, носителям реальной власти, а не обезумевшему от ужаса Сенату Сверхчеловечества в Дели. Можно считать, что помимо прочих пертурбаций у нас произошел военный переворот.
В подобной ситуации офицеры Бюро–9 на Сандее оказались самыми сообразительными пройдохами в новоявленном правительстве–на–час. И доказали как дважды два четыре, что лучший из лучших – это Искандер Эффендишах, легенда Свинцового Солнца и Кетрарий, обиженный герой десантной операции на Утесе.
Не говоря уже о том, что Искандерчик – единственный активант, который так и не был активирован. И уж совсем бессмысленно сейчас вспоминать о том, что наш Искандерчик побывал в плену и с той поры ходит в подозреваемых. Об Искандерчике в случае успеха посольства можно будет забыть, а в случае провала – торжественно депортировать в Вечность за преступную халатность или сговор с противником.
Поэтому меня восстановили и даже повысили в звании. Поэтому меня назначили посланцем. Поэтому они будут выполнять любые мои прихоти до той поры, пока не спровадят меня на Эрруак.
Мы, бригаденгенералы Бюро–9, переспрашивать не привыкли. И со всякими там контр–адмиралами мы на «ты».
– Спасибо, Алонсо. Можешь идти. Впрочем, нет, обожди. Запиши, а то забудешь: две бутылки «Клико», паштет из местных омаров, ведро красной икры, дюжина рябчиков, две дюжины устриц и шашлык по–карски.
На большее мне фантазии не хватило. Наверное, сказались два года на стандартном боевом рационе.
– Нет, ящик. Ящик «Клико».
3. Владеющий языком владеет реальностью
– …Также народ Земли доводит до сведения владетелей пространства, что он восхищен искусством вашего высшего военного руководства, навигаторов и пилотов, которые показали, что равных нет и не появится никогда ни в Устойчивых, ни в Мерцающих Мирах…
Насчет «нет и не появится никогда» – большой вопрос, конечно. Но бесспорно то, что нет во всей Вселенной второй цивилизации, которая была бы столь же чувствительна к дипломатическому этикету, как тойланги. И, пожалуй, не было еще в истории Сверхчеловечества такого унизительного посольства, как наше.
Я шевелил губами, повторяя нейросуфлера, бубнившего внутри моей черепной коробки заготовленную речь, ощущал полнейшую экзистенциальную опустошенность и абсолютную бессмысленность нашей миссии, но… Но это было моей работой, сполна оплаченной пьяной оргией, которую я справил на борту «Кавура» каких–то шесть часов назад.
Наконец я покончил со вступлением и, сохраняя трагедийно–возвышенное выражение лица, замолчал. Тойланги, к слову, превосходно разбираются в мимике разумных рас вообще и человеческой в частности. Это тем занятнее, что, по моему мнению, у самих тойлангов что–либо даже отдаленно похожее на мимику отсутствует напрочь.
Моими слушателями были трое отнюдь не первых помощников Управителя Пространств Удаленных, то есть, в эквивалентных земным реалиям терминах, заместители или даже точнее секретари министра иностранных дел.
Они восседали на рубиновых тронах за стеной из прозрачного пластика, который ограждал «земной» дипломатический сектор от агрессивной атмосферы Эрруака.
Справедливости ради следует отметить, что вблизи тойланги выглядят совсем не так, как их принято показывать в НС–новостях. То есть они не похожи на офицеров SS старогерманского Третьего Рейха в масках крокодилов. Потому что в обычной жизни тойланги не носят боевых биомасок, о чем среди наших ньюсмахеров принято забывать с восхитительной легкостью.
В родном Управлении Пространств Удаленных тойлангский чиновник носит длинный золотистый халат поверх умопомрачительно синих шароваров, галстук цветов первопричинных стихий и хрустальные очки. Если к этому прибавить треуголку, увенчанную сияющей звездой, вокруг которой вращаются двенадцать крохотных планеток, то станет ясно, с какими милыми созданиями мне довелось общаться в Управлении.
Главный чиновник шевельнул губами.
– Большой художник работает крупными мазками, – сообщил транслятор.
Лично я понимал это и без перевода, но вообще транслятор не был лишним. Стоит чиновнику перейти на стихоречь и перестану понимать даже я…
Поэты доморощенные… «Премудрости владетелей пространства или Энциклика Древностей» – приблизительно так называется настольная книга каждого тойлангского воина, цитатник философских красот, гордость местного шовинизма.
Перл насчет «крупных мазков» помещался в начале раздела седьмого, после максимы «Владеющий языком владеет реальностью», перед непритязательным натурфилософским наблюдением «Бесперая рыба не летает».
У тойлангов превосходно развиты изобразительные искусства и, в частности, масляная живопись. При всей несхожести наших цивилизаций масляные краски и кисти здесь тоже известны издревле. Кисти, правда, изготовлялись тойлангами не из свиной щетины, а из перьев летающих рыб. Тех самых, каковые без таковых не летают. А вот краски были вполне обычными. По химсоставу они недалеко ушли от тех, что наполняли палитры Рогира ван дер Вейдена и Ханса Меммлинга.
Я, а вместе со мной стоящие за моей спиной Петр–Василий и Джакомо, восторженно зааплодировали. Ну как красиво сказано, вы подумайте: «Большой художник работает крупными мазками»! Это надо ж ведь!
Впереди было еще по меньшей мере четыре часа протокольной болтовни. И вся эта пытка – ради эфемерной надежды узнать, что же тойланги намерены делать теперь.
Теперь, когда главные силы вражеского флота повисли на орбите Земли.
Всё могло закончиться в любой момент. «Всё» – это моя, например, жизнь. И история матушки–Земли заодно.
Потому что не было ни малейших гарантий, что тойлангов заботят жизни полутора миллиардов землян. Возможно – заботят. Возможно – нет. И не было в Метрополии эскадры, способной задержать тойлангов до подхода наших главных сил, которые огромной, бессмысленно скученной армадой болтались в Треугольнике Ле Дюка, между Сандеей и Тарнемом.
Итак, тойлангов сохранение нашей молоденькой разумной расы не интересовало. А Земля как космическое тело их не интересовала и подавно. Потому что из всех пресловутых природных ресурсов на Земле по большому счету была только уйма «легкой» соленой воды и гигатонны кремниевых соединений. Такого добра в галактике – валом.
Выводы: Землю можно было уничтожить, потому что никаких практических выгод для владетелей пространства она не представляла, а оперативные возможности у них имелись, и еще какие. А мое посольство и крейсер «Аль–Тарик» можно было уничтожить просто так. Не вдаваясь в размышления о смысле сей экзекуции.
К слову сказать, с предыдущим посольством так и случилось.
– Ты что–нибудь понял? – спросил Петр–Василий, когда мы откисали в джакузи.
Каждый в своей, разумеется: Петр–Василий в одной, Джакомо в другой, а я в положенной мне по рангу третьей, большей двух предыдущих, вместе взятых. В моей ванне, между прочим, кроме меня плавали еще два осетра и метровый тунец. До такой степени похожие на живых, что самого себя я начал ощущать рядом с ними неполноценным кибермехом.
Диковинные вкусы были у предыдущего посла, да благословит Всемилостивый его несовершенную душу.
– Понял, хотя за точность не ручаюсь. Даже транслятор сбоил. Слишком сложная началась смысловая полифония в семнадцатом стихе. И до тридцать пятого она только усиливалась. А вот потом была чистая риторика, это я гарантирую. Общий смысл в том, что решение о судьбах Земли и землян снизойдет на Единое Управление Пространства в День Кометы. А пока что можно отдыхать.
– Не согласен! – Джакомо хлебнул еще шампанского (натурального!), шумно прополоскал зубы и выпустил его на пол пенной струйкой (это натуральное–то!!!). – То, что вы, сир, называете «риторикой», и было самым главным! Они хотят, чтобы мы перестали употреблять в пищу рыбу, отказались от своей нечестивой религии и заучили наизусть «Премудрости владетелей пространства».
– Да нет, ерунда, – махнул рукой Петр–Василий. – Ты слушай Искандера. Когда ты еще девочек полагал дефективными мальчиками, Искандер уже грязюку месил в каком–нибудь героическом болоте. С тяжелым, заржавленным пулеметом на плече…
– Лестная характеристика! – фыркнул я. – Слышал, Джакомо? А когда тебе стало ясно, что все не так, что ты – всего лишь дефективная девочка, я уже ого–го! С новым пулеметом, в благоустроенном блокгаузе, раскладывал перистозубых пришельцев на свет, тепло и нематериальную эссенцию, именуемую душой.
Джакомо запустил в меня бутылкой из–под шампанского.
Это было резко. Это было совершенно необъяснимо. Это не было шуткой, ведь литровая емкость из настоящего, толстого бутылочного стекла – предмет убойный. Среагировать я не успел, потому что не был активирован. И очень надеялся, что до этого не дойдет.
Из моей джакузи вырвалась серебристо–синяя тень.
Блеснула ослепительная вспышка. Паф–ф–ф!
Вихрь стеклянной пыли взвился на полпути Джакомо к моему виску. Все, что осталось от бутылки, просыпалось на пол.
Органическое… нет, полуорганическое… нет, кибермеханиче… В общем, охранный агрегат, представлявшийся прежде тунцом, теперь висел в воздухе на том самом месте, где нашла свой конец бутылка из–под шампанского. Агрегат настороженно гудел и пялился на пошедшего зелеными пятнами Джакомо черными жерлами четырех черных стволов.
«Ожидаю приказаний», – постучалось в мою черепную коробку.
– Спокойно. Не стрелять, – ответил я вслух.
От мыслеприказов у меня всегда начинается жуткая мигрень. Поэтому я предпочитаю устную форму общения даже с телепатически управляемыми механизмами.
– Джакомо, ты с ума сошел, да? – спросил я по возможности ласково.
Джакомо молчал и трясся крупной дрожью. Вид у него был нездоровый.
– Кажется, у нас начались неприятности, – мертвым голосом сказал Петр–Василий.
– Что вообще характерно для нашего судьбоносного времени, – согласился я, не сводя глаз с Джакомо.
Через секунду наш берсальер упал в обморок. Вечеринка закончилась.
Мы засунули Джакомо в медицинский комбайн. Я оставил при нем Петра–Василия, а сам вышел на связь с «Аль–Тариком».
Теоретически, канал дипломатической связи защищен от перехвата на сто один процент. Импульсы имеют длительность в одну–две миллисекунды, а шифрование осуществляется четырьмя независимыми алгоритмами, которые превращают текст в плотно упакованную абракадабру; кроме этого – никаких голограмм, никакого стереозвука и психохимии. Из большого бронированного куба вылазит лента, покрытая буковками – вот и вся картина, достойная Золотого Века.
В том режиме, который я выбрал, лента растворялась в воздухе за три минуты.
Могла бы и за несколько секунд, конечно. Но системы наружного наблюдения сообщали, что вокруг нашего посольства все спокойно. Непосредственной угрозы захвата секретной информации не было и я мог позволить ленте пожить пару лишних минут.
«Аль–Тарик» на связи. Что у вас?» – осведомилась лента.
«Тойланги намерены ждать до Дня Кометы. Больше я не вытянул из них ни слова. Они даже не сказали точно, когда этот проклятый День Кометы наступит. По моим оценкам – в ближайшие пять стандартных суток. Вы можете посчитать точнее?»
«Тайм–аут пять минут», – ответила лента.
Я поднялся из кресла, закурил и прошелся по комнате секретной связи вперед–назад.
День Кометы – это редкий сакральный праздник… м–м–м, не праздник даже… скорее, Событие с большой буквы.
Эрруак, родная планета тойлангов, кружится вокруг звезды, которая называется Франгарн. Кроме Эрруака в планетной системе еще много различных небесных тел. В том числе, небольшой объект, который во флотских атласах проходит как Франгарн–164. Эрруак, кстати, в этих же атласах именуется Франгарн–5. Ну что сказать! Космофлотчики народ суровый, фантазия у них ограниченная. Дай им волю – начнут Землю называть Солнце–3, а Луну – Солнце–31.
Франгарн–164, а на языке тойлангов просто Комета – небесное тело довольно необычное.
Эрруак имеет период обращения четыре с небольшим земных года, а Комета – приблизительно шестьдесят пять. Удивительно, но факт: если период обращения Эрруака возвести в третью степень, с точностью до восемнадцатого знака получится период обращения Кометы.
Проще говоря, периоды обращений этих двух небесных тел – Кометы и Эрруака – удивительно точно синхронизированы. О причинах этого нашим астрофизикам остается только гадать. Но, как бы там ни было, раз в 65 земных лет (и один раз в шестнадцать эрруакских) Комета проходит в нескольких десятках тысяч километров от Эрруака.
Десятки тысяч километров по космическим масштабам – это на расстоянии вытянутой руки по меркам человеческим. Пышная газовая грива Кометы раздувается на солнечном ветру Франгарна и полностью поглощает Эрруак. Прохождение планеты через газовый хвост Франгарна–164 вызывает множество природных феноменов. Ионизация стратосферы резко возрастает, на планете бушуют магнитные бури, ночное небо переливается всеми цветами радуги.
Эта астрофизическая вакханалия, постепенно нарастая, длится примерно две недели. Днем Кометы называется ее апофеоз – стояние Франгарна, Эрруака и собственно кометы почти на одной линии, когда блеск ледяной гостьи достигает максимума. После этого буйство небес идет на убыль и уже через двадцать стандартных суток Комета превращается в обычную яркую звезду.
У Эрруака нет естественных спутников, ночи там – всегда безлунны. Можно себе представить, какое впечатление производили на древних тойлангов редкие, но регулярные визиты космического тела, во много раз превосходящего нашу знаменитую комету Галлея по размерам и светимости.
Не удивительно, что судьбы Сверхчеловечества тойланги собрались вершить именно в День Кометы.
На бронированном ящике станции дипломатической связи замигала красная лампочка. Тайм–аут закончился.
«Двадцать девять стандартных часов», – было написано на ленте.
Итого, чуть больше суток до принятия роковых решений… Чуть больше суток!
«Принято. Что Земля?» – отстучал я.
«Тайм–аут полчаса».
Довольно–таки неучтиво. Они что там, на «Аль–Тарике», с ума сошли?
Тайм–аут в Пространстве – не то же самое, что в шахматной партии. Получасовый тайм–аут, который объявляет боевой корабль первого класса во время сеанса связи с посланцем Сверхчеловечества – это грохот гонга «Все по местам!» и блеск абсолютных отражательных пластин на боках неопознанного объекта длиной в четыре мили, который внезапно выносит нелегкая из–за ближайшей планеты.
Или…
На моей памяти такое случалось один–единственный раз в системе Свинцового Солнца. Флагман нашего десантного соединения ушел со связи, выпалив в эфир открытым текстом истерическое: «Тайм–аут два часа». Но не прошло и полутора, как мы увидели в сумеречных небесах Тоддструффа нарядную сверхновую звездочку: последний привет от флагмана.
Позднее выяснилось, что в систему прямо из нелинейного пространства вывалился матерый Мерцающий Беглец. Вместо того, чтобы мгновенно свернуться и выбросить споры, он случайно зацепился за пилон с маневровыми двигателями флагмана. Двигатели были включены, а потому защита временно снята. Редчайший случай, вероятность ноль целых ноль десятых.
Пилон, конечно, не выдержал соприкосновения с иноматериальными структурами Беглеца и исчез. Поэтому часть спор Беглец отстрелил прямо в коридор, проложенный в пилоне для техперсонала…
Невозможно себе представить, что творилось на флагмане. Все видеоматериалы, уходившие по аварийному каналу с борта корабля, были изъяты офицерами Бюро–9. После этого случая маневровые двигатели на всех крупных кораблях демонтировали, а пилоны отрезали. Необходимость снимать защиту отпала, а маневрировать начали на жутко дорогих, но надежных гравитационных конвертерах.
Ну и правильно. Уже семьдесят лет шли разговоры, что импульсная тяга на тяжелых кораблях – технический атавизм, который отстаивает кучка отставных адмиралов, акционеров «Легокомоторной Группы».
Правда, чтобы компенсировать затраты на перевооружение, пришлось ввести экстренный налог на роскошь. Тогда же Сверхчеловечество пошло на беспрецедентный шаг: объявило о продаже частным лицам знаменитых архитектурных памятников.
«Помоги флоту, купи Сфинкса!» – выводили на облаках лазеры рекламных корпораций. Вполне закономерно, что флоту помог владелец «Объединенных Верфей Земли и Трех Красных Гигантов», главный подрядчик армии и флота. Теперь Сфинкс находится в тридцати пяти световых годах от места своего рождения.
Нет, все не то.
Дурацкие воспоминания не помогли. Как не пытался я абстрагироваться от беспощадной реальности, кинжал тойлангов, приставленный к горлу Земли и, следовательно, к моему горлу тоже, не давал о себе забыть ни на миг.
Тревога меня не покидала. Что с «Аль–Тариком»? Неужели тойланги воспользовались правом сильного и все–таки атаковали корабль?»
Прошло всего лишь десять минут. Оставалось еще двадцать. Да ну вас к черту, пойду лучше посплю. Может, в последний раз…
Девятнадцатиминутный сон для обычного человека – отдых незавидный. Но для натренированного офицера силовой разведки, каким некогда был ваш покорный слуга Искандер Эффендишах – уже кое–что.
К тому же, я активант. Правда, все расширенные возможности моего перестроенного до последней молекулы организма были заморожены. Но даже замороженный активант восстанавливает свои силы во сне куда быстрее ординарного homo sapiens.
Я проснулся за несколько секунд до писка будильника. Сразу же вернулся в рубку дипломатической связи. «Аль–Тарика» в эфире не было.
Из входного контроллера раздался голос Петра–Василия:
– Искандер, можно с тобой поговорить?
Рубка дипсвязи – одно из наиболее надежно охраняемых помещений посольства. Входить в нее имел право только глава посольства, то есть я. Остальным требовалось разрешение – либо мое, либо входного контроллера. Последний имел право самостоятельно пропускать других членов посольства лишь в случае моей смерти.
– Можно. Впустить полковника Дурново!
Кессон остроумной цилиндрической конструкции провернулся на сто восемьдесят градусов, принял Петра–Василия и, вернувшись в исходное положение, доставил его внутрь рубки.
– Искандер, наш медицинский комбайн только что завершил обработку типовых анализов капитана Галеацци. Результаты… – Дурново судорожно сглотнул, – результаты неожиданные.
Я так и думал – Петр–Василий не стал бы сейчас беспокоить меня без весомых причин. А этот берсальер меня смущал с первой минуты знакомства на борту «Бетховена».
– Галеацци – не человек? – спросил я, приготовившись услышать какой угодно ответ. Даже «да».
– Что?.. Нет, – полковник слабо улыбнулся, – человек. Без сомнения человек. И генетически, и морфологически. Но в его крови обнаружено присутствие широкой гаммы неспецифических агентов.
– Наркотики?
– Хуже. Неизвестные гипервирусы. Что, согласись, довольно странно, ведь допущенные к свободному пользованию гипервирусы – например, те, которые поставляются в информационных пилюлях – в организме человека существуют не более двух–трех минут.
– И что ты сделал?
– Я – ничего. А комбайн сразу вколол ему унцию универсального фага.
– Разумно. У Галеацци есть право на потребление НС–новостей в пилюлях?
– Да. Такое право есть у каждого берсальера – с ограничением третьего типа.
Ограничение третьего типа – это значит «в любое время, в любой обстановке, кроме непосредственного выполнения боевого задания».
– Ты проверил его инъектор и пилюли?
– Я их не нашел. Зато я заглянул в его личное дело…
– Откуда оно у тебя?!
– Мне и твое выдали, – глядя мне в глаза, спокойно сказал Петр–Василий. – В каюте Бюро–9, на борту «Кавура».
Я скрипнул зубами. Все–таки, это свинство: выдавать на руки полковникам досье бригадных генералов!
– На каком основании?
– Им было очень интересно, почему тойланги вызвали для переговоров именно тебя и Галеацци.
– Полковник, выражайтесь точнее.
– Ты ведь, наверное, думал, что командование выбрало тебя за былые боевые заслуги? – почти сочувственно спросил Петр–Василий. – А на самом деле, когда тойланги потребовали прислать официальных представителей Земли на Эрруак, они специально оговорили, что в посольстве должны быть Искандер Эффендишах, Джакомо Галеацци и некто Франтишек Смыгла, капитан войск связи.
Петр–Василий пристально следил за моей реакцией. Фамилия Смыгла мне ни о чем не говорила. А потому и реакция у меня была стандартная – легкое удивление.
С заметным облегчением полковник продолжал:
– Но Смыгла, согласно сообщению с Земли, поступившему в базу данных Оперативной Ставки Флота накануне прорыва «Пояса Аваллона», позавчера умер. Или погиб – это как посмотреть. Тело капитана нашли на дне бассейна, во дворе его дома. На теле – никаких следов насилия. Судя по всему, капитан просто потерял сознание, захлебнулся и утонул. К слову сказать, капитан служил на наземном правительственном узле связи в Дели.
Я, конечно же, сразу сопоставил факты: оба – и Смыгла, и Галеацци – без видимых причин падали в обморок, будто старинные дамочки, а не боевые офицеры! А со слов Петра–Василия, в крови Галеацци бродят какие–то подозрительные гипервирусы. Следовало бы ожидать, что и у Смыглы с кровью было не все в порядке…
– А кадровое управление получило заключение военно–медицинской комиссии о причинах смерти?
– О непосредственных причинах смерти – да. Непосредственные причины я назвал: захлебнулся, утонул. Но результаты вскрытия и анализов, которые были, конечно же, проведены – случай–то дурнопахнущий! – в Оперативную Ставку Флота попасть не успели. Ты же знаешь, что через АФ–связь такая информация ходит пакетами раз в сутки. А теперь вся уцелевшая АФ–связь в руках тойлангов, то есть Земля и Ставка друг о друге могут что–либо узнать только из сообщений наших врагов. Что уж говорить о служебной информации…
– Ну хорошо. Смыгла утонул. Галеацци тоже мог бы утонуть в своей джакузи, если б мы его не вытащили. Оба были затребованы тойлангами. И я тоже нахожусь здесь с подачи наших врагов. Стало быть, ты пришел мягко намекнуть, что и мне не мешает сдать кровь на анализ?
– Именно.
– Кстати, а ты–то на самом деле как попал в это проклятое посольство? Твое имя тоже было названо тойлангами?
– Нет. Мое присутствие здесь – единственная уступка, которой удалось добиться Ставке от тойлангов. Ставка сообщила им, что Смыгла мертв. Клятвенно заверила, что тебя и Галеацци введут в состав посольства, после чего попросила разрешения включить третьим номером меня. Вместо Смыглы. Мотивировалось это тем, что я хорошо понимаю тойлангский язык, а для посольства, дескать, это очень важно.
– Ясно. А тойланги, проворчав «Когда судьба не слушает тебя, прислушайся к судьбе», согласились.
– Это тоже из «Премудростей владетелей пространства»?
– Да нет, что ты. Поговорка древних тойлангских пролетариев. А «Премудрости» написаны аристократами для аристократов.
Шла сороковая минута тайм–аута.
«Аль–Тарик» на связь не вышел.
Петр–Василий не доверял мне. Я не доверял Петру–Василию. Мы оба не доверяли Галеацци.
Отлучаться из рубки связи я по–прежнему не хотел. А вдруг «Аль–Тарик» все–таки объявится?
Мы взялись за изучение досье. Я читал про берсальера, Петр–Василий – про меня.
Итак, капитан берсальеров Джакомо Галеацци. Двадцати девяти лет отроду.
За время войны принимал участие в шести серьезных рейдовых операциях (всё прочее – боевое охранение, эскорт VIP–персон, ближнюю разведку – считаем операциями несерьезными). Четырежды ранен, трижды награжден.
Ссылаясь на ухудшение состояния здоровья после ранений, восемь месяцев назад подал рапорт о переводе из действующей армии в Метрополию.
Что ж, такое бывает. Не следует думать, что все берсальеры горят желанием каждый божий день «ходить в выброску». Навоевался человек. Захотел поработать инструктором, передать опыт молодому поколению экстрасенсов…
Просьба Галеацци была удовлетворена. И назначили его заместителем командира Второй Отдельной роты берсальеров «Мерсия».
Вроде бы все гладко. Но что за «Мерсия»?..
– Ты когда–нибудь о такой роте слышал? – спросил я полковника.
– Никогда. И города такого в Италии нет. По–моему. А ведь это давняя традиция: все подразделения берсальеров называть по итальянским городам.
– А что это вообще такое – Мерсия?
– Я думал ты знаешь.
– Первый раз такое слово вижу.
– Сходить поглядеть в омнипедии?
– Сходи.
Дурново сделал несколько шагов к выходу и остановился.
Я обернулся.
Полковник смотрел на меня нехорошо.
– Может, составишь мне компанию?
– Боюсь прозевать «Аль–Тарик».
– Поставь машину на запись.
– Если меня у аппарата не будет, на крейсере могут решить, что посольство уничтожено. Представляешь последствия?
– Логично.
– Так что давай, иди. Заодно поглядишь, не пришел ли в себя Галеацци.
– А если пришел?
– Веди сюда. Проследи только, чтобы оружия при нем не было.
– Арестовать его официально?
– Это лишнее.
Петру–Василию очень не хотелось оставлять меня одного. Но пришлось.
Я вернулся к чтению досье Галеацци.
Итак, восемь месяцев старший лейтенант прослужил в роте «Мерсия»…
Где? В Метрополии.
Но где именно? На Земле? На Луне? На одной из многочисленных орбитальных станций? На Палладе? Трансплутоне?
По этому вопросу личное дело Галеацци хранило пустозначительное молчание. Только последняя неделя его пребывания в Метрополии была освещена в копиях документов сравнительно подробно.
Вторым числом текущего месяца датирован приказ о переводе старшего лейтенанта Галеацци на Палладу. Через три дня ему было присвоено звание капитана. Тогда же берсальер получил предписание прибыть на транспорт «Кавур» и занять должность командира роты «Пиза».
Последнее обстоятельство более–менее понятно. Численность штурмовых частей, предназначенных для высадки на Эрруаке, требовалось резко повысить без ощутимой потери качества. Для этого на базе каждых двух рот формировали добавочную третью, разбавляя ветеранов пополнением из учебных центров. Соответственно, Галеацци, как опытного и заслуженного офицера, отозвали из Метрополии в действующую армию и планировали поставить его на вакансию, которая открылась из–за общего расширения штатов.
Но тут случился внезапный прорыв тойлангов через «Пояс Аваллона» и капитану не довелось командовать «Пизой» ни одного дня.
Чем же все–таки эта таинственная «Мерсия» занималась в Метрополии и почему я о ней никогда не слышал? Какова природа гипервирусов, которые обнаружил в крови Галеацци медицинский комбайн? Откуда имя и фамилия капитана известны тойлангам? Кто такой Смыгла? Зачем они хотели видеть этих двоих в составе посольства?
И, в конце концов, зачем им понадобился я?
Правда, на последний вопрос я мог если и не ответить, то по крайней мере продуктивно пофантазировать. Думаю, после ознакомления с моим досье удалось пофантазировать и полковнику Дурново.
4. Нет такого врага, которого нельзя сделать своим другом
Во время переломной стратегической операции войны – битвы за двойную звездную систему Кетрарий – я руководил объединенной разведкой Седьмого Флота и приданого ему десантно–штурмового корпуса. Я носил полковничьи погоны, но контроллеры всех адмиральских дверей пропускали меня без писка.
На меня работали десятки людей в двух штабах, целая флотилия кораблей технического шпионажа и сотни бойцов элитной пехоты.
Это были веселые деньки.
Вместе с разбитым катером мы подбросили неприятелю «секретные документы» и заманили в ловушку разом три тойлангских крейсера.
Вычислив точное местоположение одной из планетных комендатур, мы провели молниеносный рейд, в результате которого была захвачена живьем дюжина родовитых тойлангских аристократов.
Мы минировали джамп–траектории и взрывали антенны АФ–связи. Отслеживали каждое перемещение неприятельских дредноутов и искали надежные посадочные площадки для десантных транспортов. Мы добыли Седьмому Флоту победу.
К сожалению, у наших соседей из Пятого Флота дела шли куда хуже. В то время как наш корпус, выполняя общий план, надежно блокировал ключевые индустриальные центры на планетах Луг и Дол, десантные части Пятого Флота завязли на противоположном конце громадной звездной системы. Они вгрызлись в тойлангскую оборону на планете Утес, но через четыре дня начали нести такие потери, что своими силами продолжать наступление уже не могли.
Утром того несчастливого дня, когда десант окончательно выдохся, адмирал Пирон поторопился доложить в Ставку, что все первичные задачи на Утесе выполнены. Когда через час от десантников посыпались доклады о многочисленных и весьма болезненных контрударах тойлангов, ситуация сложилась щепетильная. Боеспособных сил под рукой у Пирона больше не было, а просить помощи у Ставки значило расписаться в том, что ты своими победными реляциями сознательно дезинформировал верховное командование.
Пирон связался с моим начальством из штаба Седьмого Флота. Те пообещали в течение суток определить, сколько батальонов можно перебросить в помощь соседу. А мне приказали любыми путями добыть достоверную информацию о вооруженных силах тойлангов на Утесе. Родная разведка Пятого Флота скомпрометировала себя ротозейством и полагаться на ее данные в ближайшие два–три дня никому не хотелось.
Приказ, полученный мною, был невыполним. Разведка – занятие ювелирное, требующее прецизионных инструментов и монашеской усидчивости. Впопыхах можно работать только кувалдой – с соответствующим результатом.
Наверное, приказ и нужно было сразу опротестовать как невыполнимый. Меня бы сняли с должности, назначили служебное расследование и… оправдали. Уверен, что после разбирательства я вернулся бы к любимой работе, сохранив и честь, и погоны.
Но успехи на Луге вскружили мне голову. К тому же, я еще не использовал по назначению экспериментальный взвод активантов, который берег на случай непредвиденных обстоятельств. Сам я тоже был не прочь при необходимости катализироваться, хотя и побаивался: такое насилие над природой мог пережить не всякий…
Ливень. Перенасыщенная электричеством атмосфера планеты увешана гирляндами шаровых молний. Под крылом катера – бескрайний полярный лес.
Когда десантники с Утеса давали нам координаты безопасной посадочной площадки, тойланги по их данным были еще далеко. Но приземляться нам пришлось уже под обстрелом.
По прибытии в штаб десантного корпуса я рассчитывал оттуда разослать по два–три активанта во все полки – техническая связь с большинством из них была потеряна еще несколько часов назад. Затем, собрав первичные сведения со всех боевых участков, направить доклад адмиралу Пирону и дальше действовать по обстановке. Я был готов к тому, что эти «действия по обстановке» потребуют проведения импровизированных разведывательных рейдов по тойлангским тылам. Но я никак не ожидал, что на мой взвод ляжет вся ответственность за спасение десантного корпуса.
А получилось вот что.
Штаб корпуса, который представлял собой плавающую посреди затопленного леса консервную банку размерами с гандбольное поле, к моменту нашего появления контакт с войсками потерял окончательно. Об этом можно было и не спрашивать. Когда мы подлетали на бронетранспортере к расположению штаба, сквозь ливень проступили машины узла связи – разбитые вдребезги, полузатопленные, заваленные вырванными с корнем деревьями.
Из разговора с деморализованным генералом я узнал, что тойланги взорвали ледники в горах. Те сползли вниз, снесли плотины на местной реке калибра Ганга и из–за этого лесистая равнина, которую корпус избрал для высадки, переживает генеральную репетицию Всемирного Потопа. Эту историю с ледниками я отнес на счет фронтового психоза полевых командиров, но воды от моего скепсиса не убавилось.
В довершение неприятностей, тойланги применили новые автономные мины–торпеды, которые в условиях местных подтопленных лесов практически необнаружимы. «Ведь мы же все–таки сухопутная армия, а не морской флот!» – в сердцах воскликнул генерал.
Благодаря своей расширенной сенситивности приближение мин могут почувствовать берсальеры. Но по–настоящему эффективную противоминную оборону им удалось организовать только час назад, уже после разгрома корпусного узла связи. Не будь берсальеров, герметичные блоки штаба тоже были бы подорваны.
Что ж, после получения таких сведений я мог считать нашу миссию выполненной. В подобных условиях никакие дополнительные батальоны положение спасти не могли. Когда управление войсками потеряно – много не навоюешь.
Корпус – вернее, то, что от него осталось – требовалось немедленно с Утеса убрать. Правда, для обеспечения эвакуации нужно было установить связь с полками, рассеянными по дуге радиусом двести километров, и выдать им карт–бланш на отступление. Но эта задача была в принципе решаемой. Для этого требовалось либо перебросить с Дола один–два воздушных командных пункта, либо…
– Сир, осознаете ли вы, что сейчас ваш корпус может быть спасен только полной эвакуацией?
– Нет. Нам просто требуется перегруппировка. Мы можем закрепиться на сухих возвышенностях здесь, здесь и здесь.
Генерал показал на карте где именно.
– После этого, – продолжал он, – я переброшу штаб сюда, дождусь подкреплений и возобновлю наступление.
– Сир, но как вы намерены осуществить перегруппировку, если у вас уже сейчас нет возможности доводить свои приказы до командиров полков?
– Полковник, не пытайтесь думать за весь десантный корпус. Вы разведчик? Вот и разведывайте. А принимать решения предоставьте другим.
Тут в наш разговор вмешался один из штабных офицеров – невысокий подполковник с забавной бородкой клинышком.
– Сир, признаю, что я – лично я – допустил грубые просчеты в планировании этой десантной операции. Готов взять на себя всю ответственность за неудачу нашего корпуса. Но полковник Эффендишах совершенно прав: мы нуждаемся в эвакуации. Мы должны просить, чтобы транспорты начали ее столь быстро, сколь это возможно. А указанные вами возвышенности следует причесать тяжелыми плазмометами и использовать в качестве посадочных площадок.
Это был Петр–Василий Дурново. Я проникся к нему уважением с первой минуты нашего знакомства.
Конечно, вразумить генерала нам не удалось. Такова природа начальства: чем лучше совет, исходящий от подчиненного, тем сильнее генеральская психика сопротивляется голосу рассудка. Наверное, мы с Петром–Василием имели шансы на победу, если бы, заранее сговорившись, провели хитроумную макиавеллианскую распасовку мнений, сомнений и контрмнений таким образом, чтобы золотая мысль «а не пора ли драпать?» зародилась у генерала как бы самостоятельно. Но за стенами штаба берсальеры с треском расстреливали все новые цепи атакующих тойлангских мин, злобно перекрикивались гром и ливень, в соседнем блоке, за тонкой пластмассовой мембраной хирурги пользовали раненых. Судя по воплям, скальпелем служила циркулярная пила, наркозом – хорошо если новостная пилюля.
В такой обстановке было не до игр с генеральским самолюбием.
– Воля ваша, си–ир, – когда я злюсь, начинаю протягивать некоторые гласные. – Перегруппи–ировывайтесь. Но какие будут при–иказы для моего разведвзвода?
– Срочно возвращайтесь на орбиту. Доложите обстановку как есть. Донесите до адмирала Пирона нашу решимость сражаться. Самым неотложным образом мы нуждаемся в берсальерах, средствах связи и левитирующих транспортерах. Я сейчас же высылаю в полки курьеров с приказом занять сухие возвышенности, вырубать лес и готовить площадки для приема десантных кораблей.
Я покосился на подполковника Дурново. Тот – лицо чернее тучи – оформлял донесение командира корпуса на официальном бланке.
При нашем разговоре присутствовали еще несколько офицеров – безмолвные статисты, окончательно потерявшие волю к самостоятельному мышлению, а вместе с ним и к жизни.
«А ведь большинству этих болванов сейчас предстоит пролететь на уцелевшей броне по двести–триста километров, разыскивая потерявшиеся части. Эх, пропадает корпус почем зря…
Мне отсюда до катера – двадцать минут. Полет до флагмана – час с лишним. В лучшем случае через полтора часа я привезу командованию донесение генерала и свое персональное мнение: корпус надо с Утеса выводить. Послушают, конечно, генерала, а не меня. При этом, пока Пятый и Седьмой Флоты будут согласовывать дальнейшие действия, пока будет вырабатываться боевой приказ, пока, в конце концов, в штаб корпуса доставят новое оборудование связи…»
С такими невеселыми мыслями я засунул бланк донесения в сканер своего скафандра и, запасшись таким образом электронной копией, поместил оригинал в герметичный транспортный контейнер.
Мне оставалось только пожелать смертникам всего хорошего.
– Удачи, сир, – генералу. – Удачи, коллеги, – Петру–Василию и другим офицерам.
В комнате охраны штаба меня дожидались активанты.
«НУ???!!!» – прочел я в их глазах.
– Мы здесь лишние, джентльмены. Возвращаемся.
Если бы не субординация, они, наверное, разорвали бы меня в клочья – как сторожевые псы, которым на всю свору в качестве обеда выдали одну сморщенную морковку.
Мы надели шлемы, вышли под дождь, погрузились на транспортер и осторожно поползли через позиции берсальеров.
В это время в семидесяти километрах от нас ракетный дивизион тойлангов (по данным разведки Пятого Флота он числился полностью уничтоженным в первый день операции) завершил топографическую привязку к местности. На блоки наведения ракет было выдано полетное задание и железные карандаши начали парами покидать пусковые пеналы.
Конечно, в ту минуту я об этом не знал. Но когда из командирской башенки транспортера я увидел тусклые проблески огня над прикрывающими штаб корпуса зенитными батареями, стало ясно, что сейчас из облаков что–то вывалится.
И действительно, с небес посыпалось все вперемешку: обломки, горящие сгустки неотработанного топливного геля и, к сожалению, исправные боеголовки ракет, которым удалось прорваться сквозь меткий, но недостаточно плотный зенитный огонь.
Пузыри жидкого пламени, фонтаны пара и грязи, трухлявые потроха растерзанных ударной волной деревьев, шипящие сопли разжиженной стали…
Можно ли выжить в точке закипания стали?
К счастью – можно. Потому что поверх обычной брони на новую боевую технику накатывают еще три миллиметра искусственного алмаза.
Наш транспортер был новейшим для того времени произведением концерна «Объединенные Верфи», который, вопреки своему судостроительному названию, выпускал в придачу к боевым кораблям половину всей сухопутной техники Сверхчеловечества. А вот на универсальных блоках, из которых был набран штаб корпуса, генеральный заказчик сэкономил. Обычный многослойный полимер между двумя листами ингибированного алюминия – хорошая защита только от дождя.
Формально я не подчинялся командованию корпуса и не должен был принимать участия в поисках и спасении уцелевших штабистов. С другой стороны – тоже формально! – я был послан на Утес, чтобы оценить сложившуюся обстановку.
Десять минут назад обстановка была одна. Теперь, когда в довершение всех несчастий был разгромлен штаб, стала совершенно другой. Какой именно – я был обязан разобраться!
Повинуясь моему приказу, транспортер направился туда, где в водоворотах черной дымящейся воды светлели обваренные тела.
Через четверть часа обстановка снова прояснилась.
Генерал и большая часть офицеров штаба попросту исчезли. Их смерть подтвердили независимо друг от друга трое самых чутких берсальеров. «Нет биотоков. Только смутные отзвуки смерти», – заключили они.
Выжили и отделались чепуховыми царапинами: Петр–Василий, два хирурга и начальник службы тыла. Остальные офицеры получили сильные ранения.
После гибели генерала и большинства полковников старшим по званию среди дееспособных оказался я.
– Ну что, подполковник, как спасаться будем? – спросил я у Петра–Василия. – И как корпус спасать?
– А что тут думать, полковник? – в тон мне ответил Дурново. – Все уже ясно.
И вправду.
Мы быстро поделили остатки подвижного парка штабной бронеколонны. Составили несколько курьерских групп по две–три левитирующих машины и особые группы: медицинскую и штабного ядра. Медицинская группа должна была отвезти раненых к нашему высадочному катеру и доставить двух посыльных, для которых я быстро надиктовал новую разведсводку и координаты зон, в которых полки будут дожидаться эвакуации на орбиту.
В курьерские группы выделялись по несколько берсальеров и по трое моих активантов. Каждая группа должна была разыскать определенный полк и передать ему приказ об отступлении на такие–то позиции. Штабное ядро во главе с Петром–Василием отправлялось вместе с той группой, которая была назначена в ближайший полк. Я – наоборот, определил себе место среди тех, кому предстояло пройти самый длинный маршрут.
Все активанты получили от меня разрешение при встрече с противником использовать кольцо–катализатор. И напоминание, что потеря самоконтроля, по данным полигонных экспериментов, представляет для активанта опасность куда большую, чем прямое попадание из тяжелого плазмомета.
Тойланги повторили огневой налет – на этот раз по пустому месту. Все группы уже вышли на маршруты.
Какое–то время мы еще переговаривались друг с другом. Я успел получить оптимистический доклад медицинской группы о том, что катер найден целым–невредимым и погрузка раненых начата. Крайние северо–восточные курьеры доложили, что прорываются с боем через заслон тойлангов. Еще кто–то отрапортовал, что приданые группе активанты катализировались. Зачем – я узнать не успел. Переговоры потонули в помехах, начала сказываться недостаточная мощность бортовых передатчиков.
Мы летели по просеке, прорубленной нашими инженерными танками несколько дней назад. Как и везде на равнине, земля здесь была покрыта водой. Насупленные берсальеры прощупывали местность. Нарваться на затаившуюся под водой мину сейчас, после того как посчастливилось пережить ракетный град, было бы особенно обидно. Я сидел в командирской башенке, за спиной у оператора оружия, и усердно буравил взглядом окружающий нас лес.
Никто за нами не гнался. Никто в нас не стрелял. В просветах между стволами деревьев открывались лишь все новые и новые деревья. Одна и та же порода: толстостволые растения с задубелой корой, по фактуре напоминающей слоновую шкуру. Ветки увешаны пучками стручкообразных листьев. У большинства деревьев листья были густого буро–зеленого цвета, на некоторых – черные. Эти, чернолистные, судя по всему свое отжили.
Ливень постепенно превратился в дождь, дождь – в морось.
Местность повышалась. Из–под воды выглянули засиженные пестроголовыми грибами макушки кочек.
Еще через несколько километров сплошной водный покров распался на узор из отдельных озер и озерец, соединенных змеистыми перемычками ручьев.
До арьергардной заставы искомого полка оставалось сравнительно немного. В эфире даже начали проскакивать обрывки переговоров на командной частоте – свидетельство того, что в полку еще кто–то жив и даже бодр. Правда, монотонные вызовы нашего радиста по–прежнему оставались безответными.
Радар зенитной самоходки, которая следовала в нашей группе замыкающей, нащупал сквозь туман главный ориентир: верхушку сопки, на склоны которой я рассчитывал отвести полк. До сопки оставалось десятка два километров.
Мы проделали большую часть пути без единого выстрела. Мы не встречали никаких следов боестолкновений вдоль просеки. Похоже, победные реляции, которыми поначалу сопровождалось развертывание корпуса на Утесе, имели под собой некоторые основания.
«Может, не генерал был дурак, а мы с подполковником паникеры? – подумал я. – В конце концов, разгром штаба корпуса еще не означает разгрома боевых частей…»
– На сопке коробки. Повторяю: на сопке коробки, – доложил оператор радара.
Коробки – общее обозначение для любой сухопутной техники. Не говорить же, в самом деле: неопознанные объекты искусственного происхождения?
«Вот бы наши!»
Тут же поступил еще один доклад – от сержанта–берсальера:
– Впереди чужаки. Оценка: тысяча метров. Мы готовы вести огонь на поражение.
– Дай целеуказание и – гасите от души!
– Сир, просим разрешения использовать кольца–катализаторы, – это был Адам Байонс, сержант активантов.
Я сделал вид, что не расслышал. Надо было отдать боевой приказ.
– Колонна, внимание! Сбросить скорость, головная машина вправо, вторая влево, зенитка – в центр! Открыть кормовые люки в готовности к спешиванию! Огонь – по целеуказанию берсальеров!
– Сир, просим разрешения использовать кольца–катализаторы.
– Не вижу прямой необходимости!
Амбразуры и башни наших машин расцветились вспышками. Шквал плазмы, пуль и малокалиберных снарядов обрушился на тойлангскую засаду.
– Коробки опознаны. Самоходки типа «Шакал».
«Шакал» – условное название из нашей системы обозначений для тойлангской техники. «Значит, на сопке все–таки тойланги, не мы. Ах, черт, как же ее обойти?»
– Опознание надежное?
– Да. Каждая стволы задрала. Похоже, заметили нас и теперь целятся. На радаре видна пара характерных засечек – ни с чем не спутаешь.
«Этого только не хватало! «Шакал“ с двадцати километров в туза попадает. И прошивает любую броню – алмазная накатка тут уже не спасет.»
– Колонна, внимание! Разворот на полгоризонта! Убираемся отсюда на предельной скорости!
– Наблюдаю залп «Шакалов»! Восемь снарядов в воздухе… Повторный залп! Прогноз цели по траектории – наша группа.
Если секунду назад я надеялся, что тойлангские артиллеристы нас не заметили или заметили не нас, то теперь приговор моим бронеединицам можно было считать подписанным.
– Сир, просим разрешения использовать кольца–катализаторы.
– Разрешаю! Машины – на землю! Всем спешиться!
Снаряды «Шакалов» летят с гиперзвуковой скоростью и промахи дают только по праздникам. На то, чтобы выкарабкаться из бронегробов и залечь за деревьями нам оставались считанные секунды.
Но ведь были еще тойланги в засаде, которую мы только что обстреляли по целеуказанию берсальеров! Хотелось бы надеяться, что мы положили всех, но так бывает только в мечтаньях безусых кадетов. На войне готовься к худшему.
Хотя к самому худшему я, как оказалось, готов не был.
Стоило мне отбежать от транспортера на несколько шагов, как из–за деревьев прямо мне навстречу вылетело семейство шаровых молний: три–четыре крупных и семь–восемь мелких.
Вот че…
Я был добычей женской особи по имени Ресту–Влайя. Росту в ней было за два метра, силищи – как у призовой конкурной кобылы.
Она принадлежала к доминантной расе тойлангов, которая, как считалось, полторы тысячи лет назад возглавила борьбу других рас с захватчиками из космоса. Этих полумифических захватчиков тойланги называли «гиши» – дословно «жаднейшие».
По ее мнению, я говорил на языке тойлангов «как гиши». То есть, думалось мне, неважно.
Ресту–Влайя была очень молода. По тойлангским нормам, возраст позволял ей служить в регулярной армии только «бегуном» (по–нашему – рядовым). Она могла поступить на правительственную службу, отбыть некоторое время в «бегунах», затем занять должность командира «пятерки», затем – «пяти пятерок», и после этого получить звание Боренья Слова Передающего. То есть лейтенанта.
Любопытно, что просто просидев дома в течение двух лет и соответственно повзрослев, Ресту–Влайя по первому своему требованию получила бы то же самое офицерское звание автоматически, ни дня не пробыв в армии – хоть действующей, хоть бездействующей. Для потомственных аристократов подобная практика была в порядке вещей: биологический возраст заменял реальную выслугу.
Мы считали, что именно такие квазиофицеры превращали отлично оснащенную технически армию тойлангов в достаточно посредственный инструмент галактического владычества. Пока война велась на узком фронте и можно было ограничиться использованием профессиональных частей, тойланги дрались как львы. Но в тотальном противостоянии озверевшему Сверхчеловечеству они должны были рано или поздно сломаться – что и случилось, в конце концов, в сражении за систему Кетрарий.
Голос расы не позволял моей Ресту–Влайе идти в «бегуны». Но и ждать два долгих эрруакских года она не желала.
Ресту–Влайя спешно нуждалась в офицерском патенте, ведь без него карьера каллиграфа была тойлангу заказана. Таковы традиции этого древнего и мудрого народа.
Чтобы законно и публично заниматься любым искусством – не только каллиграфией – тойланг должен получить Испытат. А Испытат, как ясно из названия, выдают только после ряда испытаний, среди которых получение младшего офицерского звания представляется не самым трудным. Неполный список испытаний таков: четыре месяца полного одиночества на необитаемом острове; подтвержденные официально контакты с четырьмя сексуальными партнерами; многоступенчатые экзамены по истории искусства (скажем, поэт должен был помнить наизусть сорок тысяч четыреста сорок строк из классиков) и еще несколько, которые можно для простоты назвать комплексом спортивных упражнений.
Если же тойланг без Испытата имеет наглость составить крохотное стихотворение или нарисовать пейзажик размером с ладонь, он подлежит смерти. Ни много, ни мало.
Ресту–Влайя была одержима стихосложением. С детства в ее немаленькой дельфинячьей голове слова самопроизвольно сплетались в венки, складывались в ажурные арки, громоздились друг на друга массивными пирамидами метафизических поэм.
Была ли она и впрямь неоформленным гением или страдала психической болезнью в социально приемлемой форме? Мне, человеку, ответить на этот вопрос невозможно.
Стихосложение у тойлангов делится на две равноправные ветви: традиционное, подобное земному, и фигурно–графическое. В последнем гармония линий и ритм смены орнаментальных форм наделяются различными смыслами, которые подчиняются правилам особого метаязыка, не имеющего аналогий в человеческой культуре.
Для меня лично стихосложение этой ветви сродни умершему земному искусству каллиграфии, поскольку их фигурные поэмы, если на что–то и похожи, так это на наши химические формулы аминокислот, перерисованные придворным китайским писцом времен Конфуция. И хотя я понимаю, что эта аналогия подслеповата на оба глаза, для себя привык переводить тойлангское слово, отвечающее фигурно–графическому стихосложению, просто: каллиграфия.
Как только Ресту–Влайя достигла возраста первичной половой зрелости, она сразу же вступила в борьбу за Испытат. За год ею были свершены все необходимые подвиги – сидение на горе, романы с четырьмя соплеменниками и так далее. После чего она решила двинуться к офицерскому патенту и, стало быть, Испытату, наикратчайшим путем.
У тойлангской аристократии считается хорошим тоном формировать частные боевые отряды, я бы сказал – дружины. Оснащение, обучение и экипировка таких дружин проводится из клановых арсеналов. Всё у них собственное: и звездолеты, и бронетехника, и оружие. Кое–что – массовых образцов правительственной армии, кое–что – персональной выделки, кое–что – штучные инопланетные трофеи, предмет постоянной головной боли земной разведки. К счастью, инопланетного оружия у тойлангов немного и работает оно как правило паршиво – вопреки апокалиптическим ожиданиям иных наших паникеров.
Единая стратегия и тактика у тойлангских дружин отсутствует. Координация действий между дружинами и правительственными частями осуществляется от раза к разу. Бывали случаи, когда на одной стороне планеты мы безнаказанно молотили окруженную дивизию правительственной армии, в то время как на другой несколько мощных дружин вместо удара нам в тыл устраивали чемпионат по запусканию воздушных крокодилов.
Иногда, наоборот, разобщенность тойлангских частей действовала против нас – как, между прочим, на Утесе. Позже выяснилось, что разведка Пятого Флота все–таки правильно оценила численность правительственных частей тойлангской армии, но проморгала множество дружин размерами от «пятерки» до полнокровного полка.
Впрочем, к Ресту–Влайе все эти соображения прямого касательства не имеют. Место службы, состав и военные планы дружины ее не заботили. Важным для нее было только одно положение тойлангских законов: любой аристократ, частным образом заявившийся на войну с «соревнителями владения пространством» (то есть инопланетной расой) и пробывший в зоне боевых действий сорок четыре эрруакских дня, получал… да–да, тот самый патент младшего офицера с последующим переводом в правительственную армию либо без оного – по желанию.
Как так получилось, что Ресту–Влайя оказалась в месте разгрома моей курьерской группы, взяла меня, контуженного, в плен и уволокла в лесную глушь – я не знал.
Когда взорвались шаровые молнии, я на какое–то время ослеп и у меня вышла из строя почти вся начинка скафандра. Я понял, что пора надеть кольцо–катализатор, превратиться из человека в ифрита – а дальше будь что будет! Но пока я вслепую нащупывал в кармане проклятое кольцо и выдавливал из него предохранительную мембрану, наши машины были кучно накрыты снарядами «Шакалов».
Взрывная волна подняла и понесла меня очень далеко, через младенческую колыбель, через фисташковые рощи родного Шираза, на орбиту Земли, потом за Трансплутон, потом по звездным рукавам галактики, прямо в систему Кетрарий, прямо на планету Утес, прямо под дерево, обтянутое кожей старого слона, привалившись к которому стояла Ресту–Влайя и любовалась трофеями, извлеченными из транспортных отделений и накладных карманов моего скафандра.
Так мы и познакомились.
Первым делом решили безотлагательные вопросы. Я – ее пленник. Если я попытаюсь убежать или напасть на нее, она немедленно меня зарубит. Для этих целей она намеревалась использовать фамильный боевой топор, очень красивый. На длинном, полутораметровом древке.
Также Ресту–Влайя могла меня застрелить, испепелить, оторвать мне голову и, что самое неприятное, неспешно уморить углекислотой, поскольку содержимое моих кислородных баллонов обещало часов через двенадцать подойти к концу, а газовый фильтр скафандра был превращен осколками в зловонную железную хризантему. У нее же был настоящий универсальный синтезатор – в этом отношении эрруакская технология опередила нашу лет на пятьдесят, а может и принципиально.
Не сказать чтобы синтезатор превращал кучу дерьма в груду золота, но конверсия одних газов и жидкостей в другие осуществлялась им довольно успешно. Синтезатор также умел конвертировать почву и местные грибы в основные блюда тойлангского рациона и, как удалось установить экспериментально, сносно копировал галеты, бастурму и шоколад из моего пайка. Наши же, земные, химические синтезаторы годились только для удаленного получения некоторых лекарственных препаратов, пива и новостных пилюль.
– Выполняет веления моей мысли, – поглядев на меня со значением, пояснила Ресту–Влайя. – Других мыслей не слушает.
Она хотела сказать, что управление синтезатором – только телепатическое и настроено исключительно на свою хозяйку. Другого интерфейса нет. Изготовить себе самостоятельно я не смогу ни стакана биологически чистой воды для питья, ни одного литра кислорода. Следовательно, даже если я завладею синтезатором и убегу, я буду обречен на мучительную смерть в объятиях ядовитых стихий Утеса.
– Приму к сведению.
– Как тебя зовут?
Я представился.
Она назвала себя. Просто «Ресту–Влайя», без хвоста фамильных имен, которого можно было бы ожидать от аристократки. Аристократку я сразу признал в ней по боевому топору (ну зачем обычному правительственному солдату топор?!).
– Из какого ты рода?
Таких вопросов тойлангам задавать нельзя. Ресту–Влайя ужасно разозлилась и зашипела:
– Невежда! Еще один подобный вопрос – и я тебя убью!
Я тоже разозлился:
– Убей уж лучше сразу. На все ваши обычаи этикета не напасешься.
В ответ она промолчала. Презрительно или пристыжено – кто знает?
Не люблю затянувшихся пауз. Я решил задать нейтральный вопрос, составленный по канонам тойлангской риторики:
– Доставь мне удовольствие, подтверди мою догадку, высокородная: ты ведь не из числа воителей Единого Управления Пространства?
Ресту–Влайя ответила охотно, почти дружелюбно. Великая сила – вежливость.
– Нет. Я из войска моего двоюродного брата.
(У тойлангов любая дружина – «войско», даже когда в ней бойцов ты да я, да мы с тобой.)
– Где же другие воины твоего двоюродного брата?
– Мы с ними свидимся. Со временем.
– Ты родилась на этой планете?
– Нет, на Эрруаке. Мне здесь не нравится – говорят, очень холодно зимой. К счастью, зиму я уже не застану. Буду дома.
«Или в могиле… – подумал я. – Кстати, ведь ее можно сперва запугать, а потом попытаться сагитировать…»
Разумеется, даже в плену я оставался полковником Бюро–9.
– Большая часть околозвездного пространства Кетрарий контролируется нашим флотом. Даже полный разгром десантного корпуса на Утесе не сможет решительным образом изменить ситуацию в вашу пользу. Не хочу тебя огорчать, но домой ты скорее всего не вернешься.
– Почему?
– Правда не понимаешь? Наши корабли охотятся за всем что движется. Ты и твои соплеменники просто не смогут выбраться с Утеса!
– А как я, по твоей мысли, здесь оказалась?
– Прилетела. Как еще?!
– Пернатые рыбы летают. Ресту–Влайя не летает.
Это была как бы шутка. А с другой стороны – как бы правда. Даже мне, свободно владеющему тойлангским языком эксперту, было нелегко следить за подтекстом и модальностью ее высказываний. Если бы я говорил с человеком, мне, скорее всего, хватило бы проницательности заподозрить в сказанном нечто большее чем каламбур или иронической трюизм.
– Хорошо, Ресту–Влайя не летает. Но сейчас будет окончательно сломлено ваше сопротивление на планетах… (я произнес тойлангские названия для небесных тел, которые проходили в нашем оперативном планировании как Дол и Луг). Мы перебросим сюда два, а если надо – четыре десантных корпуса! У тебя будет небогатый выбор: либо погибнуть, либо сдаться в плен землянам. Так почему бы тебе не сделать этого сразу? Если ты отведешь меня к людям, я гарантирую тебе не только жизнь, но и свободу. В разумных пределах, конечно. Мы содержим пленных тойлангов на планетах с подходящей для вас атмосферой, на специально отведенных островах.
Ресту–Влайя выслушала меня внимательно и не перебивая. Но ответила она довольно своеобразно:
– Остров не годится. На острове я уже насиделась.
Я был сбит с толку:
– На каком еще острове?
Высокомерие и амбициозность соседствуют в тойлангах с подкупающим прямодушием. Не смущаясь тем, что мы едва знакомы и я принадлежу к их заклятым врагам, она рассказала мне о каллиграфии, офицерском патенте и крохотной выслуге в рядах своей дружины. И об испытаниях, через которые ей пришлось пройти прежде, чем перейти к соисканию офицерского патента.
– Вот видишь, – сказал я, когда она закончила, – война – не твое призвание. Ты мечтаешь о благородной карьере каллиграфа. А я мечтаю о том, чтобы снова оказаться среди своих друзей. Отпусти меня – и разойдемся каждый в свою сторону!
– Человек, ты стоишь многих благ, от которых я не намерена отказываться. Разговор закончен!
Когда заходила Кетрария А, всходила Кетрария B.
Когда заходила Кетрария B, всходила Кетрария А.
На Утесе бушевало мокрое полярное лето, которому предстояло смениться сухой полярной осенью только через две сотни стандартных суток. Лето здесь было по совместительству заодно и Днем. Чтобы День стал Вечером, требовалось, чтобы Утес, описывающий вокруг Кетрарии А уродливо сплющенный эллипс, прошел около трети своего годового пути, в то время как вторая звезда системы удалилась бы в противоположном направлении настолько, чтобы ритм восходов–закатов хотя бы отдаленно начал напоминать те, к которым привыкли обитатели нормальных планет вроде Земли.
Небо было равномерно затянуто тучами. Если над невидимым горизонтом проползала Кетрария А, они светились неярким голубоватым светом – премерзким. После недолгих синих сумерек ее сменяла Кетрария B. Тучи розовели, где–то очень далеко ворковал гром. От ливней и сильных гроз судьба нас пока берегла.
Мы тащились через лес уже пятое время суток: голубое – синее – розовое – синее – голубое…
Я недоумевал.
У Ресту–Влайи не было транспортных средств. Она не выходила на связь со своей дружиной. По крайней мере, я ни разу не становился этому свидетелем. А дальнодействующей телепатии, как меня научили еще в школе, не бывает. И ведь действительно – не бывает.
«Куда она меня тащит? Какое боевое задание выполняет? И выполняет ли хоть какое–то?»
Ответов не было. Мысли ходили по кругу.
Офицерские часы вместе с отличной системой навигации были зачислены моей амазонкой в трофеи. Будучи лишен возможности видеть звезды и оба местных солнца, я даже приблизительно не мог определить направление нашего движения. Местная природа, как назло, тоже не давала подсказок. В опутанном сетью ручьев лесу все было распределено хаотически равномерно: озера и поляны, кочки и грибные россыпи, кусты, похожие на кораллы, и бесформенные груды валунов, которые воображение дорисовывало до благородных руин неведомой инопланетной цивилизации…
Весь Утес, казалось, вымер. По моим представлениям, не далее как в пятидесяти километрах от нас должно было идти жестокое сражение. При любом сценарии – обороне, отступлении или приеме подкреплений, переброшенных с Дола и Луга, – в синее время суток мы должны были бы видеть зарницы на полгоризонта. На то и война.
Но то ли я переоценивал прозрачность атмосферы, то ли ближайшие к нам полки были выбиты до последней бронеединицы, но ничто не намекало на активные боевые действия. Планета казалась мирной, более того – необитаемой.
После моей неосторожной агитации разговаривать со мной Ресту–Влайя не желала. Только время от времени подбадривала меня окриками.
«Поживее давай! Плетешься, как носач!»
«Хорошо тебе, – мысленно огрызался я. – Ты можешь дышать здешней кислой дрянью, тебе не нужно потеть и задыхаться в скафандре. Скажи еще спасибо, что имеешь дело с активантом. Обычного солдата уже пришлось бы либо пристрелить, либо тащить волоком.»
Нелегко, ох как нелегко мне приходилось. У моего тяжелобронированного скафандра вышел из строя силовой привод левой ноги. Правый–то ботинок я подымал легко, точнее даже сказать, он сам подымался – спасибо встроенным в скафандр электромышцам. А вот левой ноге приходилось пошевеливаться за счет собственных ресурсов.
Я остановился и обернулся.
– Постой.
– Что такое? – Ресту–Влайя, которая следовала в нескольких шагах за моей спиной, вскинула лучевой пистолет.
– Надо отдохнуть.
– Я не устала.
– А я – устал. Я сейчас упаду. И не двинусь с места.
– Нет времени. Надо идти.
– Куда? Куда идти?!
– Увидишь. Будешь шагать или мне выстрелить?
Я открыл забрало шлема (на глаза сразу же навернулись слезы от токсичной атмофсеры).
Демонстративно сплюнул себе под ноги.
Опустил забрало.
Повернулся и пошел.
Минут через десять Ресту–Влайя сварливо осведомилась:
– Быстрее идти не можешь?
– Нет.
– Хорошо… Остановись.
Она подошла ко мне и принялась критически осматривать меня с ног до головы.
Я, пользуясь тем, что в свою очередь могу ее как следует разглядеть, в очередной раз попытался понять, куда она подевала мое кольцо–катализатор.
Только в нем я видел свое спасение. Тойланг сильнее человека в несколько раз. К тому же, у тойлангов превосходная реакция. Только мощное оружие ближнего боя может уравнять шансы человека и тойланга, если им доведется сойтись один на один. При всей своей отменной подготовке я не мог рассчитывать усыпить бдительность Ресту–Влайи и, применив пару приемов рукопашного боя, овладеть ее лучевиком, дабы превратиться из пленника в пленителя.
Стало быть, я должен был рассчитывать только на дремлющего во мне зверя. Но чтобы его, этого зверя–из–бездны, разбудить, кольцо–катализатор было совершенно необходимо.
Собственно, мне следовало бы «быть мужчиной» (как говорят на моей родине) с самого начала и активироваться в ту самую секунду, когда берсальеры учуяли засаду. Но легко ли «быть мужчиной», когда ознакомлен с историей создания и применения активантов? Историей, на которой поверх грифа СС, «Сов. секретно», недавно поставили гриф ТВК, «Только для верховного командования», а поверх ТВК с удовольствием налепили бы и мистический ЗП–20, «Закрыто для пользования на двадцать лет» – да вот только война мешала. На войне бесов гоняют силою Вельзевула, не так ли?
В истории общения земной науки с Вельзевулом немало поучительных страниц. Об одной из последних верховному командованию (и моему родному Бюро–9 за компанию) желательно было не забывать. Хотя бы для того, чтобы представлять себе примерные последствия использования активантов.
Вкратце дело было так.
Параллельно с разработкой блок–крепостей «Пояса Аваллона» на Земле велись эксперименты по созданию компактных средств персональной телепортации. Ведь, когда космический корабль перемещается от одной звезды к другой через нелинейное пространство, он фактически самотелепортируется на заданную дальность вдоль Ребра Аль–Фараби. Кто–то давным–давно метко назвал ракету пушкой, которая выстреливает не снаряд, а саму себя. Так вот теперь требовалось построить нелинейную пушку, которая стреляла бы на десятки парсеков снарядами в виде людей и других небольших, но полезных объектов.
Такую пушку–телепортер построить не удалось. Объекты исчезали из камеры передатчика, но в приемнике не восстанавливались. Как и предрекали скептики, сравнительно небольшие предметы не обладают достаточным эквивалентом нелинейной массы, чтобы сохранять путевую устойчивость на Ребрах Аль–Фараби. Такие «легкие» предметы уходили с заданной траектории и двигались мимо приемника, бесследно растворяясь в инобытии.
Но человеческая наука – самая упрямая в галактике. Передатчик кардинально переработали, подбавили мощности, а приемник приблизили к нему на смехотворное расстояние в один метр. В качестве телепортируемого объекта избрали контейнер со свежими фруктами: апельсинами, бананами, ананасами. В случае успешной доставки контейнера в приемник ученые рассчитывали исследовать негативные последствия телепортации для растительных клеток. Дальше, в случае успеха, по нарастающей планировались эксперименты с лимонными деревцами в горшках, тараканами, мышами, кроликами, кошками, собаками, свиньями и, наконец, людьми–добровольцами.
Энергия, которую было решено затратить для компенсации малой нелинейной массы, выражалась цифрой с непристойно длинным хвостом нулей. Ни военной целесообразностью, ни тем более коммерческими требованиями подобные затраты оправдать было нельзя.
На это закрыли глаза. Руководству проекта требовалось любой ценой получить хотя бы принципиальное подтверждение возможности стрельбовой телепортации. Ну а получив результат, можно было уже просить дальнейшего финансирования, плодить дочерние лаборатории и кормиться этой темой лет сто.
Итак, контейнер с фруктами был загружен в передатчик, расположенный почти впритык к приемнику посреди необъятного ангара, напичканного телеметрическим оборудованием. Ученые, облачившись в скафандры, поспешили укрыться в бункере.
Щелчок рубильника…
Всеобщий глубокий вдох…
Кнопка нажата…
Данные сенсоров точки отправки: объект исчез.
Данные сенсоров точки прибытия: объект не наблюдается.
Разочарованный выдох.
Решающий эксперимент был провален. Руководство уже прикидывало, как отвертеться от долговой тюрьмы, подчиненные мысленно складывали чемоданы и готовились к преподаванию занимательной физики для детсадовцев–вундеркиндов. Кто–то из теоргруппы истерически кудахтал: «Но как же так? Но позвольте, господа!.. Бог не играет в кости! Цифры не лгут! Объект обязан, просто обязан вернуться в линейное пространство!»
Теоретика никто не слушал. Понурив головы, все начали расходиться.
Вдруг поступило сообщение от охраны полигона: в сотне метров от ангара, где проводился эксперимент, возникла какая–то светящаяся штуковина. Описать вразумительным образом свое видение охрана не могла, но вполне резонно предполагала, что появление «штуковины» связано с изысканиями яйцеголовых.
Выбравшись на поверхность одышливой толпой, ученые стали участниками событий чудесных и ужасных.
Вылетев из пространства Аль–Фараби, как пробка из бутылки, и контейнер, и его содержимое радикально изменили свои физические свойства. Золотисто–оранжевый столб газообразной материи высотой в рост человека и шириной в два обхвата покачивался посреди двора, где был разбит сад–альпинарий.
Несмотря на свою кажущуюся аморфность, столб был полностью непрозрачен. Зеленая лужайка и живописные валуны вокруг него топорщились множеством мелких складок, вместе создающих призрачную, ирреальную рябь.
В действительности, оранжевый столб был гроздью Квантов Аль–Фараби. Но этому термину предстояло появиться многим позже.
Математик, который взывал к Богу, не играющему в кости, оказался самым проницательным.
– Господа, это может быть опасно, – вполголоса сказал он.
В следующее мгновение изрядный кусок полигона исчез вместе со всеми сооружениями, учеными и вспомогательным персоналом. На его месте образовалась сферическая воронка радиусом полтора километра. В центре громадной сферы, заполненной небытием, остался висеть оранжевый столб – не ангельский меч, но скорее дубина, занесенная над миром.
Следующие несколько часов были заполнены ожиданием Конца. Те, кому положено за всех бояться и за всех решать, всерьез полагали возможным самопроизвольное расширение радиуса коллапса и растворения в пространстве Аль–Фараби всей Исландии (где находился полигон), а может и планеты Земля. Кто–то на полном серьезе предлагал таранить инфернальный столб звездолетом, кто–то искал сумасшедших берсальеров, которые согласились бы отправиться с разведкой в фокус катаклизма.
Однако, берсальеры на свое счастье остались без работы. Через несколько часов гроздь рассосалась и ушедшая в точку сфера линейного пространства снова развернулась, возвращая на круги своя сооружения, ученых и вспомогательный персонал полигона.
Люди вернулись.
Однако, это были уже не совсем те люди. Или – те, да уже не люди?
Часть из них умерла на глазах у подоспевших спасателей, причем некоторые тела просто сгорели, как свечки. Другие сошли с ума, зато их физическое здоровье не претерпело заметного ущерба.
Третьими стали активанты. В их числе оказался и проницательный математик.
Вот он–то – его фамилия, Тикканен, многое скажет знающим людям – создал общую теорию этого катаклизма и предрек основные сценарии дестабилизации активантов.
Так кто такой, или, точнее, что такое активант? Мои предки сказали бы: ифрит. Наши биотехнологи выражаются научно: линейно стабилизированный Квант Аль–Фараби на основании человеческой матрицы.
Активант – это нечто, похожее на человека. Проходящее сквозь стены. Перемещающееся со скоростью урагана. Ведущее себя как правило разумно, но в некоторых случаях – алогично и негуманно.
В «горячем» режиме активант находится от пятнадцати до двухсот часов. Он может выполнять задачи, которые не по силам ни человеку, ни большинству машин. После чего он либо возвращается в нормальное линейное состояние и продолжает жить, как обычный человек, либо… переходит в следующую фазовую форму и полностью исчезает в пространстве Аль–Фараби.
Следует подчеркнуть, что когда Тикканен и другие уцелевшие после катаклизма ученые и сотрудники полигона вернулись в наш мир, они находились именно в «горячем» режиме.
В течение нескольких суток после катастрофы в Исландии происходили невероятные вещи, о каких там и не слыхали со времен сказителя Снорри Стурлуссона.
В рейкьявикский бар «У Греттира» заявился детина в полувоенной форме. Он без устали повторял фразу «внутри все горит» и глушил минеральную воду бутылка за бутылкой. С виду он выглядел вполне нормально, не дымился и серой не вонял. Но кельнер, прикоснувшийся к протянутой водохлебом расчетной карточке, забился в конвульсиях и упал замертво, будто пораженный высоковольтным разрядом.
Детина в форме – рядовой охранник исследовательского центра Курт Ешоннек. Больше с ним в «горячем» режиме не случилось ровным счетом ничего примечательного. Вскоре он вернулся к линейному существованию. Непредумышленное убийство кельнера было расценено как «несчастный случай», а Ешоннек продолжал работу в прежнем, но уже непомерно разросшемся исследовательском центре. Правда, не охранником, а подопытным кроликом.
Туристы, гуляющие по гейзерному полю в окрестностях Геклы, видели двух смуглых девушек в сияющих белых скафандрах, которые, смеясь, плескались в крутом кипятке посреди клубов сероводорода. Шлемов на девушках не было. Вода дымилась на их коротких волосах и белых шеях.
Девушки эти – ассистентки Син Во и Наташа Янг – после возвращения в «холодный» режим порвали со своими женихами и зарегистрировали однополый брак. Они прожили счастливо четыре месяца и умерли в одной постели в один день. Причина смерти – внезапное и полное обезвоживание организма – пополнила копилку необъяснимых загадок природы.
По древним лавовым полям блуждал зловещий серый силуэт в окружении синих огней. На следующий день широкий язык лавы пробудился от миллионолетнего сна и огненная змея понеслась по сирым равнинам. Некоторые ракурсы на кадрах видеосъемки не оставляют сомнений, что наплывы на выпуклой бульбе из раскаленного теста, служившей лавовому потоку «головой», оконтуривают черты лица Филипа Метаксиса – наладчика телепортеров.
Огнедышащая змея прочертила черный и прямой, как стрела, след в зеленых пастбищах. Сожгла двух прохожих на приморской дороге. Низринулась в море.
Филип Метаксис пополнил списки официально пропавших без вести.
Были и десятки других инцидентов: комичных, абсурдных, страшных.
Стоит ли говорить, что все приличные люди после этого предложили закрыть тему «стрельбовая телепортация» навсегда? И что наши бонапарты, наоборот, были готовы превратить весь Марс в полигон для дальнейших изысканий?
Победили, конечно же, бонапарты.
Прошли годы. Телепортеры созданы не были. Число жертв умножилось. Но побочные эффекты все–таки удалось с горем пополам приручить. И создать самый сложный в земной истории биотехнологический рецепт.
Этот рецепт позволял перестроить организм добровольца нейтрон за нейтроном, атом за атомом. Законсервировать ифрита внутри человека. И, при помощи кольца–катализатора, выпустить ифрита наружу.
Добившись пятнадцать лет назад назначения в военную разведку, я почти сразу согласился стать активантом. Почему?
Я тогда думал, это несовременно: будучи гражданином империи под названием Сверхчеловечество, чувствовать себя обычным, заурядным человечком.
Ресту–Влайя, обойдя меня кругом, завершила осмотр.
А я завершил свой. Кольцо было при ней! Оказывается, она выломала из него предохранительную мембрану и невесть зачем увенчала им острое навершие своего боевого топора.
– Разведи руки в стороны, – сказала Ресту–Влайя. – Не так. Чуть опусти… Еще чуть… Не поворачивайся…
– Что ты задумала?
– Я понесу тебя. Но для этого мне нужно приделать к тебе две… как сказать… ручки?
– Может, проще будет нам обоим отдохнуть? А потом пойдем дальше?
– Нет, еще не время для отдыха… Не опускай руки!
Не прекращая говорить, Ресту–Влайя, шелестела у меня за спиной своей походной амуницией.
– Ты спишь вообще когда–нибудь?
Задавая этот вопрос, я обнаружил, что по моей груди ползет лента из серебристого материала шириной примерно в ладонь. Она двигалась полностью самостоятельно и притом вполне целенаправленно. Ресту–Влайя привязывала ко мне обещанные «ручки», управляя своей чудо–лентой непонятным образом.
Каким именно? Я слишком много видел техночудес, чтобы задумываться еще и над этим.
– Сплю. Именно поэтому нам надо спешить. Я не хочу отдыхать под открытым небом.
– И где ты намерена отдохнуть?
– Ты сказал, что все владетели пространства на Утесе обречены. Я обиделась на тебя. Не буду говорить.
Как выражался бы я на ее месте? «Ты, коварный инопланетный захватчик, хотел, чтобы я изменил своей присяге! Вот я тебе устрою, когда до своих доберемся!» И все прочее, что подобает полковнику Бюро–9.
А Ресту–Влайя вот «обиделась». Это тронуло мое каменное сердце. Мне даже как–то неловко стало.
И не скажешь, что дело в лингвистических затруднениях, что она, говоря «обиделась», подразумевала «злюсь», а я не так понял. Я знал язык тойлангов достаточно хорошо, чтобы различать эти глаголы. Тем более что она не прибегала к выморочной стихоречи, которая в моде среди иных тойлангских вельмож – вероятно, из–за боязни нарушить свои законы даже наедине с чужаком. Ведь у нее не было Испытата!
– Доставь мне удовольствие, высокородная: не обижайся. Мы на войне, а я – солдат своей расы. Я не хотел тебя обидеть. Всего лишь пытался спасти тебя. А может быть, и нас обоих.
– Спасти от кого?
– От моих соплеменников. Если мы с ними встретимся и они увидят в твоих руках оружие – будут стрелять, не задумываясь. Могут убить и тебя, и меня…
Тут я спохватился, что логическим развитием этой мысли будет «вот почему ты должна отдать свое оружие мне». Она снова обидится и мы снова пойдем по кругу…
Я поспешно закончил:
– Еще раз прошу принять мои сожаления.
К этому моменту серебристая полоска, пройдя несколько раз подмышками, оплела мои плечи и, как я начал догадываться, образовала у меня за спиной две лямки. Таким образом, из меня получилось нечто вроде огромного рюкзака.
– Я подумаю над твоими сожалениями, – пообещала Ресту–Влайя. – А ты подумай вот над чем: сейчас я тебя понесу. Ты будешь висеть у меня за спиной. Я знаю, это поставит меня в уязвимое положение по отношению к тебе. Что я, по–твоему, должна сделать, чтобы ты не выкинул какую–нибудь глупость?
Она читала мои мысли. Я как раз понадеялся, что окажусь поблизости от ее боевого топора и, может быть, мне посчастливится все–таки потихоньку стащить кольцо–катализатор.
– Ты уже дважды синтезировала для меня питьевую воду и кислород. Я ведь не настолько глуп, чтобы…
Ресту–Влайя меня перебила:
– Насколько ты глуп – знаешь только ты. Я же знаю только, что тебе надо связать конечности.
Когда она собиралась спать – я не понимал. Но я заснул почти сразу после нашего разговора. Ничего удивительного. Хорошо упакованный пассажир, о котором заботится такое могучее и самостоятельное существо, как Ресту–Влайя, испытывает максимум комфорта при минимуме ответственности. Последний раз я попадал в подобное положение года в три, когда отец, посадив меня на плечи, отправлялся гулять по садам Муллы Садры.
К сожалению, Утес кое–чем отличается от Шираза.
Я открыл глаза. То ли помогла наработанная за годы службы способность загодя предчувствовать опасность, то ли я просто успел хорошо выспаться и зверски проголодался.
Пока я спал, наступили синие сумерки.
Ресту–Влайя по–прежнему шагала сквозь лес, не сбавляя темпа. Поскольку я болтался у нее за спиной на правах рюкзака, я смотрел не вперед, а назад. Когда мои глаза привыкли к неконтрастной, монохромной гамме оттенков синего, я заметил движение.
Будто несколько маленьких юрких зверьков – ласок, белок, соболей – заляпанных грязью до полной утраты естественной масти, синхронно совершали короткие прыжки с ветки на ветку. Это происходило на среднем ярусе ветвей, в двух–трех сотнях шагов от нас, так что рассмотреть подробности было поначалу невозможно.
Я с трудом сдержался, чтобы не вскрикнуть. В следующую секунду пришло осознание, что я вовсе не обязан ставить Ресту–Влайю в известность об увиденном. Мы же по разные стороны баррикад! Не исключено, что для меня лично загадочные гости угрозы не представляют и даже наоборот: сулят спасение из плена.
Нас преследовало нечто. Это нечто не могло быть стаей местных зверьков. На Утесе вся сухопутная фауна представлена видами не крупнее червя–мотыля.
Понаблюдав за преследователями еще пару минут, я пришел к выводу, что вижу не десяток разных объектов, а один полиморфный – вроде осьминога, выстреливающего вперед свои щупальца, а потом молниеносно перекачивающего через них основную массу тела на следующее дерево.
Итак, не местное животное. А что?
Я начал перебирать варианты. Весьма совершенный кибермех… змееобразный вид инопланетной фауны, завезенный на Утес тойлангами… наш активант…
Активант!
Возможно ли это?
Принципиально – да. Максимальная длительность «горячего» режима активанта – около двухсот часов. Я находился в плену никак не больше шестидесяти. Это даже если считать, что я пробыл в шоковом состоянии после расстрела моей бронегруппы часов десять–двенадцать и проспал сейчас еще столько же (первое маловероятно, второе совершенно исключено).
Остальные вопросы были куда сложнее.
В ясном или затменном состоянии рассудка находится активант? Понимает ли он, что видит перед собой человека, своего командира по имени Искандер Эффендишах, которого несет тойланг? Или он думает, что у тойланга за плечами труп, а то и вовсе пустой скафандр? Или он вообще ничего не думает?
Как ни быстро пронеслись эти мысли, расстояние между нами успело сократиться вдвое.
Я сморгнул – и этого хватило, чтобы полностью потерять его из виду.
Мне стало не по себе.
Внезапно загудел ливень – мощный, торжествующий.
Ресту–Влайя остановилась, опустила меня на землю, освободилась от лямок.
– Твои извинения приняты, – торжественно возвестила она.
Ее голос прозвучал так неожиданно, что я вздрогнул.
– Что?!
– Я больше не обижаюсь на тебя.
Разумеется, я весь был поглощен высматриванием активанта. Да куда же он запропастился? Дождь вконец испортил обзор, и без того незавидный…
Что делать? Что же делать?! Предупредить ее об опасности? Или понадеяться, что активант будет действовать трезво, то есть убьет Ресту–Влайю и заведет со мной светскую беседу?
В последнем случае я должен был приготовиться, что буду хладнокровно наблюдать гибель существа, которое мне, лично мне, не сделало ровным счетом ничего плохого. И вообще, является врагом Сверхчеловечества лишь номинально, ради получения своего драгоценного Испытата!
– Уффф… Я рад… – через силу выдавил я. – Почему ты остановилась? Устала?
– Нет. Я решила, что тебя надо покормить.
Что бы там Ресту–Влайя ни говорила, она, конечно же, утомилась. В ее голосе прорывались хрипы. Да и цвет кожи изменился с нежно–салатового на изумрудный.
– Я очень признателен. Не освободишь ли мои конечности? Я должен размяться.
– Освобожу. Тем более, что дальше ты пойдешь сам.
Как только чудо–лента сползла с моих ног, я сразу же поднялся и запрыгал на месте, бодро покряхтывая. При этом я зыркал во все стороны, делая вид, что разминаю шею.
И потом все время, пока Ресту–Влайя возилась с синтезатором, я не прекращал тревожно всматриваться в лес.
Активант затаился. «По крайней мере, – думал я, – если он за нами наблюдает, а ведь наверняка наблюдает, теперь ему станет ясно, что внутри скафандра не труп, а дееспособный офицер Сверхчеловечества. Надеюсь, это поспособствует правильной оценке ситуации с его стороны и он хотя бы не выжжет нас обоих широким конусом плазмы!»
Ресту–Влайя была очень чуткой девицей. Моя тревога передалась ей.
– Ты что–то заметил? – спросила она.
Мое сердце екнуло.
«Не врать! Тойлангам нельзя врать! По крайней мере, грубо.»
– Да… Какое–то движение среди деревьев, вон там, – я честно показал в ту сторону, откуда мы пришли. – По–моему, шаровые молнии.
– Вот как? – Ресту–Влайя оживилась и приложила палец к плоскому прибору, который услужливо выдвинулся из поясного отсека ее невероятно сложной полевой экипировки.
– И ведь точно, – она, кажется, обрадовалась, – шаровики есть. Только не там, где ты говоришь, а вон за теми кустами.
Она показала на непролазную «коралловую» чащобу, которая еле угадывалась за стволами деревьев и струями ливня. На девяносто градусов правее от невидимого активанта.
Насчет молний я брякнул, конечно, наугад. А вышло – не соврал.
– Твой прибор находит шаровые молнии?
– Не только находит, еще и управляет, – похвасталась Ресту–Влайя. – Мы их сейчас подзовем, а то как–то темно стало!
– Может не надо?
– Почему не надо? С шаровиками весело!
Я кое–что сообразил.
– Скажи… Ты действительно умеешь управлять шаровиками?
– Да. Это одно из потомственных искусств моего рода, для которого не требуется Испытат. Сейчас увидишь!
– А не ты, случайно, управляла шаровиками, на которые я напоролся, выскочив из транспортера?
– Я.
– А как ты там вообще оказалась?
– Так и быть. Расскажу. Я поссорилась со своим двоюродным братом. Он все время шутил, что в первом же бою я стану красной, как носач. – (Соль шутки от меня ускользнула.) – И никогда не забывал прибавить, что мои старшие сестры оставят меня совсем без наследства.
– Это правда или тоже юмор такой?
– Да какой юмор! – расхаживая вокруг гудящего синтезатора, Ресту–Влайя в сердцах пнула семейство ни в чем не повинных желтоголовых грибов. – Все идет к тому, что мне придется искать средства к существованию на скучной правительственной службе. Исцеляющим каллиграфом или графическим панегиристом! – (Обоих терминов я не понял, несмотря на всю широту познаний в тойлангском языке.) – А ведь у меня другие виды на будущее. Поэтому я поссорилась со своим братом и ушла из его войска.
– Так ты дезертир, что ли? – я ухмыльнулся.
«Где ак–ти–вант? Где ак–ти–вант?» – выбивало барабанную дробь мое сердце, но я уже втянулся в беседу и симулировал заинтересованность рассказом Ресту–Влайи вполне успешно. В конце концов, мне действительно было интересно.
– Нет. В правительственной армии мой уход был бы дезертирством. В благородных войсках каждый подчиняется командиру только из уважения. Если не уважаешь – можешь вести себя так, как сам считаешь нужным.
– Ты ушла без всякой цели?
– Не совсем. Я ушла, чтобы совершить громкий подвиг. Это, по нашим законам, позволит мне получить половину всего наследства. У меня будет собственный звездолет, плавающий замок, четыреста четыре списка древней поэзии…
Ресту–Влайя пустилась в обстоятельное перечисление. Семейство у нее получалось небедное.
«Где активант?!!»
– …и даже экипаж для праздничного выезда в День Кометы!
– Надо понимать, твоим громким подвигом стал я?
– Да. Я знала, где идут настоящие бои, и пошла туда. Я обнаружила на дороге засаду наших правительственных войск. Я подумала, раз они кого–то поджидают, этот кто–то скоро появится. Я отошла подальше, выпустила наблюдательный бот и затаилась. Потом появились шаровики. Я подозвала их и направила к дороге. Тут прилетели вы, раскрыли засаду, обстреляли ее и почти сразу всех наших солдат перебили. Потом вы повели себя странно и выпрыгнули из машин. Но когда начали рваться наши снаряды, я поняла, что вас обстреливают издалека, выпустила шаровики и сама побежала к вам.
– Все наши погибли?
– Почти все были убиты на месте во время обстрела. Еще троих уничтожила я при помощи шаровиков и лучевого пистолета, – без колебаний призналась Ресту–Влайя. – Ты не обижаешься на мои слова?
Я, как и большинство профессиональных военных, к подобным вещам не чуток. Тем более, что меня интересовали сейчас обстоятельства не морального, а практического свойства.
– Нет. Итак, погибли все? Кроме меня?
– Мне трудно ответить на твой вопрос. Когда я уносила тебя в лес, все ваши лежали без движения. Скафандры на них были прожжены или разорваны осколками.
– Ты не заметила ничего странного?
– Какого рода странное я должна была заметить?
– Кто–нибудь из наших солдат горел? С ног до головы? То есть… было такое впечатление, что он окисляется с бурным выделением тепловой энергии?
– Я знаю, что такое горение. Но свободное горение в этой атмосфере затруднено, – наставительно сказала Ресту–Влайя.
– Вот именно! Никто не горел так, будто со стороны специально нагнетали кислород?
Я пытался выяснить, не была ли Ресту–Влайя свидетельницей катализации активанта.
– Нет. А почему ты спрашиваешь?
– Мне важно знать, как умерли мои люди, – обтекаемо ответил я.
– А потом ты будешь плакать? – поинтересовалась Ресту–Влайя. Похоже, она расценила мое подозрительное любопытство как проявление чувствительности.
– Может быть.
«Неужели я ошибся насчет активанта? Может, я видел всего лишь неизвестное нам ручное животное тойлангов?»
– Твоя еда готова. Что будешь делать первым: есть или плакать?
Я не сдержал улыбки.
– Пожалуй, сперва поем.
Поглощать пищу пришлось не самым изящным образом. Я откидывал забрало и быстро запихивал себе в рот шоколадку, галету или большой кусок бастурмы. После чего немедленно восстанавливал герметизацию и ожесточенно жевал, поражаясь, как все–таки громко у меня хрустит за ушами.
Это повторно вернуло меня к воспоминаниям о детстве. Архиполезные рисовые хлопья в поглощал именно так: набив рот до отказа, на несколько минут впадал в жевательные медитации. Что, разумеется, моими родителями не поощрялось. А бабушка попустительствовала: Искандерчик не торгуется по поводу каждой ложки – и на том спасибо.
Ресту–Влайя тоже питалась. Нахимичив в синтезаторе длинных фиолетовых палочек, она грызла их, как кролик: быстро–быстро щелкала челюстями, проталкивая палочки в пасть экономными, точными движениями.
– Хорошо, что меня родственники сейчас не видят, – заметила она.
– Почему?
– Неприлично есть на виду у соревнителя владения пространством.
– Можешь утешиться тем, что я тоже сейчас выгляжу очень глупо по меркам моей цивилизации.
– А в чем твоя глупость?
– Мы редко едим по три куска шоколада за один присест.
– Шо–ко–лад – это? – Ресту–Влайя указала на бастурму.
– Нет. Шоколад я уже весь съел.
– Понятно… Да где же шаровики?! – неожиданно вспылила она. – Я же их вызвала давным–давно!
– Да оставь ты их… – начал я, когда…
…Когда из–за массивного дерева, шагах в десяти за спиной Ресту–Влайи, бесшумно вышел… сказать точнее вытек размытый человеческий силуэт. На его груди висело ожерелье.
Ожерелье из шаровых молний.
Активант.
Струи дождя чурались активанта, старательно огибая его голову и плечи, будто над ним был раскрыт невидимый конический зонт. В тот же миг я обнаружил, что самая крупная молния, похожая на замороженную модель воздушного термоядерного взрыва, выпала из ожерелья в подставленную активантом ладонь.
В верхней части бесформенного лица активанта раскрылись две лохматые воронки с хищными красными звездочками на дне. Он посмотрел мне прямо в глаза.
– Предатель! – выкрикнул он.
Удивительно, но я тут же узнал его. Это был Адам Байонс, сержант активантов. Один из трех, с которыми мы попали в засаду. Выходит, все–таки не я один выжил.
В этом крике было все. Байонс узнал меня. Байонс слышал как мы мирно болтаем с Ресту–Влайей словно старые знакомые. Байонс отказывался признавать во мне своего начальника, полковника Эффендишаха.
Зная Байонса, было легко понять, что первым делом он выстрелит. Вторым делом тоже выстрелит. И еще добавит.
А потом уже будет разбираться, что делать с трупом тойланга и обожженным, едва живым полковником. А может – и неживым.
Дилемма, которая мучила меня с той самой секунды, когда я заметил преследователя, разрешилась сама собой.
А Ресту–Влайя ее и вовсе не решала. Еще даже не успев обернуться, она выхватила лучемет и выстрелила на звук. Мое сознание успело зафиксировать, что она попала прямо в центр иноматериального тела Байонса, но это, как и следовало ожидать, не причинило активанту видимого ущерба.
– Падай! – заорал я и, вложив в бросок все силы, врезался в Ресту–Влайю.
Получился классический захват за ноги с броском – как в футболе Америки. Была когда–то такая игра, была такая страна.
Мы оба повалились на землю.
Над нами прожужжала шаровая молния, накачанная энергией активанта. Ударившись о дерево, она взорвалась.
Мой взгляд упал на боевой топор Ресту–Влайи. Заветное кольцо–катализатор было совсем близко ко мне. Стоило только протянуть руку!
Но железко топора, увенчанное кольцом, выскользнуло прямо из–под моих пальцев.
Ресту–Влайя проворно завладела топором. С яростным криком она отшвырнула меня и сама откатилась в сторону.
Вторая молния взорвалась там, где нас уже не было, превратив синтезатор в горелое барахло.
Я вскочил на ноги и с ужасом обнаружил, что Байонс уже совсем близко. Ресту–Влайя, перебросив сектор мощности на максимум, выстрелила в него с расстояния двух шагов.
Если бы не поляризованное стекло моего забрала, я бы, наверное, ослеп. Как вспышку пережила Ресту–Влайя – не могу вообразить. За спиной Байонса несколько деревьев превратились в шипящие уголья, облако пара – по–прежнему лупил ливень! – почти полностью скрыло фигуру активанта.
Он был уверен в своем абсолютном превосходстве.
Он не выстрелил в воительницу струей раскаленного воздуха под давлением в тысячу атмосфер. Он не убил ее шаровой молнией. А ведь это было в тот момент так легко!
Байонс промедлил пару секунд. Ошарашенная Ресту–Влайя, которая просто не догадывалась, с каким демоном имеет дело, покосилась на меня. В ее взгляде читался немой вопрос: «Кто это?»
– Байонс, не надо убивать ее. Я приказываю…
Я не закончил.
Ресту–Влайя с самоубийственной отвагой шагнула вперед и рубанула активанта топором. Сверху вниз! От плохо оконтуренного темени до утонувшего в мареве паха!
Байонс шагнул вперед. И…
Гром и молния!
Ресту–Влайя совершила чудо. Горячий студень, являвшийся в тот миг зримой формой человеческой матрицы Байонса, издал звук слоновьего поцелуя – так остатки воды уходят в горловину раковины. И со скоростью неуправляемой ядерной реакции схлопнулся в обычного, «холодного» Байонса – человека из плоти и крови!
Отгулявшийся активант был облачен в скафандр с герметизированным забралом – как и положено. В ходе катализации активант уносит с собой в «горячий» режим до тонны сопутствующей массы, которая часто, хотя и не всегда, восстанавливается в первозданном виде. Бесследно исчезает только кольцо–катализатор.
Инстинкты Ресту–Влайи опережали ее эмоции. Два энергичных взмаха топора – и Байонс упал замертво с разбитым забралом.
Я редко теряюсь. Но то, что произошло, опровергало разом мои представления о современной войне и теории вероятностей. Я остолбенел.
Чего не скажешь о Ресту–Влайе. Убедившись, что с Байонсом покончено, она резко обернулась ко мне и, держа топор на отлете, заорала:
– Где остальные?! Сколько их?!
Я молчал.
– Клянусь Кометой, сейчас здесь будут два мертвых человека!
Я хихикнул.
– Что?! Не слышу?!
– А как же замок?
– Какой замок, красный ты носач?!
– Плавающий. Плавающий замок. И звездолет. Забыла? Я – твой звездолет и четыреста четыре свитка древней поэзии.
Будь на ее месте человек, после таких слов он бы меня точно прикончил. Ради красоты жеста.
Но для Ресту–Влайи аргумент был выбран оптимально. Ее свирепость сразу же пошла на убыль.
– Ты сын триедино совокупляющейся самки, – проворчала она. – Зачем ты на меня напал?
– Я на тебя не нападал, дочь дуры, а убирал твою башку с директрисы огня. Первый шаровик был твой. И, как ты могла заметить, не вполне обычный шаровик.
– А это был не вполне обычный человек? – она махнула рукой в сторону Байонса.
– Не вполне.
– У вас таких много?
– Предостаточно, – я через силу ухмыльнулся, на самом деле мне было тошно.
– Пожалуй, вы можете выиграть войну, – рассудительно заметила Ресту–Влайя. – И все–таки, ответь: на меня еще нападения будут?
– Не могу тебе сказать. Думай сама.
– Я понимаю. Сейчас ты огорчен гибелью своего товарища и не хочешь говорить. Можешь оплакать его.
Я не возражал.
Он все–таки был моим солдатом. Проклятая война.
В этой истории с Байонсом было много странного. Можно сказать: сплошные странности. Но, поразмыслив, я пришел к выводу, что полковник разведки в моем лице может все. Даже объяснить необъяснимое.
Первая причина, по которой Байонс–активант мог превратиться в Байонса–человека, была тривиальной: окончание отпущенного времени стабилизации Кванта Аль–Фараби. Величина это произвольная, регулировать ее наши биотехнологи так толком и не научились. То есть можно было предположить, что охлаждение Байонса случайным образом пришлось на те самые секунды, когда Ресту–Влайя размахивала топором. И никакой причинной связи между этими событиями нет.
Вторая гипотеза основывалась на том, что причинная связь есть. Выстрел из лучемета на максимальной мощности, удар топора и (вот что важно) контакт Байонса–активанта с моим кольцом–катализатором на железке топора – роковыми стали именно эти события все вместе или какое–то одно из них.
Пока я размышлял и копал могилу, Ресту–Влайя занималась вот чем. Она с видом следователя из военной прокуратуры разгуливала по, так сказать, месту происшествия и что–то вымеряла. И шагами, и лазерным дальномером. Еще она внимательно рассматривала глубокие звездообразные ожоги, оставленные на стволах деревьев шаровыми молниями.
Наконец она остановилась прямо надо мной и осведомилась:
– Это что за ямка?
– Могила.
– Вспомнила. Вы хороните своих в земле. Руками ты будешь копать до зимы.
– У высокородной есть другие предложения?
– Если бы работал лучемет, были бы. Но я тебе и без лучемета помогу.
Она вытащила из своего костюма приборную панель, при помощи которой собиралась управлять шаровыми молниями.
– Не жалко?
– Игрушка. Дома таких много.
Ее импровизированная лопатка оказалась на удивление производительной. Мы управились довольно быстро. Правда, могила получилась неглубокой и ее сразу залило водой.
– Мой синтезатор тоже можно похоронить, – некстати брякнула она.
– У меня нет настроения для шуток.
– Ты не понял. Нам теперь нечего есть. А тебе скоро станет нечем дышать.
– Боже мой…
Мне на мгновение показалось, что вот, вот она, ирония судьбы! Байонс все–таки убил меня, полковника–предателя, хотя вовсе и не так, как рассчитывал. Что ж, то–то его душа посмеется.
И тут же, подумав о Байонсе, я осознал, что его останки – это не только тело, но еще и скафандр!
А в скафандр встроен фильтр, который способен жрать местную углекислоту хоть целую неделю, выдавая вполне сносный воздух – правда, почти без азота, но кому он нужен?.
При первом, поверхностном осмотре, я обратил внимание только на то, что скафандр Байонса располосован осколками. Мой сержант, судя по всему, успел надеть кольцо–катализатор, будучи уже тяжело ранен. (Применительно к активанту корректнее сказать – поврежден.)
К счастью, его фильтр, в отличие от моего, оказался цел и невредим.
– Вот эта штука поможет мне дышать, – сказал я Ресту–Влайе.
– Судьба тебя любит.
– Тебя тоже.
Я имел в виду, что выстоять против активанта это нечто большее, чем везение.
Поняла она меня или нет – не знаю.
Когда мы похоронили Байонса, Ресту–Влайя прикоснулась к моему локтю и сказала:
– Я все проверила. Ты был прав. Твой солдат действительно имел возможность убить меня.
– Стал бы я врать.
– Выходит, ты спас мне жизнь. Зачем?
– Это невозможно объяснить. Единственное, что могу тебе сказать – не от большой любви к тойлангам.
– Хорошо. Давай отдохнем четырнадцать тиков и пойдем дальше.
– Годится.
Не глядя под ноги (везде были лужи, выбирать не приходилось), я лег на спину и сладко потянулся. Ресту–Влайя последовала моему примеру.
Я лежал сперва с открытыми глазами, потом прикрыл их, потом начал впадать в блаженную дремоту. Но полноценно отдохнуть Ресту–Влайя мне не дала.
– Хочу спросить, – сказала она.
– Изволь.
Я приподнялся на локте.
– Что это такое?
Она похлопала себя по поясу. Там в числе прочих трофеев висел мой инъектор.
Все военные знают наизусть правила поведения в плену у инопланетян. Разрешается назвать свое имя, пол, биографические и биологические данные (например: дышу кислородом, питаюсь молоком). Разрешается говорить на общие темы, выставляющие Сверхчеловечество миролюбивой и толерантной расой. Все, что касается вооруженных сил – секретно. Технология – секретна. И еще: история человечества до двадцать второго века – секретна.
Вопрос Ресту–Влайи насчет инъектора был явно технологическим. Отвечать на него я вроде бы не имел права.
Ну а с другой стороны – невежливо отказываться от беседы. Невежду тойланг и пристрелить может.
– Это устройство предназначено для того, чтобы вводить в кровь различные химические препараты, – ответил я.
– Целебные?
– Да… Целебные.
– Чувствую, ты говоришь неправду, – с этими словами Ресту–Влайя сняла инъектор с пояса и взвесила его на своей шестипалой ладони.
– Ты проницательна. Я сказал неправду.
В разговоре с тойлангами главное – всегда признавать свои ошибки. И побольше лести!
– Скажи правду.
«Подумаешь, инъектор! Да это любому тойлангскому эксперту по землянам известно! Никакой тайны не выдам, если объясню», – решил я.
– При помощи этого устройства я потребляю новостные пилюли. Новостные пилюли – это…
Я объяснил.
Ресту–Влайя задумчиво хрюкнула. У тойлангов две обонятельные ноздри расположены там же, где у человека, а еще две ноздри – атавистические – на затылке. Они служат для охлаждения мозга. Ими–то задумавшийся тойланг и похрюкивает.
– Неясно. По–моему, снова уклоняешься от правды. Как молекулы могут превращаться в мысли?
– Не в мысли, (дурочка – прибавил я про себя), а в образы! Точнее даже так: импульсы, которые идут по нервам от органов чувств…
Я говорил довольно долго – насколько мне хватило познаний в биохимии и тойлангском языке.
– Теперь ты говоришь правду, – признала Ресту–Влайя и, подумав еще немного, добавила:
– А не лучше было бы прочесть книгу вместо того, чтобы вводить себе в кровь такой опасный препарат?
– Книгу надо еще написать, а пилюли наша техника синтезирует автоматически. В книге не будет ничего, кроме текста, а в пилюлях есть звук, зрительные образы, осязание, обоняние…
– Это все не к добру.
– Почему?
– Вредно подменять естественную правду, поступающую от органов чувств, искусственной ложью.
«Ну разве что с философской точки зрения», – подумал я, начиная скучать. Но, изображая заинтересованность, ответил:
– Пойми, это всего лишь способ быстрого получения информации, которую другими путями пришлось бы воспринимать в сорок, а иногда и в сто раз дольше. Я уже сказал, что информационные гипервирусы сохраняются в крови совсем недолго. В ваших временных единицах – пять–восемь тиков.
– А если бы гипервирусы в вашей крови сохранялись долго?
– Это невозможно. Насколько я знаю биохимию…
– И все–таки ответь: если бы сохранялись долго? Четыреста сорок тиков? Или сорок тысяч четыреста тиков?
– Тогда… тогда, в зависимости от конкретной информационной программы, вписанной в гипервирусы…
Я попытался представить себе – каково это: пробыть сутки, а то и неделю в психопространстве новостной пилюли. Картинки получались жутковатые.
– Что? Что будет тогда? – не унималась Ресту–Влайя.
– Не знаю, – сдался я. – Человек будет жить в иллюзорном мире. В то время как его тело будет покоиться без движения. Когда начнется истощение организма, возможно, сработают какие–то экстренные аварийные механизмы. Допускаю, что базовые инстинкты победят и тело человека вслепую, на ощупь, отправится попить водички – чтобы не умереть от обезвоживания. В то время как его сознание будет по–прежнему переживать синтезированную программу. Возможно еще много разных вариантов. Я не специалист, ответить тебе исчерпывающим образом не могу.
– Хорошо. И после этого ты продолжаешь утверждать, что гипервирусы безопасны?
– Они совершенно безопасны. Ученые предусмотрели все мыслимые варианты поведения гипервирусов в крови человека. Они эффективно уничтожаются иммунной системой в любом случае.
– Тогда доставь мне удовольствие, – Ресту–Влайя протянула мне инъектор.
– Ты хочешь, чтобы я принял новостную пилюлю?
– Да.
«А ведь она не знает что именно нужно для ввода новостных пилюль! – осенило меня. – Значит… Значит ничто не мешает мне…»
– Подай мне, будь добра, вон ту коробочку… Благодарю…
«Ну что, полковник Искандер Эффендишах… Сейчас или никогда!» – сказал я себе и, не изменившись в лице, продолжил:
– Так, а теперь сними со своего топора вон то кольцо.
– Зачем?
«Уклоняться от прямых ответов! Во что бы то ни стало!»
– Ты слишком подозрительна и слишком любопытна. Ты хочешь, чтобы я сделал себе инъекцию? Или без лишних проволочек пойдем дальше?
Ресту–Влайя повиновалась. После встречи с Байонсом она имела некоторые основания доверять мне, не так ли?
Я взмолился, чтобы мое многострадальное кольцо не оказалось намертво пригоревшим к железку топора. К счастью, оно держалось на наконечнике лишь за счет трения. Ресту–Влайя с третьей попытки сняла его и дала мне.
Я взял кольцо. Рука моя не дрогнула.
Оно было сплющено, на его некогда матово–серой поверхности появилась синюшная окалина и несколько ржавых пятнышек крови. Я осторожно сжал кольцо двумя пальцами, добиваясь, чтобы оно приобрело форму, близкую к изначальной.
В итоге кольцо–катализатор превратилось в квадрат со стороной под два сантиметра. Но уродский дизайн и безразмерный размер меня не смущали. Для того, чтобы кольцо послужило катализатором «горячего» режима, требовалось лишь символически надеть его на любой из пальцев до упора.
– Так, теперь смотри, как это делается…
С этими словами я надел кольцо на средний палец правой руки.
Ресту–Влайя не сводила с меня глаз.
Я не сводил глаз с кольца.
Ничего не произошло.
Совсем ничего.
Катализатор не работал.
Оставалось лишь делать вид, что так и надо.
Я зарядил новостную пилюлю в инъектор и безучастно наблюдал, как она превращается в прозрачную, будто слеза, водичку.
Конец. Это конец.
Спасения нет.
И все–таки, повстречаться с дружиной ее двоюродного брата мне было не суждено.
Прошли еще два времени суток. Лес сменился лабиринтом коралловидного кустарника. Вдали торчали белые башни, сотканные из облаков, которые, казалось, вырастали прямо из земли и уходили в серые тучи. Таких облаков я не видел ни до, ни после. Это были выбросы мусорной материи над тойлангскими стрельбовыми телепортерами в районе замаскированного под заурядную сопку объекта, который впоследствии получил в наших документах название «Оазис Мальстрим».
Да–да, то, что не удалось Сверхчеловечеству, было, как оказалось, достоянием цивилизации тойлангов. На Утесе наша армия впервые столкнулась со стрельбовыми телепортерами, через которые тойланги перебрасывали прямо с Эрруака свои дружины и их амуницию. Отсюда взялось самоуверенно–ироническое «Ресту–Влайя не летает», именно при помощи телепортера она намеревалась убраться с планеты восвояси. Что ей и удалось – только без меня.
Но когда мы, качаясь от усталости, стояли на опушке леса, я ничего не знал об Оазисе Мальстрим. Просто смотрел на сгущеное молоко дивных облаков и прикидывал, суждено ли мне в этой жизни когда–нибудь поспать на нормальной кровати, а поутру съесть пару ложечек хотя бы вот сгущеного молока.
– Я ложусь спать, – сказала Ресту–Влайя.
Не успел я промычать что–нибудь вроде «спокойной ночи», как она завалилась набок. Похоже, она крепилась до последней секунды в надежде, что мы вот–вот дойдем до тойлангских передовых дозоров. Но не рассчитала силы и мгновенно отключилась, даже не позаботившись о том, чтобы связать меня своей чудо–лентой.
Допускаю, что после встречи с Байонсом у нее возникли излишне романтические представления о моей персоне. Что я привязался к ней, как к родной мамочке, внутренне преобразился и мечтаю остаток жизни провести в обществе тойлангов. А возможно, она была уверена, что мне не хватит смелости пойти куда глаза глядят. Ведь до тойлангских передовых дозоров и впрямь было уже очень близко, а где находится наш десант оставалось лишь гадать.
Я постоял над ней. Послушал, как она посапывает во сне.
Прикинул, имеет ли смысл попытаться завладеть ее топором. Проснется? Не проснется?
Игра не стоила свеч. Мне все равно не хватило бы духу пустить его в ход против Ресту–Влайи. А таскаться с лишней тяжестью мне не светило.
Я зашел в лес, сорвал два гриба – с желтой и красной шляпками. Загадал, что если красная шляпка упадет правее желтой, то пойду направо, и наоборот.
Подбросил шляпки, ознакомился с результатами гадания и пошел налево – держась под деревьями метрах в тридцати от опушки.
Не скажу точно, сколько я шел. Наверняка не так долго, как мне казалось. От жажды я не умер, а ведь отсутствие питьевой воды было первейшей гарантией того, что полковник Эффендишах больше сорока восьми часов не нагуляет.
Помню только, как в голубом мареве Кетрарии А увидел огромную перепаханную поляну, наши инженерные танки и два тяжелых коптера, закрывших полнеба…
Меня вывезли на госпитальный транспорт Пятого Флота, отпаивали и откармливали, а потом потребовали объяснений. Я изложил все очень близко к фактам, даже не нашел возможным скрывать историю с Байонсом. Опустил только две–три подробности – совсем уж незначительных с точки зрения разведки.
Мои действия в плену признали в целом адекватными, но капитан первого ранга Алонсо ар Овьедо де Мицар счел крайне подозрительной ту легкость, с которой я убежал от Ресту–Влайи. За это уцепились и поставили мне в вину задержку катализации активантов в бою на просеке. И предложение об эвакуации десантного корпуса сочли пораженческим. Даром что к тому моменту, когда я смаковал в госпитале куриный бульон, от корпуса остались два полка, а на Утесе сражалось несколько свежих соединений.
В итоге я лишился дубовых листьев и оказался на «Бетховене».
5. Голова – на шее, воздушный крокодил – на привязи
«Аль–Тарик» на связи. По приказу Ставки атаковал Франгарн–164 торпедами. Веду бой с превосходя…»
Сообщение обрывалось на полуслове.
Я весь ушел в воспоминания о своих злоключениях на Утесе. Поэтому воспринять одновременно две новости – хорошую и плохую – был совершенно не готов.
Медленно, сомнамбулически перечитал ленту дважды.
«Вот черт!» – до меня наконец дошел смысл написанного.
Хорошая новость заключалась в том, что тайм–аут закончился и родной крейсер снова в эфире, хотя я уже на это и не надеялся. А плохой новостью было то, что «Аль–Тарик» выпустил торпеды по Комете.
Вне зависимости от результатов стрельбы это означало ответное уничтожение крейсера патрульными кораблями тойлангов. И скорее всего ставило крест на переговорах и на Земле–матушке заодно.
«Веду бой с превосходя…»
Похоже, тайм–аут, в который без предупреждения провалился «Аль–Тарик», на этот раз рисковал стать бессрочным.
И куда запропастился этот Дурново?
Делать в узле связи было больше нечего. Я на всякий случай настроил автоответчик. Надиктовал несколько сообщений в зависимости от ранга вероятного (на самом деле – невероятного) запроса и вышел из узла связи.
В нашем правительстве–на–час собрались идиоты. Умные в малом, глупые в большом. Раз ответ будет дан в День Кометы, значит Комету надо уничтожить. Чтобы что? Сами, небось, не понимают что.
Но нельзя не признать: это самая экстравагантная попытка затянуть переговоры в истории войн.
Быстрым шагом, срывающимся на бег, я миновал несколько дверей и в конце коридора свернул налево, по указателю с красным крестом.
В медицинском отсеке сидели Дурново и Галеацци. Последний был бледен, как полотно, но смотрелся уже не живым мертвецом, а скорее прозаическим раздолбаем, который с вечера перебрал синтетического пива. Облачен он был, как и положено пациенту, в трусы, тапочки и прозрачный пластиковый комбинезон.
Полковник и берсальер о чем–то достаточно мирно беседовали. Когда я вошел, Галеацци как раз говорил:
– …ничего. Уверяю вас, ничего, кроме новостных пилюль.
– Еще раз здравствуйте, господа, – сказал я, как мне показалось, вполне приветливо. Но, вероятно, я был совершенно вне себя и полковник сразу понял, что произошло нечто из ряда вон выходящее. Хотя, казалось бы, куда уже дальше?!
– Что случилось, Искандер?
– Думаю, «Аль–Тарик» накрылся.
– Как?!
Я изложил содержание последнего сообщения и свои комментарии к нему.
– А теперь, господа, я предлагаю подняться на обзорную площадку. Если торпеды «Аль–Тарика» достигли цели, мы имеем шансы убедиться в этом воочию.
– Идемте, – полковник поднялся и сделал пригласительный знак берсальеру. – Кстати, мы тут с Джакомо имели очень интересную беседу.
– Про «Мерсию» узнал? – бросил я через плечо, выходя из медицинского отсека.
– Первым делом, – ответил Дурново. – Рота «Мерсия» охраняла координационный центр «Пояса Аваллона». А еще была Первая Отдельная рота «Кент», которая стерегла непосредственно блок–крепости.
– Я счел нецелесообразным сохранять военную тайну в сложившихся обстоятельствах, – ввернул Галеацци.
– Понятно. Охрана «Пояса Аваллона». Что–то подобное я предполагал. А фамилию Смыгла вы, Галеацци, слышали?
– Нет, – ответил за берсальера Дурново. – Я уже спрашивал.
Мы зашли в лифт.
– А что значат слова «Мерсия» и «Кент»?
– Так назывались два англосаксонских королевства в Британии времен короля Артура. А Аваллон – это такой мифический…
Лифт тронулся.
– Насчет Аваллона я в курсе. Скажите, капитан Галеацци, вы в плену были?
– Конечно же нет, господин бригадный генерал! – берсальер так возмутился, что у него чуть дым из ушей не повалил.
– Ничего постыдного. Я, например, в плену был.
– Вы… вы, господин бригадный…
Галеацци не находил слов. Дурново недоуменно помалкивал. Задавать берсальеру вопросы насчет плена ему явно не приходило в голову. Ведь досье о подобном факте умолчать не смогло бы, а коль скоро в досье нет, значит…
Лифт остановился. Дверь открылась, но выходить я не спешил.
– Поставлю вопрос иначе. Вам, Джакомо, не случалось терять амуницию на поле боя? Скафандр? Оружие? Личное имущество?
– Ну, всего не упомнишь… – задумался берсальер. – Скафандр я, конечно, не терял… Но такие передряги случались, что страшно вспомнить. Однажды у меня взрывной волной из рук выбило «Гоч». Мы уходили из–под обстрела, искать оружие было некогда. Командование сочло, что проступок незначительный. Я отделался устным выговором.
– На какой планете вы его потеряли?
– Кодовое название Утес, система Кетрарий.
Да, на это я во время чтения досье обратил внимание: мы с ним дважды топтались по одним и тем же планетам, только в разных фазах операций. Например, на Утес его роту десантировали уже когда я сидел в карантине и строчил отчеты о своем платоническом романе с Ресту–Влайей.
– Только «Гоч»?
– Да практически. С меня еще навесной контейнер сорвало. Со всякой мелочью.
– А где именно произошел этот случай? Часом, не в окрестностях Оазиса Мальстрим?
– Именно там.
– Ну вот, теперь по крайней мере понятно, откуда тойлангам известно его имя, – усмехнулся я, повернувшись к полковнику.
– Понятно?
– Ну, ты же должен знать, что «Гоч» – именное оружие. Во всех смыслах. Его память содержит персональные данные и формулу ДНК владельца. Вдобавок, многие берсальеры лепят на рукоять «Гоча» миниатюрную табличку, где выгравированы всякие глупости. Вроде «Любимый мальчик Джакомо Галеацци».
– На моем было «Джакомо Галеацци парень хоть куда», – уточнил берсальер.
– То–то и оно.
– Теперь понятно, – кивнул Дурново. – И все равно, нелегко поверить, что тойланги так вот запросто нашли его «Гоч».
– Могли. Оазис Мальстрим тойланги обороняли как родную столицу. Их контратаки были весьма успешны. Поэтому не удивительно, что после одной из них на отбитых у берсальеров позициях они подобрали этот злосчастный «Гоч» и выведали о его владельце буквально все.
– А что из этого следует?
– Следует, что мы узнали еще что–то, чего раньше не знали. Верно, капитан Галеацци?
– Я ничего не понимаю. Совсем ничего, – развел руками берсальер.
– Я тоже, – сказал я и мы наконец вышли из лифта.
Мы находились на макушке башни, которая, в отличие от бункерообразного главного корпуса посольства, в лучшие дни задумывалась как самоценный архитектурно–художественный объект и, заодно, носитель наглядной агитации. Башня, точно римская триумфальная колонна, была обвита спиралью ленточного барельефа, повествующего о становлении и лучших достижениях Сверхчеловечества (с точки зрения Сверхчеловечества, конечно).
От амебы до питекантропа, от питекантропа до изобретения колеса, от колеса до приручения лошади… Водяные мельницы… Ветряные… Каравеллы Колумба… Паровая машина Уайта…
Дойдя примерно до середины башни, барельеф с пугающей многозначительностью обрывался. Привезти и установить керамические сегменты с уже готовой верхней частью не успели – началась война.
Не было локомотивов и аэропланов, компьютеров и Гагарина, «Аполлонов» и «Вояджера», не было великих символов термоядерного синтеза и преобразования Аль–Фараби, формул Единой Теории Поля и универсального фага.
Вот такая это была башня. История науки и технологии заканчивалась на ней где–то между 1800 и 1900 годами.
А духовная история и не начиналась. Будто и не было ее.
На вершине башни, накрытой многослойным стеклянным куполом, находилась обзорная площадка, снабженная различным «наблюдательным», а на самом деле шпионским оборудованием.
Мы до рези в глазах всматривались вдаль. Там, над горизонтом, пылала Комета. Хотя на меридиане посольства стояла глухая ночь, было светло, как в Ширазе зимним утром. Край кометного хвоста уже вошел в верхние слои атмосферы Эрруака и через все небо тянулись белесые нити – следы крохотных ледяных метеоритов.
Я подошел к электронному всережимному телескопу и навел его на Комету. Настроил фильтры, отсекающие атмосферное рассеяние. Разделил картинку на оптическую, инфракрасную, рентгеновскую.
Во всем спектре ядро небесного тела выглядело целым и невредимым.
– Ну что же, господа. «Аль–Тарик» приказ Ставки выполнить не смог. За что ему спасибо.
– А самого «Аль–Тарика», случайно, не видно? – полюбопытствовал Дурново.
– Смеешься? От него, скорее всего, и облачка не осталось. Даже если бы я знал, какие у него были координаты…
– Прошу прощения. С нами, кажется, хотят поговорить, – перебил меня Галеацци.
Посольство наше стояло на отшибе, в нескольких километрах от столицы, опоясанное двумя полосами отчуждения. Снаружи находилась тойлангская охрана, контрольно–пропускной пункт и стоянка для экипажей, на которых только и разрешалось перемещаться землянам по территории Эрруака. Экипажи были запрограммированы так, что сами привозили послов в Управление Пространств Удаленных, а потом увозили обратно в посольство. Фактически это были передвижные тюремные камеры, пусть и достаточно комфортабельные.
Вторая полоса отчуждения находилась внутри первой и являлась уже нашей, земной линией обороны. Когда–то там, обмениваясь с минами и ловушками кодированными сигналами опознавания, блуждали вооруженные до зубов кибермехи. Но частные дружины, игнорирующие распоряжения центральной власти, дважды брали посольство штурмом – из спортивного интереса. В итоге от наших охранных систем мало что осталось.
Пока мы с Дурново рассматривали Комету, берсальер спустился с небес на землю и обратил внимание, что возле тойлангского КПП садится разномастная стая левитирующих аппаратов. Среди них были четыре пассажирских экипажа разных моделей и танк–истребитель. К этому следует прибавить несколько диковинных самоходных орудий, каких в колониях нам встречать не приходилось, и десяток одноместных «мотоциклов».
Над танком–истребителем развевался огромный штандарт. Его символика была видна даже невооруженным взглядом: боевой топор и четыре белых лотоса в зеленом поле.
– Войска не правительственные! – изумился Дурново.
– Это как посмотреть, – я покачал головой. – Знамя принадлежит роду финь–Рэхан финь–Залмат. Что приблизительно и значит «Топоры и Лотосы» На борту «Кавура», пока ты нашими досье шуршал, я читал свежие разведотчеты. «Топоры и Лотосы» за последние полгода резко усилили свои позиции в структурах центральной власти. Сейчас правительство тойлангов и финь–Рэхан финь–Залмат – почти одно и то же.
– Военный переворот?
– Наши теряются в догадках. Вроде бы все произошло совершенно мирно. Просто вдруг выяснилось, что все ключевые Управления возглавляются выходцами из этого рода.
– Мне, наверное, надо переодеться? – предположил Галеацци. – Или мы не намерены впускать их в посольство?
– Если мы их не впустим, они въедут к нам в холл на танке. Быстро вниз. Надеюсь, к нам пожаловала не расстрельная команда.
«Топоры и Лотосы» были облачены в парадную боевую форму, а потому и впрямь походили на офицеров SS старогерманского Третьего Рейха в масках крокодилов. Оно и понятно: атмосфера внутри нашего посольства была земная и они предусмотрительно облачились в аналоги наших легких скафандров.
В качестве такого аналога тойланги часто используют «вторую кожу» – квазиживое образование, которое плотно обволакивает их тело, гарантируя от контактов с враждебной средой. Уже поверх «второй кожи» тойланги надевают одежду, а голову защищают устрашающей зубатой биомаской, в которую встроен дыхательный аппарат.
Через входной шлюз соизволили войти четырнадцать персон. Прочие, численностью до полуроты, остались снаружи, направив на стены посольства разнообразные орудия убийства и разрушения.
Первыми вошли два знаменосца, которые сразу же окаменели по сторонам от входа. Одиннадцать стрелков с оружием наготове рассыпались по стенам. Четырнадцатый тойланг, вооруженный только топором в заспинном чехле, был, надо полагать, переговорщиком.
Поверх его шикарных одежд, на черной цепи из квадратных звеньев, висел высший тойлангский орден «Совершенное Управление» – фантасмагорическая плеяда драгоценных каменьев, залитых эрруакским хрусталем–невидимкой.
– Искандер, здравствуй, – сказал он.
Речевой эмулятор его биомаски издавал леденящие кровь звуки, за которыми интонации живой речи полностью терялись. Несмотря на то, что приветствие было вполне мирным и даже неформальным, мне показалось, что меня намерены съесть на месте.
– Народ Земли в нашем лице доводит до сведения владетелей пространства, что пришел с миром, – сказал я скучным голосом.
У меня работа теперь такая: скучная, посольская. Они мне «ты», а я им – официальную формулу! Чтобы придраться было не к чему.
– Искандер, не до церемоний. Атака вашего крейсера против Кометы вывела моих родственников из себя. Особенно неистовствует мой двоюродный брат, который теперь является моим брачным контактером.
«Брачный контактер» – это муж по–нашему.
– Ресту–Влайя?.. – мои брови взмыли на лоб.
– Да. Нам надо поговорить наедине.
– Что ж, идем… Господа, вы, пожалуйста, останьтесь здесь, – обратился я к Галеацци и Петру–Василию. – Пока что все нормально.
– Я же по–тойлангски понимаю. Если только не стихоречь, – мрачно сказал Дурново. – Вижу я, как все нормально. Вот она какая, твоя амазонка. «Совершенное Управление» носит… А в досье написано, что она добивалась на Утесе скромного офицерского патента.
– Я удивлен не меньше твоего, – прошипел я и повел Ресту–Влайю в приемный кабинет посла.
Как и Ресту–Влайя, я был в этом кабинете впервые в жизни. Дюжина часов, проведенных на Эрруаке, не предоставила мне ни одной свободной минуты для того, чтобы обойти все помещения посольства. А ведь это следовало сделать – хотя бы ради того, чтобы не позориться перед высокой гостьей.
Пол, столы, кресла – все здесь было покрыто черной пылью неясной природы. Элегантный шкаф, заставленный представительскими подарками, – бронзовыми астролябиями и дубовыми глобусами, стилизованными под эпоху Великих Географических Открытий, – был оплетен сетью трещин. Вероятно, стреляли ультразвуком. Этажерка с шикарными книгами (сафьяновый переплет, золоченый обрез) лежала на боку, фолианты валялись по всему кабинету.
Разумеется, эти книги никто ни разу не открывал. Они, как и представительские подарки, попали сюда по воле дизайнеров, которые умудрились продать нашему дипломатическому ведомству самый дорогой вариант интерьера из имевшихся в каталоге.
Я подобрал первую попавшуюся книгу, вырвал из нее несколько листов, скомкал их и наспех стер черный налет со стола и двух кресел – мягкого и жесткого, тойлангского.
– Извини за беспорядок. Присаживайся.
– Буду откровенна, – сказала Ресту–Влайя, последовав моему приглашению. – Когда ваш крейсер обстрелял Комету торпедами, мне стоило больших усилий отговорить родственников от немедленного удара по Земле. Спасибо судьбе, ты здесь. Я знаю тебя как человека, которому можно доверять. Если бы не твое присутствие, мои родственники уже позволили бы своему народу насладиться мщением.
Ресту–Влайя говорила вещи страшные, но, увы, ожидаемые. Однако мне хватило выдержки, чтобы ответить достойно:
– Высокородная, не надо забывать о нашем флоте вторжения, который по–прежнему находится на исходных позициях в Треугольнике Ле Дюка. Если вы начнете уничтожение Земли, наш флот войдет в систему Франгарна. Флот понесет большие потери от вашей противокосмической обороны, но мы были готовы к ним и раньше. А когда от вашей обороны останется лишь воспоминание, наши дредноуты сотрут в порошок и Эрруак, и Комету, и все остальные космические тела системы по каталогу. От номера 1 до 1319.
В том, что я сказал, было немножко правды и много блефа. Наш флот действительно мог попытаться атаковать Эрруак. Но оценка времени, потребного на преодоление тойлангской линейной обороны, была не в нашу пользу. Расчеты Ставки показывали, что тойланги успеют расстрелять на Земле все крупные города, а затем вывести из Солнечной системы три четверти своего флота для защиты Эрруака прежде, чем наши корабли смогут создать угрозу непосредственно родной планете тойлангов.
– У вас это называется «по–ца–луй из могилы», верно? – спросила Ресту–Влайя.
– Именно так.
Сами–то тойланги не целуются. Поэтому слово «поцелуй» в ее устах было калькой с земного Языка.
Я был изумлен.
Чтобы тойланг интересовался земной лингвистикой и прикладной антропологией? Отродясь о таком не слыхивал!
– Я пришла сюда не для того, чтобы обсуждать кто кого за–ца–лует до смерти. Я пришла, чтобы попытаться найти приемлемые для обеих сторон формы мщения. На основании текущей ситуации. А текущая ситуация такова, что мы можем испепелить Землю за четыре тика. В то время как вам для прорыва к Эрруаку потребуются стандартные сутки.
Что ж, в высшей степени разумно. Они все просчитали не хуже нашей Ставки. Попытки блефовать и дальше приведут только к окончательному срыву переговоров.
Я состроил скорбную мину и с тяжелым вздохом сказал:
– Мы готовы вернуть вам все оккупированные колонии и отвести свой флот в Солнечную систему.
– Мы это уже слышали. Этого мало.
– Но ваше Управление Пространств Удаленных собиралось думать до Дня Кометы!
– Обстоятельства изменились. После провокационной выходки вашего крейсера, решение было принято сразу. Ваши предложения отклонены. Что ты можешь предложить еще?
– Мне необходимо связаться со Ставкой.
– Нет. Решай сам. Здесь и сейчас. И помни о судьбе гиши.
Она требовала от меня действовать на грани моих полномочий. Даже если я смогу вымучить условия мира, которые удовлетворят ее взыскательную натуру, примет ли эти условия Ставка?
– Хорошо. Мы можем разоружиться. Сделать так, чтобы корабли владетелей пространства никогда больше не боялись встретить звездолет землян.
– Корабли владетелей пространства не боялись и не боятся подобных встреч. Ни в прошлом, ни сейчас.
Вот что значит настоящее патриотическое воспитание!
– Я неправильно выразился. Это был просто оборот речи. Я имел в виду, что мы можем сдать вам все свои боевые корабли.
– Этого мало.
– Мы можем демонтировать все звездолетные верфи. Мы уйдем из космоса! Навсегда!
Я говорил страшные, крамольные вещи. Два дня назад я собственноручно отрезал бы свой язык, если б он осмелился сказать такое. Мне, бдительному стражу интересов Сверхчеловечества, было больно. Но «нет такой боли, которую нельзя вытерпеть». Глубокая книга, эти «Премудрости».
– Это уже много. Но по–прежнему мало. Искандер, моя раса воюет с вами не по необходимости, а ради удовольствия увидеть вас побежденными. Мы должны насладиться мщением. Я готова признать, что поголовное истребление твоих единоплеменников – это грубая и жестокая форма мщения. Но у нас далеко не все с этим согласятся. Для многих тойлангов, ограниченных в своем мышлении, это настоящая услада: отомстить вам через уничтожение.
Переговоры грозили зайти в тупик даже быстрее, чем я думал. Пора было срочно что–то придумывать, юлить, изворачиваться, выкручиваться, тянуть резину – в общем, заниматься настоящей дипломатией.
Может, зря наши двинули сюда Искандерчика? Сломаюсь сейчас под грузом ответственности, сорвусь, надену кольцо–катализатор… Я ведь по–прежнему активант, этого никто не отменял. Последний из.
Нет, так не пойдет. Направить разговор в другое русло – вот что надо.
– Боюсь навлечь на себя твой гнев, но скажи мне: обладаешь ли ты достаточными полномочиями? Не носит ли твой визит частный характер? В прошлую нашу встречу ты мечтала о звании Боренья Слова Передающего. И, помнится, собиралась посвятить себя высокому искусству каллиграфии. А теперь ты носишь орден «Высшее Управление» и говоришь от лица правительства!
– Это все благодаря встрече с тобой. Я принесла своему роду ценные мысли. Столь ценные, что мой род быстро возвысился и привел нашу расу к победе. У меня нет официальной должности в правительстве, потому что она мне не нужна. Но мой голос многое значит для моего брачного контактера. Если мы с тобой договоримся, условия нашего соглашения будут утверждены правительством без проволочек. Слово высокородной финь–Рэхан финь–Залмат.
Если уж Ресту–Влайя произнесла в присутствии чужака свое фамильное имя вслух, значит по крайней мере самой себе она верила. И всеми силами стремилась показать мне, что я тоже должен ей верить.
Но доверяться Ресту–Влайе я не спешил.
– Это общие слова. Как именно возвысился твой род?
– Я подсказала им, что ваши новостные пилюли можно использовать против вас.
Неизвестные гипервирусы в крови Галеацци сразу вызвали у меня подозрение, что тойланги как–то умудрились обратить нам во вред нашу собственную психохимическую технологию. Но при чем здесь именно новостные пилюли?
– Как использовать?! Это же совершенно безобидные препараты!
– Это ты мне уже говорил там, на У–те–се. Они безобидны, пока их химсостав отвечает эталону. Но если внести в него определенные коррекции, через пилюли можно передавать любые гипервирусы.
– Например?
– Пример. Можно сделать так, чтобы человек во время приема новостей, помимо зрительных и других образов, получал дополнительную информацию, которую он осознавать не будет. Но воздействие этой информации на подсознание в сочетании с присутствием стабильных гипервирусов в крови и, соответственно, в нейронных цепях, позволяет сформировать второй управляющий центр. Который, незримо присутствуя, заставит человека в нужное время, в нужном месте совершить некое действие. О котором он сам потом не будет помнить. А действие это может быть, например, такое, что из–за него через сутки перестанет работать жизненно важный элемент вашей нелинейной обороны. Или узел правительственной связи.
– Мне кажется, это даже принципиально невозможно.
– Полевые синтезаторы, которые превращают ядовитые грибы в шо–ко–лад, с точки зрения вашей технологии тоже невозможны.
– Ну, не то чтобы совсем невозможны… – пошел я на попятную. – Есть же они у вас! Значит, они возможны. Но очень сложны.
Ресту–Влайя, предупредительно выставив ладонь, другой рукой достала из кармашка на поясе крошечный, в четверть портсигара, проектор и поставила его на стол.
– А вот это… Это – просто? – спросила она.
По ее мысленному приказу на стене засветилось гигантское фигурно–графическое стихотворение. Распространяясь в стороны от извилистого ствола на ветвях–заглавиях, свисали тяжелые гроздья отдельных строф. Каждая буква–идеограмма была обвита собственным неповторимым узором. И если строф там были сотни, то букв – наверное, больше десяти тысяч.
– Это сложно, – признался я.
– Копия довольно неудачная. На оригинальном материале смотрится лучше.
– Но и так очень красиво!
– Благодарю. Моя кисть. Жаль, ты не можешь понять язык линий. Но ты осознаешь, что создание подобного требует большого труда.
– Осознаю.
– Ты видишь перед собой сильно упрощенную структурную формулу гипервируса, которую разработал мой род. Я создала эту каллиграфическую поэму в одиночку. Над гипервирусом трудились все мои родственники–мыслители и сотни наемных ученых. Он предназначен для формирования второго управляющего центра у разумных особей вашего вида.
– Я начинаю тебе верить. Но как вам удалось подменить новостные пилюли Галеацци и Смыглы? Смыгла ведь тоже был вашим неявным агентом?
– Конечно. Но больше я тебе ничего не могу сказать. Ты уже знаешь достаточно, чтобы понять детали.
– Один, последний вопрос!
– Так и быть, – нехотя согласилась Ресту–Влайя.
– Я… я тоже ваш неявный агент?
– Сделай себе анализ крови – и узнаешь.
Ответ, достойный начальника Бюро–9. Она здорово повзрослела за эти годы. Из заводной девчонки–скаута превратилась в настоящую дьяволицу.
Впрочем, а кем был я сам? Вот то–то.
В дальнем углу неожиданно громко хрустнули скомканные листы, которыми я вытирал черную пыль. Замечательная бумага не хотела держать приданую ей Искандером–вандалом уродливую форму. Она расправлялась из последних сопроматовских сил.
Чуткая Ресту–Влайя обернулась на звук, крутнувшись вместе с креслом.
Что–то ее заинтересовало. Она встала и, похоже, решила разглядеть «хру–стя–щие ли–сты» поближе.
Я не стал говорить банальные фразы вроде «это всего лишь бумага» или «оставь ты этот мусор».
Я смаковал каждое мгновение отсрочки.
С вражеским вирусом в крови или без него, с плохими идеями или совсем без идей, я обречен продолжать переговоры. Ведь это последняя линия обороны, которую еще удерживает Сверхчеловечество.
Что предложить тойлангам в обмен на мир во языцех? Какую последнюю рубаху символически сжечь, чтобы владетели пространства испытали свое треклятое наслаждение мщением?
Ресту–Влайя подобрала листы, на ходу разгладила их и вернулась в кресло.
– Что это такое?
– Всего лишь бумага.
– Не всего лишь. Ты можешь объяснить, что на ней изображено?
Она положила листы передо мной на стол.
Факсимиле листов из старинных рукописных книг. Рамы из спиральных и плетеных узоров, внутри – пучеглазые люди с книгами в руках. На одном из листов было нарисовано Распятие.
Подписей под иллюстрациями не было. Только номера.
– Здесь, на кресте – Иисус Христос, основатель одной из земных религий. Остальных не знаю.
– Кто это рисовал? Люди?
– Разумеется!
– Вот как, – если не интонация (эмулятор по–прежнему однообразно рявкал), то сама структура фразы была новой. Я бы сказал – ревнивой.
– Откуда эти листы? Отсюда? – спросила Ресту–Влайя, указывая на книгу, лежавшую на полу особняком от других.
– Кажется, да.
Она подняла толстый вишнево–красный том, открыла его, полистала.
– Он написан не на Языке.
Я пригляделся к обложке. Книга называлась «Hiberno–Saxon Art of Book Illumination». Английская, стало быть. А что такое «гиберно–саксон»? Бог весть…
– Да, эту книгу издали не меньше пятисот лет назад. По нашим меркам, она достаточно ценная. Но, конечно, не такая ценная, как те уникальные рукописи, страницы из которых в ней воспроизведены.
– Не поняла. Изображения вашего религиозного лидера, они не создавались специально для этой книги?
– Разумеется нет. Та книга, которую ты держишь, отпечатана в типографии. В количестве нескольких тысяч экземпляров. А иллюстрации, которые помещены на ее страницах, были созданы давным–давно в одном экземпляре. Им, наверное, две тысячи наших, земных лет. Тогда на Земле не было типографий. Книги писали вручную. И снабжали картинками – тоже нарисованными вручную. Каждая такая книга уникальна.
– Эти рукописные книги сохранились?
– Большинство погибло. Но некоторые сохранились, конечно. Иначе что было бы изучать нашим ученым и тиражировать нашим типографиям пятьсот лет назад?
– А сейчас вы этим не занимаетесь?
– Как тебе сказать… Есть чудаки, которые занимаются. Их, наверное, человек сто на все Сверхчеловечество.
– Вы больше не рисуете так? – она показала мне книжный разворот, где слева был расположен текст, а справа – прямоугольник без текста, заполненный разноцветным головоломным узором. Я сравнил его с декоративным обрамлением поэмы, которую показывала мне Ресту–Влайя, и не без злорадства пришел к выводу, что безвестный земной мастер накручивал завитки по меньшей мере не хуже.
Я заинтересовался иллюстрацией. Нашел в книге ссылку. Английский похож на Язык, поэтому худо–бедно мне удалось прочесть:
«Ковровая страница из Личфилдского Евангелия. Середина восьмого века. Раньше книга хранилась в Личфилдском соборе, теперь – в Британском Музее.»
– Искандер, ты не ответил. У вас есть люди, которые умеют так рисовать?
– Не уверен. По–моему, этому сейчас нигде не учат. Ты видела барельеф на башне нашего посольства?
– Уродство.
– Кажется, в последние века только это и считается красивым. Этому – учат. Другому вряд ли.
– У вас звездолеты красивые, – неожиданно признала Ресту–Влайя. – А постройки никуда не годятся.
– Не буду спорить.
– Так, искусство у вас все–таки раньше было. А несколько веков назад закончилось. Остались только звездолеты и башни с барельефами. Я правильно понимаю?
Она была не на все сто процентов права. Но на девяносто девять – уж точно. Один процент не стоил спора.
– Правильно. Искусство умерло, осталась одна только история искусства.
– А как так могло случиться?
– Никогда над этим не думал.
– Кажется, я знаю! – обрадовалась Ресту–Влайя, не думая ни секунды. – Ваши органы общественного контроля ужесточили правила для тех, кто хотел заниматься искусством. И ваш аналог Испытата стало получить практически невозможно! Мы тоже полтора столетия назад сталкивались с этой проблемой. На испытаниях погибали три из каждых четырех соискателей. Если бы Единое Управление Пространства не упростило процедуру…
– Постой, постой. Ты остроумна, но ты не угадала. Тебе, наверное, будет это странно слышать, но любым искусством у нас может заниматься кто угодно. Для этого не требуется особых удостоверений.
– Не может быть!
– Уж поверь.
– Но ведь вашим воинам, например, удостоверения требуются?
– Обязательно. И инженерам. И пилотам. И много кому еще. Но писатели, поэты и художники у нас почти никогда не проходили официальных испытаний. Была эпоха, когда в некоторых странах существовали учебные заведения, которые после очень легких по вашим меркам испытаний выдавали удостоверения писателей или художников. Но мне не известно, чтобы это принесло заметные результаты. Наоборот, в ту эпоху и начался закат наших искусств.
– Выходит, дело не в строгости законов, а в избыточном попустительстве лентяям и проходимцам?
– А вот это может быть.
– И все–таки, дело не только в попустительстве. Если бы у нас отменили закон об Испытате, стихосложением занялись бы сотни и тысячи самовлюбленных болванов. Но это не отменило бы моего, например, выбора. Я все равно занималась бы каллиграфией, преумножала прекрасное и прославляла свой род. И десятки других одаренных тойлангов тоже. Лжетворчество болванов было бы посрамлено. Им пришлось бы от стыда съесть красного носача и подохнуть!
– Я думаю, ты слишком хорошего мнения о болванах, – деликатно возразил я. – Может, у вас они такие сознательные и стыдливые, но у нас ими набиты все новостные каналы, рекламные агентства и дизайнерские фирмы. Увы, никто из них не ест красных носачей и тем более не спешит подохнуть.
Мою иронию она не оценила.
– Это не важно – пусть живут, если им честь не дорога. Но я все равно не понимаю, почему ваше Сверх–че–ло–ве–чес–тво умудряется жить. Ты позволишь – я немного подумаю?
– Сделай одолжение.
Ресту–Влайя погрузилась в медитативное похрюкиванье.
Я, за неимением лучшего, листал «Hiberno–Saxon Art of Book Illumination».
Седьмой век… Восьмой… Десятый…
«Книга Катах»… «Келлская Книга»… «Псалтырь Этельстана»…
Тринадцатый век…
«Book of Deer» … Что такое Deer? В Языке я не нашел аналогий.
Странные, чужие, порою кажущиеся неуверенными, но при ближайшем рассмотрении гипнотически чарующие линии, волшебная цветовая гамма…
Мне стало вдруг неловко, что в качестве тряпочки для пыли я использовал страницы из этого фолианта – они не заслуживали подобного обращения. Уж лучше бы употребил рукав своего парадного кителя!
– Я все обдумала, – сказала Ресту–Влайя. – Послушай историю.
– Слушаю.
– Раньше мы считали, что у вас вообще нет искусств кроме технологии. Все наши трофеи свидетельствовали об этом. Разговоры с немногими пленными землянами тоже подводили к мысли, что ваша цивилизация украшает только упаковки для продуктов питания. Самые прозорливые из нас понимали, что видимая картина – ложная. Они учили, что где–то в недрах вашей цивилизации существуют тайные общества посвященных, для которых поэзия, живопись и каллиграфия составляют высший смысл жизни. Ведь сказано: «Бесперая рыба не летает». А каллиграфы клана Кнуд–ше давно открыли, что четвертое орнаментальное преобразование этой премудрости дает «Цивилизация мертва без культуры»…
(Тут Ресту–Влайя полезла в дебри профессиональной терминологии и я не могу ручаться, что понимал ее лучше, чем положено бригадному генералу.)
– …В то время как сказано: «Голова – на шее, воздушный крокодил – на привязи», что каллиграфически может быть разрешено как «Искусство – душа культуры». Сопряжение премудростей показывает, что разумная раса без искусства либо вымрет, либо превратится в неразумную. Вы разумны и впечатления вымирающих не производите. Это все потому, что вы спрятали свою душу очень далеко. Большинство из вас о ней даже не подозревает, но душа у вашей культуры есть, она существует.
Ресту–Влайя наклонилась вперед и положила ладонь на раскрытую книгу.
– Вот ваша душа.
– Видишь, не все у нас так плохо, – я сказал это не без гордости за Сверхчеловечество.
– Все у вас было не так плохо. Но теперь мы насладимся мщением, брига–ден–гене–рал Эффендишах.
6. В День Кометы счастлив каждый
Мы с полковником Дурново везли мир Сверхчеловечеству.
Практичные тойланги, оказывается, пощадили крейсер «Аль–Тарик». Раскрошив на нем установки тяжелого вооружения и антенную башню, они взяли его на абордаж. Наши звездолетчики почти не сопротивлялись – приказ на уничтожение Кометы казался абсурдным, никто не хотел умирать после того, как блок–крепости бесславно проиграли сражение за Солнечную систему.
Могущественные родственники Ресту–Влайи от лица правительства связались со Ставкой и предупредили, что массовый геноцид землян отложен, а дипломатическая миссия бригадного генерала Эффендишаха возвращается на борту «Аль–Тарика». Крейсером управлял наш, земной экипаж под контролем тойлангской призовой партии.
С Джакомо Галеацци перед нашим отъездом из посольства случился очередной припадок. Ресту–Влайя категорически настояла на том, чтобы оставить берсальера на Эрруаке.
«У него начался неуправляемый распад личности под воздействием нашего гипервируса, – сказала она. – Мы ожидали чего–то подобного. Ваша медицина не справится. Его и капитана Смыглу мы запросили на Эрруак именно для того, чтобы вылечить. Мы испытываем этические неудобства из–за того, что человек, открывший для нас двери в Солнечную систему, может умереть.»
Берсальер, откровенно говоря, был мне глубоко безразличен. Куда больше я беспокоился за судьбу мирного договора, который еще предстояло утвердить в Ставке.
Петр–Василий, прочитав предварительный текст соглашения, долго хохотал. А потом предрек, что история накажет тойлангов за политическую близорукость. Следующую войну, которая случится еще на нашей памяти, Сверхчеловечество точно выиграет. По его мнению, адмиралы должны были подписать такой мирный договор без колебаний.
Я оптимизма Петра–Василия не разделял, но спорить не спешил, тем более что полковник тему мирного договора считал закрытой. Единственное, что занимало праздный ум Петра–Василия, – это диверсии, проведенные Галеацци и Смыглой против «Пояса Аваллона».
Крейсер уже вынырнул из пространства Аль–Фараби и сближался с «Кавуром», когда Дурново снова завел разговор на эту тему.
– Знаешь, Искандер, у меня все равно в голове не укладывается, как тойланги могли провернуть такую операцию. Вот, например, подмена новостных пилюль Галеацци и Смыглы. Это же совершенно невероятное дело!
– Мне бы твои проблемы.
– Но ты же разведчик, тебе должно быть интересно!
– Да что тут интересного? Раз провернули – значит смогли. Смирись с фактами.
– Тебя после разговора с этим орденоносным чудовищем как подменили.
– Она не чудовище. Просто инопланетянин.
– Скажи честно: ты тоже вражеским гипервирусом накачан?
– Да нет же! Я в корабельном госпитале проверился. Первым делом.
– Ну так поговори со мной как офицер с офицером! А то ты все время молчишь и улыбаешься с таким загадочным видом, будто вчера потерял с Ресту–Влайей девственность, а завтра намерен на ней жениться!
– В чем–то ты прав, – ответил я.
Выражение лица Петра–Василия свидетельствовало, что я хватил лишку.
– Хорошо, хорошо, признаю: шутка неудачная. Скажи, для тебя действительно важно знать мое мнение насчет новостных пилюль?
– Да.
– В таком случае как офицер офицеру тебе напоминаю, что новостные пилюли – это не голландский сыр и не салат с креветками. Это не продукт питания, а препарат, который можно получить синтетически, по заданной формуле – пусть и очень вычурной. Точно так же как и вакцину универсального фага, анальгин и синтетическое пиво.
– Да неужели? – саркастически спросил полковник. – Вот спасибо, вот объяснил.
– Ты же ими не пользуешься – может, не знал. Так вот, до позавчерашнего дня наши сети нелинейной и обычной связи прокачивали через себя, помимо сотен квинтобайтов прочего мусора, формулы свежих новостных пилюль для миллионов подписчиков. В частности, все боевые и вспомогательные единицы нашего флота, а равно армейские медчасти, эти формулы получали. На основании принятых инфопакетов химические реакторы, установленные в медчастях и буфетах, синтезировали по запросу каждого абонента конкретный набор пилюль – в соответствии с данными о подписчике.
– Само собой разумеется.
– А теперь подумай, сколько ретрансляторов и подстанций в наших сетях связи? Особенно обычных, линейных? Тысячи! А сколько из этих ретрансляторов в силу тех или иных причин было уничтожено в результате диверсионных действий тойлангов за последние полтора года?
– Не знаю. Два. Может, три.
– Сразу видно, что ты никогда не служил ни в разведке, ни в войсках связи. Ты не знаешь, что, например, спецтранспорты «Парацельс» и «Гиппократ» были не только госпитальными кораблями, но и крупными узлами связи эскадренного звена. Даже я, сидя на «Бетховене» и зная о ходе войны далеко не все, насчитал три десятка крупных диверсий именно против элементов наших сетей связи и управления. Большинство из них показались мне – и Ставке, думаю, тоже – бессмысленными, самоубийственными акциями. Проводились они обычно без увязки с оперативной активностью тойлангской армии. Будто бы от нечего делать, как геройство ради геройства. Я думал – младшие отпрыски аристократических семейств стараются выслужиться, чтобы получить свой личный звездолет и мешок поэтических свитков.
– Ну–ну, а на самом деле?
– А на самом деле, как я полагаю теперь, уничтожение наших объектов было лишь прикрытием. Реальная цель операций – искажение передаваемой через наши сети информации. Причем не военной, а как раз гражданской – за которой ни контрразведка, ни внутренняя безопасность почти не следит. Тойланги очень технично захватывали объект, подменяли один–единственный информационный пакет и какое–то время – насколько могли – не препятствовали работе ретранслятора. Потом взрывали все, жертвуя и собой, и своими десантно–штурмовыми катерами, и если надо – рейдером.
– И этот один–единственный информационный пакет внедрял модифицированные гипервирусы в пилюли Галеацци и Смыглы? Мне уж легче поверить, что подобным образом тойланги могли внедрить гипервирусы во все новостные пилюли, синтезированные на борту определенного корабля, чем выслать его адресно, одному наперед известному человеку!
– Я не обещал сообщить истину в последней инстанции. Мне она не известна так же, как и тебе. Я лишь делюсь с тобой своими соображениями. Вот тебе еще одно, последнее. Из–за того, что каждая рота берсальеров имеет свой собственный борт приписки, число абонентов НС–новостей на каждом рейдовом транспорте невелико. Кроме того, состав этих абонентов фиксирован. Где бы рейдовый транспорт ни находился, он попадает в какую–то строго определенную «соту» покрытия наших ретрансляторов. Средствами технической разведки тойланги отслеживали местоположение транспорта Джакомо Галеацци и адресно долбали его искаженными инфопакетами, захватывая каждый раз именно конечный ретранслятор, то есть один из объектов, отвечающих за нужную «соту».
– Громоздко.
– Конечно. К тому же, эту гипотезу невозможно проверить, не сравнив график боевой активности рейдового транспорта, на котором служил Галеацци, с местами проведения диверсий. Поэтому я предлагаю…
Мои речи были прерваны тойлангами в биомасках, которые пришли уведомить, что «Кавур» уже совсем близко, катер готов и пора пошевеливать ластами.
– Поздравляю вас с Днем Кометы, человеки, – сказал их командир.
– В День Кометы счастлив каждый, – учтиво ответил я.
Поскольку верховный главнокомандующий остался на Земле, а главком флота вторжения поспешил застрелиться, председательствовал лучший из худших, старший из младших: адмирал Пирон. В сопредседателях были начальник Бюро–9 генерал–лейтенант Глеб Роньшин и контр–адмирал Алонсо ар Овьедо де Мицар.
Сесть нам с Петром–Василием не предложили.
Происходящее походило на военно–полевой суд. Поэтому и тройку заседателей не чем иным кроме как трибуналом назвать было нельзя.
– Докладывайте, – милостиво повелел Пирон.
– Я полагаю, господа, вам следовало бы первым делом ознакомиться с условиями мирного договора.
– Адмирал Пирон ясно сказал: докладывайте, – с нажимом сказал Роньшин. – Договор обождет.
Я был уверен в обратном. Договор ждать не мог. Каждая минута промедления означала сотни, если не тысячи самоубийств на Земле, деволюцию беспорядка в хаос, разрастание страха в ужас – разрушительный, сводящий с ума.
Но ссориться с этими тиранозаврами не стоило. По крайней мере, прежде времени.
В сорок минут я уложился. Включая историю возвышения рода финь–Рэхан финь–Залмат и обстоятельное объяснение, почему нужно немедленно конфисковать все инъекторы и опечатать корабельные синтезаторы.
В трибунале качали головами и хмурились.
– Вам есть что добавить, полковник Дурново?
– Могу лишь засвидетельствовать, что деятельность нашей дипломатической миссии на Эрруаке изложена бригадным генералом Эффендишахом достоверно и в полном объеме.
– Итак, Галеацци и Смыгла оказались вражескими агентами, – констатировал Алонсо ар Овьедо, выразительно поглядев на Роньшина. – Мы так и поняли, стоило нам поглядеть в присланный тойлангами список членов посольства.
– Не агентами, Алонсо. А марионетками, действовавшими во вред Сверхчеловечеству помимо собственной воли.
– Эффендишах, соблюдайте субординацию! – рявкнул Пирон, сверкнув глазами.
– Слушаюсь, господин адмирал. Осмелюсь напомнить, что нам желательно заняться мирным договором.
– Давайте сюда ваш договор.
Я положил на стол перед ними лист гербовой бумаги.
– Здесь перечислены условия тойлангов. Мы должны их принять. После того, как вы их одобрите, нужно будет составить полный текст договора по согласованным нормам нашего и тойлангского права.
– Если мы их одобрим, – поправил меня Роньшин.
Я промолчал. Если вы такие умные и смелые, господа, почему бы вам самим не отправиться на Эрруак? Похамить, поторговаться, поугрожать?
– Что за чушь? Я не понимаю первого пункта, – возмутился Пирон. – Эффендишах, поясните.
С моей точки зрения, пояснять там было совершенно нечего. А доносить до трибунала тойлангскую премудрость «искусство – душа культуры» и свои сопутствующие соображения я считал не только излишним, но и вредным.
Лучшим комментарием я нашел повтор. Может, со второго раза до Пирона дойдет. Я процитировал по памяти:
– «Народ Земли обязуется выдать все содержимое библиотечных, университетских, музейных хранилищ, а именно: рукописные книги с иллюстрациями, рукописные книги без иллюстраций, предметы пластических искусств, предметы скульптуры и живописи. То же относится и к частным собраниям. Выдачу производить в соответствии с описью, которая будет составлена отдельной комиссией управителей пространства на основании изучения каталогов, которые должны быть представлены в первую очередь как жест доброй воли народа Земли.»
– Это я сам вижу! – Пирон побагровел. – Но что стоит за этим требованием?! Чем вы там занимались, Эффендишах?!
– Дипломатией, господин адмирал. Пункт первый – главное условие тойлангов. Их интересуют наши древние искусства.
– Какие искусства?!
– В первую очередь книжная миниатюра и каллиграфия, но также резьба по дереву и кости, ювелирные изделия, скульптура и живопись.
– Они имеют какое–то военное значение? – Пирон в растерянности обратился к Роньшину.
Тот покачал головой.
– Сомневаюсь. Старинные ювелирные изделия содержат некоторое количество золота и серебра, которые можно использовать в качестве сырья для конверсии в тяжелые радиоактивные элементы. Но энергетически это совершенно нерентабельно.
– Хм, странно… Хранилища музеев и библиотек… Эти мусорки… Что ж, пусть забирают. Если все пункты такие же как этот… – Пирон мечтательно улыбнулся и продолжил чтение.
«Я знал, что первый пункт нареканий не вызовет», – хотел сказать я, но сдержался.
К разочарованию адмирала, дальше были изложены требования вполне вменяемые и для военных малоприятные. Вывод наших войск из всех оккупированных колоний. Выдача всех пленных (взамен тойланги, разумеется, возвращали наших). Уничтожение боевых кораблей последних трех поколений и передача тойлангам всех гражданских судов межзвездного класса.
Условия как условия. Реалистические. Если исключить из них первый пункт, то из всего перечисленного лично мне казалось опасным только требование насчет гражданских звездолетов. Выходило, что наши колонии на долгие годы окажутся отрезаны друг от друга и от Земли. Но цивилизацию гиши, например, тойланги уничтожили полностью. Так что следовало признать, что мы легко отделались. Если б не эти «гиберно–саксонские» манускрипты, которые не шли у меня из головы, душа моя была бы совершенно спокойна.
– Я так и думал, – Пирон поднял на меня тяжелый взгляд. – Эффендишах, как вы смели принимать такие условия? Как вы могли позволить тойлангам так унизить Сверхчеловечество в вашем лице?
Адмирал не кричал, о нет. Он шипел.
– Вы же разведчик, более того – вы активант. Под видом посольства вам удалось проникнуть в самое сердце вражеского стана. Право слово, лучшее, что вы могли сделать, получив такие условия, это использовать кольцо–катализатор. Уничтожить охрану, взять в заложницы эту вашу аристократку, направиться прямиком в Единое Управление Пространства… Испепелить высшие органы государственной власти… И кто знает: возможно, ошеломленные вашим натиском, тойланги не смогли бы, просто не успели связаться со своим флотом в Солнечной системе. Вы имели шанс симметрично повторить то, что удалось вражеским агентам сделать с «Поясом Аваллона»!
Тут даже Роньшин не вытерпел.
– Адмирал, мы все это моделировали. Много раз. Подобная операция утопична. У тойлангов все сети управления не иерархические, а распределенные. Чтобы их дезорганизовать, нужна рота активантов, причем заброшенных одновременно в сорок–пятьдесят точек.
– Так вы предлагаете принять эти условия?!
– Я этого не говорил.
– А вы что думаете, контр–адмирал?
– Я полагаю, тойлангов надо как следует проучить. Основываясь на исходном плане вторжения в систему Франгарн.
«Тираннозавры обнажают клыки», – подумал я, погружая руку в карман. Предохранительная мембрана из кольца–катализатора была мною предусмотрительно выломана.
Сочтя мое угрюмое молчание за проявление овладевшей мною апатии, Петр–Василий сделал шаг вперед. Он кричал – яростно и самозабвенно:
– Господа, не делайте ошибки! Это же миллиарды жертв! Только на Земле в крупных городах за первые минуты погибнет восемьсот миллионов человек! Ради чего?!
Роньшин, Пирон и Алонсо ар Овьедо молча переглянулись. Обменялись короткими заговорщическими кивками. Тотчас же в зал для оперативных совещаний хлынули берсальеры.
– Полковник Дурново и бригадный генерал Эффендишах! Вы арестованы по обвинению в измене интересам Сверхчеловечества. Лейтенант, заберите оружие у арестованных.
Нет, господа, так дело не пойдет.
Мой указующий перст прошел сквозь кольцо–детонатор.
Мир взорвался.
На самом деле, взорвался я – моя линейная оболочка, одежда и воздух на головой. Вспыхнули и исчезли многие значимые, но, хотелось надеяться, не коренные фрагменты моей личности.
Я утратил вес, осязание, обоняние, слух. Мгновенно забыл какого я пола. Я напрочь лишился представлений о пище, питье, сексе. Я превратился в свет и зрение мое, функционирующее не благодаря глазам (их не было у меня), а невесть как, поначалу воспринимало лишь оранжево–алый кольцевой поток, которым был я сам.
Я мерцал на границе обыденного мира и пространства Аль–Фараби.
Я стал ифритом.
Искандер Эффендишах. Кто это?
Семью девять шестьдесят четыре.
Неверно. Семью девять шестьдесят три.
Я забыл таблицу умножения, но обнаружил, что могу мгновенно сложить семь девяток, представив числа в виде палочек, а потом пересчитав все палочки. Так, кажется, учат сложению пятилетних детей.
А 17896 умножить на 908?
Будет 16249568.
Таков был первый шаг теста Тикканена, который каждого активанта заставляли выучить наизусть, а потом повторно загоняли вглубь сознания под гипнозом. Тест был предназначен для того, чтобы снизить вероятность полного распада личности активанта. Его рекомендовалось прогнать сразу после перехода в «горячий» режим.
Тест Тикканена выстроен так, чтобы вернуть активанта, стремительно проваливающегося в пучины самосозерцания, к восприятию линейного мира и пробудить по отношению к нему минимальное любопытство. Наиболее универсальными объектами линейного мира Тикканен, как и все математики, считал числа и геометрические фигуры, а потому тест взывал по преимуществу к алгебре и общим формам восприятия пространства.
Кому–то тест помогал, кому–то – нет, но сам факт того, что я о нем помнил, меня обнадежил.
Труднее всего дался предпоследний шаг теста: «Что больше – галактика или сфера радиусом один метр?» Мучительно долго я вспоминал что такое галактика и что значит «больше».
Может, у меня личность крепкая, а может тест был и впрямь хорош, но вскоре я вспомнил, кто такой Искандер Эффендишах. Это повлекло за собой целый обвал больших и маленьких открытий. Кто я, где я, зачем я – и так далее.
Через секунду я уже открыл глаза. Выражаясь точнее, я позволил человеческой матрице проявиться и сформировать временное тело с необходимыми атрибутами.
Вероятно, я отсутствовал совсем недолго, а моя активация была достаточно эффектна, чтобы удержать всех в зале если не из страха, то по крайней мере из любопытства.
Я видел все в зловещей красной гамме, но вполне отчетливо.
Берсальеры сгрудились перед членами трибунала, держа «Гочи» наготове. Дурново лежал на полу между мной и берсальерами, закрыв голову руками.
Пирон что–то говорил, но слух у меня еще не успел наладиться. Слова я слышал, но смысл от меня ускользал.
Чем адмирал угрожает и к чему призывает уже не имело ни малейшего значения. Как и соображения других членов трибунала. Поскольку в тот момент я располагал абсолютной властью над их жизнями. Они же, стреляя в меня из «Гочей», добились бы только сильного пожара в замкнутом помещении.
Когда я заговорил, мой голос перекрыл словоизлияния Пирона, как рев водопада – шелест травы.
– На ближайшие несколько суток верховная законодательная и исполнительная власть переходит в руки Временного Правительства. Глава кабинета – Искандер Эффендишах. Министр иностранных дел – Искандер Эффендишах. Военный министр – Искандер Эффендишах. Министр внутренних дел – Искандер Эффендишах. Палач – Искандер Эффендишах. Хранитель печати и подписи главы кабинета – Петр–Василий Дурново. У вас, господа, есть выбор: войти в аппарат правительства на правах пресс–секретарей либо вас вынесут отсюда вперед ногами.
7. Стыдно! Прошло двадцать лет, а ты все поешь песни
Когда я смотрю на себя в зеркало, мне трудно поверить, что в этом человеке жило и умерло без особых мучений столько личностей. Несколько первых – детей и подростков – я помню совсем плохо, поэтому веду отсчет с двадцати лет.
Искандер–1 был убит ревностью и скончался в собственной постели за семнадцать лет до войны.
Искандер–2 погиб под Свинцовым Солнцем, когда шел среди дымящихся трупов заклятых врагов человечества. Враги называли себя «тойе ландж», что на их языке означало «владетели пространства». То были первые серьезные бои, мы по ошибке взорвали пассажирский поезд и ждали решения командования: добивать ли раненых тойлангов в целях сохранения секретности или бросить все как есть и убираться в горы.
Обезоруженного Искандера–3 замучила Ресту–Влайя на Утесе.
Искандер–4 обнаружен мертвым на ходовом мостике мобил–дока «Бетховен».
Спасая Землю, Искандер–5 надел кольцо–катализатор и был поглощен без остатка пространством Аль–Фараби.
Искандер–6 прожил меньше других – сто семнадцать часов. Он умер в тот миг, когда его тело вернулось в «холодный» режим и, вместо того, чтобы вспыхнуть свечкой, попросило ящик «Клико».
Искандер–7 – подозрительный мутант. Он живет уже четверть века. То ли эта, седьмая, личность утратила остатки чувствительности, то ли все дело в новой работе.
Сегодня утром ко мне заходил гость.
Он стоял на пороге. Совершенно лысый, пронзительно голубоглазый. Лицо его имело цвет сильно загущенного мукой вишневого супа – именно такая краска у мастеров Школы Рейхенау считалась телесной. В прекрасной стране Германии, в десятом веке от Рождества Христова.
– Могу я видеть Искандера Эффендишаха?
Его акцент был ужасен настолько, что у меня опускаются руки: я просто не могу его передать.
– Он перед вами.
Даже слабого намека на улыбку я от него не дождался. Вообще, мимика у него была как у тойланга. Отсутствующая.
– Вы не узнали меня, но и я не узнаю вас, – сказал гость. – В данном случае симметрия утешает.
– С кем имею?.. Джакомо!
– Позволите зайти?
– Конечно… Заходи! Но как?! Мы же получали официальные извинения от тойлангов! Лечили да не вылечили! Необратимый распад центральной нервной системы!
– Но тело, как видите, они согласились выдать для погребения только сейчас.
Я расхохотался.
– Брось ты эти церемонии, давай на «ты»!
– Честно говоря, я ошеломлен вашим дружелюбием. У меня были опасения, что вы задушите меня голыми руками.
– Почему?
– И вы еще спрашиваете? Да я сам наложил на себя руки, когда Ресту–Влайя мне все объяснила. Как у меня расщеплялось сознание и я в свободное от службы время мастерил часовые мины для координационного центра «Пояса Аваллона». А потом снова заступал на дежурство и, как ни в чем ни бывало, охранял то, что сам потом же и взорвал! Проклятая тойлангская медицина… Они мне нарастили сожженные легкие быстрее, чем я успел умереть. И нейроны наращивали, поштучно. Потому что я, по их мнению, нечто среднее между невинной жертвой войны и тойлангским национальным героем. Значит, на Земле я должен считаться преступником номер один.
– Джакомо, я, в таком случае, должен бы считаться преступником номер ноль. Ведь из–за общения со мной Ресту–Влайя прониклась мыслью, что технология новостных пилюль может стать Троянским Конем нашей обороны.
– Каким конем?
– Извини, я освоил после войны много слов, которым нас в школе не учили. Изъясняюсь порой слишком туманно.
– Ничего. Слова непонятны, мысль ясна…
«Говорит как заправский тойланг!»
– Искандер, я скажу вам… скажу тебе… кое–что неожиданное. Может, в каком–то смысле ты будешь разочарован.
– Ну?
– Никакой революции в планах тойлангов встреча Ресту–Влайи с тобой на самом деле не произвела. К моменту сражения за Утес, фамилия Кнуд–ше уже полтора года возилась с нашими новостными пилюлями и собирала данные по НС–вещанию. Вот что Ресту–Влайя действительно сделала – это привлекла к тематике внимание своего рода. «Топоры и Лотосы» напали на плавающий замок конкурентов и выкрали не только документацию, но и работавших там ученых. Кроме этого, они устроили несчастный случай с экипажем, перевозившим несколько ключевых персон Кнуд–ше. После чего, разумеется, дела у «Топоров и Лотосов» пошли в гору.
– Ты уверен, что все было именно так?
– Я проторчал на Эрруаке столько, что в некоторых семействах меня держат за урожденного тойланга и дарят по праздникам воздушных крокодилов. Мне этой историей недоброжелатели Ресту–Влайи и ее всемогущего супруга все уши прожужжали.
Если бы я услышал это в первые годы послевоенной депрессии, Искандер–7 отдал бы концы и заместился Искандером–8.
А теперь что я почувствовал? Облегчение? Гора у меня с плеч свалилась?
Да ничего подобного.
– Джакомо, я действительно разочарован. Других сенсаций не привез?
– Честно говоря, я сам приехал за сенсациями. Ты знаешь, тойланги Сверхчеловечеством почти не интересуются…
– Человечеством, – поправил я.
– Что?
– После коллапса межзвездных сообщений и последовавшего за ним отделения большинства колоний было решено изменить название всемирного государства. Мы больше не Сверхчеловечество.
– Да, верно. Так вот, о сенсациях. Тойлангская комиссия по культурной ликвидации и военному разоружению покинула Землю пять лет назад…
«Пять эрруакских лет, но двадцать наших, – отметил я. – Недаром Галеацци получает в подарок воздушных крокодилов! Ему впору называться Джакомо Кнуд–ше.»
– …И с тех пор владетели пространства не следили за человечеством, будучи уверены, что его ожидает медленное угасание. А ведь за эти годы, насколько я понимаю, человечество могло бы полностью восстановить боевой флот! Благо, в мирном договоре не было ни одного пункта об ограничении послевоенного производства. И вот недавно Единое Управление решило все–таки выслать миссию…
– Я знаю. Их принимали в Дели.
– Не только. Они побывали еще в Риме, Константинополе и Москве. Миссия вернулась с очень противоречивым отчетом. Согласно ему, угасания цивилизации не наблюдается. Люди повсеместно производят впечатление существ энергичных и довольных жизнью. И при этом у землян всего лишь сорок боевых звездолетов. Но это же мизер! Что вы делали все эти годы?! Чем занята промышленность? Что происходит? Я не понимаю…
– Это очень скучная тема, Джакомо. Хочешь чаю?
– Напомни… Это спиртной напиток?
– Нет. Горячий настой из листьев одноименного кустарника.
– Тогда не откажусь. Экзотика, как–никак.
– Сядем во дворе или прямо здесь?
– Лучше здесь. У вас жуткое солнце. Я от такого давно отвык.
Я разлил чай по пиалам.
– Искандер, что же все–таки происходит?
– Джакомо, ты прибыл на Землю через интерзону конфедерации Трех Красных Гигантов?
– Да. Частный звездолет Кнуд–ше довез меня до интерзоны, а там я пересел на лайнер до Дели.
– Но нашу расчетную карточку ты получил, конечно же, у своих друзей в Едином Управлении?
– Вот теперь узнаю бригадного генерала Эффендишаха. Что значит разведчик!
– Ну, это собразил бы и ребенок. За место на лайнере ты мог расплатиться одной из внеземных универсальных валют. Скажем, плитками осмия. Но уже из Дели до Шираза ни за какой осмий не повезут. Тут нужны либо особые документы, которым у тебя взяться неоткуда, либо расчетная карточка нового образца. Которую могла тебе привезти только тойлангская миссия, вернувшаяся с Земли.
– Все верно.
– Ты прилетел навсегда? Или намерен вернуться к тойлангам?
Бывший берсальер замялся.
– Как тебе сказать… Если меня здесь задержат и захотят судить – я сочту это справедливым. Но если нет – предпочел бы вернуться. Мне с тойлангами уже проще, чем с людьми.
– Я этого ждал. Помнишь, Джакомо, старую инструкцию для военных? Насчет того, что земная история до двадцать второго века – секретна? Что ее нельзя обсуждать с представителями инопланетных рас?
– Как не помнить!
– Как ты понимаешь, это было сделано для того, чтобы не смущать инопланетян нашим мрачным прошлым. Мировыми войнами, геноцидом индейцев и славян, кровопролитными революциями. Возможно, ты никогда об этом не задумывался, но это стало также и одной из причин, по которым тойланги так долго не догадывались о существовании у человечества богатого культурного наследия.
– Верно. Ну и что?
– Так вот, сейчас действует принятый сразу после войны Закон о Возрождении. Он чем–то подобен старой инструкции, только временные рамки его действия перенесены на послевоенный период. Закон запрещает комментировать для инопланетян происходящее на Земле. А ты, извини, скорее тойланг, нежели человек.
– Принимаю.
– Наши власти, я думаю, не будут чинить тебе препятствий. Можешь посетить любые города на Земле, можешь смотреть наши новости, тебя даже пустят на территорию военных объектов. Но что на самом деле здесь происходит – извини, никто тебе не объяснит. Придется обождать до следующего Дня Кометы.
Гость ушел. Я сполоснул пиалы, подставил ладони струе горячего воздуха из сушки, вернулся в мастерскую.
На краях огромного стола в беспорядке громоздилось множество альбомов и книг. Большая часть из них была недавно переведенными на Язык переизданиями пяти-, шести– и семивековой давности. Было там среди прочих и «Ирландско–англосаксонское искусство книжной иллюминации» – то самое, которое навело Ресту–Влайю на первый пункт мирного договора между тойлангами и Сверхчеловечеством.
Попадались книги и на старых национальных языках. Благодаря превосходному кибертранслятору производства бывших «Объединенных Верфей», я не испытываю затруднений с переводом.
Кроме книг, на столе лежали батареи кисточек, деревянные коробочки с полуфабрикатами для приготовления различных красителей, ножички для зачистки перьев и специальных письменных палочек. Там же были и несколько переплетенных, но пустых пока пергаментных кодексов, как принято называть старинные рукописные книги.
В центре стола, накрытое стеклянным колпаком, лежало Личфилдское Евангелие.
Физически этот кодекс не имел ничего общего с оригинальным экземпляром, который был создан безымянным гением из числа нортумбрийских монахов в восьмом веке. Оригинал долгое время находился в библиотеке Личфилдского собора, в конце двадцать первого века был перевезен в подземные хранилища нового корпуса Британского Музея, пролежал там еще шесть веков, а по условиям мирного договора был выдан владетелям пространства. Вместе с тысячами других бесценных манускриптов, с Келлской Книгой и Амиатинским Кодексом, с Бамбергским Апокалипсисом и Хлудовской Псалтырью тойлангский крейсер увез его на Эрруак. Там эти книги были сожжены в огромной печи из жаропрочного стекла перед толпами ликующих победителей. В других печах горели полотна старых голландских мастеров и плавились крылатые быки из Ниневии…
Мое Личфилдское Евангелие было изготовлено в Тегеранском скриптории, основанном не без моего участия восемнадцать лет назад. Мне предстоял долгий, кропотливый труд по сличению этого рукотворного шедевра с великолепной факсимильной копией, которая была сделана по архивным слайдам согласно Закону о Возрождении.
Сам я пока что не могу претендовать на высокое звание скриптора, не говоря уже об иллюминаторе. И, возможно, уже не успею освоить это сложнейшее искусство настолько, чтобы получить собственную лицензию, если угодно – Испытат. Это прерогатива молодых и талантливых.
Но одиннадцать лет назад я все–таки смог продемонстрировать компетентной комиссии Московской Академии Изящных Искусств (к слову, ровесницы Тегеранского скриптория), достаточный уровень познаний в палеографии и кодикологии, чтобы стать счастливым обладателем диплома эксперта. В прошлом месяце мы бурно отмечали с друзьями прием в основные фонды восстановленной Книги Катах, и вот теперь мне предстоит решать: будет ли этот список Личфилдского Евангелия переправлен вслед за Книгой Катах в тайные бункеры Антарктиды или пополнит огромные арсеналы выбракованных копий, которые можно использовать в учебных целях, но нельзя присовокупить к душе нашей культуры.
Но прежде, чем приступить к экспертизе, мне требовалось войти в настроение. Я подозвал кибертранслятора, открыл русскую книгу «Искусство Раннего Средневековья» и, ткнув пальцем в заранее облюбованный абзац напротив цветной иллюстрации, потребовал:
– Читай.
«Но чемпионом в жанре ковровых листов следует признать, пожалуй, мастера Евангелия из Личфилда. Самобытная колористика листа, выполненного в невероятно изощренной технике, служит предметом восхищения со стороны искусствоведов. Геометрия узора продумана с немыслимой для периода становления англо–ирландской традиции тщательностью, а ее воплощение, вероятно, потребовало от художника не одной недели кропотливой работы.
Подобно визуальным иллюзиям Эшера, личфилдский ковровый лист подразумевает как бы два слоя восприятия: на первом слое зритель воспринимает в первую очередь крест, окруженный калейдоскопическим узором, на втором – обнаруживает, что каждый из фрагментов узора является самостоятельной картинкой, состоящей вовсе не из абстрактных геометрических форм, но из переплетающихся, взаимопроникающих, мастерски выписанных фигур птиц, зверей, змей…»
Броненосец инженера Песа
Октябрь 2621 г .
Фелиция, система Львиного Зева
«Дюрандаль» падал. Инженер Станислав Пес инстинктивно зажмурился.
Внутри, вокруг пупка, как будто что–то призрачное пенилось, закипало, росло, в висках пульсировала кровь – перегрузки. Он в бешенстве стиснул зубы – как невыносимо это: быть одновременно и беспомощным, и бесполезным.
Истребитель пилотировал его коллега Роланд Эстерсон. Пилотировал так себе, чтобы не сказать отвратительно. Он, Пес, сделал бы это куда лучше. Но роль, которую он вызвался играть, подразумевала только такой расклад. Эстерсон – главный, Пес – ведомый.
– До земли уже близко? – спросил Пес у Эстерсона.
Сам–то он знать этого никак не мог, поскольку лежал в узком, глухом лазе между воздушным шлюзом и аварийным люком пилотской кабины.
Места получше на тесном истребителе не нашлось.
Эстерсон ответил нечто маловнятное. Пес подозревал, его товарищ совсем растерялся.
– Эй, Роланд, что–то вы раскисли! Ну–ка! Не вешать носа! Вы же создатель этой машины! Вас–то она должна слушаться! – сказал Пес, стараясь, чтобы эти слова прозвучали как можно бодрее.
– Разве что мистическим образом… Пожелайте мне удачи, пан Станислав.
– Удачи, ясновельможный пан Роланд!
После этого Эстерсон выключил связь и, как понял Пес, вообще снял наушники, чтобы не мешали. Любитель отличается от профессионала в частности тем, что ему всё, буквально всё мешает…
«Дюрандаль» подвывал и постанывал.
Эстерсон постоянно менял тягу – Пес слышал это, – нащупывая оптимальный режим снижения.
Какофоническая распевка двигателей длилась и длилась. В известном смысле это радовало Песа, поскольку означало, что до сего момента Эстерсон не вогнал истребитель в землю.
Вдруг истребитель подскочил, будто на ухабе.
«Вышли шасси», – безошибочно определил инженер.
Следующего толчка – первого касания тверди – Пес прождал довольно долго. Он уже решил было, что Эстерсон струсил, отказался от посадки – как вдруг «Дюрандаль» бухнулся на все три точки, из–за этой ошибки едва не скапотировал, подпрыгнул вверх, «скозлил», и снова коснулся земли, но на этот раз уже правильно, двумя точками, с малым положительным тангажом.
«Идиот… Сажал бы уже на воду…» – отстраненно подумал Пес.
Но на самом деле злиться на конструктора Эстерсона было не за что. По крайней мере, «Дюрандаль» пока не разлетелся на винтики.
Но и радоваться было рановато.
Со слюдяным хрустом оторвалась крыльевая стойка шасси.
Истребитель припал на правое крыло, как калека на костыль, машину закрутило и Пес, не сумев компенсировать центробежную силу мускулами, больно ударился затылком о титанировую обшивку стыковочного лаза. Из глаз инженера посыпались искры.
Там, где лаз кончался, упираясь в пилотскую кабину, раздался громкий хлопок – это катапультировался Эстерсон. Однако в ту секунду пан Станислав был не в состоянии делать столь проницательные заключения.
Он приготовился к смерти, он ждал взрыва.
Но «Дюрандаль» был сработан крепко.
С визгом и скрежетом машина неслась невесть куда.
Вдруг тряска, которую сообщали всему телу истребителя неровности импровизированной взлетно–посадочной полосы, прекратилась. Пес с удивлением понял, что машина вновь куда–то летит.
– Эстерсон, что там, ради всего святого?! – в отчаянии выкрикнул Пес.
Ему не ответили. Отвечать было некому.
Полет оборвался резким ударом.
«Плашмя о воду», – уточнил для себя Пес, когда по обшивке истребителя забарабанили тяжелые водопады.
«Сейчас начнет тонуть…»
Шансы на спасение зависели от того, насколько быстро он отдраит аварийный люк. Оттуда, из пилотской кабины, уже можно будет покинуть аппарат, открыв фонарь из бронестекла.
Пес встал на четвереньки и что было прыти пополз вперед, в сторону кабины.
В стыковочном лазе царила непроницаемая темнота.
«Недоработало бюро Эстерсона! Поленился какой–то молодой олух нарисовать на чертеже ровно две лишние лампочки… Сам–то Эстерсон давно о таких мелочах не думает, генеральный конструктор как–никак…»
Найти задрайки люка на ощупь оказалось отнюдь не плевым делом. Но Пес, конечно, нашел.
Одна подалась легко.
Другая отчего–то заупрямилась.
Внезапно, подтверждая худшие опасения Песа, «Дюрандаль» провалился в бездну кормой вперед. При этом инженера отшвырнуло назад от люка и припечатало к противоположному концу лаза, где был шлюзовой отсек.
На несколько секунд инженером овладела паника. Он выкрикивал имя Эстерсона, умолял о спасении.
Но вдруг эмоции схлынули, к Песу вернулось самообладание.
Он вытер кровь, которая хлестала из носа, тыльной стороной ладони, густо поросшей седыми волосками, и вновь пополз к спасительному люку.
Чертова задрайка!
Он исцарапал себе все пальцы, пытаясь с ней сладить. Пот заливал глаза.
Вдруг инженер спохватился. У него же есть «Кольт Мк600»! Как он мог забыть об этом увесистом орудии убийства?
Извиваясь ужом, он вытянул револьвер из глубокого кармана брюк, в котором ствол успел проделать широкую прореху.
Перехватив револьвер за ствол, инженер нанес вслепую несколько сильных ударов рукоятью, надеясь попасть по задрайке.
Нутро «Дюрандаля» отзывалось глухим колокольным гулом.
Пес подергал задрайку.
«Не поддается, дрянь!»
Тем временем машина вела себя престранно.
«Дюрандаль» выровнялся. И, вместо того чтобы лечь на дно, продолжал нестись сквозь толщу воды, причем – хвостом вперед.
«Неужели здесь настолько сильное течение?» – недоумевал Пес.
Разум нашептывал ему, что никакое течение не сможет волочь тяжеленный истребитель с такой силой. Но в те секунды ему было не до загадок природы.
Он перехватил ствол «Кольта» двумя руками и вновь принялся буянить. Отчаяние придавало ему сил. Он яростно сквернословил, брызгал бешеной слюной во тьму. И хотя мышцы нестерпимо ныли от перенапряжения, попыток не прекращал.
«Клац!» – сказала задрайка едва слышно.
Но Пес ее услышал.
Рывок – и в следующий же миг подавшийся на полмизинца люк был распахнут тысячетонным водяным молотом.
Весь воздух из кессонного лаза выстрелило наружу, как из пушки.
Песа вынесло вместе с огромным пузырем.
Он промчался через пустую кабину, успев в неярком свете всё еще живой приборной доски заметить отсутствие пилотского кресла и Эстерсона. Затем стихия вынудила его сделать кувырок через голову и повесила на острый крюк, который образовал лоскут разорванной обшивки.
Пес рванулся, да так рьяно, что оставил «Дюрандалю» ворот своего синего свитера. Едва зачуяв свободу, он энергично заработал руками, стремясь побыстрее вознестись к призрачному мерцанию над головой.
Там светили крупная жемчужина–луна и шаровое скопление Тремезианский Лев. Они звали Песа к себе и он поднимался на этот зов наперекор туманящей мозг боли.
Ночь была влажной, пахучей и крепкой, как «Выборова». Пес покачивался на волнах, обстоятельно вращая плешивой головой.
За те минуты, что прошли после всплытия, он успел отплеваться, отдышаться и вновь уверовать в ангелов–хранителей. У инженера шла носом кровь, но он не замечал этого.
Итак, он находился в виду берега – далекого, лесистого и совершенно инопланетного.
Добро пожаловать, пан Пес! Планета Фелиция, система звезды Львиный Зев. Крошечный перед лицом всеобъемлющей космической пустоты землеподобный шарик, населенный сирхами – разумными котами–хамелеонами.
Почти строго на западе, над самой водой, светил одинокий маслянисто–желтый огонек. Расстояние, которое отделяло огонек от Песа, было довольно значительным, и потому он никак не мог определить, что же видит – пламя костра, разожженного сирхами, или же свет электрической лампы, размытый дрожащим воздухом. Песу очень хотелось рассчитывать на второе при условии, что лампу держит в своих руках его коллега Эстерсон. Встреча же с прочими сапиенсами не входила в планы инженера, причем сразу по многим причинам. Впрочем, доплыть до огонька Пес в любом случае не рассчитывал – слишком далеко.
Южнее и значительно ближе серебрилась полоса прибоя, над которой ясно различалась черная зубчатая стена. Как видно, это был один из барьерных рифов, которыми изобилуют нескучные моря Фелиции.
В других сторонах ничего интересного, кроме влажного бархата ночи, видно не было.
Пес кролем поплыл в сторону рифа.
Океан ярко флюоресцировал и инженеру начало казаться, что его ладони загребают смешанный с черными чернилами золотой песок. Зачарованный феерией, он не заметил, что его уже некоторое время сопровождают несколько гуттаперчевых мраморно–желтых змей, каждая толщиной с питона. Змеи эти шли совсем неглубоко, в метре от поверхности.
Если бы в тот миг он обернулся назад, то рисковал бы умереть от разрыва сердца, ибо зрелище к тому склоняло: светящееся колесо диаметром в двадцать метров, переплетенное сетью красных прожилок и иллюминированное пунктирными линиями голубых огоньков, неслышно скользило вслед за ним. А желтые с продольной золотой сыпью змеи – они были спицами этого колеса, и в то же время, выходя за его пределы на десять метров каждая, придавали существу отдаленное сходство с морской звездой–офиурой, обитательницей тропических вод далекой планеты Земля.
Последующее произошло так быстро, что испугаться инженер не успел.
Две упитанных змеи стремительно перехватили его поперек туловища и, ловко вырвав из воды, перенесли к центру светящегося колеса. Они бережно поместили инженера между двумя мускульными наростами прохладной плоти.
Затем существо сложилось, тесно обняв Песа – так сырое еще тесто обнимает начинку рождественского пирога.
Пес заорал – захлебываясь, истекая криком.
Но звуки угасли в обволакивающем его неподатливом мясе.
Револьвер!
Он кое–как извлек его из–за пояса.
И тотчас высадил весь барабан, не целясь. Благо, промахнуться было невозможно – враг был везде.
Пули легко прошили плоть существа, не причинив ему никакого видимого вреда.
«Этого следовало ожидать…» – подумал Пес обескураженно.
На него навалилась апатия.
Сопротивляться бесполезно. Бежать некуда. Сейчас его будут переваривать.
Вот–вот на темечко брызнет струйка едкой пищеварительной жидкости… Или иначе: вот прямо сейчас в его невкусное, немолодое тело вопьются хищные пищеварительные реснички и быстро высосут его всего, до последней вакуоли, ибо таковы законы природы: большие питаются меньшими.
«Прощай, Эстерсон. Твоего верного Песа съели водоплавающие блины планеты Фелиция…»
Однако минуты шли, а пищеварительная жидкость запаздывала.
Существо же вело себя весьма энергично. Мощные волны мышечных сокращений проносились через всё его гигантское тело.
Если бы Пес мог посмотреть на своего пленителя со стороны, он бы увидел, что существо приобрело форму длинного изогнутого ножа, и нож этот, вспарывая пологие волны, стремительно удаляется от берега.
Впрочем, Песу хватило воображения достроить эту картину и без помощи зрения.
Прошло полчаса и пан Станислав уже практически поверил в то, что переваривать его пока не будут.
Теперь его заботила другая опасность – становилось душновато. Воздух в «желудке» существа потихоньку подходил к концу.
«Блестящая перспектива – умереть от удушья после всего того, что я уже сегодня пережил…»
Инженер уже почти смирился со своей судьбой и даже задремал, когда его пленитель остановился. Вывернулся как бы наизнанку. И, вновь подхватив сомлевшего Песа при помощи двух желтых щупалец, вознес его высоко в небо.
Ошарашенный инженер открыл глаза.
Обнаружил себя в десяти метрах над взгорбившейся волной посреди открытого моря.
И вновь истошно заорал.
Он не смолкал до тех пор, пока заботливые щупальца не поставили его на мохнатый, остро пахнущий крепким черным чаем, островок.
Островок мерно баюкало на волнах, а стало быть, он являлся скорее суденышком или, вернее сказать, плотом.
Чтобы удержать равновесие, Пес опустился на четвереньки.
На ощупь поверхность островка напоминала мочало. Она была сухой и кое–где еще хранила память о жарких прикосновениях лучей недавно закатившегося дневного светила.
Эти теплые прогалины невероятно обрадовали Песа, который смертельно продрог и стучал зубами от холода.
Что ж, умирать на островке гораздо приятней, чем в осклизлой утробе морского гада.
Пес опустил голову на мшистый бугор и забылся тяжелым сном лишенца.
Пес проспал до полудня следующего дня, в общей сложности шестнадцать часов. Даром что на Церере, откуда он спасся бегством в компании своего коллеги Эстерсона, неделями страдал бессонницей – ее не брали никакие пилюли…
Он не сразу понял, где находится – воспоминания запоздали на несколько томительных секунд. А когда понял, помрачнел. Любой помрачнел бы!
Итак, он пребывал на плоту предположительно искусственного происхождения.
Плот состоял из тысяч длинных, мохнатых, тщательно сплетенных воедино водорослей. Вместе они составляли нечто вроде многослойного матраса, настолько толстого, что его поверхность, на которой и лежал Пес, возвышалась над водой метра на два – два с половиной.
Инженер прикинул, что подводная часть, так сказать, грассберга, должна быть примерно той же или даже большей величины. Однако, перегнувшись через край и всмотревшись в прозрачную синеву, он с удивлением обнаружил, что плавучий остров погружен в воду хорошо если на метр.
Отчего так? Инженер распотрошил плетение водорослей под собой и обнаружил, что основной объем плота заполняют крайне необычные растения, чьи стебли имеют многочисленные пузыревидные наплывы. Эти наплывы были полыми, их эластичные стенки на ощупь напоминали… надувные шарики.
Предположить, что весь «матрас» вырос сам, по случайному велению природы, было никак нельзя. Плот имел достаточно правильные очертания вытянутого овала. Но главное, рядом с ним, на некотором удалении, плыли плоты–близнецы – числом около двух дюжин.
Никаких инженеров Песов на соседних плотах видно не было. Но на этом сущностные отличия исчерпывались.
Двигались плоты, конечно же, не сами по себе. И не по воле течения.
Их целенаправленно волокли вперед. И притом достаточно быстро, со скоростью парусной яхты, идущей галфвиндом.
Это проделывали собратья той твари, которая давеча похитила Песа из окрестностей утопшего истребителя.
Впрочем, инженер уже начинал догадываться, что истребитель утонул не сам собой, но был умышленно увлечен ко дну.
Пересилив страх и отвращение, Пес всё же рассмотрел своих новых знакомцев. И даже смог воскресить в памяти то немногое, что он прочел о морской фауне Фелиции, приуготовляя бегство с Цереры в компании Эстерсона.
«Готов поспорить на миллион терро, это и есть те самые «капюшоны“, о которых сообщает господин Корсаков в своей удалой «Энциклопедии Дальнего Внеземелья«… Помнится, там шла речь о двух главнейших видах исполинских морских животных Фелиции. Первые звались «дварвами«… Так их называют аборигены–сирхи. Наш земной строгий термин – канцеротевтиды, – у Песа была отличная память на сложные слова, – то есть «ракокальмары“. Но этим ужасающим словом редко пользуются даже ученые.»
– Кан–це–ро–тев–тид, – вслух произнес Пес и не отказал себе в удовольствии смачно сплюнуть. – Тьфу, вот ведь злая дупа!
Повеселев, он вернулся к своему зоологическому экспресс–анализу.
«Но если верить Корсакову, попадись я дварву, не прожить мне и минуты. Дварв – свирепый, вечно голодный хищник… Вдобавок, у дварва должен быть панцирь, похожий на крабий, и четыре длиннейших суставчатых конечности, устроенных по типу скорпионьего хвоста… Которые, впрочем, оканчиваются не ядовитым жалом, а тремя парами острых клешней–ножниц. У моих похитителей суставчатых конечностей не видно… Да и панциря… Напротив, они мягкотелы и блинообразны. Но если это те самые «капюшоны“, то отчего они «капюшоны“, а не, допустим, «блины“?»
Спустя час Пес получил наглядный ответ на этот вопрос.
Когда их флотилия проходила совсем близко от берега – там безымянная местная река впадала в море, сообщая ему свою мутную пресноводную изумрудность – капюшоны вдруг остановились.
Каждое из этих существ как бы присобралось, сгорбилось, опустив щупальца вниз. Теперь они приобрели сходство с гигантскими медузами мраморно–желтого цвета. И вот уже над водой показалось несколько горбов или, скорее, грибных шляпок, совершающих размашистые колебательные движения вверх–вниз.
«Теперь ясно! Они, вероятно, и питаются как медузы, фильтруя из воды мелкую живность – рачков, мальков, беспозвоночных… И похожи они при этом на… блестящие капюшоны желтых плащей–дождевиков!»
Итак, капюшоны если и были хищниками, то лишь в том смысле, в каком ими являются многие земные киты, без устали цедящие студеную водицу в поисках планктона…
«Хвала Ахура–Мазде, для их пищевой цепочки я слишком крупное звено…»
Пес смутно припоминал, что именно «Энциклопедия» настаивала на достаточно высоком уровне внутристайного общественного развития капюшонов… Они, дескать, знакомы с зачатками товарно–денежных отношений и, по некоторым сведениям, даже строят города, похожие на подводные термитники…
«Только бы им не пришло в голову отвезти меня в один из таких термитников! – взмолился Пес. – Не переживу физически…»
Все эти наблюдения над живой природой инженер вел, неторопливо обследуя содержимое ящика с загадочной кириллической маркировкой «Лазурный Берег» на крышке.
Откуда взялся на плоту ящик, Пес не имел никакого понятия. Но был отчего–то уверен, что вчера его еще не было. Стало быть, пока он спал…
О, это был очень полезный ящик! В нем содержалось несколько полных продовольственных пайков, включая, между прочим, бутыли с пресной водой. В одну из бутылей Пес вцепился с естественной жадностью жертвы кораблекрушения. Таких двухлитровых емкостей было еще пять. Это значило, смерть от жажды откладывается как минимум на неделю. Еды тоже хватало, но она, как ни странно, влекла инженера значительно меньше – аппетита, считай, не было.
«Если ящик и впрямь доставили на плот капюшоны – а кто же еще, – значит, они осведомлены о том, что я человек и нуждаюсь в человеческой пище. Они знают, где ее взять, а стало быть, способны контактировать с людьми… Контактировать? М–да… Впрочем, целенаправленное воровство тоже можно считать формой контакта, не так ли? А это дает достаточные основания приписать капюшонам интеллект, сравнимый хотя бы с дельфиньим.»
Утолив жажду и вяло сжевав упаковку пшеничных хлебцов, Пес взялся исследовать содержимое своих карманов.
Электронная записная книжка–секретарь скончалась, не приходя в сознание. Но Пес и не думал печалиться – пропади они пропадом эти импровизированные инженерные расчеты, мудрые мысли из серии «в понедельник забрать из химчистки брюки» и служебные телефоны прошлогодних любовниц…
Пачка бумажных носовых платков (на Церере Песа донимал не выводимый никакими лекарствами насморк) фатально размокла, превратилась в белое комковатое месиво и была без сожаления выброшена за борт…
Расческа. Что ей сделается, этой расческе? Пес провел гребешком по своей незавидной шевелюре, улыбнулся. «Если среди капюшонов есть дамы, они должны оценить мои старания оставаться денди!»
Коробка патронов к «Кольту» – ее он прихватил в капитанской каюте «Фрэнсиса Бекона»… Коробка сразу навела его на воспоминания об их с Эстерсоном авантюре.
Да–да, именно об «их с Эстерсоном», а не об «авантюре Эстерсона», как наверняка предпочитал думать последний. Ведь это он, Пес, плавно подвел Роланда к идее бегства. Это он, Пес, многие недели играл на нервах Эстерсона, как на мандолине, чего уж таить, обманывал его, сгущал краски, передергивал… Убеждал, что с Цереры ему, Эстерсону, не выбраться вовек, красиво рассуждал о свободе и рабстве, приводил в пример свои наскоро изобретенные злоключения, представляя себя этаким пожизненным узником концерна «Дитерхази и Родригес». Конечно, концерн этот был тем еще местечком, и ничего особенно хорошего Пес сказать о нем не мог, но чтобы так… чтобы прямо «рабство»… чтобы прямо «кабала» и «никаких шансов»…
Пес знал, что у Эстерсона были все шансы выбраться с Цереры через годик, а если он будет упорствовать и скандалить, то и через полгода. Вот «Дюрандаль» принимает придирчивая комиссия заказчиков от русских Военно–Космических Сил… Вот Эстерсон что–то там такое дорабатывает… Потом истребитель запускают в серию.
Эстерсону, конечно, подсовывают новый контракт, жирнее прежнего, сулят еще какие–нибудь небывалые льготы и возможности… Но тут Эстерсон берет – и отказывается. И еще раз отказывается. Проявляет ту самую твердость, которая у него, конечно, в характере есть. И идет гулять на все четыре стороны! Хоть в родную Швецию, хоть в дальние дали, да хоть к чоругам, никто ему и слова не скажет!
Но Эстерсон, деморализованный неудачами с «Дюрандалем», сомневался в самом важном – в том, что всё будет хорошо. А Пес ему сомневаться помогал.
Эстерсон был превосходным инженером. Да что там «инженером»! Он был великолепным генеральным конструктором! Но в людях разбирался скверно, бессознательно полагая их чем–то вроде некондиционных роботов. Песу не составляло труда выведывать у Эстерсона его планы, быть в курсе всех его тайных чаяний. Даже следить за ним было элементарно – ведь погруженный в свои думы Роланд никогда не оглядывался… Когда Эстерсон, подобно послушной марионетке, продумал и спланировал операцию «бегство с Цереры», Песу оставалось лишь прикинуться простачком и присоединиться к нему.
Когда они брали на абордаж «Фрэнсис Бекон», Пес ликовал. Всё шло лучше некуда! Еще чуток, и Эстерсон – светлая голова и, без сомнения, один из лучших авиакосмических спецов Объединенных Наций, – окажется в его чистых, холодных руках… Жаль только Эстерсон не справился с «Дюрандалем» в самом конце их отчаянного полета…
Путешествуя по лабиринтам воспоминаний, Пес тем временем неспешно, с расстановкой перебрал «Кольт». Почистил нарезы при помощи маленького подствольного шомпола, отщелкнул вбок барабан, вытряхнул гильзы из гнезд (ох уж эта добрая старая оружейная школа!) и зарядил каждое лоснящимся маслянистой смазкой патроном из коробки.
Отчего–то вспомнилось, что лихие ребята в русских боевиках про старину называют патроны «маслятами». Теперь Пес наконец понял истоки этого жаргонизма.
Барабан «Кольта» шестисотой модели был восьмизарядным. Коробка – полупустой. Соответственно, в запасе у него осталось четыре «маслёнка».
Затем для защиты от палящего солнца Пес соорудил себе панаму из рубашки (она лопнула на спине, ее было не жаль) и вдруг осознал, что насущные хлопоты… окончились.
Инженер уселся на передний край плота, свесил ноги вниз и принялся всматриваться в зыбкую кардиограмму берега, в надежде разглядеть там… Ну хоть что–то занимательное: один–два действующих вулкана, желательно в стадии извержения, черную воронку смерча (его, конечно, пронесет мимо!), взлет могучего инопланетного звездолета или хотя бы падение загульного метеорита, сопровождаемое взрывом в мегатонну силумитового эквивалента и вывалом девственных джунглей Фелиции на половине материка…
Ни–че–го.
Пес принялся насвистывать «Plynie Wisla, plynie».
Плоты, влекомые капюшонами, с безмятежной гладкостью скользили вперед. Чавкала внизу водица. Ветер трепал края самодельной инженерской панамы…
Эта идиллия сгинула за считанные секунды, когда ближайший плот–грассберг вдруг встал вертикально.
Будто бы гигантская рыба заглотила наживку и теперь что было дури дергала поплавок – плот несколько раз исчезал под водой, но затем всё же появлялся вновь.
Встревоженный Пес вскочил на ноги.
Сквозь толщу воды угадывалось движение нескольких огромных существ.
В двух из них худо–бедно распознавались сложившиеся пополам капюшоны. А вот другие…
Эти другие всплывали из неведомых пучин, которых не достигают даже самые отважные солнечные лучи.
Рассмотреть их толком Пес пока не мог, но резкие, порывистые броски серых теней, контрастирующие с элегантной плавностью движений капюшонов, ничего хорошего не обещали.
Исчадия бездны атаковали внезапно.
Инженер увидел, как один из капюшонов был распорот почти пополам одновременным молниеносным взмахом двух суставчатых лап. Капюшон попытался обвить врага своими недюжинными щупальцами. На мгновение Песу даже показалось, что смертельно раненому капюшону всё–таки удастся послать врагу поцелуй из могилы… Но тщетно. К бурым членистым конечностям присоединились еще две, и вот уже зеленые, на спутанную кудель похожие внутренности капюшона уносит течением в сторону далекого берега…
Одновременно с этим под водой исчезли сразу три плота.
Их явно влекла вниз чья–то злая воля.
Капюшоны, ответственные за похищенные плоты, лихорадочно метались у поверхности, словно наседки, потерявшие своих цыплят. Аналогия с наседками навела Песа на объяснение происходящего. Точнее, он вдруг осознал это объяснение, оно как бы вошло в его сознание уже готовым.
«Это только мой плот внутри пустой. А другие плоты – они полные… Но чем они могут полниться? Не рыбой же? Стали бы разумные капюшоны волочь в такую даль, не зная отдыха, какую–то рыбу, которую они, вдобавок, и не едят… Что же там такое в этих плотах?! Что интересует хищников из глубин? Скорее всего – детеныши. Ничего другого там и быть–то не может… Человеческие мамы катают по паркам оборчатые коляски. Капюшоны волокут за собой плоты из водорослей…»
Вдруг он увидел маленькое по капюшоньим масштабам существо размером с сенбернара. Оно выглядело как… как увеличенный мяч для регби, покрытый множеством вертких нежных отростков, каждый длиной с человеческую руку. Отростки эти энергично, но крайне беспорядочно баламутили воду. Чувствовалось, что самостоятельно малыш не проплывет и километра. До стремительной, концентрированной мощи взрослого капюшона ему было далеко.
Рядом с первым капюшончиком появился второй, еще более плюгавый. Оба счастливца, как видно, спаслись с похищенного монстрами плота. Влекомые инстинктом, они гребли к ближайшему грассбергу – на нем как раз сидел Пес. Детеныши привычно юркнули под водорослевый матрас и больше Пес их не видел…
Вода вскипала то там, то здесь. На поверхность выбросило несколько оторванных, омертвелых щупалец. Но и враг нес потери – трое дюжих капюшонов на глазах у Песа вцепились в хищника с двух сторон и, приподняв его над волной, ловко оторвали ему все четыре монструозных клешни, схожих с паучьими лапами.
Трудно было судить о балансе сил в этой схватке. Но даже Песу было очевидно, что капюшоны не обладают особыми преимуществами перед нападающими. А хищники, в свою очередь, не ставят перед собой целью одолеть всех капюшонов до единого и раздербанить все плоты. Им бы раздобыть себе мясца и поскорее убраться восвояси…
Также, насколько понял Пес, капюшоны по каким–то причинам не были готовы преследовать агрессоров на глубине. Они предпочитали разбираться с ними в сносно освещаемом солнцем приповерхностном слое вод.
«Надеются дезориентировать придонных хищников, привыкших к более высокому давлению и глухой сумеречной мгле, которая царит на шельфе?» – гадал Пес.
«Я не я буду, если это не дварвы – самые опасные морские твари Фелиции!» – заключил он.
В тот же миг пана Станислава обдало фонтаном соленых брызг – он бурно взметнулся позади плота.
Пес резко обернулся, машинально вскидывая «Кольт».
Его взору предстала фантастическая картина: невдалеке матерый, особенно крупный капюшон сцепился в смертельной схватке с хищником – сравнительно небольшим, возможно, молодым.
Они нарезали круги и яростно, с буханьем и шумливым плеском, кувыркались, но, судя по всему, ни один не мог одержать верх – капюшон намертво зафиксировал клешни дварва и, хотя тот пробовал одолеть капюшона, впиваясь в него мягкими приротовыми педипальпами, покрытыми розовыми треугольными присосками, их силы было явно недостаточно, чтобы смертельно изувечить врага.
Бог весть, сколько бы это продолжалось (другие капюшоны отчего–то в противоборство встревать не торопились), но тут загрохотал «Кольт».
Стрелял Пес хорошо, никогда не жаловался. Все пули кучно легли в бугристую массу над мягкими педипальпами, которую инженер верно интерпретировал как голову дварва.
Его стрельба возымела неожиданно быстрый эффект.
Пес не взялся бы утверждать, что он убил хищника. Но именно его вмешательство положило конец затянувшемуся единоборству. Капюшон отшвырнул дварва, тот нелепо ударился о воду, сразу же потеряв одну клешню. Затем хищник кое–как собрался и, суетливо работая уплощенными хвостовыми щупальцами, пустился в бегство, на глубину.
Трое доселе безучастно наблюдавших за поединком капюшонов тотчас бросились за ним.
«Вряд ли беглец уйдет живым…» – подумал Пес, заряжая «Кольт» последними четырьмя патронами.
С рациональной точки зрения, и в этом Пес отдавал себе отчет, его вмешательство смысла не имело.
Одним хищником меньше, одним больше… Патронов у него теперь почти совсем не осталось… А ведь их стоило бы придержать на случай угрозы непосредственно его, Песа, драгоценной шкуре! Но с точки зрения… ну что ли боевого товарищества (Пес улыбнулся этой внезапно посетившей его сознание словесной формуле) он всё сделал правильно. Вступился за своего. Помог ему победить… Не этому ли учит зороастризм, Первая Вера, ради которой его родители, восторженные неофиты Юстина и Томаш Чопики, покинули всё то милое и привычное, что звали они домом и Родиной?
«Смешно до ужаса… Раньше я считал «своими“ коллег по секретной лаборатории АСАФ на Церере. Теперь «своими“ для меня стали эти взбалмошные морские гады… Судьба человека, пся крев!»
Спустя десять минут после нападения морское путешествие капюшонов продолжилось как ни в чем ни бывало.
Пес, тоже понемногу успокоившийся, встал на краю плота, чтобы справить малую нужду.
Тоненькая золотистая струйка, чертя баллистическую параболу, безмятежно соединялась с дрожащим аквамарином морской ряби.
Вдруг журчание как бы удвоилось, упятерилось, удесятерилось.
Пес поднял глаза.
Ближайший к нему капюшон – возможно, тот самый, которого он спас, а может и не тот, – приподнявшись над поверхностью, исторгал, при помощи одной из многочисленных складок своего тела, длинную тонкую струйку, узнаваемую копию струйки инженерской.
То же делали и другие капюшоны.
«Солидарность?!»
Пес в голос загоготал.
Настало утро – второе утро пана Станислава на Фелиции.
Первым делом он бросил взгляд на запад – не подошла ли флотилия капюшонов вплотную к берегу? (Пес по–прежнему не оставлял надежд сбежать от своих спасителей – теперь он предпочитал называть их так – при первой же возможности.)
Ничего подобного. Берег виднелся едва различимой серо–желтой фата–морганой, до него было километров восемь.
«Ну что же, – подумал Пес. – Позабочусь–ка о дне сегодняшнем, а завтрашний – пусть огнем горит!»
Он открыл ящик с продуктами и обстоятельно наметил меню грядущего завтрака. Минеральная вода «Белозеро». Саморазогревающийся печеный картофель с салом по–деревенски. Салат из маринованной репы с изюмом. Рулеты «Вальдшнеп», как уверяла этикетка, из мяса болотной дичи.
Пес никогда не жаловал русскую еду. И ставил вездесущие русские рестораны где–то наравне с китайскими – набившая оскомину экзотика, да еще и для пищеварения нелегкая. Но аппетит у него разыгрался зверский. Стоило ли перебирать харчами?
В общем, он съел всё. И не отказался бы от добавки… если бы не вполне естественные соображения экономии. Сколько им еще плыть? Неделю? Две?
Пес сыто поглаживал покрытый густой порослью живот, по–курортному развалившись в геометрическом центре плавучего острова, когда его слух уловил зарождение какого–то неясного, тревожащего звука.
Повертев головой, Пес определил, что звук доносится с северо–запада.
Там, в накаленном солнцем полуденном мареве, что вуалью висело над далеким берегом, чернела теперь маленькая оспина.
«Вертолет!» – обрадовался Пес.
Но сразу же одернул себя.
Чему было радоваться, если любой бороздящий воздушные просторы Фелиции летательный аппарат был потенциально опасен? В лучшем случае он мог бы принадлежать ученым, в среднем – дипломатам Объединенных Наций. Ну а в худшем – корпоративной охране концерна «Дитерхази и Родригес», брошенной на поиски «Дюрандаля» и двух ценных беглецов.
Но даже ученым и дипломатам попадаться на глаза было крайне нежелательно. Стоит ему, Песу, позволить спасти себя от капюшонов, и всё, пиши пропало, он станет частью их сложного учено–дипломатического сюжета. Его куда–то повезут, начнут расспрашивать, лечить, устраивать, конечно, придется им что–то объяснять, а значит юлить и врать. Он справится, ведь он опытный, тренированный старый лис. Неисправимо лишь одно: так или иначе, это будет их сюжет, сюжет ученых или дипломатов. А у него, пана Станислава, был свой.
Вертолет шел прямо на них. Пес забеспокоился.
Хорошо бы спрятаться. Но куда?
Единственным решением было схорониться под островом–гнездом и переждать.
Пес поморщился – как же не хотелось ему, обгорелому, измученному, лезть в прохладную воду! Опять вся одежда будет мокрой, суши ее потом! А если воспаление легких?
Но вертолет приближался.
Пес решился на компромисс. Он споро скинул брюки, стянул свитер и ботинки. Уложил всё это в ящик с едой и замаскировал его под особенно густой кочкой. И в одних трусах – на случай, если его всё–таки обнаружат (вот она – старомодная польская стыдливость!) – спустился в воду, держась за край плота.
Остров–гнездо оказался многослойным.
Восседая на нем сверху, заметить это было нельзя. Но от уровня воды при дневном свете открывался вид на несколько полостей–пещерок, укрытых под свесами из хвощевидных гирлянд.
В одну из таких пещерок он и забрался, не без труда подтянувшись на руках. Едва успели его пятки скрыться, как вертолет с грохотом промчался прямо над гнездом.
Пересилив детское желание съежиться и зажмуриться, Пес осторожно выглянул в просвет между плетением стеблей.
Это был новехонький вертолет H–112 южноамериканского производства. Его винты, выполненные по соосной схеме, казалось, работают нехотя, с ленцой. На самом же деле они гнали воздух с такой силой, что плот ощутимо раскачало на поднятой ими волне.
Пес хорошо знал эту машину. Одно из конструкторских бюро, принадлежащих «Дитерхази и Родригес», проектировало для него электронную начинку. На основании договоренности между родным концерном Песа и фирмой–производителем вертолета, «Дитерхази и Родригес» покупал его почти по себестоимости…
Вертолет, что было свойственно его винтокрылому племени, развернул фюзеляж на девяносто градусов и продолжил лететь левым бортом вперед. В его правом борту, повернутом теперь к Песу, чернел проем раскрытой грузовой двери – там вертел головой летный наблюдатель. Поблескивали рачьими глазами нашлемные очки всережимного видения.
HERMANDAD – кричала огромная белая надпись на хвостовой балке вертолета.
«Эрмандадой» называлась корпоративная охрана нескольких крупнейших южноамериканских концернов.
Пес когда–то слышал, что слово это древнее. В испанских городах времен Реконкисты так звали стражу, отличавшуюся бескомпромиссностью и особенной жестокостью…
Теперь уже сомнений не было – это посланцы «Дитерхази и Родригес». Оперативность их появления на Фелиции можно было понять – за один день лишиться двух ведущих инженеров! Пес знал себе цену. И она была достаточно высока. Но цену гению Эстерсона он знал и подавно… Нет, так просто концерн «Дитерхази и Родригес» с создателем «Дюрандаля» не расстанется…
«Ну давай, метла поганая. Покрутилась – и лети отсюда. Ничего интересного тут нет. Только дикие твари–капюшоны. Мигрируют со своими гнездами, набитыми безмозглыми личинками. Что с капюшонов взять? Они «Дюрандалей“ не строят…» – бормотал Пес.
Но вертолет заклинаний шаманствующего инженера не слушался.
Он продолжал кружить над флотилией, опустив остекленный нос. Словно бы принюхивался.
Вдруг вертолет снизился так решительно, будто собрался сесть на одно из плавучих гнезд. В какой–то момент Песу показалось, и впрямь собирается.
«Но это же идиотизм!» – недоумевал инженер.
Вскоре экипаж вертолета продемонстрировал–таки настоящий идиотизм.
Нет, они не сели на плот. Но…
В дверном проеме недобро блеснуло оружие. Наблюдатель передернул затвор, опустил ствол автомата вниз и выпустил в воду длинную очередь.
Зачем он это сделал? Насмотрелся запрещенных фильмов про морское сафари? Или просто от скуки?
Последствия были самые катастрофические.
Вода забурлила. В воздух взмыли десятки желтых щупалец.
Некоторые из них промахнулись. Но тех четырех, что сумели вцепиться в правое шасси и костыль на хвостовой балке вертолета, было более чем достаточно.
Спустя секунду накренившийся вертолет уже рубил лопастями воду. Еще мгновение – и он провалился вниз, почти не задержавшись на поверхности.
Негромко ухнула смыкающаяся воронка. И всё. Никаких больше звуков – вертолет сгинул как–то совершенно буднично, без громких эффектов.
Пес живо представил себе дальнейшую судьбу вертолета. К первому капюшону–охотнику присоединяются его друзья, они волокут несчастных эрмандадских дуроломов всё глубже и глубже… И в самом деле, если они с такой скоростью тащили упавший «Дюрандаль», то уж с вертолетом H–112, который легче истребителя раз в двадцать, они расправятся играючи…
Вдруг Пес осознал, насколько же сильно он продрог.
«Сейчас бы на солнышко…» – с тоской подумал он.
Однако выбираться из укрытия ему было боязно.
А вдруг вертолетчики что–то заметили?
Вдруг успели передать товарищам координаты подозрительной с их точки зрения флотилии? И – Вэртрагна, охрани! – с минуты на минуту сюда нагрянут еще два, три, четыре вертолета, которые расстреляют весь этот плавучий цирк, а вместе с ним и Песа, из гранатометов?
Однако капюшоны соображали не хуже Песа. Возможно, по–другому соображали. Но – не хуже.
Покончив в вертолетом, они с утроенным усердием поволокли гнезда прочь. Причем, курс их движения изменился – теперь флотилия двигалась на северо–восток, уходя всё дальше от берега.
Спустя час озябший и даже как будто похудевший на пару кило пан Станислав всё–таки отважился выбраться наверх.
Он энергично растер свое мосластое тело колючим свитером, нахлобучил панаму и уселся на самую высокую кочку, подставив грудь и живот солнцу.
Похрустывая печеньем в шоколаде, Пес поймал себя на странной мысли: после инцидента с вертолетом он стал относиться к капюшонам ну… почти как к друзьям.
«Моя многоногая, многоглазая дружина…»
Утром третьего дня Пес увидел его – броненосец.
Нескладный корабль стоял вмертвую, будто вмороженный в штилевую водную гладь.
Вскоре инженер разглядел раскидистое бурое пятно кораллового рифа. Но в первую секунду он не поверил своим глазам. Не может корабль стоять на воде вот так, монументом самому себе…
Песу очень хотелось рассмотреть диковину вблизи, но он был уверен: у капюшонов другие планы. В самом деле, флотилия перемещалась параллельно побережью и даже, как показалось Песу, начала забирать мористее.
Однако, капюшоны всего лишь огибали прибрежную отмель, вдающуюся далеко в море широким рыжеватым клином. А обойдя ее, резко свернули на запад, к рифу.
Да, они приближались к кораблю! Сердце инженера учащенно забилось.
Вскоре у него уже не оставалось сомнений – корабль построен кем угодно, но не людьми.
Начать с того, что корабль имел ядовито–зеленый цвет…
Далее. Его нос украшала ростральная фигура, раскрашенная ярко–красными и лиловыми полосами. Кое–где краска облупилась, но общего воинственного пафоса это не портило. Фигура изображала местного аборигена–сирха с агрессивно встопорщенным спинным гребнем, сжимающего в лапах продолговатый предмет, в котором Пес с изумлением признал легкую дульнозарядную пушку. На Земле такие тысячу лет назад назывались фальконетами и отливались они из бронзы. Местные мастера пушечных дел тоже были знакомы с этим благородным сплавом.
Самое удивительное, что корабль не был парусником. Не был он и гребной галерой.
Над рифом возвышался самый настоящий пароход!
Об этом однозначно свидетельствовали две черных конических трубы и огромные гребные колеса по бортам.
«Пир духа», – взволнованно прошептал Пес, припоминая свои прогулки по Хосровскому политехническому музею. Он и другие школьники спотыкливо перебираются от экспоната к экспонату, вытаращив изумленные глазенки… Уютный щебет тетеньки–экскурсовода… Дивные истории о дромонах и каравеллах, корейских кобуксонах и русских колесных лодьях…
О том, что пароход задуман как ужасающая машина смерти и разрушения, можно было судить отнюдь не только по фальконету в лапах ростральной фигуры.
На возвышенном юте, помимо непропорционально высокого ходового мостика со штурвалом, виднелся коренастый автоматический гранатомет с мощным то ли пламегасителем, то ли дульным тормозом.
На центральной надстройке перед дымовыми трубами торчал здоровенный черный ствол в помятом, а местами и напрочь сорванном теплоизоляционном кожухе. Пес в очередной раз не поверил своим глазам, но был вынужден признать, что видит перед собой одну из серийных моделей флуггерной лазерпушки середины прошлого века.
Картину дополняли несколько бронзовых фальконетов, щедро разбросанных по полубаку и носовому помосту подле ростральной фигуры.
Ну и главное: это был не просто пароход, а броненосный пароход, канонерская лодка, монитор, черт возьми!
Борта корабля – метра на два с половиной над ватерлинией – покрывали щедро разлинованные зелеными потоками патины медные листы. На уровне верхней палубы корабль ощетинился частоколом кованных прутьев, чьи хищно загнутые вниз острия сулили большие неприятности гипотетической абордажной партии. Впрочем, по правому борту на полубаке и в корме частокол имел изрядные прорехи. Там же были грубо выломаны некоторые доски обшивки. Как видно, какой–то особенно упорной абордажной партии всё же повезло.
Когда плот, на котором путешествовал Пес, оказался у самого края рифа, из воды высунулся крупный капюшон.
Он посмотрел на инженера со значением.
– Ты хочешь, наверное, спросить, нравится ли мне эта штука? Нравится, отличная! Спасибо, что показали! – в тот момент инженер еще был уверен, что капюшоны попросту развлекают его, своего найденыша и пленника, редким зрелищем.
Вместо ответа капюшон выпростал два щупальца и, аккуратно подхватив инженера под мышки, перенес его… прямиком на палубу броненосца!
Ах, как приятно было стоять на твердых, надежных досках! Пусть и выструганных инопланетными руками или, точнее, лапами…
Пес несколько раз подпрыгнул на месте, по–мальчишечьи, озорно улыбаясь.
Щупальца кротко убрались восвояси.
Пес решил, что капюшоны вот–вот уплывут.
«А почему бы и нет? Спасли чужого, ну то есть меня. Доставили его в «естественную“, то есть техногенную, среду обитания… И айда по своим капюшоньим делам!»
Не тут–то было.
– Спасибо! – Пес растроганно помахал капюшонам рукой.
Из воды высунулось под два десятка щупалец. Они помахали ему в ответ.
– Вы оказались славными ребятами! – не унимался пан Станислав.
Как бы в подтверждение справедливости последних слов, на палубу броненосца шлепнулся давешний ящик с надписью «Лазурный Берег», а в придачу к нему еще один, такой же.
– И кормите вкусно! – добавил Пес, усаживаясь на новый, запечатанный ящик.
Сцена дружеского прощания, однако, затягивалась. Капюшоны не двигались с места. И Пес решил, что беды не будет, если он прогуляется по вверенному ему судну.
Найти вход в трюм оказалось сложнее, чем он думал. Органичные для человеческой корабельной архитектуры палубные люки на полубаке здесь отсутствовали напрочь. Зато нашлась дверь в центральную надстройку.
Пес отворил ее и сразу оказался в просторном помещении, отделанном по дикарским понятиям шикарно. Его стены были обиты тканью – частью выцветшей, частью съеденной грибком, но даже в таком виде несшей следы узоров и вышивки.
Пол помещения был застлан циновками, по углам томились пухлые колбасы тюфяков. Один из них был разорван – соломенные внутренности бесстыдно лезли наружу.
В центре, на ноге–тумбе, покоилась массивная резная чаша из розовой древесины. На ее краях висели черпачки. Пес ковырнул ногтем растрескавшуюся белую субстанцию, которой была на треть наполнена чаша.
«Наверное, еда», – догадался он.
На одной из стен висела табличка.
С виду простецкие, а на деле очень непростые часы инженера, в которых переводчик был, пожалуй, самой безобидной потаенной подсистемой, услужливо сообщили, транслировав с языка аборигенов:
«Это место угодно доброму сирху Качак Чо.»
Пес наморщил лоб.
«Кто таков этот добряк Чо? Святой? А может, царек? Или генерал?»
В задумчивости Пес повернул табличку на гвоздике. А вдруг там, за ней, тайник?
Но нет. Табличка всего лишь скрывала срам незалатанной дыры в красивой обивке…
Обследовав кают–компанию, так инженер окрестил помещение с чашей, он прошел через дверцу в соседнее, кормовое помещение надстройки. Эта небольшая каморка с четырьмя лежаками – парами один над другим – служила заодно тамбуром, из которого одна лестница вела наверх, на крышу надстройки, а другая – вниз.
Это и был искомый вход в трюм.
Пес осторожно спустился по лестнице, которая страдальчески постанывала при каждом его шаге, и оказался в низеньком трюме.
В нем, вероятно, царила бы кромешная тьма – иллюминаторов не было вовсе – если бы не обширный пролом по левому борту, через который проникали солнечные лучи.
«Сирхи определенно с кем–то воевали!» – заключил Пес, исследуя разбитые в щепу края пролома.
В том, что корабль построили именно сирхи, уже не было сомнений. Два мумифицировавшихся трупика на трюмной палубе принадлежали, несомненно, коренным обитателям Фелиции. Один был вооружен куцей алебардой, другой мушкетом.
– Вояки… – промолвил Пес. – Железная гвардия…
Сундуков с сокровищами и бочонков рома, которым, если верить старинным романистам, полагалось в живописном беспорядке наполнять трюм всякого покинутого корабля, Песу отыскать не посчастливилось. Впрочем, рому нашлись аналоги – во множестве лубяных баклажек томилась загустевшая белесая жидкость, в точности похожая на ту, что пан Станислав обнаружил в миске посреди кают–компании. А в амплуа сундуков с сокровищами выступали тяжеленные, армированные обрезиненными железными прутьями армейские ящики.
Пес сразу открыл один из них.
Цинковые коробки с магазинами к стрелковому оружию. Баллоны жидкого пороха. Пеналы с мелким инструментом.
«Богато!» – осклабился Пес.
Соседний ящик хранил боеприпасы к автоматическому гранатомету – похоже, тому самому, который грозно горбатился над ютом. Туда же были небрежно заброшены неведомой рукой гранаты россыпью, сигнальная ракетница, старенький ноктовизор.
Войдя во вкус, инженер вскрыл все ящики до единого. Не столько из любви к стрелковому оружию, сколько в надежде, что в одном из них – ведь бывают же чудеса! – сыщется бутылка водки. Ну или хотя бы виски. В крайнем случае вина – на Церере Пес не жаловал его по причине внезапно диагностированного воспаления поджелудочной, но теперь ему было плевать на этот медицинский вздор!
Увы. Алкоголя на борту не оказалось.
– Сирхи всё вылакали… к–котяры… – проворчал Пес с нервным смешком.
В качестве маленького утешения инженер выбрал себе в одном из ящиков кургузый автомат с клеймом Директории Азия – усатый змеевидный дракон сонно обворачивается всем своим щуплым телом вокруг дородной пятиконечной звезды.
Кстати сказать, больше азиатского оружия в арсенале не было. Преобладали немцы, шведы и южноамериканцы.
«Но где сирхи всего этого набрали в своем богоспасаемом захолустье? – размышлял Пес, осматривая находки. – Хотя, в сущности, легко вообразить… Те же трапперы. Прилетели охотиться на капюшонов… или что здесь еще?.. А капюшоны хвать их флуггер за хвост, как позавчера вертолет. Или проще. Банальное крушение. Оружие у них почти столетней давности. Флуггеры, небось, немногим моложе… В итоге отказ реактора, машина – вдребезги, экипаж – всмятку, а оружие целехонько…»
Обследовав трюм до самого носа, Пес вернулся к лестнице.
Дальше в корму, по его представлениям, должно было располагаться котельное отделение.
И действительно, неприметная дверца–люк привела инженера в освещенный через зарешеченные узкие оконца отсек с примитивной сирхской машинерией.
Сквозь слезящийся от умиления прищур Пес глядел на коленчатые трубы, шатуны, кривошипы, на закопченные топки.
Чем это отличается от земных паровых машин семисотлетней давности, он понять не мог. Более того, чем дольше он рассматривал чудо–технику, тем сильнее крепла в нем уверенность, что слухи о получении сирхами некоторых земных ретротехнологий из рук давно запрещенной североамериканской секты просперитов не лишены оснований…
«А чем они, интересно, всё это дело кормят? – спросил себя Пес. –Неужто угольком?»
Ответ – в виде высоких поленниц с дровами – отыскался довольно быстро.
Правда, дрова оказались совсем сырыми – створки бункеровочного люка были распахнуты настежь, а в козырьке надстройки над ним зияли изрядные дыры. Стало быть, ливни постарались.
Конечно, Песу хотелось знать, работает ли паровая машина. Но выяснить это доподлинно можно было лишь располагая сухим топливом и, между прочим, пресной водой в баках питания котлов.
Пресную воду можно было на худой конец заменить и морской. Пусть и с катастрофическими в итоге последствиями, но – можно. А вот сухие дрова заменить было нечем.
«Придется сушить.»
Следует заметить, у инженера не было никаких особенных планов на этот курьезный пароход. Даже если машины работают, куда и как на нем плыть? Ведь судно крепко сидит на рифе…
Песа влекла деятельность как таковая. Деятельность как противоположность безделью, которым он успел смертельно пресытиться за проведенные в открытом море дни.
Инженер набрал дров, не слишком много для первого раза, чтобы не рухнул хлипкого вида трап, и полез наверх. С облегчением свалил дрова на полуюте. Бросил рассеянный взгляд в сторону моря. Что там капюшоны?
Капюшоны были на месте.
Пес помахал им рукой. Те ответили.
– Чего вы ждете, друзья мои? – недоумевал Пес.
Итак, пан Станислав принялся таскать охапки дров и раскладывать их на корме. А когда весь ют оказался заполнен, задействовал крышу надстройки.
Затем он от души отобедал, устроившись на тюфячках кают–компании. Потом сгустились сумерки и Пес заснул счастливым сном ребенка, обнаружившего под нарядной новогодней елкой действующую модель старинного парохода.
Пес проснулся необычайно рано, на рассвете.
Солнце еще не успело выбраться из–за горизонта. Было свежо и тихо.
Пес энергично растер припухшие со сна щеки ладонями и вышел из кают–компании. Спать на сирхских тюфячках оказалось довольно удобно, по крайней мере, во много крат удобнее, чем на колючем мху острова–гнезда. Потянулся. Сладко зевнул.
Опершись о борт броненосца, он глянул вниз.
Был отлив. Вода обнажила верхи рифа, образовав своего рода Финляндию в миниатюре. Роль суши выполняли макушки коралловых образований, складывающиеся в причудливые узоры. А в роли пресловутых десяти тысяч финляндских озер выступали лужицы и крошечные лагуны в лунках и углублениях между кораллами. В них копошилась всевозможная вредная мелюзга.
Проследовав вялым взглядом вдоль этой Суоми, Пес обнаружил, что ее край почти вплотную примыкает к берегу.
Стоит перейти вброд или в крайнем случае переплыть неширокую протоку, отделяющую риф от земли, и окажешься на континенте.
Вдруг Песу стало обидно – он давным–давно на Фелиции, а еще не сделал по суше ни одного шага.
«Нужно срочно исправить это досадное упущение!»
Позабыв про завтрак, он обулся и, прихватив для уверенности китайский автомат, спустился в трюм. Подобрался к длинной пробоине по левому борту, выглянул из нее и удостоверился, что при должной физической сноровке (а она у Песа была) можно покинуть пароход, не прибегая даже к помощи веревки.
Что он и сделал.
И вот уже захрустели под рифленой подошвой инженерского ботинка пустые крабьи панцири и бесчисленные раковины.
Он вышел из тени корабельного корпуса. Лучи восходящего солнца позолотили далекий пляж, усыпанный пегими валунами. Он показался инженеру таким желанным!
Но не тут–то было.
Пан Станислав не сделал и трех шагов – желтое щупальце капюшона, вынырнувшее из–за броненосца, загородило ему дорогу.
Его поставленный вертикально кончик предупредительно покачивался.
– А я думал, вы спите… – пробормотал Пес. – А вы не спите…
Он попробовал обойти щупальце.
Без толку – щупальце с мягкой непреклонностью сдвинулось вместе с ним.
– Ладно… Вашу мысль я понял. Больше с броненосца ни ногой.
И, вздохнув, Пес принялся карабкаться назад, в пробоину.
«Раз на берег не получается, буду развлекаться здесь…» – постановил Пес, молодцевато расхаживая по палубе.
А что может быть лучшим развлечением для мужчины, нежели возня с оружием?
Первым делом Пес взлетел на крышу надстройки и осмотрел флуггерную лазерпушку, которая, по замыслу сирхов, олицетворяла главный калибр корабля.
Ирония судьбы заключалась в том, что величавая, старательно водруженная сирхами на капитальный самодельный станок пушка не могла поджарить даже воробья.
Она вообще не работала.
И то сказать, на борту флуггера такие пушки обслуживаются сложнейшей энергосистемой, запитываемой от бортового термоядерного реактора. От чего запитывать ее на пароходе? От огней Святого Эльма?
Вспомнив об огнях Святого Эльма, которые, как известно, загораются на клотике топ–мачты, Пес задрал голову и поглядел на родную мачту броненосца, увенчанную хлипкой наблюдательной площадкой. Такую площадку любой заправский морской волк, конечно же, величает марсом.
Туда инженер прежде не забирался. Почему бы не забраться сейчас?
Опасливо прислушиваясь – выдержит ли деревянный скоб–трап, ведь сирхи значительно легче людей, да вдобавок, как и земные коты, не слишком чувствительны к падениям с высоты – Пес вскарабкался на марс.
Оттуда открывался захватывающий вид.
Фрезерованное округлыми лагунами побережье.
Прямо по курсу коричневые, покатые горы сошлись на водопой и тянут, тянут к воде свои мощные выи…
И не менее полусотни капюшонов при трех десятках плотов–грассбергов по правому борту корабля.
Опираясь о перильца марса, Пес закричал:
– Э–ге–гей, хвостатые! Много же вас, оказывается…
Капюшоны сосредоточенно возились вблизи рифа. У Песа сложилось ощущение, что они чего–то ждут. Может быть, от него. Может быть, вообще… Какой–то особой погоды?.. Или, допустим, редкого небесного явления?..
Любование пейзажами быстро наскучило прагматику–Песу и он спустился. Отправился на бак, разбираться с теми штуковинами, которые он давеча обозначил для себя как фальконеты.
Это были весьма примитивные орудия калибром в пару дюймов, из которых явно предполагалось стрелять ядрами либо мелкой картечью.
Пес поискал глазами что–нибудь похожее на кранцы и обнаружил несколько плетеных корзин с крышками, прилепившихся к фальшборту. Там его дожидались каменные ядра, каждое размером с небольшое яблоко, картузы с порохом, начисто, впрочем, отсыревшим, и сопутствующая канонирская принадлежность: пыжи, шуфлы, запалы.
Конечно, Пес не отказался бы пальнуть из музейного вида фальконета. Увы, без пороха это было невозможно, а экспериментировать с «жидким порохом» земного производства Пес не рискнул – можно ведь и без головы остаться… Однако желание выстрелить хоть из чего уже овладело праздной душой пана Станислава.
Он почти бегом переместился на корму, к автоматическому гранатомету.
В отличие от флуггерной лазерпушки это было обычное пехотное оружие.
Пес не имел практики обращения с подобными. Полных два часа, благо время у него было, он потратил на изучение, разборку и чистку убийственно запущенного агрегата.
Судя по всему, сирхи стреляли из него, и немало, но заботой о железяке себя не утруждали. (Да и вообще, земные представления о врожденной чистоплотности кошачьего племени к сирхам были явно неприменимы – об этом свидетельствовала, в частности, и густо устланная линялой шерстью кают–компания.)
Гранатомет достался Песу с переклиненным механизмом автоматики и невыстреленным унитаром.
«Не исключено даже, – меланхолично подумал инженер, – патрон заклинило в том бою, который стал для броненосца роковым. А может и сам бой стал роковым именно оттого, что оружие заклинило в самый ответственный момент и неведомый враг ворвался на борт…»
Труды инженера принесли плоды.
Перебранный до последней пружинки и прилежно вычищенный гранатомет был торжественно оснащен свежей двадцатизарядной лентой, принесенной из трюма.
Исходя из градуировки прицела, эффективная дальность стрельбы составляла три с половиной километра.
Чтобы не нервировать капюшонов стрельбой в воду, Пес прицелился в скалу, которая одиноким зубом возвышалась над расплывшейся песчаной дюной в полукилометре от берега.
Переключатель режимов стрельбы он благоразумно выставил в положение «очередь по три».
Поэтому когда он дернул за спусковой рычаг, скорострельный монстр сожрал только три гранаты, а не сразу пол–ленты.
Поскольку Пес не принял поправку на ветер, а расстояние было всё–таки заметным, очередь легла метров на тридцать левее цели.
На месте взрывов взметнулись песчаные султаны.
Спустя несколько секунд долетело барабанное «бум–бум–бум». С характерным звоном мелкие осколки рикошетировали от скалы.
«Машинка что надо… Из такой можно… да что угодно. Хоть бы и стадо капюшонов в мясной полуфабрикат переработать… А что? Развернуть орудие… Конечно, практического смысла в этом мало. Сбежать они мне всё равно не дадут. Расстреляю пятерых, ну пусть десяток, а сколько их там, в океанских далях еще? И ведь наверняка мстительные, как дэвы!» – лениво размышлял Пес.
Но дело было даже не в рациональных аргументах вроде «есть смысл», «нет смысла». И не в этических соображениях. Пес не испытывал жалости к негуманоидам (да и к гуманоидам испытывал ее отнюдь не всегда). А в том, что Песу было любопытно. Страстно желал он узнать сокровенный смысл происходящего. Зачем умные морские капюшоны затеяли всё это? Ведомые какими планами спасали его, кормили, транспортировали?
Пес учился быстро. Он нашел на прицеле верньер ввода поправок, подкрутил его сообразно своей интуиции, прицелился вновь.
Вторая очередь легла в основание скалы, вырвав из нее несколько порядочных отломков.
– Э–ге! – обрадовался Пес.
Оставшихся в ленте зарядов ему как раз хватило на то, чтобы целиком удалить скалу из рыхлой десны прибрежной дюны.
Пес настолько увлекся стрельбой, настолько был упоен новой ребяческой забавой, что не замечал ничего вокруг.
Он поглядел в сторону моря лишь когда расслышал в наступившей тишине негромкий ритмичный плеск.
– Это, надо полагать, аплодисменты? – Пес скользил взглядом по штрихованным всхолмьям желтых капюшоньих тел. Те, выбравшись из воды «по грудь», восторженно колотили щупальцами по налитой солнцем волне.
Прошло два дня.
Пес отменно освоился на броненосце. Теперь он знал все его закоулки и мог по памяти перечислить содержимое многочисленных ящичков, корзин–кранцев, лубяных тубусов и шкафчиков.
Ему даже начало казаться, что он сам спроектировал этот корабль. И более того – построил…
Жизнь его, как рассеченный лихим пехлеванским палашом арбуз, развалилась строго напополам – «до броненосца» и «на броненосце». И первая ее часть, та самая, которая «до», с каждой секундой казалась всё более ирреальной, всё дальше уплывала куда–то в туман небытного.
Не теряя времени даром, Пес заделал прорехи, через которые дожди подтапливали котельное отделение корабля.
Дрова быстро высохли на крепком морском ветру и Пес перенес их вниз, сложив аккуратными поленницами вокруг топок.
Пану Станиславу удалось разжечь топки, развести пары и, спустя полтора часа, он недрожащей рукой повернул главный вентиль.
Весь корабль – от транца до ростральной фигуры сирха – отозвался разнобоем новых звуков. Он скрипел, потрескивал, кудахтал, ныл и кажется даже смеялся тихим кашляющим смехом (это клокотала вода в трубах).
Пес опрометью выбежал на палубу, где его ждало отрадное зрелище: колеса, чьи шлицы даже в самом нижнем положении еле–еле касались воды, начали свое медленное вращение, оглашая окрестные бухты хриплым визгом.
«Надо бы смазать!» – по–хозяйски подумал Пес.
Остаток дня он провел в беличьих метаниях по судну. Тут заделать, там замазать, здесь трап этот дряхлый подновить…
Зачем чинить трап Пес не мог толком объяснить даже самому себе.
К ночи он так умаялся, что заснул прямо в машинном отделении, положив голову на плоский ящик из–под треноги гранатомета.
Сон его был тревожным. Видения лавинами сменяли друг дружку: из детского сада имени Сахаджа Барбази он, как был в школьном комбинезончике и красной шапочке отличника, перемещался прямо в сияющий перламутром огней бар станции «Боливар» на Церере, прямехонько за столик к конструктору Эстерсону, чтобы вставить какую–нибудь глубокомысленную фразу в бесконечный разговор, а оттуда, непонятно где сменив платье, перелетал в эпицентр экзаменационной кутерьмы, под своды Краковского политехнического, в руке – фломастер, под локтем шуршат тестовые задачи, над плечом нависает сердитый пан экзаменатор…
Его разбудил грохот обрушившейся поленницы.
Броненосец заскрипел всем корпусом. Где–то совсем рядом теперь слышался певучий плеск волн.
«Прилив», – сообразил Пес.
Затем последовал еще один толчок, мощнее прежнего, и размаянный сном инженер едва удержался на ногах.
«Да что тут вообще творится?!»
Он выбрался наверх, в глухую предутреннюю ночь.
Далеко на западе закатывалось за горизонт яркое звездное скопление Тремезианский Лев. Почти точно в зените светился спутник Фелиции со смешным именем Ухо–1.
Солнце еще только собиралось всходить, почти ничем, за исключением тонкой белесой нити на востоке, не обнаруживая своих намерений.
Пес оперся о планширь и заглянул под правый борт.
Воды заметно прибыло. Теперь волны цепляли ватерлинию.
Капюшоны, и это Пес заметил сразу, тоже интересовались ватерлинией. По крайней мере, в окрестностях броненосца их было не менее десятка.
Их великанские щупальца, при виде которых у Песа, невзирая на все новорожденные дружеские чувства, всякий раз мороз пробегал по коже, шарили по днищу и бортам парохода, как бы обнимая его.
Рывок…
Теперь Пес понимал – это капюшоны перемещают корабль.
«Пытаются, что ли, снять с рифа? Хотят, чтобы я проявил себя как полноценный мореход? Очередное развлечение изобрели?»
Прибывающая вода помогала капюшонам. Спустя полминуты массивная, казавшаяся неподъемной туша корабля вдруг качнулась на нос и ловко заскользила вперед. Хрустело коралловое крошево, скрежетала медь.
Пес видел, как целая чащоба щупалец, обвив железные шипы на баке, энергично помогает кораблю.
Наконец корма грузно плюхнула в воду, громыхнул сорвавшийся со станка фальконет и инженер понял: корабль свободен.
«Ни минуты покоя… Прямо «Остров сокровищ“ какой–то…» – подумал Пес, припоминая книгу из своего далекого и странного двуязыкого детства.
Солнце стояло высоко.
Пес развел пары и теперь броненосец, проворно шлепая шлицами колес, шел за стадом капюшонов на север.
Зачем шел? Пес не знал. Он просто включился в эту игру с неясным (да и существующим ли в принципе?) выигрышем, по правилам которой нужно было делать то, чего хотят капюшоны.
Штурвал корабля находился на юте, на возвышенном мостике. С точки зрения мореходства это было не очень–то удобно. Пес предпочел бы стоять за штурвалом на главной надстройке, в том самом месте, где сирхи водрузили свою культовую лазерпушку. Обзор оттуда по курсу корабля был значительно лучше.
Однако Пес понимал, чем обосновано решение сирхских архимедов. Дело в том, что устроить надежную передачу усилия от штурвального колеса на перо руля не так–то просто. Чем ближе в корме стоит штурвал, тем надежнее сцепка.
В этом архитектурном неудобстве, однако, был для Песа и приятный момент. Штурвал находился в нескольких метрах от лаза в котельное отделение. А поскольку должности штатного кочегара и капитана на этом судне были вынужденно совмещены, такое расположение значительно сокращало маршрут Песа между рабочими местами.
К счастью, топки у броненосца были достаточно приемистыми, а автоматический клапан перепуска избыточного давления – исправен.
Характер побережья, тем временем, изменился.
Скалистые горы, которые давеча Пес разглядывал, подступили к самой воде. Они дерзко вдавались в океан, образуя эпической красоты мыс.
Капюшоны явно держали курс на траверз этого мыса.
Что там, за ним? Может, столица сирхов с небоскребами из бамбука и глинобитными автострадами для паровых экипажей? А может, секретная база чоругов, которые, чем черт не шутит, давным–давно наладили контакт с капюшонами как собратьями по исходной среде обитания? Хотя, если сравнивать анатомию, со стороны чоругов было бы логичней дружить с дварвами. «Так сказать, клешня в клешне…»
В одну из немногих свободных от насущных мореходных хлопот минуту Пес обратил внимание на то, что колер морской воды также разительно изменился.
Если раньше океан казался черно–синим, с редкими промоинами голубого и лилового, то теперь вода приобрела цвет старой, с прозеленью, бирюзы. Стало мельче, кое–где даже можно было разглядеть дно, над которым ходили упитанные косяки серебристых рыбин.
Из–за мыса дул сильный ветер, неожиданно теплый, даже какой–то пахучий. Причем пахнул он вовсе не дохлой рыбой и йодом, а… нектаром? тяжелой сладостью цветущих деревьев?
Пан Станислав с наслаждением раздул ноздри, вбирая в легкие этот благоуханный ветер.
Он с опаской косил влево, на каменные банки в белопенной вате, которые, как поросята свиноматку, окружали зазубристый мыс.
Не имея ни малейшего представления о местной лоции, Пес старался держаться строго за флотилией капюшонов. Уж эти–то фарватер знают.
Вот все они начали забирать вправо и Пес сразу же отрепетовал их маневр. Как ни странно, броненосец сирхов показывал завидные мореходные качества. Он хорошо лежал на курсе, держал удар боковой волны и отлично слушался руля.
Покачиваясь, мыс пополз или, как говорят на флоте, «покатился» влево.
Открывшаяся в зыбком мареве панорама Песа впечатлила.
За мысом лежала обширная лагуна. Дальний берег ее сплошь зарос деревьями – эту породу Пес видел на Фелиции впервые. Высокие, гладкие, как будто пластмассовые стволы, змеящиеся синусоидами ветви, мясистые глянцевитые листья–сердца. «Опушка» леса уверенно наплывала на лагуну – первые ряды деревьев стояли прямо в воде, а их корни, зеркальные отражения ветвей, врастопырку торчали над приплеском.
Всё это буйно цвело и благоухало.
Вокруг соцветий – пышными эдемскими гроздьями они свисали с изгибающихся ветвей – вились мириады пестрых бабочек и тучи насекомых поскромнее.
«Сволочи! Ну кто просил их закрывать Фелицию для колонизации? Подумаешь, сирхи! Какой курорт мог получиться! Да Чахра померкла бы! Понастроили бы отелей… Бассейнов нарыли… Бары на пляжах… Танцплощадки… Морелечебницы… И сирхи бы не пропали… Работали бы барменами… уборщиками… да хоть бы и аниматорами! Так и вижу рекламный буклет: «Навруз на планете говорящих котов!“ Эх…»
С райским благообразием лагуны резко контрастировала грязно–черная дамба непонятного происхождения. Она тянулась от южного мыса к вылизанному волнами каменному лбу на противолежащем северном мысу.
Неровный верхний край дамбы выходил из воды метра на два–три. Его поверхность была покрыта крючковатыми наростами, каждый толщиной в руку, и наросты эти топорщились в разные стороны подобно беспорядочному частоколу первобытных поселений. Кое–где в дамбе имелись черные отворы, сквозь которые с тихим журчанием ходила вода – с их помощью лагуна сообщалась с океаном.
Примерно на один кабельтов мористее дамбы, от южного мыса в море вдавалась массивная, изогнутая дугой каменистая банка. Волны с неожиданным остервенением избивали хаос серо–красных обломков словно бы стремясь смести, уничтожить эту инородную деталь пейзажа.
Затон между банкой и дамбой, перегораживающей вход в лагуну, был сплошь затянут неопрятными клочьями ржавой пены и завален мусором – плавником, палой листвой.
Пес вдруг обнаружил, что капюшоны, которые подвели его почти вплотную к этой неприглядной банке, куда–то исчезли.
Бросив взгляд в сторону моря, Пес обнаружил, что плавучие гнезда оказались вдруг значительно дальше, чем он ожидал.
Привыкший повторять все маневры капюшонов инженер отдал сам себе приказ «право руля».
Корабль начал входить в циркуляцию, когда банка по левому борту ожила.
В первую секунду Песу показалось, что сами камни вдруг обрели способность двигаться.
А в следующий миг его сознание захлестнула обжигающая волна ужаса: через банку ползла шеренга дварвов, да каких крупных!
Пес оторопел.
Доски кормы зловеще хрустнули. Движение судна замедлилось.
Толчок. Еще толчок.
Инженер оглянулся.
Над кормой возвышался дварв. Одна пара его клешней пробила насквозь толстенную транцевую доску и намертво застряла в ней. Вероятно, подтянувшись на клешнях, дварв сумел выбраться из воды и, навалившись всей тушей на медные крючья, которыми трусливо оброс броненосец, сдуру сам себя ранил. Должно быть, не смертельно.
Вторую пару клешней тварь выбросила далеко вперед и теперь они, словно две исполинских алебарды, рубили палубу вокруг площадки с гранатометом.
В один великолепный прыжок Пес распрощался с ходовым мостиком.
Бросился к левому борту. Обеими руками вцепился в тяжелый пулемет «Ансальдо–47», с ощутимым усилием развернул его железное тулово на корму.
Первый цинк патронов он выпустил почти не целясь, не думая о перегреве ствола, вообще ни о чем не думая.
Грохотало так, что Пес с непривычки оглох.
Но зато и от дварва осталось немногое.
Двухсотграммовые разрывные пули буквально измололи в крошево хитиновые брони страховидного морского жителя. Разрезали его надвое, начетверо.
Останки дварва сползли с кормы и плюхнулись в воду. Осталась лишь одна клешня, вертикально воткнутая в палубу.
Но праздновать победу было рано.
Инженер заспешил к водруженному на корме гранатомету. Как хорошо, что еще позавчера он не поленился поднять из трюма ящики с боеприпасами к нему!
В гранатомет им была предусмотрительно заправлена лента с осколочно–фугасными.
Пес выставил на прицеле дальность и прильнул к окуляру.
Дварвы, переваливающие каменную банку, уже готовились спрыгнуть в воду чтобы плыть к броненосцу. Песу удалось опередить их на считанные секунды.
Мощно содрогаясь, его орудие посылало дварвам гранату за гранатой.
Прямые попадания, правда, были редки. Но даже близкого разрыва хватало, чтобы искалечить дварва или на время дезориентировать его.
Отстреляв ленту, Пес принялся заправлять следующую. За это время не меньше трех монстров успели скрыться под водой.
Еще пара ударилась в бегство к дальнему краю банки.
Полдюжины остальных можно было считать выведенными из строя.
Без особой надежды на успех Пес расстрелял две с половиной ленты в воду вокруг броненосца. Естественно, ему хотелось думать, что где–то там, в пучине, дварвы получат достаточно сильную контузию, чтобы оставить надежду сквитаться с двуногим пришельцем. Но когда сразу три дварва вынырнули в нескольких метрах от борта, он не удивился.
Инженер выпустил последние гранаты в их сторону, но не попал – дварвы находились в мертвой зоне, ниже ствол гранатомета уже физически не опускался…
Пришлось вернуться к пулемету.
Он успел всадить в ближайшего дварва от силы двадцать пуль, когда «Ансальдо» громко кашлянул, конвульсивно содрогнулся и замолчал.
В тот же миг в полуметре от плеча Песа пронеслась шипастая клешня. Чудом не задев инженера, дварв рубанул по треноге пулемета.
С пугающей легкостью та сорвалась с креплений и, перевалившись через планширь, полетела в воду вместе с установленным на ней «Ансальдо».
Гортань инженера разорвал вопль первобытного ужаса.
Он ударился в бегство.
Ступени. Сумрак котельного отделения. Направо. Нет. Налево. Черт, эта кошачья миска! Давно надо было выбросить за борт!
Лаз в носовую часть трюма. Свет из узкой серповидной дыры в борту, которую Пес так и не удосужился заделать. В солнечном луче вальсируют пылинки.
«Вот! Вот он!»
Пес ударом ноги распахнул крышку ящика, принялся рассовывать по карманам ручные гранаты.
Кое–что сообразив, он вытрусил из цинковой коробки автоматные патроны, бросил шесть гранат туда. Вдруг ему вспомнилось, что автомат, тот самый, с драконом и звездой, он, растяпа, позабыл в кают–компании.
«А ведь сейчас он был бы кстати!» – с досадой подумал Пес.
Впрочем, на корму он возвращаться всё равно не собирался. А путь на полубак лежал как раз через кают–компанию.
Пан Станислав взбежал вверх по лестнице, опасливо выглянул из–за края переборки.
В кают–компании дварвов не было. Но из–за деревянных стен доносились устрашающий скрежет и леденящее душу шуршание.
В два прыжка Пес оказался рядом с автоматом.
Сноровисто отщелкнул полупустой магазин. Заменил его новым.
Заодно, радуясь своей предусмотрительности, заменил и баллончик жидкого пороха.
То ли с обонянием, то ли со слухом дела у дварвов обстояли гораздо лучше, чем хотелось бы Песу.
Ближайшая к нему стена надстройки разлетелась в мелкую щепу и к инженеру метнулся пучок мягких ротовых педипальп морского монстра.
Уже на излете педипальпы хлестнули отшатнувшегося в ужасе инженера, разодрали рукав его многострадального синего свитера, счесали кожу – от локтя до запястья.
Пес взвыл.
Вместе с Песом взвыл и китайский автомат.
За какие–то три секунды это высокотемпное оружие послало в уродливую пасть врага восемьдесят пуль.
Учитывая, с какой кучностью они вошли в район центрального нервного узла дварва, хватило бы и половины.
В лицо Песу брызнуло смрадное красно–коричневое мясо.
Монстр в последний раз рванулся вперед, вонзил обезумевшие клешни в крышу надстройки и затих.
При этом удара его клешней хватило, чтобы обвалить крышу – она просела в кают–компанию. Края двух досок зацепились за выступ наверху надстройки и получилось что–то вроде пандуса.
Пес выглянул в носовую дверь кают–компании и сразу же отпрянул – там, на полубаке, ворочался еще один дварв.
Он, похоже, еще только входил в курс дела – кого хватать, куда ползти…
Пес сорвал с гранаты осколочную рубашку и швырнул ее в дверной проем.
Гренадер из него был посредственный. А потому граната ахнула в полуметре от носовой фигуры сирха, оторвав последнему горделивый спинной гребень и ползадницы.
Дварва это нисколько не смутило.
Двигаясь как бы бочком, по–крабьи, он бросился к Песу.
Тому ничего не оставалось, кроме как взбежать по импровизированному пандусу на крышу надстройки.
Пан Станислав быстро оценил обстановку.
Один дварв хозяйничал на корме. Гранатомета, к слову, уже не было на месте – тварь смахнула его за борт.
Другой монстр вцепился и клешнями, и педипальпами в левое гребное колесо. (Самое забавное, что колесо продолжало медленно поворачиваться вместе с новым грузом!)
«Курва! Он сломает мой пароход! Да как он смеет!..» – возмутился Пес, с удивлением отмечая, что при этой мысли его испуг переплавился в высокосортный всеиспепеляющий гнев.
И наконец третий, тот, от которого Пес только что убежал, нерешительно перетаптывался у передней стены кают–компании, под помостом декоративной лазерпушки.
Пес принял решение и закинул автомат за спину.
С ловкостью акробата (вот что может адреналин!) пан Станислав полез на марс.
Оттуда, будучи абсолютно недосягаемым (если, конечно, дварвы не сломают мачту), он будет видеть и держать под прицелом всю окаянную троицу.
Оказавшись на марсе, Пес без лишней суеты изучил имевшиеся в его распоряжении ручные гранаты.
Затем выставил на трех гранатах двухсекундное замедление и метнул их, одну за другой, в воду чуть позади дварва, который облюбовал гребное колесо.
Его расчет оправдался. Гранаты разорвались на глубинах в два–три метра, жестоко исхлестав монстра водяными бичами. Первых взрывов хватило, чтобы сбросить оглушенного дварва вниз. Третий пришелся в аккурат по центру панциря морского гада.
С мстительным удовлетворением Пес наблюдал за тем, как разъятая на десяток фрагментов туша дварва разбухает, разваливается, превращается в неприглядное месиво…
Тем временем «носовой» дварв сдуру перерубил подпорки, удерживающие над палубой спонсон с лазерпушкой.
Ее здоровенный ствол отвесно рухнул вниз, пробив гаду панцирь.
«Ну хоть на что–то этот металлолом сгодился!» – возликовал Пес.
Дварв в негодовании сдал назад, снес на полубаке фальшборт и, влекомый инерцией, соскользнул за борт.
Пес послал ему вдогонку две гранаты из своего стремительно тающего арсенала.
Грянули взрывы.
Фонтан воды, взметнувшийся чуть ли не до середины мачты, поднял в воздух бурую требуху и сломанные клешни.
Самым бойким оказался «кормовой» дварв.
К тому времени, как у Песа дошли до него руки, агрессор успел вскарабкаться на заднюю часть надстройки и вцепиться в растяжки мачты.
Мачта затрещала. Подалась назад.
Пес упал на живот, последние гранаты соскользнули вниз, как–то очень мультипликационно стукнув монстра по темени.
Пес поспешно разрядил в дварва полный магазин автомата. Но поскольку он был вынужден стрелять, держа автомат одной рукой, по–пистолетному, разброс пуль оказался огромным.
Да, ему удалось изрешетить дварву весь панцирь. Однако ощутимого вреда это твари не нанесло.
Дварв еще раз взмахнул могучими клешнями и мачта рухнула…
Пес, едва не размозжив голову о край рулевого мостика, полетел на покрытые зловонной слизью доски юта.
На расстоянии вытянутой руки от него подрагивали хвостовые щупальца его врага.
Судно качнулось. Последний магазин выскользнул из пальцев Песа и через проломленный транец полетел в воду.
«Неужели всё?» – с каким–то детским, ясноглазым удивлением подумал Пес.
Но нет. Оставался еще «Кольт» с четырьмя патронами.
Пока дварв разворачивался он, яростно сквернословя на фарси, пытался извлечь из–за пояса револьвер.
Оружие зацепилось за свежую прореху в подкладке и ни за что не желало повиноваться.
Призвав на помощь остатки хладнокровия, Пес всё–таки выпутал угловатый револьвер из комических тенет.
Дварв повернулся к нему пупырчатым кофейным боком. Тварь, похоже, уже заметила инженера периферийным зрением – и теперь соображала, как бы половчее…
Сухо щелкнул курок «Кольта».
На одно положение повернулся барабан.
Пес снова взвел курок и нажал на спусковой крючок.
Первые два гнезда в барабане оказались пустыми.
Выстрел прогремел только на третий раз.
И еще раз. И снова.
Дварв отпрянул.
Пес помедлил, прежде чем выпустить последнюю пулю.
«Может, себе ее оставить? Чтобы не мучиться под водой, когда начнут кушать?»
Но отважная душа Песа взбунтовалась против такого решения.
«Ну уж нет! Крайний случай – вот он! Пусть лучше эти уроды готовятся к мучениям! А у меня есть еще одна, победная пуля!»
Пес выстрелил в последний раз.
Эффект был ошеломляющим.
Дварва вынесло за борт вместе с остатками фальшборта и добела выскобленной ветрами палубной доской.
Лишь подобрав свои гранаты и отважившись выглянуть за борт, Пес сообразил, что не в последней пуле, конечно, дело.
Это два дюжих капюшона стащили дварва с палубы и, не давая тому опомниться, душили его в своих желтых объятиях.
Инженер Станислав Пес сидел, свесив ноги за корму и насвистывал колыбельную: «Spij kochanie, spij…»
Его одутловатое неухоженное лицо было безмятежным. Казалось, появись сейчас дварв, он и бровью не поведет.
На Песа навалилась чудовищная усталость. Усталость немолодого уже человека, своротившего гору, а затем – еще одну.
Дрова в топках прогорели, паровая машина остановилась.
Броненосец медленно дрейфовал вдоль черной дамбы.
Но Пес и не думал бежать в котельное отделение. Точнее, думал. Думал – и всё.
Мышцы его обмякли, в голове было покойно и пусто…
Апатию Песа диалектически дополняла бурная активность капюшонов.
Когда стало ясно, что все дварвы перебиты, они перетащили свои острова–гнезда в бухточку между дамбой и той самой каменной банкой, над которой теперь роились многочисленные насекомые, привлеченные падалью – останками дварвов.
Тотчас острова–гнезда ожили. Закипела мутная водица – это из гнезд нетерпеливо бросились наружу капюшоны–младенцы.
Странным образом все они знали, что делать – покинув свое гнездо, каждый из них направлялся к одной из узких промоин в дамбе, отделявшей райскую лагуну от океана.
Возле промоин, как в дверях иного космопорта, выросли беспорядочные живые очереди. Малыши пихали друг друга своими мягкими отростками, вертелись, кувыркались, словом – шалили. Но очередь двигалась – не без помощи взрослых капюшонов. И вот уже десятки, сотни крох резвились в теплой лагуне под сенью цветущих деревьев.
«Ага… Это у них что–то вроде яслей… Тут маленьким безопасно, тепло и главное сытно…»
Как бы в подтверждение его слов первые капюшончики принялись нескладно подскакивать над поверхностью бирюзовой лагуны – завтракали…
«Что же это получается… Капюшоны расправились с могущественным врагом моими, человеческими руками? Дварвы мешали их молоди попасть в ясли и умные капюшоны придумали комбинацию из меня и броненосца, которая с гарантией негодников уничтожит? Выходит, так…»
В вихре радостной суеты на Песа никто не обращал внимания.
Но он не расстраивался. Инженер раскрыл ящик с надписью «Лазурный Берег» и принялся трапезничать…
Когда последний бутерброд с гусиным паштетом был съеден, а крошки рачительно подобраны (и тоже съедены), над палубой дугою вздыбились два дюжих щупальца.
Пес нахмурился.
«Чего еще можно хотеть от меня, заслуженного ветерана морских баталий?» – сердито подумал он.
Щупальца метнулись вниз, под воду, и, обвив кольцами какой–то продолговатый ячеистый предмет, стремительно водрузили его на палубу в полуметре от Песа.
Беспардонно звякнуло бутылочное стекло.
Щупальца удалились.
Пес присел на корточки рядом с подношением. И, сообразив что перед ним, громко загоготал.
«Пиво! Они принесли мне пиво! Сделал дело – угощайся!»
Лежа на тюфячке в прохладной тиши кают–компании с бутылкой «Жигулевского», Пес думал вот о чем:
«Получается, капюшоны знают о нас, людях в сотни раз больше, чем мы о них! Они знают, чем нас кормить, чем поить, знают что нас пугает и что мы воспринимаем как вознаграждение… Они даже умеют нами, людьми, тонко манипулировать! Подумать только – заставить человека, не щадя сил, бороться с дварвами для пользы их потомства! Будь на их месте я, представитель одной из самых развитых цивилизаций Галактики, я наверняка потерпел бы фиаско…»
Вечером того же дня Пес преспокойно сошел на берег. Никто из капюшонов не возражал.
Прошел месяц.
После Сражения у Райской Лагуны, как окрестил схватку с дварвами Пес, инженер повел свой броненосец дальше на север.
Им двигал дерзновенный порыв первооткрывателя.
Тени Магеллана, Крузенштерна и Амундсена стояли у него за плечом, когда он вел броненосец сквозь влажные беззвездные ночи.
Время от времени он причаливал, чтобы нарубить дров и запастись пресной водой для себя и для котлов корабля.
Во время этих экспедиций случалось ему видеть сирхов.
Болтливые и доброжелательные коты–хамелеоны не возражали пообщаться, благо электронный переводчик работал отменно, а зеленый пароход с исполинскими колесами неизменно производил на них впечатление.
Большинство аборигенов видели такую штуку впервые и искренне дивились честным признаниям Песа, который и не думал скрывать, что не имеет никакого отношения к постройке броненосца.
«Но как вообще можно плавать по морю? Там ведь дварвы, злые и страшные!» – по–детски искренне ужасались сирхи.
«Дварвы мне нипочем!» – заявлял Пес, исподволь наблюдая, как мордки хамелеонов уважительно розовеют.
Пес, конечно, лукавил.
Дварвов он по–прежнему опасался.
Реликтовый пулемет чешского производства и две крупнокалиберных охотничьи винтовки, которые он изрядно запыленными извлек из трюма и установил на крыше надстройки, не вселяли в него особой уверенности. Случись новое нападение, эта рухлядь едва ли поможет ему одержать верх…
Однажды, во время очередной вылазки на сушу, Пес встретил на берегу паровой экипаж – судя по конструкции, тот был ближайшим родственником его броненосца.
Ему даже удалось поговорить с сирхами, которые отдыхали поодаль, в тени раскидистого дерева–качага.
Те придирчиво рассмотрели заякоренный пароход, оплетенный радиальными морщинами водной ряби, а потом долго обсуждали его, то и дело оттопыривая спинные гребни – обсуждали глумливо и даже презрительно.
«Что за бессмысленная и бесполезная машина? – недоумевал самый крупный сирх. – Очевидно, что она ездит по морю… Но ведь ничего глупее и представить себе нельзя! Зачем ездить по морю? Ведь там нет ничего полезного!»
«Ну да… Что им, вегетарианцам, это море?.. Но тем интересней… Какими они были, те дерзновенные сирхи, что построили революционный для своего мира броненосец? – гадал Пес. – Может, обычными, средними, да только их, как и недавно меня, околдовали однажды хитрые капюшоны? И сделали так, что эгоистичные и беспечные котяры вдруг сами собой воспылали желанием помочь морскому племени своих соседей? Кто знает…»
Пан Станислав плыл на север до тех пор, пока однажды утром не обнаружил, что продрог до мозга костей даже под тремя сирхскими циновками.
Пришло время поворачивать назад, на юг.
Спустя две недели он оказался в окрестностях того самого полуострова, где началось его фелицианское путешествие. Где–то здесь, в толще вод, покоился «Дюрандаль».
Пес причалил.
Целый день он бродил по сумеречному лесу, высматривая следы пребывания человека.
О, следы имелись!
Кострища, некое нищенское подобие землянки, банки из–под консервированных ананасов, упаковки от галет…
На опушке леса, густо заросшей цветущими ирисами, Пес обнаружил даже небольшую могилку с католическим крестом.
«Кто там лежит, интересно? Сирх? Собака? Но зачем тогда крест?»
Пояснительных надписей однако не было.
Вечером того же дня Пес обследовал северную оконечность полуострова. Он собрался было возвращаться на корабль, когда вдруг разглядел на западном берегу залива огонек.
Неужто тот самый, что манил его в самую первую ночь на Фелиции?
Его разобрало любопытство.
Утром следующего дня Пес, вооруженный трофейным ноктовизором (по совместительству также и биноклем), вернулся на свою позицию и увидел человеческое жилье.
Несколько приземистых домишек, сад, ухоженный огород…
«Биостанция «Лазурный Берег» – сообщала надпись над воротами.
«Так вот откуда капюшоны воровали для меня еду!»
Створка ворот беззвучно приоткрылась. На берег вышел сутулый крепкий бородач.
Он мрачно поглядел на море из–под кустистых бровей, зевнул в ладонь и, быстро выкурив сигарету, медвежьей походкой вернулся за ворота.
Походка эта показалась Песу смутно знакомой…
«Эстерсон?.. Ну конечно, старина Роланд! Как я мог его не узнать?!»
Через некоторое время Эстерсон вновь появился на берегу в обществе высокой стройной женщины.
Лицо ее было озабоченным, она всё время что–то кричала Эстерсону, похоже, они ссорились. А затем, похоже, мирились.
Пес видел, как Эстерсон и женщина тесно обнялись, и Роланд, сдержанный и несентиментальный Роланд, зашептал на ухо женщины что–то задушевное, нежно накручивая на палец локон из ее роскошной гривы.
А потом они долго стояли так, не размыкая объятий. Судя по лицам, они были счастливы.
Пес выключил ноктовизор и поковылял к броненосцу.
Еще месяц назад он, Пес, ликовал бы, обнаружив живым и невредимым инженера, на соблазнение которого он потратил не один месяц своей жизни… Он, прежний Пес, сейчас же бросился бы туда, на биостанцию. Наврал с три короба, закрутил интриги, в общем, рано или поздно он всё равно отнял бы Эстерсона у женщины с красивым строгим лицом и увез его прочь с «Лазурного Берега». Что бы он делал дальше – Пес толком не знал. Но приложил бы все усилия к тому, чтобы рано или поздно в укромной бухте или на потайной посадочной площадке приземлился гидрофлуггер «Сэнмурв». Он доставил бы их с Эстерсоном на звездолет, высланный за ними к Фелиции, а тот отвез бы их прямиком в город Хосров, планета Вэртрагна.
Ах, Эстерсона заждались в городе Хосров… Там для него давно готовы все условия! Ведь заотары Благого Совещания уверены, что истребитель, который построит для них ашвант Эстерсон, превзойдет все ранее известные боевые машины, и даже «Дюрандаль», блистательный «Дюрандаль».
Но это прежний Пес. А нынешний…
Что–то в нем перегорело. Пес смутно догадывался, что перемена эта выросла из его жизни с капюшонами, что она связана с этим морем, с обновленным именно здесь, на Фелиции, пониманием слова «свои», с осознанием относительности понятия «чужие» и абсолютной ценности добра… Но додумывать эту мысль до конца пану Станиславу было лень.
Он раскочегарил паровую машину и взял курс на юг.
Вертолеты появились в полдень.
Они летели с севера и прежде, чем Пес их услышал, успели подобраться к пароходу довольно близко.
Сквозь стук паровой машины пробилось чужеродное тарахтение. Когда инженер наконец обернулся на звук, он увидел две остекленных морды – они почти сливались с солнечными бликами на гребнях высоких волн.
Инженер бросил штурвал, опрометью взбежал на надстройку.
Прикосновение нагретого солнцем плечевого упора чешского пулемета показалось ему приятным.
Он наметанным глазом отмерил дистанцию до винтокрылых хищников. Прицелился в правого.
«Эх, не помешало бы сейчас стадо капюшонов… Авось и повоевали бы на равных…» – с печальным вздохом подумал инженер.
Пилоты, словно перехватив его мысль о капюшонах, поспешно бросили вертолеты вверх.
Машины расходились в стороны, беря броненосец в клещи.
Эти вертолеты были посерьезней легкого H–112, с которым расправились тогда капюшоны. У них имелись кургузые крыльца, увешанные ракетами и пулеметными контейнерами.
Контейнеры с тихим щелчком повернулись, Пес обнаружил себя под прицелом двенадцати стволов.
«Чудесно… – со злым азартом подумал инженер. – Мучиться долго не придется… И, кстати, хорошая эпитафия выйдет: «Разорван в клочья корпоративной охраной концерна «Дитерхази и Родригес«…»
Пес неотрывно сопровождал стволом пулемета тот вертолет, который заходил с левого борта.
Вот сейчас покажется белая надпись «HERMANDAD» и можно будет стрелять.
И надпись показалась.
«ВОЗДУШНЫЙ ПАТРУЛЬ»
Пес дважды перечитал ее. И лишь на третий сообразил, что надпись не на испанском. На фарси.
Инженер отпустил рукоять пулемета.
Отступил на два шага назад.
Вначале он хотел по привычке поднять руки вверх. Но затем, сообразив, скрестил руки на груди, уложив ладони на плечи – так сдаются пехлеваны.
– Убедительно просим выбросить оружие и лечь лицом вниз! – выплюнул в мегафон угрюмый мужской голос.
«А выговор у него мягкий, нестоличный… Похоже, парень родом из Севашты, края тысячи злаков, – подумал Пес. – Земляк.»
Ноябрь – декабрь 2007
Дети Онегина и Татьяны
Новелла первая
Апрель 2015
Москва, Россия
Случается, весна в апреле похожа на лето. Откуда ни возьмись, пыль, жарища, сквозь прорехи в клейкой листве – солнце, уже по–летнему настоящее, термоядерное.
Народ в конторе еще одет по–зимнему, все потеют и пыхтят, но кондиционер никто не включит – наслаждаются навалившимся теплом, мазохисты.
Это время года Чистилин, менеджер по внешним программам концерна Elic Entertainment, производящего игры для PC и видеоприставок, ненавидел особенно люто.
В апреле в человеке, как трава, прорастает человеческое. Нафиг никому не нужное, кстати сказать.
Чистилину шел тридцать второй год. Выражение его бледных серых глаз писатели девятнадцатого века непременно назвали бы разочарованным. Два века спустя оно звалось серьезным.
Только что Чистилина вызвали в кабинет директора. И теперь он вроде как спешил.
Проходя мимо стеклянной выгородки главного бухгалтера Таисы, Чистилин послал Таисе воздушный поцелуй. Бухгалтер сделала вид, что смутилась.
В конторе Чистилин слыл донжуаном. Создание этого образа заняло несколько лет: цветы на Восьмое марта всем женщинам, включая горбунью–уборщицу; костюмы и рубашки из пустынно–прохладных магазинов, где у кассы никогда не толпятся; таинственное, мягкое выражение глаз, взволнованная речь, – теперь оставалось только работать на его поддержание.
Зачем работать – другой вопрос. Его Чистилин предпочитал себе не задавать.
Он улыбался, но улыбка выходила озабоченной, почти озлобленной. Это заметил даже близорукий пиарщик Славик. Только что дверь директорского кабинета закрылась за его хилой спиной, и теперь с чувством исполненного долга Славик направлялся к кофейному аппарату, на ходу закатывая рукав полосатой рубашки, – вот сейчас суставчатая лапа аппарата протрет спиртом белый локтевой сгиб, вопьется в вену Славика тончайшее стальное жало, а дальше – нервическая бодрость, на два часа тридцать две минуты. По действию то же самое, что чашка двойного растворимого, разве что без свинцового вкуса во рту. По стоимости же одна инъекция – как бокал Bourgogne Passetoutgran, а сама корейская машина – ценой в двадцать банальных кофейных автоматов.
«Но офис без такой не стоит, как село без праведника!» – любил повторять директор.
– Ты чего, Чистилин, не спал сегодня?
– Да нет вроде.
– Выглядишь так себе. Как говорят в Пиндостане, shity, – со смешком сообщил Славик и добавил, уже полушепотом. – Капитан сегодня это… в креативном настроении.
Чистилин благодарно кивнул Славику, ощущая, как напряглось все – от глотки до ануса.
Директор, предпочитавший, чтобы его звали Капитаном, был редким гостем в Elic Entertainment. Точнее, в его московской штаб–квартире. Обычно он рыскал по выставкам, гейм конвеншнз и курортам. А когда надоедало, разъезжал с инспекциями по провинции, где находились студии, взятые на финансовое довольствие.
Персонал трепетал перед Капитаном. Сам же Капитан ни перед кем не трепетал, кроме загадочного и географически удаленного Совета Учредителей. Его Чистилин представлял себе чем–то вроде масонской ложи в стиле паропанк.
За семь лет работы в конторе Чистилин успел усвоить: раз Капитан появился в столице, значит, его переполняют дурные творческие думы.
– Ну что, Андрюша, располагайся… Чай вот, суматранский, с экстрактом тестикул летучей мыши, попробуй обязательно, – в начале разговора Капитан всегда брал приветливый запанибратский тон. Наверное, чтобы означить левый край эмоционального диапазона беседы. На правом располагались истерические вопли с метанием в стену бронзового письменного прибора.
– Спасибо, Александр Витальевич.
– Опять? Мы же договорились – просто Саша.
– Забыл. Извини.
– Так что, делают нас япошки? – спросил Капитан, складывая руки замком на затылке.
Речь шла об успехе японской многопользовательской RTLS Fields of True Feelings. За неделю со дня открытия – триста миллионов подписчиков по всему миру.
RTLS значит Real Time Love Strategy. Это когда «обнимитесь миллионы», в смысле, платишь деньги и обнимаешься, предаешься чувствам – бодрящим, возвышающим душу и электронно безопасным. Знакомишься, любишь, расстаешься, все дела.
«Но триста лимонов за неделю – это круто. Особенно учитывая цену абонемента – четыре тысячи пятьсот рэ в месяц. Простые арифметические расчеты показывают, что при стоимости разработки…»
– Делают. А вот еще – вы слышали, то есть я хотел сказать, ты слышал, итальянские хлопцы в июне запускают штуку такую… Love over Gold. На движке Juliette. Есть инсайдерский слив, что предварительных заказов вдвое больше.
– Что еще знаешь?
– Русских среди подписчиков меньше процента.
– А в «Полях» этих ниппонческих сколько наших?
– Около того же. Не нравятся русскому человеку чувства. И слава богу, – отвечал Чистилин. – Мы воевать любим.
– Ты не прав. Русскому человеку нравятся чувства.
– ?
– Не смотри на меня как на тяжело больного. Нравятся–нравятся.
– Данными продаж это не подтверждается… – Чистилин вежливо стоял на своем. Он знал: Капитан не любит откровенных подхалимов, ему нужны «люди со своим мнением». – Продажи по лавсимам мертвые, затраты на локализацию еле отбиваем. Не только у нас, кстати. Ребята из 1С недавно плакались – у них тоже еле–еле. Какие, нафиг, тут чувства? Нам их и в жизни хватает, – уверенно сказал Чистилин, стараясь не думать о том, что, если не считать редких проституток, в последний раз он целовал женщину на первом курсе института.
– Просто русскому человеку нужны русские чувства, – сказал капитан таинственно.
– Вероятно… Вам виднее. И… что?
– Будем делать русское.
– RTLS?
– Да ты что! Не потянем пока. Начнем с адвентюры.
– Придется купить тайтл… – Чистилин сразу подумал про сериалы. «Спросить у мамы: пусть расскажет, что сейчас крутят». – Но тайтл – это сразу вложение.
– Обойдемся.
– Без тайтла как–то… страшновато. Большой риск.
– Тайтл будет.
– Бесплатных тайтлов не бывает, Александр Витальевич. Саша.
– Бесплатные тайтлы называются классикой, Андрюша. Чему тебя только в твоем институте учили?
– Моделированию космических аппаратов.
– Ах, черт, со Славкой перепутал, это ж он в пиарно–попильном учился… Лучший топ–лист бесплатных тайтлов находится в оглавлении школьной хрестоматии по русской литературе.
– «Война и мир»? – попробовал угадать Чистилин.
– Опять ты со своей войной? Милитарист…
– «Преступление и наказание»?
– В жопу, – нахмурился Капитан. – Трудящимся не нужны такие чувства. В нашей таргет–групп процент садомазохистов, включая латентных, не превышает четырех с половиной. А процент находившихся под следствием в семь раз выше среднеевропейского. Так что ни к чему эти ассоциации – наказание, обрезание…
– Тогда не знаю… Ну, «Прощай, немытая Россия!».
– Политики нам только не хватало! Господи помилуй, – Чистилин основательно перекрестился. Чистилин знал – Капитан происходит из староверов, даже посты вроде бы соблюдает, не прочь блеснуть старинным словцом. Такие детали освежают биографию всякого рвача на радость составителям некрологов. – Но тепло уже. Тепло. Лермонтов… А где Лермонтов там и… кто? Напряги извилину, товарищ менеджер!
– «Я помню чудное мгновенье…» – вспомнил Чистилин.
Однажды маленькому Андрюше задали выучить «Мгновенье» наизусть, но мать работала в универсаме во вторую смену, а он отчаянно заигрался в Doom, да так и заснул, носом в «пробел», а когда проснулся, на заплывшей щеке розовели оттиски клавиш и мимолетные виденья были не те, и не про то, и нерифмованные…
– Тепло. Нет, горячо!
– Пушкин… – робко проблеял Чистилин.
– Точно!
– «Евгений Онегин»?
– Умничка.
– Короче говоря, пиши… «Глава первая».
– Написал.
– Убей. Не глава, а миссия. Миссия один, локация один. Типа… «Знакомство с Онегиным». Нет, лучше «Онегин едет к дяде». Вяло как–то… Ну едет он – и что?
– Едет на почтовых! – вспомнил Чистилин.
Его бабушка работала учительницей чтения и письма в интернате для умственно отсталых, дома любила декламировать то, что осталось невостребованным на работе. Ее стараниями кое–что пушкинское спрессовалось на дне захламленного трюма Чистилинской памяти. Это нечто предстояло сейчас из трюма поднять. Капитану было не в пример легче – он держал перед глазами третий том сочинений поэта, изданный в 1957 году Государственным издательством художественной литературы.
– Кстати, что такое эти почтовые, не знаешь? – неприязненно осведомился Капитан.
– Вроде как там у них были разные станции, где почтальонам меняли лошадей, и другим путешественникам тоже. Три часа чувачок едет на одних лошадях, потом доезжает до почтовой станции, там ему в карету запрягают других, отдохнувших. Так быстрее.
– Он что, в карете, получается, едет?
– Получается.
– Нафиг. Пиши. Онегин едет верхом на лошади. Белой. Поскольку кареты эти не смотрятся ни фига.
– Смотря как сделать. Если цугом двенадцать лошадей…
– Кем? – Капитана, как видно, смутило слово «цуг».
– Цугом. Это когда лошади парами, а пары – одна за другой. Вот французы во второй Madame Bovary такое заюзали – очень ничего, анимация движений толковая. Вообще, богато смотрится.
– Нам бы их бюджет, у нас бы цугом даже комары летали…
После этих слов Капитана понесло жаловаться – вот–де выросли налоги, потребитель стал переборчивым и вялым, и, кстати, со стороны правительства никакой поддержки, хотя геймдев – это ведь тоже искусство, как торговля или, к примеру, спорт.
Капитан говорил так увлеченно, так страстно, будто в кресле перед ним сидел не Чистилин, который давно и прочно в курсе, а полудурошный с приплюснутым лицом корреспондент монгольского журнала YurtaDigital, которому только наливай. Чистилина это, конечно, раздражало. Как и то, что Капитан решил экспромтом «накидать» контуры будущего проекта, невзирая на обеденный перерыв. Еще и настоял, чтобы Чистилин вел стенограмму, как какая–нибудь секретарша, вместо того чтобы просто включить диктофон.
– Опять отвлекаемся! – как будто очнувшись, воскликнул Капитан и вновь вперился в книгу. – Едет он, значит, на белом коне. Тем временем дается инфа. Вроде досье или что–то такое. Онегин Евгений… Кстати, ты отчества его не знаешь?
– Кого?
– Онегина.
– Да откуда? – цокая клавишами, спросил Чистилин.
– Тогда пусть будет пока Александрович, хе–хе. Онегин. Сын миллионера и… актрисы балета.
«…и артистки балета» – простучал Чистилин. Каждая минута общения с Капитаном улучшала его мнение о собственной образованности. Но ухудшала нечто вроде глобального настроения – которое меньше мироощущения, но больше настроения конкретного дня.
– Онегин по профессии экономист. А по призванию – пикапер, как учит нас дорогой Александр Сергеевич. И это правильно… Контингент от пикаперства, я извиняюсь, кончает. Я имею в виду, от самой концепции. Можно дать такие еще флэшбэки, как Онегин вспоминает, кого он и как… ннэ–э–э… соблазнил.
– Значит, мувики пойдут?
– Да. Ты, кстати, имей в виду: максимум три мувика на миссию. Меня за перерасход Совет убьет и съест.
– А что будет в мувике этой миссии?
– Тетеньки будут. Чтобы было понятно, что Онегин – он опытный в этих всех делах. В чувствах. Вот он едет–едет, значит… – бормоча, Капитан перелистывал охряно–желтые, отчаянно пахнущие прогорклым маслом и неведомой старушечьей квартирой страницы, пытаясь на ходу вникнуть в ход действия, – едет–едет… через какой–то бал, что ли, проезжает…
– Прямо на коне?
– Через театр, потом через бал какой–то… Насчет ножек я, кстати, согласен, кривые ноги у русских женщин, правда, не только у наших, у тех тоже кривые, особенно у норвежских… Вот, чувства пошли… записывай: «Рано чувства в нем остыли; ему наскучил света шум»… Нет, не записывай, это флуд какой–то, ты когда–нибудь слышал, чтобы лампочка шумела? И в итоге Онегин приезжает… в деревню… прямо на похороны дяди… И вот… Спасайте, православныя!
– Что?
– Конец главы.
– Александр Витальевич… Саша… А может, ну его нафиг?
– Да ты что?! Золотая жила!
– Я про главу. Может, сразу со второй? Просто событий я как–то не вижу. Вы же сами любите повторять, что мы должны ориентироваться на каузального игрока. А тут… Тут вообще нет каузального потока! Геймплея нет! По–моему, начинать надо с того места, где этот второй парень… Ленский… появляется. Кстати, я тут подумал, Ленским, если его толково задизайнить, можно будет привлечь меньшинства. При продвижении продукта на европейский рынок.
– Гомиков? Правильно, подумаем. Точнее, пусть Ubisoft думают, это их головняк. Но начинать все равно придется с первой главы.
– Но почему?
– Потому, что есть такая организация – Министерство культуры и образования.
Это заявление прозвучало довольно неожиданно. Чистилин привык, что Капитан показательно не интересуется ни властью, ни политикой, ни структурами государственного управления. Весь страх и трепет Капитан инвестировал в свои отношения с Советом.
– Бабосов выделят? – предположил Чистилин.
– То, что они выделят, это не бабосы. Но с пиаром помогут – культуру, дескать, в массы, русскую классику – детям, и далее по списку… Я тут намедни говорил с одной волшебной женщиной, Илоной Феликсовной, – Капитан мечтательно закатил глаза к потолку, как делал всякий раз, когда заходила речь на курортно–ресторанную тему. – В общем, надежды есть. Но там условие понятно какое. Чтобы было близко к тексту. Ну хотя бы на квантитативном уровне.
– Это как – на квантитативном?
– Ну, формально. У Пушкина героев двое – и у нас двое. У Пушкина восемь глав – значит, у нас должно быть восемь миссий.
– Ага.
– И портрет Пушкина на обложку джевела надо где–нибудь затулить. Ну или хотя бы на коллекционное издание.
Чистилин представил себе, какое лицо сделает Славик, когда узнает, что на кавер дивидюка вместо длинноногой срамницы в стилизованном под девятнадцатый век кружевном чепце пойдет поэт Пушкин, похожий на загорелую овцу, и невольно скривился.
– Можно ограничиться вкладышем, – пошел на попятную Капитан.
– А с сюжетом что? Тоже строго по тексту?
– Придется выкручиваться. Чтобы и события, и чувства. Может быть, с Ольгой что–то нужно замутить посерьезней… Чтобы острее было. Тогда дуэль у нас получится не просто так, вялая разборка двух интеллигентов, а типа мясная сцена. Один взбешенный самец месит другого. Рвет его в клочья! В хлам! Шинкует его, как капусту! Массакр! Убирайся обратно в ад, исчадие хаоса! – глаза Капитана заблестели. Чистилин подозревал, будь на все воля Капитана, их контора производила бы исключительно фэнтези–шутеры повышенной кровавости. К счастью, Совет не давал Капитану забыть о насущном. – Только представь, какую лялечку можно сделать в миссии, где дуэль с Лениным… тьфу, Ленским! На выбор оружие, вариантов десять. Обязательно запиши, чтобы стрелять можно было с двух рук.
– По–македонски?
– Да. Так вот оружие… Отдельно огнестрельное. Отдельно холодное. И магическое.
– Магическое?
– Наверное, ты прав. Без магического обойдемся. Илоне Феликсовне не объяснишь, зачем Онегину файерболл.
«Онегин с берданой, Татьяна – с катаной. Стишок».
Плюшевые синие апрельские сумерки за окном перешли в ночь. На улице зажглись фонари. Из окна директорского кабинета можно было рассмотреть группку 3D–моделлеров, ожидавших маршрутку. Выражение лиц разобрать было трудно, но Чистилин догадывался – на них застыло привычное отвращение к труду.
Между тем они все сочиняли.
Капитан снял пиджак и откинулся на спинку кресла. Чистилин же, из последних сил изображавший живчика, тихонько стянул тесные туфли и водрузил ступни сверху. Пальцы ног, согбенные и бледные, как уродцы Виктора Гюго, радостно вспотели.
Держа над пепельницей полуоблетевший окурок, Капитан диктовал сухим, ослабевшим голосом, из–за чего его речь слегка походила на бормотание умалишенного.
– …Миссия три. Название… «Письмо Татьяны» – как–то простовато… А вот как тебе «Откровения и Страсть»? По–моему, ничего. Записывай. Настроение миссии: тревожно–эротическое. Локация три–один. Сад. Описание локации «Сад». Пейзаж выполнен в традициях русской садово–парковой архитектуры девятнадцатого века. Имеются статуи обнаженных греческих богинь, аллеи, фонтаны (см. сеттинг «Петергоф»), а также скамейка. В локации присутствуют: Онегин, Татьяна, девушки.
– Какие еще девушки?
– Да тут вот… появляются… Они собирают в саду малину и поют песни… – водя пальцем по книжным строкам, сообщил Капитан. – В принципе, девушек можно скипнуть. Возни с анимацией много, толку мало, разве если полуодетые.
– Подумаем еще.
– Дальше. В начале сцены Татьяна сидит на скамейке. Возле скамейки вываливается хинт, для самых одаренных: «Кликни здесь». Если кликнуть по скамейке, Татьяна встанет и пойдет на аллею, где ее ждет Онегин. Кстати, переодеть его нужно после второй миссии. Вы одежду модернизируйте малость, мы же не исторический фильм по госзаказу снимаем. Нужно, чтобы потребитель мог легко идентифицироваться. Вот, значит, встречаются они и начинают… начинают… – Капитан рывком перелистнул страницу, чтобы узнать, что же произошло потом, но, узнав, застыл в нерешительности. – Гм… – задумчиво произнес Капитан. – А ведь это знак! Александр Сергеич прав!
– В смысле?
– Да вот послушай, что он тут пишет:
Но следствия нежданной встречи
Сегодня, милые друзья,
Пересказать не в силах я;
Мне должно после долгой речи
И погулять, и отдохнуть.
Докончу после как–нибудь.
– Все равно не понял, – признался Чистилин. – В чем прав–то?
– Что надо погулять. И отдохнуть… Мы сегодня славно потрудились, по–моему…
– Еще бы, сорок тысяч знаков с пробелами!
– И сигареты вышли…
Кружевные створки чугунных ворот закрылись за Чистилиным и Капитаном, пробуровил что–то прощальное охранник, они оказались на улице.
– Пойдем, что ли, пива выпьем?
Чистилин кивнул. К предложению он был внутренне готов, хотя в компании подчиненных любил повторять: «Кто пьет пиво, сам становится пивом», и кичился любовью к чилийским винам средней паршивости.
Однако в заведении «Акулина», куда они направились, не было свободных мест. Вечер пятницы!
За одним столом юбилей, за другим – мальчишник напополам с производственным совещанием, в полутемных углах тет–а–теты, и даже на веранде, уже по–летнему заставленной столами, тостующие и жующие! Это взбесило Чистилина – в таком никчемном заведении, каким, по его мнению, являлась «Акулина», обязательно должны быть свободные места, как на Новый год должна быть елка, а в Киеве – дядька.
Конечно, можно было взять такси и рвануть из Митина в цивилизацию. Например, в центр французского землячества, неуклонно растущего с памятного 2005 года. Кормили там сытно и по московским меркам недорого. Вдобавок за столиками возле бронзовой статуи Уэльбека всегда пестро от юных француженок, которые воркотливо обсуждают друг с дружкой своих русских гарсонз. Заслушаешься…
Но, наблюдая за Капитаном, Чистилин понял – тот не желает к французам, не желает к японцам и цыганам. Ему подавай настоящую экзотику.
День, начавшийся для Капитана позабытым пафосом мозгового штурма, должен был закончиться чем–то столь же необычным.
Поэтому когда Капитан приобрел в продуктовом пачку «Парламента» без фильтра, четыре бутылки темной «Балтики» и предложил спуститься к речке, Чистилин почти не удивился.
– Сто лет там не был… А ведь я тут недалеко вырос – на Планерной. Так что, идем, да?
– Ага, – в целлофановом пакете, который нес Чистилин, веско звякнули бутылки.
Устроились на растрескавшихся пеньках, служивших некогда опорами старого деревянного моста, который, был убежден Чистилин, упоминался в классическом труде Гиляровского.
Новый мост накрыл старый, как мастифф болонку. В засушливое лето можно было видеть гребенку полусгнивших столбов, торчащую из цвелой воды.
В черной, не успевшей по–летнему завоняться реке отражались огни заречной улицы. Косой свет фонаря на ближней излучине заливал испод моста и лишенную растительности отмель под ним светом, который в приключенческой литературе зовется «мертвенным». Вверху шуршали зимней еще резиной автомобили.
Чистилин и Капитан по несколько раз отхлебнули из своих бутылок, не проронив ни слова. Чистилину было смертельно лень возвращаться к Онегину – да ведь и ноутбук он «забыл» в кабинете. Капитан же был погружен в высокие размышления, это стало ясно, когда он заговорил:
– Ты никогда не думал, зачем это все?
– Что – «все», Саша?
– То, что мы делаем.
– Игры?
– Например. Что мы, по сути, делаем, когда делаем игры?
– Мы предоставляем нашему контингенту… симуляцию интересной жизни. Получаем за это деньги, – бодро сказал Чистилин, однако, быстро сообразив, что не такого, но более проблемного, что ли, ответа ждет Капитан, добавил, посерьезнев:
– Но в тоже время мы, в каком–то смысле, лишаем контингент настоящей жизни.
– А если мы не будем продавать им симулированную жизнь?
– Тогда конкуренты продадут.
– А если и они не будут?
– Кореезы точно продадут.
– А если и кореезы тоже перестанут? – настаивал Капитан.
– Ну…
– Ты думаешь, они, то есть… контингент… будут тогда жить этой пресловутой «настоящей жизнью»? Ну там, ездить на настоящих машинах, трахаться, космолеты пилотировать, я не знаю…
– Не исключено, – осторожно заметил Чистилин. – Кто–то же живет, вон в ресторане мест ни фига нет… И эти будут.
– А вот хрен! Наш контингент жить все равно не будет!
– Что же он тогда будет?
– А ничего. Лежать и вообще ничего не делать. Даже дышать. Может, они вообще тогда не родятся! Не воплотятся их души на земле, понимаешь? Их карма нашему слою плотного мира соответствовать не будет, и все – краями!
– Э–э–э…
– Подумай. Вначале ты хочешь выпить, а уже потом покупаешь бутылку пива. С тетеньками то же самое. С лавандосом история аналогичная. Вначале чувствуешь, что он тебе нужен – вилы! И чтобы много – ребенок родился, на ремонт надо, маме на лекарства… А потом уже начинаешь что–то такое внятное зарабатывать. Почему с играми должно быть иначе?
– Ну…
– С играми то же самое! – карие глаза Капитана влажно блестели. – Вначале ты страшно хочешь кончить на экран монитора, а потом в твоей жизни появляется лавсим. Если бы ты хотел кому–то вдуть в реале, ты бы отодрал одноклассницу на новогодней вечеринке, делов–то! Понимаешь, Андрюша, Бог дает то, что ты просишь… Просишь благодати, дает благодать. Просишь пива – пива дает, разве чуток быстрее. Только вдумайся, они реально хотят получить именно то, что получают! То есть, цистерну воздуха и три вагона пикселей! Вот и Онегин наш…
– А что – Онегин? – насторожился Чистилин, открывая об торчащий из раскрошенного бетона огрызок арматуры вторую бутылку.
– Они хотят чувств. Но только… невзаправдашних. Любить желают… Но только чтобы… понимаешь… понарошку! В мои времена все было не так! – подытожил Капитан.
Он принялся разворачивать новую мысль, но внимание Чистилина было фатально растушевано хмелем. Он вдруг заметил, что наклонные бетонные плиты усеяны сзади невероятным количеством мятых, желтобоких окурков и тысячами погнутых кругляшей латунного цвета – пивными крышечками. Перед мысленным взором Чистилина встало и наполнилось жизнью видение: каждый вечер на этих самых пеньках сидят мужички примерно их с Капитаном возраста. Курят, дуют белое пшеничное и беседуют о насущных проблемах автосервиса. Щелкающим жестом большого и третьего пальцев мужички, неотличимые в сумерках друг от друга и от них с Капитаном, отпуливают окурки за спину, а опустевшие бутылки стыдливо топят, как герасимы своих муму…
Чистилину стало не по себе. Неужели жизнь – это такая же, в сущности, неуникальная штука, как и средняя онлайн–игра? Только в игре ты, один из миллионов, ломишься к Замку Темного Властелина в стандартной аватаре для бесплатных пользователей, а здесь, под мостом, ты один из десяти тысяч тех, кто устроил «Балтику» между носками туфель. А что, если Бог есть и он так… шутит? А что, если вообще ничего, кроме Бога, нет? Но думать об этом Чистилину было непривычно, как, кстати, и выслушивать философствования Капитана – «карма», «благодать», «воплощение»… «Что это с ним? В Совете кто–то буддистом заделался?»
Бутылка булькнула на дно возле бетонной опоры с надписью «цыпа и уткин литят на йух». От воды потянуло холодом. И Капитан, и Чистилин вдруг почувствовали, что замерзли.
– А давай прямо сейчас к Илоне Феликсовне махнем? Ты как?
– Нормально, – кивнул Чистилин.
Илона Феликсовна, казалось, ждала гостей. В ее трехкомнатной квартире на Куусинена было прибрано, всюду горел свет. Пахло жареной картошкой.
Обстановка квартиры обличала в Илоне Феликсовне разведенную чиновницу от искусства. На это указывали фотографии моложавой хозяйки дома в окружении мускулистых звезд балета и видных оперных женщин.
Преодолеть кризис сорокалетия ей, как видно, помогла эзотерика. Чванились на книжных полках фотографии лысых йогов и альтернативных целителей с ассирийскими бородами, на стенах же сияли горним светом голограммы опрятных северных храмов – Чистилин сразу узнал деревянные репы Кижей.
«Вот откуда ноги растут у кармы с благодатью!» – догадался Чистилин.
Несмотря на свой продвинутый духовный уровень, внешне Илона Феликсовна походила, натурально, на ведьму. Сочетание безжизненных пергидрольных волос с накрашенным алой помадой ртом эстетически подавляло. Кстати, волосы Илоны Феликсовны были разобраны на центральный пробор и свободно спускались на плечи, как у работницы с рекламы шампуня против перхоти. Наводили на странные мысли и множественные металлические браслеты, которые индуйственно ерзали по правой и левой рукам хозяйки, а также ее манера пританцовывать, вертя крупом, у плиты. В этих намеках на резвость было что–то тошнотворное, ведь Илона Феликсовна выглядела лет на семь старше Капитана. Слова хозяйка дома не проговаривала, но как бы выпевала грудью.
«Любви все возрасты покорны», – вспомнилось Чистилину. Почему–то он не сомневался, что Илона Феликсовна и Капитан – ***.
Сели ужинать. Из спиртного имелся лишь малиновый ликер. За неимением лучшего, Чистилин подналег на вязкую розовую жидкость, отдающую дешевым леденцом и одновременно сивухой. Капитан тоже не отставал. С нетрезвым пылом он принялся чертить в воздухе перед хозяйкой контуры грядущего проекта.
Илона Феликсовна реагировала с неожиданной живостью :
– Я помню, когда мой Ильюшка был вот такусеньким, он целыми днями перед экраном сидел. Ему страшно нравились гонки! У вас же будут гонки в этом «Онегине»?
– Да, моя богиня, – соврал, не поморщившись, Капитан. – И на дилижансах, и на этих… как их…
– Почтовых, – подсказал Чистилин.
– И на… квадригах.
– Как–то у племянницы, она у меня в Воронеже живет, я играла в игру, забыла название. Там у меня был домик такой… И в этом домике всю мебель можно было двигать, как в жизни. Даже занавески перевешивать разрешали… На экранчике такое место было, где показывали, сколько у тебя денег, можно было машину купить… Деньги ведь у вас будут в игре?
– Конечно, моя нимфа! Можно будет продавать и покупать все, что увидишь. И флер–д’оранжи, и камамберы, и канотье.
Из упомянутых предметов отдаленное представление Чистилин имел только о сыре камамбер. Тем не менее, он старательно поддакивал.
– А можно будет Татьяну… переодевать? – спросила Илона Феликсовна и зачем–то покраснела.
– Да, моя царица. Мы уже заключили договор о контент плэйсменте с американской сетью Victoria’s Secret, бюстгальтеры будут железно.
– Татьяна у вас – она блондинка или брюнетка?
– Блондинка. Как ты, моя королева!
– О… Ах, Татьяна! – с театральным пафосом воскликнула Илона Феликсовна.
Нежданно Чистилину вспомнилась его личная, единственная Татьяна. Она училась на коммерческом отделении, в параллельной группе. Могла бы претендовать на бюджетное, только вот молдавское гражданство… Русявая, курносая, с бирюзовыми глазищами и по–южному смуглой кожей. Они целовались и даже почти все остальное, но потом у Тани кончились деньги, ее отчислили и она упорхнула в свой Кишинев. Чистилин ничего не сделал для того, чтобы было иначе. Неохота было возиться – все эти проблемы с ее гражданством, квартиру пришлось бы снимать… «Дайте мне мануал, и я переверну Землю!» – любил повторять первокурсник Чистилин. Мануала ему не дали, Татьяна исчезла. Он перенес свое предательство спокойно. Ел, пил, елозил мышью. Иногда, правда, наваливалась на него сверлящая душу, невыносимая какая–то боль. И тогда хотелось завыть, расцарапать себе лицо, разрезать вены, упиться до беспамятства и по пьяни замерзнуть в сугробе. Временами он разрешал себе думать о том, что было бы, если бы тогда он не позволил Тане убежать. Занял бы денег или женился, что ли… Теперь он утешался тем, что если и несчастлив в жизни, то исключительно по своей вине.
– Я должен полежать. Можно, я полежу? – спросил Чистилин, устраиваясь калачиком на диване.
– Нужно вызвать Андрюше такси! – заметила Илона Феликсовна.
– …а песни для озвучки мы закажем Los Gorillas… Сальса–ламбада… Тындырыдын… Гитарное соло, маракасы, все дела… Чем меньше женщину мы любим… Тем больше нравимся мы ей… Ай–йа–йа–йа–йа! Среди сетей! Ай–йа–йа–йа–йа! Среди сетей! – по–цыгански хлопая себя по бедрам, зажигал Капитан.
«Тем легче нравимся мы ей», – машинально поправил Чистилин.
– Так что, Саша, думаешь, пойдет «Онегин»? – уже стоя на пороге, спросил Чистилин. Он растирал ладонями отекшее лицо. Впервые за день, а может, и за всю жизнь, он назвал Капитана Сашей легко, без внутреннего принуждения.
– Не вопрос. Я пятой точкой чувствую, трудящимся это нужно. Совет, кстати, такого же мнения. Так что на твоем месте я времени не терял бы. Думал бы уже про аддоны. И про сиквел.
– Ну, с аддоном, по–моему, ясно. Что–то вроде «Ленский возвращается». А вот с сиквелом… Можно по–простому: «Онегин–2».
– Сакс, по–моему.
– Тогда пусть будет «Дети Онегина и Татьяны»! – бросил Чистилин, вваливаясь в разъехавшиеся двери лифта. – То же самое, только сеттинг обновим. Первая Мировая в моду входит, я бы сразу туда и целился.
Такси, оказавшееся «Волгой», в круглых очах которой рыдала тоска по утраченному лет двадцать пять назад райкомовскому эдему, ожидало его у подъезда. Чистилин уселся спереди и торопливо закурил – гнусный малиновый ликер бродил и просился наружу.
– В Орехово–Борисово, – простонал Чистилин сквозь горькие клубы табачного дыма.
Они неслись по ночным влажным улицам, и шофер, которому неназванный пока наукой орган чувств, имеющийся у всех прирожденных таксистов, проституток и официантов, уже просигналил, что с пьяненького интеллигентного рохли можно содрать даже не втри – вчетыредорога, радостно теоретизировал на разные жизненные темы. Чистилин не отвечал. Ему хотелось одиночества. А еще хотелось чего–то вроде любви, пусть даже такой убогой, как между Илоной Феликсовной и Капитаном. «Вот выпустил бы Erdos путевый симулятор мастурбации… я бы играл!» – подумал Чистилин, опуская свинцовые веки.
Новелла вторая
Февраль 2622
Планета Грозный, система Секунды
Ночь была густо–черной и сырой, как погреб с мокрицами. Даже дышать было нелегко, казалось, вот–вот придется прикладывать мышечные усилия, чтобы протолкнуть воздух в легкие. Шумное сопение рядовых Нуха и Саккара, а также музыкальное похрапывание сержанта Руза были единственными звуками, которые нарушали великую предрассветную тишину.
Додар, рядовой разведывательного батальона 2–й танковой дивизии, красы и гордости армии Великой Конкордии, встал с застеленного одеялом ящика, бережно отложил растрепанную книгу в богатом бордовом переплете, примостил сверху сундучок переводчика (голубой дисплей устройства не спешил гаснуть – а вдруг сейчас снова спросят!) и с удовольствием потянулся – хруст суставов, утробное сладкое «ох!».
Бесшумно ступая, Додар пробрался мимо спящих к термосу и нацедил себе чаю. Стиснул двумя пальцами узкое горлышко стеклянного стакана со сладким коричневым пойлом и направился к деревянной лестнице. Вела она на самый верхний, третий этаж наблюдательного поста №9, чем–то напоминающий капитанский мостик пиратской шхуны.
Там, на третьем этаже, располагалась звукоулавливающая селективная система «Аташ», к ней протягивали свои усики многочисленные удаленные микрофоны. Днем оттуда был прекрасно виден безбрежный океан джунглей планеты Грозный.
Впрочем, безбрежный океан джунглей можно было наблюдать и ночью, в ноктовизор. Но особенной охоты смотреть на лес в темное время суток у рядового Додара не возникало. Ведь некрасиво! Вместо волнующегося изумрудного бархата – серое, с неряшливыми выступами сукно, которое напоминает каменистую поверхность ненаселенной планеты, лишенной благодатной атмосферы–жизнеподательницы.
Странное дело, на Грозном в рядовом Додаре проснулось эстетическое чувство, его создателями нисколько не запланированное, почти нежелательное. Принадлежи Додар к высшей касте заотаров, прилагательное «красивый» было бы для него таким же обиходным, как существительное «честь». Но он происходил из касты демов и был произведен путем клонирования на одной из биосинтетических фабрик близ Хосрова, столицы Великой Конкордии.
В самой Конкордии фабрики эти назывались достаточно выспренно – Прибежищами Душ. Вот бежала–бежала беспризорная душа по обратной стороне мира, и прибежала на фабрику, чтобы воплотиться в отменном, никем еще не занятом теле. Совокупность же Прибежищ именовалась Лоном Родины.
Рядовой Додар был рожден синтетической маткой в Прибежище Душ имени учителя Яркаша. Поэтому–то фамилия у него была Яркаш, как и у восьмисот тысяч мужчин, произведенных там же за двадцать два года безупречной работы комбината.
«Дети Яркаша» – ласково называли их воспитатели.
Добравшись до третьего этажа, Додар уселся в кресло оператора станции радиотехнической разведки (обычно там сидел Саккар) и поставил вспотевший стакан с чаем на крышку недовольно урчащего аппаратного блока. Додар скрестил руки на груди и закрыл глаза.
Перед мысленным взором рядового встала женщина из русской книги. Душу сковала сладкая судорога.
«Larin», – прошептал Додар. Даже ее имя возбуждало в нем вожделение.
У нее было суженное книзу лицо и шоколадные глаза с пушистыми ресницами. Стараниями парикмахера роскошные каштановые волосы образовывали над ее ушами два фонтана из завернутых петлями косичек. Шея была пригожей и белой, а прелесть девичьей груди подчеркивало необычного покроя газовое платье с низким квадратным вырезом и вздутыми, как будто ватой набитыми, рукавами.
На шее у женщины серебряными червячками извивалось бриллиантовое колье (впрочем, мудреного слова «колье» рядовой Додар, словарный запас которого составлял две тысячи единиц, не знал). С белыми камнями колье перемигивались синие камни подвески.
Но самым примечательным, на взгляд Додара, была талия красавицы. Тонкая, шириной с два его кулака. У основательных женщин из касты демов талии были не такими – сильными, покрытыми теплым панцирем мускулов. Конечно, у женщин–заотаров талии были изящнее. Но чтобы настолько…
«Может, это врожденное уродство? Тогда выходит, она инвалид, как старый Охар, который работал на стадионе сторожем? Бедная…»
Такой тонкой талии Додар никогда раньше не видел, в первую минуту он даже решил, что дива принадлежит к другой, не вполне человеческой расе. Впрочем, дальнейшее знакомство с иллюстрациями убедило Додара в том, что люди на картинках хотя и диковинные, но все–таки обычные. Мужчины, женщины и дети были наряжены очень странно, по моде не поймешь каких времен. На головах у мужчин блестели черные шляпы с высокими тульями и плавно загнутыми полями, на шеях кривлялись смешные банты, а волосы на щеках росли странными курчавыми скобками. Женские юбки походили на одноместные палатки, сшитые из оконных занавесок. На ногах же у мальчика, изображенного в середине книги, были надеты не то сапоги… не то башмаки… не то ботинки, сплетенные как будто из полосок, кожаных полосок, что ли?
Собственно, из–за этих–то картинок Додар книгу и прихватил. Он пожалел ее, как жалеют потерявшегося котенка, ведь знал: с минуты на минуту Новогеоргиевская библиотека запылает вместе со всем своим небогатым фондом. Рев пожара приближался, а бороться с пламенем никто и не думал. Ведь они солдаты, а не пожарники.
Первого блока страниц в книге не оказалось: наверное, вырвал кто–то, чтобы вытереть штык–нож. А название на обтянутой выцветшей материей обложке было полустершимся, сканер переводчика его не брал. Кто автор – тоже оставалось неясным. Но интуиция подсказывала Додару, что между континентами цветных картинок лежат поэтические моря.
Лесенка заскрипела, и прямо перед Додаром возникло лицо рядового Нуха. Его черные волосы были взъерошены, а глаза привычно гноились со сна.
– Чего не разбудил? – спросил Нух гнусавым голосом.
– Да так… А что?
– Нужно было разбудить. Полчаса уже наша смена.
– Тебе же лучше, поспал… – отхлебывая чай, заметил Додар.
– Порядок должен быть.
«Порядок!» – мысленно передразнил товарища Додар. Вообще–то, если по порядку, двое должны наблюдать, а двое – отдыхать. И то, что Нух, Саккар и сержант Руз спят, а он в одиночку караулит – это уже не по порядку. Саккар должен дежурить с ним. Но сержант разрешил отступить от порядка. Ведь катать кости втроем веселей, чем вдвоем.
С недавних пор рядовой Додар в кости с товарищами не играл. Ведь у него была книга.
Разведбат 2–й танковой дивизии очутился на Грозном полтора месяца назад, вместе с Освободительной Армией Великой Конкордии. Поначалу освобождение планеты от трехголовой гидры русского гегемонизма, азиатского буддизма и европейского атеизма шло проворно. Несгибаемые солдаты Родины, среди которых был и Додар, захватили город с неудобопроизносимым названием Новогеоргиевск (между собой они звали его «Нов»), очистили от врага космодром и совершили множество других героических деяний.
Но когда окончательно окрепла уверенность в том, что победа близка, и со дня на день их погрузят на корабль и повезут в саму Москву, где будут проходить торжества по случаю низвержения безбожных Объединенных Наций, выяснилось, что 4–я танковая дивизия Объединенных Наций, состоящая сплошь из каких–то «русских», в силу упрямства, свойственного всем друджвантам, не желает признавать превосходство конкордианской веры и социального устройства. И подло прячется в джунглях, время от времени совершая оттуда лихие вылазки крошечными летучими отрядами. Когда потери от этих вылазок стали исчисляться сотнями, Народный Диван приказал войскам войти в лес и «решительно уничтожить последние очаги сопротивления на Грозном».
Войти оказалось не так сложно, но вот уничтожить противника и даже просто продвинуться дальше известного предела – не получалось никак. Разведбат, в котором служил Додар, сперва углубился в лес на несколько десятков километров, потом два дня подряд попадал в огневые мешки, потом завяз в минных полях и остановился. Командование убедилось, что к решающему наступлению надо как следует готовиться. Из метрополии запросили специальную технику, ракетно–артиллерийскую бригаду и «чудо–оружие», о котором никто ничего не знал, кроме того, что оно творит чудеса – в полном соответствии со своим названием. Для доставки всего этого требовалось время.
Танковые полки стали лагерями прямо в лесу, а выдвинутому вперед разведбату поручили боевое охранение. В цепочке постов – подобно ожерельям они окаймляли клонские лагеря – был и пост №9, где служили рядовые Додар, Нух, Саккар и сержант Руз.
Дерево, на котором располагался пост №9, было, как и его соседи, гигантским. Сто пятьдесят метров высотой, оно имело многоярусную горизонтальную крону, матовый, цвета старой ржавчины гладкий ствол и кожистые пятипалые листья – когда шел дождь, они шумно аплодировали вертким молниям.
Нижний этаж, где жили рядовые и сержант, располагался на первой развилке, на высоте около ста тридцати метров. Для сообщения с землей на посту №9 имелась тросовая подъемная система с одноместной люлькой. Так сказать, лифт.
Инженер Рамман, который его устанавливал, понравился Додару, несмотря на свою принадлежность к касте энтли, а ведь энтли, как известно каждому дему, только задаваться мастаки. Однажды после обеда инженер Рамман застал Додара наедине с книгой. Рамман внимательно перелистал ее, с интересом проглядел укрытые тончайшей папиросной бумагой картинки и нехотя возвратил. На лице инженера Додар заметил выражение одобрения.
«Хорошо иметь такого друга!» – с тоской подумал Додар. Наличные друзья – рядовые Нух и Саккар – его увлечения чтением не разделяли.
Сержант Руз, конечно, тоже.
«Вредная привычка. Отвлекает от важного!» – осуждающе говорил он.
Основной задачей поста №9 было наблюдать, не рыщут ли поблизости русские диверсанты. В случае их появления солдаты должны были поднять тревогу и дать наглецам отпор.
Диверсантов было не видать. Лишь только иногда в стеклянном серо–синем небе со словно бы приклеенными белыми облаками проносились штурмовики, наведенные пронырливыми рейдовыми группами спецназа «Скорпион» на вскрытые лагеря русских. Следом за штурмовиками тянулись пузаны–торпедоносцы. К авиации Додар относился с нежностью. Ведь в ней когда–то служил его закадычный друг Хавиз, пока не разбился во время учебного вылета. Додар всегда провожал флуггеры взглядом, исполненным чистой радости.
Там, вдалеке, сыпались на русских бомбы. Дрожала земля, чадным адским пламенем полыхали деревья. Но потом заряжал ливень (в это время года на Грозном дождило по два–три раза в день) и воцарялся цельный, как гранит, шорох струй, который Додар был готов называть «тишиной».
Тогда он принимался читать.
До чтения Додар дошел не сразу, вначале довольствовался картинками. Он смотрел на них так часто и подолгу, что однажды обнаружил, что способен с закрытыми глазами пересчитать маленькие бриллианты на подвеске красавицы со страницы 237 и лепестки ромашки, что подносит она к губам, на странице 120. Так и с ума сойти недолго!
Главное же, Додару страстно хотелось знать, как Ее зовут.
Он выпросил у сержанта Руза переводчик, который был положен тому, как командиру поста. Несколько дней провозился с настройками – сказывался недостаток опыта. Но потом все–таки приловчился понемногу читать.
Первым делом он облизал сканером подпись под портретом. «Tatiana Larina» – проступило на дисплее.
«Значит, Tatiana – это фамилия. А Larina – имя!»
Додар неописуемо обрадовался.
«Larina… Larina…» – повторял он, беззвучно шевеля полными смуглыми губами.
Поначалу он делал ударение на французский манер – на последнем слоге. Но вскоре обнаружил, что если похерить вторую гласную «а» и перенести ударение на «i», получится даже нежнее. Ведь Larin – это как Ясмин или Гарбин, почти нормальное женское имя. Додар удовлетворенно ухмыльнулся – еще одна загадка разгадана!
Боевые товарищи были начеку.
– Чего ты там лыбишься? – мрачно поинтересовался рядовой Саккар.
– Что, нельзя?
– Слышал, семнадцатый пост орхидеи сожрали?
– Вчера ж, вроде, был пятнадцатый?
– Может, и пятнадцатый…
– Так пятнадцатый или семнадцатый?
– Хрен его разберет!
– Я думал, официально сообщили.
– Да нет, слухи только…
– «Слухи есть наивреднейший инструмент деморализация солдата, психическое оружие массового поражения!» – процитировал Додар из речи адмирала Шахрави перед Народным Диваном. Незадолго до отправки на фронт они учили ее наизусть. – Вот дождемся, когда командование реальную информацию пришлет, тогда и поговорим.
– Дождешься ты, как же… – ворчал в ответ Саккар.
С недавних пор Додар физически не мог поддерживать беседы о хищных орхидеях. Да, они опасны. И, без сомнений, следует держать ухо востро, не то удушливой ночью какой–нибудь особо шустрый цветочек протянет к тебе свои чувствительные к инфракрасному излучению корни–щупальца, задушит тебя и высосет, как паук муху. Да, такие случаи бывали. И якобы неоднократно. Все это очень, очень важно. Но даже о самом важном невозможно говорить три часа каждый день!
Последние слова Додар был готов проорать дурным надсадным голосом. Когда его товарищи принимались привычно дивиться проделкам людоедских растений, Додару казалось, что Larin из книжки смотрит на него укоризненно.
Итак, Саккар ушел обиженным. Ведь орхидеи – это только повод поболтать. Теперь они втроем – Саккар, Нух и сержант – будут шептаться, что Додар зазнался.
Только Додару было все равно. Он поразительно легко переносил свою растущую отчужденность от товарищей. Ведь теперь он был не одинок.
Помимо происков хищных орхидей, чьи оборчатые расхристанные туши они с упоением счищали со ствола и ветвей в качестве утренней гимнастики, в дежурных ходили еще две темы.
Первая: когда наконец пришлют обещанное чудо–оружие, которое выкурит русских из джунглей? И вторая: когда же все–таки их отправят в Москву, где каждый боец сможет помочиться на небоскребы Красной Площади?
Шли недели, с Москвой ясности не прибавлялось. Но чудо–оружие действительно прибыло. Им оказался… вольтурнианский всеяд. Тварь отвратительная, да вдобавок еще и «акселерированная», с улучшенной управляемостью и способностью соображать.
В вивариях на планете Вольтурн этих зверьков наплодили в числе, близком к апокалиптическому. Благо размножались всеяды четыре раза в год, а ели, в полном согласии со своим названием, даже помои и просроченные ядохимикаты. Предполагалось, что шустрые и злобные вольтурнианские всеяды, способные плеваться кислотой, кусаться и отравлять воздух неописуемой вонью, быстро наводнят леса Грозного и сделают жизнь русских партизан невыносимой.
О том, насколько сильно отравлена жизнь русских, обитателям поста №9 судить было сложно. С собственной же ясность была полной – отстрел всеядов стал для них такой же рутиной, как и очистка радиуса безопасности от орхидей.
Поначалу сержант Руз не решался отдать приказ на истребление безголовых, отталкивающего вида тварей. Ведь все–таки казенное добро. Но после того, как рядовому Саккару плевок всеяда прожег голень до самого сустава, сержант переменил мнение. По «чудо–оружию» стреляли одиночными из автоматов, и даже, случалось, из пулеметов, которыми были оборудованы стрелковые площадки первого этажа. Азартно, с озорными прибаутками наблюдали за тем, как пули разносят в клочья многоногие тушки. Между соседними постами установилось даже нечто вроде состязания, кто сколько завалит.
– Исчадия Ангра–Манью, – шипел Додар, выцеливая тварей в малахитовой шапке соседнего дерева.
– Патроны береги, – ворчал сержант.
– Дети грязи, вот я вас сейчас…
Несколько последних дней тема детей интересовала Додара весьма живо. Началось, как обычно, с книги.
На одной из картинок была изображена Larin, передающая письмо круглолицему мальчику лет семи. Додару вдруг подумалось, что мальчик этот – сын Larin, уж больно ласково касалась она рукой его белокурой головки. Из того факта, что у совсем молодой Larin есть сын, следовало, что она принадлежит к касте пехлеванов, а может, и заотаров, каковые, в отличие от демов и энтли, обладали безусловным репродуктивным правом с 15 лет. Между прочим, это означало, что у Larin должен быть и муж! Выходит, хилый, с дегенеративным лицом и нелепо зачесанными на лоб волосами мужчина, который встречается на большей половине иллюстраций, и есть этот самый муж!
Поначалу Додар опечалился. Он хотел для своей Larin лучшей судьбы. Но потом решил, что раз Larin нравится хилый Evgeni, значит, лучше ей быть с ним.
Несмотря на суровость воспитания, рядовой Додар был добрым человеком.
Фантазировать было гораздо интересней, чем читать. Тем более что переводчик плохо брал текст. То и дело умная машинка требовала подключить какую–то загадочную «энциклопедию», но где ее достать, Додар понятия не имел, спрашивать же у сержанта стеснялся.
Когда очередная попытка продраться сквозь стихотворный бурелом оканчивалась фиаско, Додар откладывал книгу и размышлял. Что же это получается, если действие происходит в прошлом, может, даже в прошлом веке, значит, среди тех русских, которых штурмовики поливают зажигательной росой, могут быть и внуки Larin? «Значит, с ними мы и воюем?»
В этой связи мысль о плене перестала казаться Додару кощунством. Еще на родной планете Вэртрагна Додар вместе со своим закадычным товарищем Хавизом поклялся у чаши Священного Огня перекусить себе язык, если судьба распорядится так, что они окажутся безоружными перед лицом врага. Но теперь эта клятва уже не казалась Додару нерушимой. Ведь тогда он представлял себе врага иначе… Как? Ну, как ракообразного чоруга… Как отталкивающего вида робота… Да мало ли как? В конце концов, можно сначала сдаться, а уже потом перекусить себе язык. Додару мучительно хотелось удостовериться, правда ли, что у русских женщин такие тонкие талии. А ведь русские, должно быть, не так злонравны, как другие племена Объединенных Наций. В книге они все время вспоминают Творца Всего Сущего Ахура–Мазду (так переводчик транслировал слово «Bog»). И потом, если их взрастили такие матери, как Larin, они просто не могут быть нравственно безнадежными, наверняка Народный Диван смог бы их перевоспитать! В общем, вариант с самоубийством Додар оставлял теперь на самый крайний случай.
Думал Додар и о том, как восприняла бы Larin его ухаживания. Уже проваливаясь в сон, он видел себя и Larin в Центральном Хосровском парке, возле знаменитой статуи «Девушка с ловчим соколом». В унизанных кольцами руках Larin букет чайных роз, приторно–желтых, огненно–оранжевых, их колючие стебли спеленуты белой салфеткой с кружевной каймой… Додар не сомневался, Larin согласилась бы пойти с ним в парк. Вот они на Аллее Ткачей. Он останавливает тщедушного разносчика, чтобы купить Larin сладостей и имбирной воды. Дает продавцу щедрые чаевые, тот громко благословляет Додара и весь его род. Larin смеется, проходящие мимо мужчины смотрят на него, Додара, завистливо и ревниво…
Словом, Додар был уверен, что понравился бы Larin. А потом у них появились бы дети. Конечно, пока у него нет репродуктивного права, но к моменту знакомства с Larin он совершил бы какой–нибудь подвиг, например, задушил вражеского генерала. За это Народный Диван наградил бы его правом отцовства, ведь Народный Диван – он щедрый и мудрый. Они с Larin жили бы долго и счастливо в двухкомнатной квартире на бульваре имени Правды.
Волшебным образом Larin существовала для Додара сразу во всех временах – и в экзотическом русском прошлом, и в лесном настоящем, и в светлом будущем.
«Seriya «Shkolnaya Biblioteka“ – отпечатано на предпоследней странице.
Прочтя эти строки, Додар очень обрадовался. Ведь он знал – «школами» называются заведения, где учатся заотары. Стало быть, изучая книгу, он приобщается к истинам, что познают на недосягаемых кастовых высотах русские мужчины с худыми одухотворенными лицами и их верные кареглазые женщины. Додар обратил лицо к небу и молитвенно сложил ладони.
– Связи опять нет… – проворчал за спиной Додара сержант.
– И что? – неохотно отозвался Додар.
– Всю ночь на востоке бомбили… Слышал?
– Да нет, спал.
– Предчувствие у меня…
– Насчет дождя?
– Да при чем тут! Русские совсем близко!
– А… Появятся – тогда и поглядим! – многозначительно похлопывая по прикладу своего автомата «Баал», отвечал Додар. Он собрал в этих словах всю свою тяжелую мужскую харизму. Он старательно нахмурился и сжал кулаки. Из военно–патриотических фильмов Додар знал – именно так должен реагировать боец на сообщение о приближении врага.
На самом же деле дурные предчувствия сержанта Руза Додара скорее обрадовали. Он так много узнал о русских из книги, что их появления уже в каком–то смысле желал. И не важно, что с ними придется вступить в бой. Главное, они наконец–то встретятся, пусть и в качестве сотрапезников на роковом пиру смерти.
Гроза, долгих два часа ворочавшая исполинскими медными тазами за ширмами серых туч, закончилась, как всегда, внезапно. Джунгли погрузилась в привычное предрассветное оцепенение.
Едва не оглохшие от небесного концерта сержант Руз, Саккар и Нух уже минут двадцать как встали. Саккар брился, по–гусиному вытягивая шею в сторону зеркальца, Нух заливал крутым кипятком сухой брикет крученой лапши, сержант насвистывал гимн 2–й танковой, сидя в туалете.
Додар позевывал в кресле Саккара. Его смена кончилась, можно идти спать. Настроение было превосходным. За ночь он узнал много нового о сестре Larin. Она тоже была красавицей, хотя и не во вкусе Додара.
Он бережно укладывал книгу в пластиковый пакет, когда внизу захрипел громкоговоритель. Додар вздрогнул всем телом. Очень уж неожиданно. Осторожно глянул вниз. Там, в сумеречных лесных низинах, среди клубов холодного тумана отчетливо оконтуривалась… броня вражеского танка. И когда только они успели подобраться? А впрочем, в небе громыхало так, что неудивительно.
Стараясь не делать резких движений, чтобы не привлекать к себе внимания, Додар активировал переводчик – он все еще лежал у него на коленях – и настроил его на голосовой режим.
– Додар, ты слышал? – проорал из сортира сержант Руз.
– Слышал.
– Что они говорят, Додар?
– Они говорят, чтобы мы сдавались.
– Кто это – они?
– Да эти… Дети…
– Дети?
– Дети Evgeni и Larin… – отвечал Додар с рассеянной улыбкой.
– Не понял! Повтори!
– Русские.
– Русские?!
– Да.
– Чтобы мы сдавались?
– Да! У них танки… Говорят, численное превосходство…
– Никогда!
С первого этажа застрочил пулемет. Со второго полетела ручная граната. В ответ тяжело ухнуло дважды. Нужник и вместе с ним половина второго этажа рухнули вниз. От третьего откололся шестиугольник с тяжеленным кубом звукоулавливающей системы.
Когда дым рассеялся, Додар принялся искать свой облегченный «Баал», но нашел только разводной ключ. Оно и не удивительно – несколько минут назад он положил автомат на крышку сгинувшего «Аташа». Пистолет же рядовым был не положен. Додару ничего не оставалось, как прижать книгу к груди и закрыть глаза. Запели в листве шустрые пули, застучали рикошеты. Запахло кровью и ацетоном.
А через минуту все стихло.
Вновь раздался тот же зычный голос.
Додар осторожно привстал с кресла оператора и посмотрел вниз. На перилах ограждения второго этажа, лицом вниз, повис рядовой Нух, прошитый не менее чем дюжиной пуль. Сержанта Руза видно не было – он лежал на земле, на груде досок, в противоестественной позе человека, чей позвоночник сломан сразу в нескольких местах. Истошный крик рядового Саккара Додар слышал еще до того, как рухнул нужник. И по тому, как внезапно он оборвался…
– «Ne spitsya, nyanya, zdes’ tak dushno… – во всю глотку прокричал Додар и сразу вслед за этим вспомнил еще, – Bogat, horosh soboyu Lensky vezde bil prinyat kak zhenih!».
Додар положил переводчик в нагрудный карман. Заткнул за пояс книгу. И, подняв руки в интернациональном жесте примирения с судьбой, ступил в пластиковую люльку лифта.
Четыре пилота
Когда вылетали, был вечер по универсальному времени и утро на орбите. Над Киртой, космодромом назначения, входила в силу ночь.
Взвизгнула катапульта.
Перегрузка в шесть «же» волнующе ударила в голову и быстро отпустила. Волна крови прошлась по рукам и ногам, упруго отозвалась печень, мгновенно поднялось настроение.
К положительным перегрузкам Тихон относился положительно.
Краем глаза он успел схватить искристую вспышку – это иней и пыль, которые авианосец выплюнул вместе с его «Орланом», заиграли в лучах местного солнца.
Солнце звалось Асклепием.
Вслед за выходом из катапультного порта последовали семь мгновений невесомости. Затем орбитальные двигатели дали отводной импульс. Авианосец в камерах заднего вида испуганно отпрыгнул назад.
– Доклад, – потребовал капитан–лейтенант Саржев, командир их пилотажной группы и заодно комэск–3.
Машина комэска шла впереди по курсу, справа. Еще два «Орлана» отирались где–то за кормой. Об их успешном старте можно было судить по зеленым иконкам на тактическом экране.
Первым доложился Тихон:
– Здесь борт три–семь. Все в норме, товарищ капитан–лейтенант.
В строевую эскадрилью он попал меньше месяца назад и к рутинной механике радиообмена относился бережно.
– Три–два, норма.
– Три–три, иду плавно.
– Рад за всех. Поставить автоматику на отработку навигационной задачи, – приказал Саржев.
Включили автопилоты, снова доложились.
С этого момента и до перехода на горизонталь в районе космодрома назначения можно было курить. Автопилот везет!
Курить, впрочем, запрещалось. Впереди простирался битый час ничегонеделанья.
– Так вот история, – сказал Ниткин. – Если командир разрешает, конечно.
– Исполняй, – соблаговолил Саржев.
Историю свою Ниткин начал на борту авианосца. И он не был бы Ниткиным, если бы не нашел для этого самое неподходящее время и самое неудобное место: в ангаре, за полминуты до подачи на катапульты.
Истории Ниткина подчинялись строгому драматическому канону, которому позавидовал бы и Аристотель.
В экспозиции присутствовали лирический герой (Ниткин), девушка и некий барьер, препятствующий взаимному и бурному проявлению чувств. Чаще всего барьером служили прилавок магазина, кассовая выгородка или барная стойка. Но случались и экзотические коллизии: например, рухнувший истребитель. (Ниткин, в отличие от Тихона, воевал.)
Главным элементом завязки служили взгляды, которыми обменялись герой и героиня. Затем следовало стремительное развитие сюжета: ловкая острота, благосклонное девушкино мяуканье, борьба с трудностями, преодоление препятствий, хитроумное уклонение от патрулей во время комендантского часа… Карабканье по лозам декоративного винограда на восьмой этаж общежития… Прыжки в ласточкино гнездо диспетчерской под городским куполом при помощи импровизированного реактивного ранца из двух огнетушителей – благо, на Луне такое возможно; гипотетически.
А один раз Ниткин – или, точнее сказать, его лирический герой – оставил кабину своего пассажирского флуггера на второго пилота и полетел через открытый космос к воздушному шлюзу орбитальной гостиницы, где дожидалась его очередная ненаглядная.
Кульминация у произведений ниткинского разговорного жанра была катастрофическая. Виноградная лоза лопалась. В огнетушителях заканчивалась смесь. В системе охлаждения скафандра открывались течи.
Благодаря находчивости и сметке герою удавалось спасти свою драгоценную жизнь и даже не покалечиться, но вот соединение сердец каждый раз срывалось. Так что мораль у ниткинских историй выходила неожиданная. Получалось, что все его истории – это само христианское «не прелюбодействуй» в химически чистом виде…
Однако, в тот вечер история выбилась из канона, как истребитель «Орлан» – из техзадания Генштаба.
Когда они надевали летные гермокостюмы (в военное время ими стали бы боевые скафандры «Гранит–2», но сейчас ограничились легкими «Саламандрами» жизнерадостного желтого цвета), Ниткин спросил:
– Кстати, мужики, а знаете, как называется праздник?
– День Колонии, – Пейпер пожал плечами; дескать, «ты бы еще про дважды два спросил».
– А на самом деле? – уточнил Ниткин.
– Что значит «на самом деле»?
– На самом деле – День Мутанта.
– Чего–о?
– Там целая история. Махаон заносили в Реестр очень давно, по упрощенной процедуре. Недообследовали планету наши ученые в погонах, недоглядели. Прислали сюда колонистов, они тут поселились, начали города строить, рожь с кукурузой сеять. Тритий вырабатывать, литий… Влюбляться, жениться. Дети пошли… Местного разлива, так сказать. Лет через двадцать–тридцать у детей тоже дети образовались…
«Пилотажной группе готовность номер два», – объявил офицер–диспетчер.
– Кончай трепаться. Присядем на дорожку, – и Саржев первым подал пример, опустившись на массивный стопорный башмак под носовым шасси своего «Орлана».
Ниткин попал на флот из–за войны, по мобилизации. До этого он десять лет отлетал пилотом пассажирского флуггера на линиях Солнечной системы. Имел благодарности, пользовался авторитетом в коллективе. Но после очередной своей истории с неуловимой моралью был все–таки выпорот на общем собрании летного отряда и переведен на Екатерину, где получил малопрестижную должность орбитального перевозчика.
Там, на Екатерине, его застала война.
Ниткину повезло ускользнуть из–под клонского десанта, попасть на борт последнего транспорта и вернуться на Землю. Потом – Подольская летная школа (специальность – пилот–штурмовик), звездочки лейтенанта, два месяца войны, «Отвага» за Паркиду…
Под ожидаемое сокращение летного состава после войны Ниткин не попал. Хотя Конкордия подняла лапки кверху, о сокращении поговорили–поговорили да и забыли. А когда в штурмовом полку Ниткина провели конкурс на лучший пилотаж, он неожиданно показал звездные результаты, легко перефигуряв всех сослуживцев, включая комполка.
За это Ниткину предложили перевод в истребители.
Пилотирование истребителя считалось в ВКС, конечно, работой очень престижной, но всё же – с некоторыми оговорками. Скажем, пилотам–штурмовикам платили больше, наградные листы на них составляли охотнее и, в конечном итоге, их рост по служебной лестнице шел быстрее.
И все–таки Ниткин согласился.
Почему? Да потому что «на гражданке» в таких нюансах никто не разбирался и ни о каких штурмовиках слышать не хотел. Военный пилот непременно летает на истребителе с красивой, агрессивной эмблемой. Под носовым обтекателем его боевой машины – распахнутая акулья пасть. Полфюзеляжа залеплено звездочками – по одной за каждого сбитого супостата. Вот это пилот! Ну а Ниткину только того и надо было.
Подводя итог, Ниткина можно было охарактеризовать так: личность, полностью поглощенная своей личностью.
Тихон подумал, что лучше бы Ниткин снова про полет к девчонкам на воздушном шаре рассказал. А он вместо этого – «День Мутанта»… Как бы чего не вышло.
– И вот когда у колонистов на Махаоне пошли внуки, – продолжил Ниткин, – обнаружилась напасть. У каждого второго новорожденного – два сердца. Одно сердце слева, где обычно. А другое – симметрично ему справа.
– Так ты про антроподевиантов, – безразличию Пейпера не было предела. – Про них все знают.
– И что же ты про них знаешь? А, Ваня? – ядовито осведомился Ниткин.
Пейпер носил имя Иоганн, но Ниткин всегда звал его на русский манер.
– Что они существуют. У них два сердца. И, кстати, живут они очень–очень долго. Еще знаю, что адмирал Канатчиков родом с Махаона. И он тоже антроподевиант.
– А еще?
– По–моему, достаточно.
– Ага. «Достаточно»… «Живут долго»… Это они теперь, Ваня, живут долго. А тогда мерли, как мухи. Поэтому ты бы лучше слушал старшего товарища и не того. Не особо тут.
– Давай ближе к делу, Ниткин, – попросил Саржев. – Нам в атмосферу скоро входить. Мусор в эфире во время этой ответственной операции я не потерплю.
– А пусть он не перебивает.
– Старший лейтенант Ниткин, приказываю продолжать рассказ!
– Есть!.. Так вот, образовалась у них проблема. Серьезная–пресерьезная. Потому как дитё, у которого два сердца, жить не хочет. Там внутренний конфликт в нервной системе выходит. И получилось, что колонисты на Махаоне не могут нормально размножаться. Любая пичуга махаонская – может, любая мышь завозная – может, а они – нет. Обидно!
– А я вроде читал, что были случаи на Земле, когда люди с двумя сердцами рождались, – вставил Тихон. – Давно еще. Тысячу лет назад! И жили ведь как–то.
Ниткин шумно вздохнул.
– Не знаю, где ты это читал. Но только на Махаоне всё было именно так, как я рассказываю… Взрослые вы люди и сами понимать должны, что возникло много вопросов. Как научного, так и организационного свойства. Научные вопросы все были «как?», «почему?» и «что делать?», а организационные – «кто виноват?», «кого сажать?» и «на сколько?». С оргвопросами кое–как разобрались, а с научными… Стала наша медицина думать как победить слепые силы природы. И, между прочим, думала двадцать лет. А пока она думала, колония Махаон успела поднакрыться медным тазом. В социальном и астрополитическом смысле. Кирта, говорят, стала похожа на Чикаго двадцать второго века – ряды брошенных домов и одинокая милицейская машина перед горсоветом. И уже почти–почти Совет Директоров подписал указ о ликвидации колонии как постоянного человеческого поселения… Когда некто Зиновий Щербат, уроженец, между прочим, Махаона, но в первом, немутантном поколении, наконец завершил возню в своей лаборатории с генетическими цепочками и математическими моделями. И была у него супруга, Софья Щербат–Растова. К слову сказать, сестра одного из прапрапрапрадедушек Председателя Растова. Но последнее, впрочем, никак к нашей истории не относится. И вот… Пошли Зиновий и Софья на научный подвиг и зачали ребенка. Безо всякого искусственного оплодотворения, самым прямым и естественным образом. Так сказать, во имя науки и человечества.
– Мораль давай, – потребовал комэск. – Атмосфера уже на носу.
– А какая тут мораль? Смех один! Делают они ребенка – рождается нормальный. С одним сердцем. Делают второго – снова нормальный. Ищут добровольцев – добровольцев нет. В общем, только четвертый отпрыск этих самых Щербатов получился правильный… То есть с точки зрения научного эксперимента правильный, а так – антроподевиант. О двух сердцах. И вот на нем Зиновий Щербат свою методику опробовал – и всё получилось! Мальчик выжил. И вообще, оказался очень здоровым. Назвали, кстати, Махаоном. В честь родной планеты и одноименного мифологического персонажа, который тоже был сыном врача. И сам врачом стал, кстати.
– Махаон Щербат, – произнес Пейпер, как бы пробуя имя–фамилию на вкус.
Тихон с Саржевым хихикнули.
– Ну и Махаон, ну и Щербат. Ничего смешного. День Мутанта, короче, отмечают в день его рождения. А методика, которую изобрел его отец, была потом стандартизована. Выживаемость антроподевиантов стала почти стопроцентной. И на Махаоне снова все закрутилось–понеслось, потому что колонисты уже ничего не боялись.
– Что же там за методика, а?
– Ну не методика… Генно–нейронная технология, если точно. Щербат придумал как при помощи специальных, полезных таких вирусов перепрограммировать нервную систему антроподевианта. Таким образом, чтобы организм воспринимал оба сердца как родные.
– Наука сия зело генна и вирусна есмь, – подделываясь под старообразного муромца, заключил Саржев. – Закрываем радиовахту, товарищи, атмосфера пошла.
* * *
Гашение скорости в атмосфере прошло нормально, но на эшелоне двенадцать тысяч местная весна показала норов.
Их группа в пологом пикировании как раз проходила утренний сегмент терминатора, направляясь на ночную сторону планеты. Асклепий по подбородок ушел в курящуюся недобрыми рыжими хвостами облачную квашню.
– Внимание, турбулентность, – почти хором предупредили Ниткин и Саржев.
Через секунду уже невооруженным глазом стало видно, что хвосты над облаками колышутся, как водоросли на дне беспокойной речуги.
Удар по днищу – будто огромной влажной тряпкой.
Всполошились цифры на указателе угла пикирования.
Да, турбулентность.
– Оставаться на автопилоте! Строго!
Тихону уже доставало опыта, чтобы понимать, что этот приказ адресован в первую очередь ему, ведь Саржев знает: именно опыта Тихону и недостает. Если его «Орлан» сейчас круто заштопорит, только кристальное сознание автопилота сможет вытянуть машину на горизонталь.
Сам Саржев сделает это играючи и вручную. Почти наверняка из любого положения выведет свою машину Ниткин. Скорее всего и достаточно опытный лейтенант Пейпер тоже. А вот относительно Тихона уверенности нет. И не только у Саржева, но и у самого Тихона.
Автопилот, как и ожидалось, в своей спонтанности, непредсказуемости и безупречности мог бы соперничать с лучшими мастерами старорусской борьбы «самбо». А потому автопилот поначалу поддался враждебному натиску. Он не ринулся без оглядки в схватку с аэродинамическими силами, но временно вверил «Орлан» под их начало.
Потворствуя стихии, флуггер вошел в пологий плоский штопор.
С глухим хлопком на бронестекло фонаря навалилась глухая мгла – машина ввинтилась в облака. Мир почернел решительно и бесповоротно.
– Вдобавок еще и гроза… – пробормотал кто–то в наушниках.
Автопилот больше не желал довольствоваться скоростью пикирования в какие–то жалкие двести метров в секунду. Он рывком поднял тягу двигателей.
Тихон непроизвольно охнул. Отрицательные перегрузки он, как и любой нормальный человек, ненавидел.
– Три–семь, что там?
– Норма… товарищ капитан… лейтенант.
– Автопилот ведет?
– Несет.
– Молодца. Доложишь, когда будешь на горизонтали.
– Так точно.
Когда скорость поднялась до трехсот, автопилот на очередном витке штопора поймал момент оптимального распределения сил с учетом направления ветра. Присвистнули газодинамические рули и одновременно с ними, хорошенько встряхнув флуггер, включились маневровые дюзы. Яркая вспышка подсветила изнутри тучевую трясину, которая привиделась Тихону жирной и комковатой, как чернозем.
Разомкнув кружение смертного вальса в размашистую дугу, «Орлан» некоторое время продолжал снижение. Они (Тихон именно так думал – «они»: он, «Орлан», автопилот; их трое) нащупывали нижнюю кромку облаков, которую метеосводка из Кирты обещала довольно высоко, на полутора километрах.
То, что они уже пробили облачность и перешли в горизонтальный полет, Тихон понял только по показаниям приборов, с заметным запозданием. По ощущениям, «Орлан» двигался вверх и притом с креном на правый борт. Это был типичный вестибулярный фантом, ничего страшного. Но Тихону стало обидно: их ежедневно потчуют сеноксом и прочими снадобьями ценой в среднюю медсестринскую зарплату, а в конечном итоге тело всё равно из раза в раз обманывается.
– Здесь три–семь, иду один двести, строго по горизонту.
После того как Саржев справился о делах у Ниткина и Пейпера, а затем, не дождавшись второго ответа, десятикратно повторил запрос в адрес Пейпера, стало ясно, что лейтенант исчез. По крайней мере, из эфира.
Вот так: вошли в облачность четыре борта, а вышли – три.
Наклевывалось ЧП. И притом серьезное.
Тихон попробовал вспомнить, что на этот счет гласят инструкции о групповых полетах. Не вспоминалось ничего.
Но Саржев был на то и комэск, чтобы знать и помнить побольше Тихона. Он приказал стать на круг ожидания и включить боевые радары.
Затем командир связался с авианосцем и Киртой. По правилам, их группу должны были вести. Соответственно, не одно так другое всевидящее око здешней противокосмической обороны сопровождало флуггер Пейпера – и могло точно указать место куда он упал; не дай бог, конечно.
Треть часа Тихон провел на нервах. Остервенело переключал режимы радара, пробовал докричаться до флуггера Пейпера через запросчик «свой–чужой», нащупать его обломки на земле инфракрасными сенсорами.
Без толку.
Ему было очень неуютно. С одной стороны, Пейпера уже могло не быть в живых. Сорвался в штопор, психанул, взял управление на себя, попробовал вывести машину вручную, где–то ошибся и… вошел в землю на сверхзвуке. А учитывая сколько здесь, под ними, рек, озер и болот… Можно и обломков–то никогда не найти. Эхе–хе.
С другой стороны, «есть варианты». Например: сорвался в штопор, психанул, взял управление на себя, попробовал вывести машину вручную… понял, что черта с два… катапультировался… нормально парашютировал до земли (нормально? с таким–то ветром?)… а теперь сидит на кочке, вполголоса матерится, курит, заслонив огонек сигареты от дождя… впрочем, он не курит. Да и насчет кочки вопросы – учитывая сколько здесь рек, озер и болот…
Но не от этого было Тихону неуютно. А от того, что до Кирты еще под тысячу кэмэ, это значит если без фанатизма – минут сорок лету, а сказать «погода дрянь» значит ничего не сказать. И что себе вообще думали флотские метеорологи, которые давали разрешение на вылет? А главное, кто утверждал маршрут снижения прямо через грозовой фронт?
Кто–кто… Кавторанг Жуков, замкомкрыла по летной подготовке.
– Здесь Саржев. Есть контакт с Пейпером. Его запрос о помощи принят одним из наземных узлов связи. Триста километров от нас на восток. С ним все в порядке, катапультировался, сидит на кочке, курит, ждет спасателей.
– Ну его и занесло, – вздохнул Ниткин.
– Пейпер не курит, – не удержался Тихон.
– Но это еще не все, братцы, – продолжил капитан–лейненант. – Погода над Киртой резко портится. Окно над космодромом закроется минут через сорок – сорок пять. Я принял решение поднажать. Рванем туда на двух с половиной «эм». Так – успеем. Иначе придется идти на запасной. Это далеко. И погода там тоже не ахти.
– Разрешите вопрос?
– Ну.
– Неужели мы в Кирте можем не сесть? Мы. В Кирте. А, командир?
Ниткин, конечно, намекал на то, что «Орлан», с его великолепными посадочными характеристиками, и Кирта, с ее первоклассным космодромом, были созданы друг для друга. Представить себе ненастье, при котором Кирта закроется на прием, было… было за пределами воображения опытного пилота.
– Предлагаю смотреть на вещи по мере их овеществления, – ушел от ответа Саржев.
* * *
Кирта их не приняла.
Над космодромом ярился шквал. Ливень зарядил такой, что земля, которая в окрестностях Кирты на мгновение выдала себя ниточкой огней вдоль шоссе, сразу же исчезла.
Конечно, привести вслепую флуггер на посадку можно было. Да он и сам пришел бы – для автопилота подобная задача не составляла труда. Но: сцепление колес с полосой в такую погоду было никудышным. При сильных порывах бокового ветра (а порывы были и еще какие) даже «Орлан» в точке касания мог закапризничать. Закозлить, перевалиться со стойки на стойку, зачерпнуть консолью полосу…
Убиться может и не убьешься, но машину угробишь запросто.
– А кому оно надо? – рассудил Саржев. – Можно подумать война.
Не война, это точно. В войну садились и не на такое. Тихону, конечно, не довелось, но наслушался бывалых и учебных фильмов насмотрелся…
– Идем на запасной.
– А может лучше обратно на орбиту? – предложил Тихон. – Там–то погода всегда летная.
– Обратно на орбиту нам уже топлива не хватит, извини… – Ответ Ниткина прозвучал вызывающе–весело и по этому признаку Тихон безошибочно определил, что дела действительно плохи.
Он хотел было уточнить насчет топлива, но бросил взгляд на приборы, прикинул, что они далековато от экватора (где первая космическая чуть–чуть меньше, но этого «чуть» им, пожалуй, сейчас и не хватает для бегства на самую низкую, плохонькую орбиту) и промолчал.
Запасных космодромов было два. У одного полоса была подлиннее, но ветер на маршруте обещал быть встречным, что означало лишний расход топлива. Пришлось выбирать вариант похуже, какую–то дыру с названием Нерская Губа, с короткой полосой и пометой на карте возле названия населенного пункта нежил ., то есть «нежилой».
Саржев связался с Киртой, запросив разъяснений.
– Они на карте еще законсервир . забыли написать, – сказал он через минуту. – Есть там полоса и приводные маяки, сесть можно. Но космодром выведен из регулярной эксплуатации.
– И что из этого следует? – с обстоятельностью литературного героя полюбопытствовал Ниткин.
– Отставить следует, – проворчал капитан–лейтенант. И, посуровев, сказал:
– Группа, слушай приказ…
* * *
Персонал законсервированного космодрома ВКС «Нерская Губа» состоял из восьми человек. В их распоряжении имелись шестнадцать машин: буксировщики, топливозаправщики, оружейные транспортеры, один снегоуборщик и один трофейный клонский вездеход для познавательно–увеселительных поездок в тундру.
Таким образом, ровно по две машины на человека.
– Механизация двести процентов, – Ниткин одобрительно постучал по колесу оружейного погрузчика носком гермоботинка.
На погрузчике их приехал встречать комендант, некто капитан Маканьковский.
Казалось бы, рутинный перелет… Казалось бы, Тихон по сути ничего не делал, никаких решений не принимал… Но он так вымотался, что почти не воспринимал окружающий мир.
Путь от «Орлана» до столовой Тихон провел в полудреме.
Повар космодрома встретил их как родных: обогрел, накормил и чаем напоил.
После ужина милейший Маканьковский предложил «пропустить по сорок капель», но комэск, игнорируя умоляющий взгляд Ниткина, отбоярился:
– Спасибо за предложение. Но я должен провести инструктаж. А потом будем спать, наверное. Сильно из графика выбились…
– Тогда, может, молочка горячего, с имбирем? – Маканьковский из кожи вон лез, хотел быть полезен родным ВКС. – У нас на складе целые залежи, никто не пьет.
Насчет молочка – одобрили.
Маканьковский ушел.
Саржев обвел тяжелым взглядом присутствующих.
Точнее, он попытался изобразить «тяжелый взгляд», но, на самом деле, его незлое лицо было чуть обиженным и очень усталым. Обижался он на глупого Пейпера, а устал от всего вместе.
– Значит так. ЧП с Пейпером это ЧП с Пейпером. А праздник это праздник. Из–за того, что Пейпер слез с автопилота когда не просили и угробил свою машину, праздник никто отменять не собирается. Новый «Орлан» перегонят с авианосца в Кирту как только позволят метеоусловия. Поэтому завтра нам все равно надо отлетать программу. И притом отлетать на «отлично». Давайте еще раз пройдем по всем пунктам… Слово предоставляется младшим товарищам. Доложи–ка нам, Тихон.
– Праздник состоит из двух частей. Первая часть атмосферная, вторая – космическая. Мы начинаем над Киртой в девять тридцать пять. Крутим каскад фигур высшего пилотажа. В конце каскада ставим «свечу», набираем высоту и выходим на параболическую орбиту. Вторую космическую мы должны иметь в десять ноль три. К этому времени Эфиальт будет в ракурсе, обеспечивающем оптимальное решение задачи встречи. Таким образом, зоны низких эллиптических орбит Эфиальта мы должны достичь уже в двенадцать двадцать одну. После чего мы производим окончательное торможение, снижение и переход в горизонтальный полет над дневной стороной спутника. Берем курс на плато криовулканов, которое называется… Называется… – Тихон начал краснеть. Больше недели, понукаемый Саржевым, зубрил он эту показушную программу! И все равно!
– Да неважно как, – успокоил его капитан–лейтенант. – Как оно по астрографии – в туристическом буклете написано. А на летных картах плато – это три номерных квадрата сетки. Автопилот везет, прочее – детали… Ну, валяй дальше, Тихон. Что там, над криовулканами–то?
– Там у нас запланирован показательный бой с шестеркой «Горынычей» модификации ПР. Это перехватчики из Махаонского Крепостного полка ПКО. Местные, значит. Мы изображаем «синих», то есть коварного условного противника. «Горынычи» – «зеленые», то есть благородные условные наши. Мы обнаруживаем их первыми и подкрадываемся на предельно малых, используя фон местности и маскировочные свойства ледовых вулканов…
Заслышав о предельно малых высотах и вулканах, Ниткин мрачно улыбнулся, но, в ответ на вопросительный взгляд Саржева, только махнул рукой. Дескать, ничего по существу.
– А какие у них маскировочные свойства, кстати? И что это вообще такое? – спросил Саржев, обращаясь к Ниткину.
Бывалый космический волк относился к инструктажу без пиетета. Поэтому ответил капитан–лейтенанту не как командиру, а как умненькому, но тем и докучливому ребенку.
– Криовулкан это тот же гейзер. Ну, фонтан воды, который бьет под давлением из дырки в земле. Однако, поскольку действие происходит на небесном теле с очень слабой гравитацией, этот фонтан поднимается на огромную высоту. Также, из–за особых условий, а эти условия называются «жуткая холодина», вода успевает замерзнуть прямо на лету. Откуда и маскировка.
Ниткин замолчал. Похоже, счел свой ответ исчерпывающим.
– Так откуда же? – переспросил Саржев.
– Оттуда, что из земли торчит такая сосулька высотой километров пять. А то и все пятьдесят. И ширины соответствующей. Это уже от тяготения планетки зависит и прочей физики. На Энцеладе вот, возле Сатурна, бывает и шестьдесят километров, и выше. А на Эфиальте, где мы завтра летать будем, от трех до пятнадцати.
Ниткин снова замолчал.
– Да что я все должен из тебя клещами тянуть?! – Саржев вспылил. – Докладывай, старший лейтенант, как положено! Про маскировочные свойства!
– Виноват, товарищ капитан–лейтенант, но десять раз уже все это жевали… Летит толстый столб воды в космос, летят брызги, разные твердые фракции. Песок, вулканический туф, соли, окислы металлов… Одним словом, непрозрачные для средств обнаружения субстанции, если говорить с точки зрения тактических свойств, – уточнил Ниткин с нескрываемым ехидством. – Из столба воды, как я уже сказал, получается сосулька высотой с Эверест. Если таких сосулек много, они сами по себе неплохо затеняют флуггер от средств наблюдения. Также случается, что тучи замерзших брызг образуют гигантские завесы, которые оседают очень медленно из–за низкой гравитации. В общем, если грамотно маневрировать, то под прикрытием криовулканов можно подойти к целям довольно близко, оставаясь незамеченным. После чего внезапно атаковать и сбить к чертовой матери!
– Вот. Это по существу. Спасибо за доклад, старший лейтенант. А теперь…
– И вот там, на плато ледовых вулканов, могло бы начаться самое интересное! – перебил Ниткин. – Но не начнется, шкимушгар им в нюх солидоленный!
– Потише, – Саржев предупредительно выставил ладонь.
– А чего потише, я и так тихо! – Ниткин вдруг разошелся не на шутку. – Хорош праздник! У них праздник, а мы мало того что противника изображаем, так нас еще всех собьют по сценарию! Бой должен быть честным! Это значит – без всяких сценариев! Даже если он показательный!
– Ну что я, снова прописные истины разъяснять должен? Сам сказал: десять раз уже жевали. Пресс–служба флота верно рассудила. Тут одно из двух: либо бой будет похож на реальный, либо бой будет красивый. Ясное дело, что по случаю праздника он должен быть красивым… Для этого каждый маневр обязан подчиняться точному расчету. Такой расчет сделан, все летно–боевые эволюции заложены в автопилот… И точка. Больше я к этому вопросу возвращаться не намерен… Точнее, нет. К этому вопросу мы сейчас и переходим. Расскажи–ка нам, Мамонтов, про особенности летно–боевой программы…
Они поговорили еще минут десять.
Потом Саржев разрешил разойтись.
Ниткин отправился спать. Тихон тоже хотел было отправиться в койку, но вместо этого вышел на улицу.
Было холодно, но ему так даже нравилось.
Спустя минуту за его спиной раздались шаги. Мимо прошел комендант космодрома.
Тихон запоздало отдал честь. Тот не заметил.
Еще через минуту появился Саржев.
– Там комендант молока принес. Говорит, имбирь согревает. Будешь?
– Буду.
– Ну пойдем тогда.
– Вообще–то действительно обидно, товарищ капитан–лейтенант, – деликатно начал Тихон.
Саржев вздохнул.
– Чего обидно? Чего тебе обидно–то? Скажи вообще спасибо, что тебя в пилотажную группу ввели!
– Спасибо, – согласился Тихон для протокола. – Но я вот думал: планету посмотрю, Кирту, показательный бой проведу…
– Ну так и посмотришь. Уже смотришь.
– Да на что здесь смотреть?! На тундру? На панель автопилота?!
– Вам, молодым, не угодишь.
– Понимаете, Леонидвасильич, когда я в пилоты шел… Я о чем–то другом думал, другого хотел…
– Ну и о чем ты таком думал?
– Думал, буду Родину защищать… И тэдэ.
– Уверен? – капитан–лейтенант внимательно посмотрел на Тихона. – Прямо так? Родина и тэдэ?
– Ну не совсем так…
– А как?
– Вначале я служить не хотел. Вообще. У меня отец – металлист, технолог субмолекулярной сшивки сплавов. Он мне такие вещи рассказывал! Из сборки центроплана «Горыныча» умел приключение сделать, роман! «Капитанская дочка» рядом не лежала… Ну или только она и лежала.
Саржев улыбнулся.
– Смеетесь?
– Да нет, своего батю вспомнил. Он у меня нормировщик Минкульта. Но тоже как увлечется, начнет руками махать… Глаза горят! Утверждается проект сценария для детского утренника, а он так в тему уходит, будто это «Жизнь за царя» в новой экспортной постановке. Энтузиаст, одним словом…
Тихон вежливо улыбнулся. Он думал, что на том их разговор и закончится.
Обычно ведь как: обратишься к командиру с какой–нибудь душевной тягостью, он тебя послушает минуты полторы, потом задаст для проформы ничего не значащий вопрос, ты ответишь, он быстро уведет разговор подальше, потом еще минута – и он уже бодро напутствует тебя дежурными словами вроде «Не раскисай, пилот, на то и служба!» После чего следует уже официальное «Можете идти, товарищ лейтенант» – и конец разговору.
Удивительно, но на этот раз Саржев тему держал и объявлять Тихону отбой не спешил.
– Ладно, служить ты не хотел. Хотел в гражданский вуз. Инженера получать. Верно?
Тихон кивнул.
– И что помешало? Не поступил?
– «Не поступил»… У меня еще в девятом классе было приглашение на льготное поступление. Из питерского политеха! В десятом, кстати, дослали такое же из Харькова. Там авиакосмический очень престижный. Так что без вопросов все было. Но после десятого класса вызвали меня в райвоенкомат…
– Зачем?
– Так всех вызывают же.
– А! Всеобщая! Точно…
– А вас что – не вызывали?
– Нет. Обязательный призыв через год после моего выпуска ввели… Так что мимо меня… А что там, кстати? Я не особо в курсе.
– Да такое… Медкомиссия, собеседование, определение наклонностей, симуляторы…
– Симуляторы?
– Упрощенные армейские и флотские тренажеры. Сильно упрощенные. Это я сейчас понимаю. А тогда казалось, что очень сложно. И очень непривычно было.
– И что, много?
– Много, целое крыло райвоенкомата под них отведено. И они, как наши, тоже трансформеры. Вот, скажем, военком спрашивает: «Где хотел бы служить?» Допризывник отвечает: «На авианосце, конечно». Тогда тебе включают симулятор, скажем, ангарного техника. А потом еще и пилота… А на закуску – вахтенного офицера…
– И вахтенного?
– Если попросить – могут. Ну, я от нечего делать тоже брякнул «хочу на авианосце». Не все ли равно что говорить, если служить не собираешься? А авианосцы часто по визору показывают…
* * *
Дверь за Тихоном мягко затворилась и он вновь очутился в прохладном вестибюле военкомата.
Затравленно огляделся. Возле буфета кишмя кишели такие же как он – старшеклассники. Но ни одного знакомого лица Тихон не приметил. Впрочем оно и понятно, его родной 10 — «Б» уже отстрелялся, в зале симуляторов он был предпоследним.
После симуляторов Тихон чувствовал чудовищную усталость.
Голова гудела – как на годовой контрольной по алгебре. Мышцы натруженно ныли, ну прямо тренажерный зал. Хотелось пить.
Тихон подошел к автомату с напитками и сунул в щель мамину платежную карту. Девичий голос автомата («Почему у автоматов с минералкой всегда женские голоса, а у сигаретных – мужские?» – пронеслось в голове у Тихона) невпопад пожелал приятного аппетита.
Но не успел он насладиться текучей прохладой «Ангары», как его тронула за плечо женщина с голубой военкоматской нашивкой на рукаве.
– Мамонтов? Тихон?
– Да, так.
– Вам пора на собеседование, – не глядя на него, женщина протянула Тихону несколько листков, еще теплых после принтера. – Вот ваши результаты. Если майор Крячко спросит, покажете ему. Пойдемте.
Они шли по узким, кофейно–белым коридорам к кабинету майора Крячко, который располагался в самом дальнем закуте северного крыла, на первом этаже.
Женщина впереди привычно стучала каблуками–конусами. Ноги у нее, и это Тихон сразу заметил, были довольно полными, и даже черные чулки полноты этой не скрадывали. Тусклые волосы его проводницы были стянуты в тривиальный конский хвост. Синяя прямая юбка, белая блуза мужского покроя. Никаких украшений, не считая золотых часиков на пухлом запястье.
«Небось, супруга какого–нибудь тутошнего майора. Жена, мать, и все такое», – с тоской подумал Тихон. Ему нравились совсем другие женщины. Те, что водились на страницах журнала «Мир балета».
– Здесь. Присаживайтесь, ожидайте. Майор скоро вернется. Туалет – в конце коридора.
Женщина ушла. Еще некоторое время затухал мерный звук ее шагов.
Тихон огляделся. Кабинет майора Крячко имел номер 112 и располагался в уютном тупичке.
В тупичок выходили еще три двери.
Одна с перечеркнутым человечком – «не входить», рядом туалет и еще один кабинет – некоего майора Тулина.
Если верить светящемуся электронному табло возле двери, майор Тулин, как и майор Крячко, на рабочем месте отсутствовал.
Напротив стояли четыре стула. Тихон уселся на тот, что был крайним справа.
Закрыл глаза. Он не чувствовал волнения.
Множество раз во сне и наяву он репетировал, что скажет майору на собеседовании.
Мол, приглашение из политеха, хочу быть инженером. Уверен, что буду полезен Родине в этом качестве…
Он даже с отцом советовался как лучше сказать, хотя обычно обращений к отцу избегал, поскольку каждый раз выходило, что тот во всем, даже в мелочах, разбирается лучше, и это Тихона уязвляло… Отец уверял, проблем быть не должно. В общем, собеседование – чистая формальность.
Дальнейший жизненный путь виделся Тихону подозрительно отчетливо. Поступление. Пять лет студенчества – с дальними туристическими походами, дружескими попойками и зубодробительными сессиями. Потом диплом. Он постарается, чтобы его разработка запомнилась всей комиссии. Распределение на престижный оборонный завод. Интересная работа с высоким окладом. По выходным – на велосипеде в лес, вечером – оперный театр. Он будет ходить в театр обязательно с цветами, и однажды он все–таки прорвется за кулисы…
Неведомыми тропами мысль Тихона спустилась с балетных высей к майору Крячко. Какой он? Сколько ему лет?
Почему–то Тихон представлял себе майора родным братом школьного военрука Анатолия Казимировича по прозвищу «Козявыч». Наверняка такой же тугодум, подкаблучник и завзятый читатель иллюстрированного еженедельника «Жизнь и ловля пресноводных рыб»…
Вдруг Тихон с неудовольствием осознал, что начинает волноваться.
Со стороны коридора послышался гулкий звук шагов.
«Майор Крячко, – Тихон невольно напрягся. – Сходил кофейком заправился… Небось нелегко целыми днями одно и то же талдычить…»
Однако, Тихон ошибся. Это был не майор.
Высокий, осанистый, с правильными чертами лица незнакомец ненадолго остановился возле кабинета «111» , где обитал загадочный майор Тулин.
Вполголоса бросил «Добрый день» и сел – через два стула от Тихона. Форменную фуражку он положил рядом.
На Тихона повеяло туалетной водой. Знаток парфумов различил бы в легком ветерке запахи базилика и зеленого мандарина в начальной ноте, ароматы шалфея, пачули и сандала в «ноте сердца», а также беспризорные летучие излучения кокосового молока, аниса и бергамота, а различивши, экзальтированно воскликнул: «Да это же «Яр для мужчин“! Диких денег стоит!»
Тихон в ароматах не разбирался, ничего такого не воскликнул, но все же почуял: перед ним щеголь.
– Добрый день, – пробормотал он в ответ.
Некоторое время они сидели молча. Тихон с мнимой непринужденностью покачивал носком спортивной туфли. Тем временем его сосед извлек из портфеля папку с фотографиями формата 20х30 и принялся вдумчиво их изучать, чему–то своему улыбаясь.
Пользуясь тем, что сосед поглощен своим занятием, Тихон принялся украдкой его разглядывать.
Нашивка с загадочной аббревиатурой «ОАКР 9»…
Погон с одной звездой между двумя просветами (Тихон не знал что эта звезда означает; лейтенант? майор? капитан первого ранга? уроки Козявыча не шли впрок)…
Красивая темно–синяя форма…
Китель, брюки, рубашка – с иголочки, тщательно выглажены (стараниями матери, которая с детства приучала его к «самостоятельности», Тихон знал: это нелегко – выгладить брюки и особенно рубашку!).
На правой руке офицера – часы, механический хронометр «Стрельников и сыновья». По странному совпадению именно эта модель красовалась на рекламном щите напротив школы №50, родной школы Тихона, уже полгода.
«А ничего они там зарабатывают, в своих… окопах? танках?»
Тихон как раз задумался над тем, к какому виду вооруженных сил принадлежит офицер, когда тот неожиданно оторвался от фотографий, обернулся к Тихону и вперился в него цепким, но в то же время располагающим взглядом.
– Не желаешь взглянуть? – предложил он.
– Давайте, – сразу согласился Тихон. – Скучно тут ужасно! Все жду, жду…
Офицер передал ему снимки. На них озорная русоволосая девочка лет семи, а с ней женщина, вот такие как раз нравились Тихону, худощавая, с умным лицом и волнистыми каштановыми локонами, покоряли ледовый дворец «Юбилейный». Вот они фланируют по диагонали катка, крепко держась за руки. На девчоночьем лице – умильная печать сосредоточения. Следующий снимок: женщина шнурует девочкины коньки. А вот малышка делает пистолетик на исчерченном чужими спиралями льду.
– Мои, – горделиво произнес офицер. – Жена, Евдокия, тренер по фигурному катанию. Международного класса, между прочим! А дочка еще только учится, малявка.
– Красивые фотки, правда, – признал Тихон, возвращая снимки. – Вселяют оптимизм…
– Они? Они да… вселяют… А ты чего такой кислый? Оптимизм закончился?
– Собеседования жду.
– С пониманием… Куда метишь? Можно угадаю? Небось, в войска связи? Уж больно у тебя лицо умное! Или на звездолет, в экипаж? – бездонные серо–голубые глаза офицера лучились неподдельным интересом. Теперь, когда он повернулся к Тихону вполоборота, тот смог рассмотреть значок с цифрой «10» на левой стороне груди соседа, орден Боевого Знамени и крылатый значок.
«Крылышки… Пилот?.. Ага, военно–космические силы!.. Значит, космический волк…» – На подобные умозаключения его скромных познаний в фалеристике еще доставало.
– Мне свояк, майор Тулин, я его как раз дожидаюсь, как–то жаловался: призывники, дескать, в пехоту категорически не хотят. А ведь там хорошие условия! Бытовые – так вообще отель четыре звезды по формуле «все включено». А пацанам подавай космодромы! Ну да что это я… Не даю тебе рта раскрыть… Так все–таки, куда хочешь?
– Да я… Я, собственно, никуда не хочу… – Тихон почему–то опустил глаза.
Офицер озадачено нахмурился.
– В смысле?
– Ну в смысле не могу… Поступать буду. В политехнический.
– Тогда понятно, – сдержанно кивнул офицер.
После ответа Тихона он как будто потерял к нему интерес – изменил положение тела, сложил руки на груди и смолк.
Вначале офицер критически рассматривал носки своих безупречно вычищенных ботинок, неожиданно элегантных, с вытянутым, как морда каймана, носком. Затем принялся устраивать в добротном замшевом портфеле уже виденные Тихоном фотографии. После вынул офицерский планшет с двуглавым орлом на крышке, как будто намереваясь поработать, но потом отчего–то открывать его раздумал и пристроил на сиденье рядом с собой, подложив под фуражку. Вперился в стену.
Тихон чувствовал себя разочарованным. Ему так хотелось поговорить со статным, интеллигентным космолетчиком, женатым на тренере международного класса. Даже профиль у офицера был располагающим – смелая линия носа, классическая линия скулы, загорелые округлости щек, густые брови…
– Извините, а какое у вас звание? Одна звезда на погоне – это много? Такая у меня неосведомленность…
– Если подумать, к чему тебе осведомленность в этих делах? – заметил офицер подчеркнуто толерантно. Словно хотел намекнуть, что хотя вот лично он, он считает, что разбираться в знаках различия следует всякому грамотному человеку, но своего мнения никому навязывать не станет. – Ты же служить не собираешься… Но если интересно, то капитан третьего ранга.
– Ого!
– Между нами, ничего особенного. Да и не за званиями я в армию шел.
– А за чем? – не сдержался Тихон.
Офицер наморщил лоб.
– Знаешь… Трудно припомнить точно, что я там думал в свои восемнадцать лет, но кое–что я помню отчетливо. Очень хотелось мне, брат, нестандартной биографии… Чтобы не как у всех. А как в фильмах. И чтобы с оттенком высшего значения.
– «Не как у всех»? – удивленно переспросил Тихон. Для него армия ассоциировалась в первую очередь с уравниловкой, с презрением к личности, с приматом безликого, бездушного, над особенным и подлинным, то есть именно со стандартом. О чем это он, о какой «нестандартной биографии»? Тихон спросил об этом у офицера без обиняков.
– Уравниловка, говоришь? Презрение к личности, говоришь? – офицер оживился.
Тихон кротко кивнул.
– А вот я тебя спрошу: твоя личность когда–нибудь рассекала вакуум со скоростью сто километров в секунду?
– Нет.
– А ледяные вулканы твоя личность видела? А восход семи лун одновременно?
– Ну… Что–то такое… По визору.
– А в подводных гротах Вибиссы твоя личность бывала?
– Вибиссы? Но как?! Она же еще не колонизирована! – Тихон лихорадочно вспоминал что он знает об этой сравнительно недавно открытой чудо–планете. О ней писали все научные и научно–популярные журналы, включая даже «Свиноводство и овцеводство», мол, несравненное богатство фауны, цивилизация разумных земноводных, феерические атмосферные эффекты, лагуны с розовой водой…
В седьмом классе закадычный приятель Тихона Лёха Коровин, отличник и зубрила, даже реферат подготовил по географии: «Планета Вибисса. Затерянный рай»…
– Вот именно. Не колонизирована. И никогда не будет, между прочим. Потому что населена разумными существами. А мы все равно с мужиками там по ведомственным путевкам каждый год отдыхаем. Имеется на Вибиссе одна база, специально для нас, для военфлотских, рядом с исследовательским комплексом… Охота там, правда, запрещена. Зато на скутерах по розовым волнам погонять, в гротах понырять – это сила!
Капитан заулыбался, поправил кобуру на поясе и принял вольяжную позу.
– Или вот, допустим, будни. Возьми рабочего. Идет он каждое утро на свой завод. Что его там ждет? Ну сенсоры–датчики, ну кнопочки–окошечки, ну рожа управляющего, да еще, пожалуй, в столовой официантка Люба подмигнет, но это по праздникам. И все. А у нас? А у нас небо. Величественные шлейфы туманностей. Громокипящие метеоритные потоки. Романтика покорения. Буйство скоростей. Космическое одиночество и космическое братство. И кажется, Бог он тут… прямо тут… Страх и трепет. Восторг!
– Ну… это ведь не у всех, наверное… – проронил Тихон и с тревогой посмотрел на табло возле кабинета майора Крячко. А вдруг хитрюга–майор незаметно прокрался в свое логово и теперь на табло вопит красная надпись «Входите»? Больше всего Тихон боялся, что этот веселый разговор оборвется на полуслове.
– Кто смел – тот и съел. Знаешь такую поговорку?
– Да.
– Просто понимаешь… Люди делятся на смелых и несмелых. Смелым в армии хорошо, несмелым – не очень…
– Я, наверное, несмелый по характеру, – сказал Тихон с грустной усмешкой.
– Откуда информация?
– Ну… я сам так думаю…
– «Сам думаю…» – передразнил его офицер. – Это у тебя что там за бумажки? Результаты?
– Тестирование. Симуляторы. Весь фарш.
– Дай–ка сюда, – попросил офицер и вперился в распечатку. – Так–с… Ну это понятно… Это тоже. Ага, вот они, данные… Кстати, чувство габарита у тебя отменное, хоть сейчас в пилоты… Координация тоже ничего. Реакцией впечатлен. Спортом занимаешься?
– Да… Ну то есть как сказать… Ходил на секцию настольного тенниса… Семь лет занимался латиноамериканским танцем, даже на чемпионат России ездил, – сообщил Тихон и зачем–то покраснел. Он был уверен, это не впечатлит офицера. Но он ошибся.
– Румба–сальса? Ух ты! «Анита–креолка, по кромке прибоя пойдем мы с тобою, с тобою!» – напел офицер. Это был мотивчик самой популярной ламбады сезона, ее с утра до ночи крутили на канале «Мелодии и ритмы Западного Полушария», на школьных дискотеках и даже в общественном транспорте. – Уважаю! Теперь и ежу понятно, откуда у тебя координация и чувство габарита… Так… Что тут у нас дальше? Опять какая–то ерундистика… А–а, вот они, результаты психологического тестирования. Смотрим… Та–а–ак… Что ты говорил, со смелостью проблемы у тебя? Не правда это! Аллертность – восемь из десяти, быстрота принятия решений – семь из десяти. Самостоятельность мышления – о–о, девять из десяти. Что такое КУР, напомни? Ах, этот… коэффициент умственного развития… Целых сто восемьдесят! Логично, ты же в политех намылился… Это я к чему веду? К тому, что не надо на себя наговаривать, Мамонтов Тихон. Объективно, с точки зрения науки, все у тебя в порядке с характером. Уж поверь, у меня в эскадрилье разные субчики попадались, в характерах я разбираюсь.
– Ну… может не в смелости дело… – замялся Тихон. – Просто не нравится мне почему–то армия.
– Что ж… Насильно мил не будешь, – вздохнул офицер. – Да я тебя и не агитирую. В военно–космические академии и без тебя конкурс такой, что мама дорогая… Просто хочется, чтобы ты понял. Что–то такое, важное…
Тихон кивнул. В голове у него было пусто и гулко. В тот момент он ничего не понимал. Кроме одного: если бы у него был старший брат, похожий на этого офицера, жить ему было бы в миллион раз легче.
Он так увлекся своими мыслями, что не заметил, как в тупичке появились двое: майор Тулин и майор Крячко. Тулин тепло обнялся с капитаном и пригласил его в кабинет. Крячко юркнул в свой.
Тихон замешкался. Разговорчивый капитан устраивал в портфеле планшет, выполненный по последнему слову технодизайна, мурлыча под нос «Аниту–креолку».
– А как зовут–то вас? – набравшись храбрости, спросил Тихон. Он уже держался за ручку двери, но какая–то неведомая сила его не отпускала.
– Михаил… Бугримов! – серо–голубые глаза офицера лучились жизненной силой и необоримым природным обаянием. – Приятно было познакомиться, – добавил он, сделал два шага к Тихону и… протянул ему свою широкую руку для рукопожатия.
А потом было собеседование у майора Крячко, апатичного бледного сухаря лет сорока пяти. Никаких неожиданностей на собеседовании не случилось, кроме одной: дочка майора, художественная фотография которой томилась на стене кабинета, оказалась учительницей рисования в школе №50, Тихоновской родной школе. «Посмотгите на эту чагующую аквагель», – говорила она, трогательно картавя. Все у нее было «чагующим», даже мятные леденцы за семнадцать копеек.
Нетвердым шагом Тихон шел домой через сквер имени Первого Салюта, а вокруг цвел сиренями и щебетал соловьями дивный майский вечер.
Волосы его были взлохмачены, узел галстука комично болтался на груди, как у пьяницы с карикатур, сумка едва не волочилась по земле.
Но Тихону было не до того. Он думал о том, какой трудный ему сейчас предстоит разговор. Шутка ли дело, убедить мать и особенно отца в том, что поступать не в политех нужно, а в Военно–Космическую Академию имени Савицкой.
«Вот войду – и прямо из прихожей скажу, твердо так: поступаю в Академию!»
* * *
– В общем, товарищ капитан–лейтенант, – сказал Тихон, – я пошел в армию за чудом.
– За чудом?
– Да.
– Ну и как?
– Пока никак.
– Ясно. Вот что я тебе скажу, Мамонтов… – Саржев запрокинул голову и влил в рот последние капли молока из кружки. – Впрочем, нет. Ничего не скажу. Считай, что я скучный, унылый карьерист и сказать мне нечего.
Встретив разочарованный взгляд Тихона, Саржев улыбнулся и добавил:
– Не обижайся. Спать пошли. Вставать рано придется.
И действительно, поспать удалось хорошо если часа четыре.
Для начала им пришлось перелететь из Нерской Губы на космодром Кирты. Садились они перед рассветом, поэтому города толком не рассмотрели.
Кроме топлива их «Орланы» принимали в Кирте учебно–боевые ракеты, лазерные пушки и имитаторы поражения. Без всего этого вторая часть выступления – показательный бой над Эфиальтом – был бы лишен главного: зрелищности.
Озаренный вспышками проблесковых маячков, на летное поле выкатил ЗИСовский вездеход «Буян». Лавируя между могучими заправщиками и станциями комплексного обслуживания, он затормозил возле борта три–один – командирского «Орлана».
На «Буяне» приехало начальство: зампред горсовета Карина Бессмертная и Юрий Языкан – комментатор канала «Русновость».
Тихон, который на время заправки сошел на бетон размяться и подышать свежим воздухом, видел, как те о чем–то коротко переговорили с Саржевым.
Через пару минут «Буян» тронулся с места и заехал навестить на стоянке «Орлан» Ниткина. Затем пришла очередь Пейпера и, наконец, высокие гости подъехали к Тихону.
– Юрий Языкан, – комментатор протянул Тихону маленькую, но крепкую ладонь.
– Бессмертная, – представилась женщина в коротком кремовом плаще и тоже по–деловому пожала ему руку.
– Младший лейтенант Мамонтов. Извините, что в перчатке, – смущенно улыбнулся Тихон. – Скафандр разбирать не имею права.
– А вы галантный, – сказала зампред горсовета; получилось это у нее как–то на удивление неигриво, серьезно. Тихон не нашелся что ответить, но от него и не требовалось, потому что зампред сразу взяла быка за рога.
– Мне ваши коллеги уже много чего рассказали, теперь ваша очередь. – Она покосилась на экран своего крошечного планшета. – Вот этот Пейпер – это же он вчера разбил свой флуггер?
– Да.
– Но все–таки для него прислали новый флуггер? И его не побоялись поставить в программу? Он ведь полетит сейчас с вами, да?
– Да… Полетит, наверное.
– А вы считаете, что это правильно?
– Я считаю, что раз командование так решило, значит правильно.
– Вот видите, – Бессмертная обратилась к Языкану, – они все в сговоре.
– Военфлот, – бывалый комментатор пожал плечами. – Там это называется не сговор, а субординация.
– Так вы считаете, Пейпер не убьется прямо на наших глазах? – вопрос зампреда был адресован Тихону.
– У нас такие разговоры не приняты, извините, – Тихон построжел (это удалось ему немногим хуже, чем комэску).
– Да не волнуйтесь вы, Карина Евгеньевна, – вступился за военфлот Языкан. – Они же все время на автопилоте…
Тихон метнул на Языкана испепеляющий взгляд. Хотя комментатор был по существу прав, сейчас он допустил серьезную оплошность. Ну нельзя непосвященным гражданским так прямолинейно и грубо раскрывать тайны высшего пилотажа!
– Что? – не поняла зампред.
Языкан, к его чести, безошибочно расшифровал сообщение, закодированное во взгляде Тихона, и поспешно сдал назад:
– На автоприводе, я хотел сказать! Здесь, на космодроме, стоят приводные маяки. Другие источники опорных сигналов находятся на орбите. Вместе они создают идеальные навигационные условия…
– И погода сейчас отличная, – ввернул Тихон. – Не та, что была ночью.
– Ну хорошо. То есть вы обещаете, что праздник пройдет четко по сценарию?
– Лично я буду стараться, – уклончиво ответил Тихон.
– В таким случае, – строгое лицо Карины Бессмертной неожиданно озарилось белозубой улыбкой, – с праздником вас, младший лейтенант Мамонтов! С Днем Колонии! По этому случаю от лица всех жителей колонии я вручаю вам памятный подарок – глобус Махаона, отлитый из осколков конкордианских бомб и снарядов!
К счастью, глобус оказался куда меньше, чем средний школьный. Вещица из темного металла размером с теннисный шарик весила ровно столько, чтобы ее приятно было держать в руке.
Всякая железка была способна поднять Тихону настроение – это качество он унаследовал от отца.
– Спасибо! – искренне поблагодарил он, улыбаясь в ответ.
* * *
Взлетели.
– Что эта суровая особа сказала, командир? – спросил Ниткин у Саржева.
– Как обычно. День Колонии – хорошо, срыв программы – плохо. На нас надеются и так далее.
– А тебе, Ваня?
– А я вообще не слушал. Только кивал и умное лицо делал.
– А мне сказала, что я галантный, – похвастался Тихон.
Ниткина это задело за живое.
– Ничего себе! – возмутился он. – Почему это ты галантный?
– Потому что молодой и красивый, – рассудительно заметил Саржев. – А мы с тобой старые военфлотские жопы, нас под слоем космической пыли уже не видно.
– Вот–вот, – чувствовалось, что Ниткин на удивление рад такой квалификационной оценке. – Вот–вот. Не салаги какие–нибудь.
Кирта, столица колонии Махаон, была начисто разбомблена клонами во время войны. Жители успели уйти из города. Там остался только окруженный танковый полк, отклонивший предложение о почетной сдаче в плен.
Ради красоты жеста клоны уничтожили этот полк авиаударами такой силы, что их хватило бы на целый танковый корпус.
Теперь, тоже ради красоты жеста, Кирта не только отстраивалась по довоенным чертежам с точностью до цвета кровли, до фонтанчика для питья перед подъездом, но сверх того опоясывалась новым кольцом бульваров. Их названия прославляли звездолеты–герои: Трехсвятительский бульвар, Ушаковский бульвар, бульвар «Резвого», бульвар «Камарада Лепанто». На бульварном кольце намеревались поселить семьи военфлотцев восьмой эскадры, которую перебазировали на Махаон после таинственного исчезновения планеты Грозный.
Чащоба разновысоких строительных кранов была разграфлена просеками восстановленных проспектов, вдоль которых поднимался подлесок законченных, но еще не заселенных домов. Там, в самой Кирте, пока никто не жил – кроме строителей и всевозможных монтажников. Коренное население довольствовалось огромным временным лагерем в районе космодрома.
Всё это они увидели, пока по широкой дуге обходили город, направляясь к своим благодарным зрителям.
Наконец за северной окраиной Кирты открылась гигантская пустошь, обнесенная яркой разборной изгородью. Толпы горожан колыхались вдоль ограждений, алкая зрелищ.
И зрелище пришло.
Четыре титанировых чудища, крылом к крылу, закрутили над пустошью такую программу, что Языкан едва успевал выплевывать в комментаторской скороговорке названия фигур высшего пилотажа и групповых эволюций.
И ничего не случилось. Ровным счетом ничего страшного. А только – волнующее, чарующее и зовущее в небо.
А потом «Орланы», первыми поддавшись собственному зову, вонзились в синеву, прошили ее без труда и – исчезли.
– Я никогда не видела такой… такой красоты, – пробормотала Карина Бессмертная.
Микрофон зампреда по чьей–то халатности оставался включенным и потому ее слова слышала вся Кирта.
Смех и аплодисменты.
– А наш праздник продолжается, друзья! – напомнил Языкан. – Не спешите расходиться! Сейчас вы увидите выступление скоростного театра на колесах «Кубанские автоказаки», а затем при помощи телепроекторов мы сможем наблюдать!.. настоящее!.. космическое!.. сражение!.. над ледяными вулканами Эфиальта!
* * *
За первой точкой либрации системы Махаон–Эфиальт к их пилотажной группе прицепился пестрый кортеж. Стая флуггеров–репортеров телевизионных компаний, невесть чья прогулочная яхта, разная спортивная мелюзга и два планетолета пограничной охраны.
Репортеры профессионально притерлись к «Орланам» почти вплотную.
– Снимают нас, да? – спросил Пейпер.
– Еще бы! – в два коротких слова самолюбивый Ниткин умудрился вложить столько гордости, будто снимали исключительно его. В Колонном Зале Дворца Собраний – как минимум.
– А что они будут делать, когда мы выйдем на плато криовулканов?
– Мне плевать, честно говоря.
– А мне любопытно, – вклинился Тихон. – Товарищ капитан–лейтенант, как они съемку вести собираются? Там даже просто лететь рядом опасно. А уж ракурсы выгодные искать…
– Не следишь ты, Тихон, за событиями в мире, – с командирским снисхождением в голосе заметил Саржев. – А между тем, после войны наш флот сдал в аренду с правом выкупа несколько тысяч единиц специального оборудования. В числе прочего, Комитет Информации приобрел разведзонды «Пеленгас». По военным меркам они уже устаревшие, но оптика на них – отличная. Этими беспилотниками нас и сопроводят. Если репортерам ума достанет зондов не жалеть и запустить побольше, я думаю, со съемкой всё у них склеится.
Незадолго до перехода на эллиптическую орбиту планетолеты погранохраны отогнали телевизионщиков и праздных летунов в сторону.
Истребители изменили траекторию.
Скользнули по орбите Эфиальта.
Снова подработали маневровыми.
В свободном падении просели до высоты сто десять…
Высота семьдесят…
Уполовинили скорость.
Сорок…
Эфиальт перестал быть ярко блестящим шариком. Больше не был Эфиальт и перевернутой крутобокой миской с абстрактными узорами: голубое черт знает что на белом фоне.
На них надвигалась серо–синяя твердь. Иссеченная моренами, битая метеорами, закопченная вулканами – в пределах видимости не ледяными, а самыми настоящими, с огнем и серой. Всё это страшное, чуждое, внечеловеческое, забытое Богом на второй день Творения, вырастало из пустоты неохватной стеной и загораживало «Орланам» полмира.
Сохраняя текущую скорость, флуггеры должны были разбиться вдребезги в ближайшие три минуты.
Страшное – страшно, пугающее – пугает.
Хуже всего стало, когда передние маневровые дюзы снова дали тормозной импульс. Минус четыре «же».
Падение серо–синей стены на голову бедного Тихона рывком замедлилось. Но очередной каприз вестибулярного аппарата внушил лживое: флуггер пришпилен булавкой к центру Вселенной и по беспомощной четырехкрылой козявке вот–вот прогуляется ледяное пресс–папье Эфиальта.
Еще один тормозной импульс, длинный.
Минус шесть «же».
Полубочка.
Нос вверх. Маршевая тяга. Короткий подскок.
Коррекция по крену.
Коррекция по тангажу.
Малая тяга на всю посадочную группу.
И только после этого виртуозного арпеджио, сыгранного автопилотом на многочисленных дюзах, «Орлан» перешел из отвесного падения в горизонтальный полет, продолжая при этом держать свое место в строю. Справа впереди – Саржев, еще правее – Ниткин. Слева сзади – Пейпер.
Картина мира от перехода в горизонталь изменилась разительно.
Из падающей стены Эфиальт превратился в более–менее приемлемую местность под крылом. Трехмерная карта на навигационном экране проросла сопками, искривилась древними расщелинами, развернулась скатертями промерзших до дна озер.
Тихон включил поиск внешнего целеуказания. Навестившая его мысль была проста до наивности: если телевидение действительно использует для съемок флотские разведзонды, их видеосигнал должен уверенно декодироваться «Орланом».
И действительно, парсер почти мгновенно обнаружил восемь новых источников информации и зарегистрировал их под временными псевдонимами.
«Интересно, додумался еще кто–нибудь до этого или нет? Саржев, если и додумался, то не стал. Ребячество, дескать. А ребячеств от Саржева не дождешься… Ниткин? Ниткин ушлый, Ниткин может. Пейпер? Пейпер сейчас, наверное, вообще заснул.»
Совсем скоро над близким горизонтом Эфиальта выросли верхушки ледяных вулканов.
На самом деле, это были никакие не «сосульки», а скорее плюмажи из страусиных перьев. Каждое перо поднималось над поверхностью Эфиальта на несколько километров и распушалось ближе к вершине.
Описать картину можно было двумя словами: неустойчивое великолепие.
Но неустойчивость, хрупкость, эфемерность ледяных колоссов были обманчивы. Каждый из них мог простоять и несколько лет, и несколько веков.
Залогом тому служили малая сила тяжести и почти полное отсутствие атмосферы. Вулканические выбросы формировали в приземном слое Эфиальта разреженный газовый бульончик, но он быстро улетучивался. По этой причине «переменная атмосфера» Эфиальта хотя и существовала в статьях астрографов на правах одного из потешных казусов мироздания, но служить рашпилем для выступающих элементов ландшафта уж никак не могла.
Внезапно обрушить ледяное перо было по силам только могучему удару. Такие коллизии обещались либо со стороны сравнительно крупных метеоритов, либо от близкого криоизвержения. Но и в этом случае падение подрубленного ледяного ствола растянулось бы на несколько часов.
Что же касается «плановых» падений, то они происходили под влиянием корпускулярной и микрометеоритной эрозии. Потоки крошечных частиц материи годами подтачивали ледяные столпы. Рано или поздно в самом сокровенном, одному лишь сопромату наперед известном месте, ледяной массив своим весом наконец–то одолевал собственную же прочность и вот тогда колосс низвергался. Но снова же: низвергался беззвучно, сонно, долго–долго.
«Орланы» сбросили скорость и, подчиняясь летной программе, развернулись в строй фронта.
– Группа, внимание! Мы выходим на рубеж. Всех прошу еще раз проверить основные бортсистемы.
Ниткин, Пейпер и Тихон доложили, что всё у них хорошо. Саржев, однако, настаивал:
– Если у кого–то малейшие неполадки – еще не поздно попроситься домой. Справимся втроем. И даже вдвоем, если потребуется.
– Да полная норма, сказали же. Полетели, командир! – Ниткину не терпелось.
– В таком случае, даю обратный отсчет на активацию боевой программы. Код восемь восемь ноль. Пять… Четыре… Три… Два… Один… Поехали!
Тихон набрал 8–8–0 и началась война.
Вся их четверка, которая к исходному рубежу подползала на черепашьей скорости, резко прибавила тягу и устремилась вперед.
Причем, непрерывно набирая скорость, они одновременно с этим начали споро снижаться. Выражаясь незамысловатым языком бытовой физики, они падали.
Показания альтиметра прошли отметку «полкило» и продолжали уменьшаться.
Теперь стало видно, что ледовые поля расчерчены вдоль окраин плато широкими оранжевыми и лиловыми полосами. Какое астрофизическое чудо стоит за этим оставалось только догадываться, и Тихон догадывался: никакого чуда нет, а есть скучная объяснительная теория насчет естественных фотосолей, выброшенных извержениями и неравномерно меняющих цвет под лучами Асклепия.
Альтиметр показал «катеньку» – высоту в сто метров. По понятиям иных планет и иных флуггеров это означало гарантированное крушение аппарата.
Не будь Тихон кадровым пилотом, он бы замандражировал. Но его учили, первое: командир всегда прав. Второе: наша техника – ой какая надежная. Третье: пока автопилот катает, можешь спать, потому как автопилот самая наинадежная техника и есть. Вдобавок, он правее любого командира.
Днищевые дюзы заработали, вычитая из скорости снижения расчетные доли. Некоторое время «Орлан» продолжал проседать, пока вертикальная скорость не вышла аккуратно в ноль. К этому моменту альтиметр показывал треть сотни – усредненно. Бугры и всхолмья, которые проносились под ними, заставляли цифирки быстро скакать туда–сюда.
Это был классический проход на сверхмалой. Несмотря на мизерную плотность химеры, которая именовалось переменной атмосферой Эфиальта, реактивные выбросы двигателей сформировали мощный спутный след и выбили тучи ледяной пыли. Тучи эти вздыбились за кормой да так и остались висеть эффектными пышными куртинами. Чтобы рассосаться им требовались долгие часы.
– Красиво катаешь, командир, – оценил Ниткин.
– Стоило иначе огород городить, – Саржев, кажется, наконец–то начал получать удовольствие от полета и оттаял после вчерашней размолвки с Ниткиным. – Смотри внимательно, дальше будет лучше.
Тихон принялся перебирать картинки, которые транслировались «Пеленгасами».
Сейчас он видел то же самое, что уходило на борт флуггеров телеканала «Русновость», а оттуда отфутболивалось в Кирту. В Кирте технические редакторы, подглядывая в текст сценария и прислушиваясь к конферансу Языкана, на лету ловили лакомые куски видеоряда и передавали их в эфир на публичных частотах «Русновости».
На первой камере – неразборчивая туфта. Куда–то не туда этот пеленгасик заплыл–залетел… А может и сломался вовсе. Он, конечно, флотский разведзонд, но длительное складское хранение кого хочешь доконает…
Вторая камера, описывая плавную дугу, давала общую панораму плато. Зрелище познавательное, но сейчас Тихон искал нечто вполне определенное, а это нечто в поле зрения камеры отсутствовало.
Третья и четвертая камеры дублировали вторую.
Пятая и шестая показывали их группу, которая четко, «по нитке» входила в створ, образованный двумя ледяными перьями.
Приятно, конечно, полюбоваться собой со стороны, но… Тихон переключился дальше.
А вот и искомое. Камеры седьмого и восьмого «Пеленгасов» вели объект атаки. «Горынычи» беспечно фланировали вдоль противоположной, восточной стороны плато, изображая полнейшее неведение о приближении агрессора.
Тихон прочесал эфир и нашел частоту «Русновостей». Кабину наполнил бархатистый, державный голос Языкана.
– …на предельно малой высоте. Как видим, «синие» показывают завидное летное мастерство.
Под «синими» проходила их группа «Орланов».
– А это наш истребительный патруль. Он держится средних высот, чтобы увеличить зону радарного покрытия. Но плато криовулканов служит плотной преградой! Это позволяет «синим» подкрадываться к противнику незаметно. Предоставит ли внезапность решающее преимущество шайке воздушно–космических разбойников?..
Тихон выключил аудиоканал. Скучно. Пока – скучно.
– Начинаем выход на боевой курс, – предупредил Саржев.
«Орланы» энергично подпрыгнули, стали на правое крыло (сугубо ради внешнего эффекта, никакого аэродинамического смысла в маневре, само собой, не было) и повернули на три румба.
Не возвращаясь в горизонтальное положение, они дошли до следующей узловой точки и прокрутили замедленную полубочку. То есть: сперва перевернулись полностью, подставив брюхо лучам Махаона, а затем довернули еще на девяносто градусов вокруг продольной оси. В итоге получилось, что «Орланы» перевалились с правого крыла на левое. Затем изменили курс на семь румбов и только после этого начали горизонтироваться.
Дистанция до объекта атаки в ходе всех этих маневров сокращалась и теперь составляла сто километров. С ма–аленьким хвостиком. Через пару секунд хвостик отвалился.
Саржев прокомментировал:
– Легли на боевой. Прошу выполнить поиск, опознавание, распределение и захват целей.
Логично. Тихон вручную перевел радар в боевой режим, остальное проделала автоматика.
Пошло питание на учебно–пиротехнические ракеты «Гюрза–УП». Их головки самонаведения быстро вышли на штатную мощность, пообщались с бортовой электроникой и произвели собственный захват целей.
Но чтобы это случилось, предварительно поработала система «свой–чужой». Будь «Горынычи» истребительного патруля опознаны как «свои», автоматическая блокировка запретила бы захват целей.
Однако же, истребители над плато были «чужими», «гостями», «бандитами», «нарушителями», «аспидами». Для цели, игнорирующей кодированный импульс бортового запросчика, существовало много названий, но суть была одна: это недруг, это – чужой.
Теперь достаточно было одного нажатия кнопки, чтобы четыре ракеты понеслись к «Горынычам» – ради все той же пресловутой зрелищности они заранее договорились стрелять только щедрыми залпами.
Саржев:
– Ну что, у всех есть захват?
– Да.
– Да, товарищ командир.
– Есть захват.
– В таком случае… приготовиться к пуску!.. пуск!
Ракеты рванули к «Горынычам», как зачуявшие добычу борзые.
Теперь, насколько Тихон помнил сценарий, должны были произойти, одно за другим, такие события.
Пару–тройку «Горынычей» они «сбивают» первым залпом. Те, распыляя облака яркой аэрозоли из подкрыльевых имитаторов, изображают беспорядочное падение.
Затем «Орланы» выпускают вторую порцию ракет.
Находчивые пилоты уцелевших истребителей каскадом противоракетных маневров условно спасают свои неусловные жизни. Ракеты проходят мимо.
После этого группа «Орланов» должна отвернуть в сторону, в глубь плато криовулканов. По условиям игры они делают это для того, чтобы избежать обнаружения с борта «Горынычей».
Однако те, оправившись от неожиданности, их быстро вычисляют, накрывают ракетными залпами и, догнав уцелевших, добивают из пушек.
В итоге, все «Орланы» считаются сбитыми. Уцелевшие геройские «Горынычи» под одобрительный конферанс Языкана крутят свою небольшую пилотажную программу. Исполняют, так сказать, танец победы над поверженными врагами – и на этом лётная часть праздника считается благополучно завершенной.
Всё это Тихон усвоил в ходе многочисленных инструктажей. Выходило, он приобрел память о будущем, память, которой в настоящем бою нет и не может быть. И это, казалось бы, должно было расхолодить его, расслабить, превратить в безучастного надзирателя над автопилотом.
Однако, нет. Бой был ненастоящим, но – боем. Сверхвнимательность, чувство габарита, «многомерное зрение», позволяющее видеть разом весь тактический организм боя, включились одно за другим, подчиняясь вбитым за годы обучения рефлексам.
Выпустив вместе с остальными вторую четверку ракет – от чего «Орлан» стал легче примерно на одну сотую, – он ощутил спинным мозгом, как скорость машины приросла столь же малозаметными долями. Но этого хватало, чтобы маячащий впереди чуть слева по курсу ледяной столб, покрытый яркими лиловыми потоками фотосолей, перестал смотреться экзотической красивостью и начал восприниматься как реальная опасность. Если курс не изменить в течение… прямо сейчас его надо менять, немедленно!..
Автопилот, впрочем, знал это не хуже Тихона. Их группа мягко повернула, оставляя препятствие слева. При этом реактивная струя из дюз пейперовского «Орлана» резанула по стволу ледового пера, ствол вздрогнул и начал едва заметно крениться.
– Внимание! Только что с авианосца передали: к Эфиальту приближается метеор. Он идет не к нам, ударит в ночную сторону планетоида. Сделать ничего нельзя, предлагаю никому не дергаться, оставайтесь на автопилоте. Авось пронесет.
«Да подумаешь, метеор, – отмахнулся Тихон. – Вся толща Эфиальта нас от него закрывает. Мы и ухом не поведем.»
Его внимание всецело поглощали каналы седьмой и восьмой камер, по которым сейчас шли самые сливки боя.
На «Горынычах» летали настоящие мастера фигуряжа и выпендрежа из Махаонского Крепостного полка перехватчиков. Пилоты–перехватчики действовали только на ручном управлении, благодаря чему каждый был волен лихо импровизировать на свободную тему. При этом все они делали примерно одно и то же. «Сбитые» падали и кувыркались, потому что считались сбитыми, а уцелевшие падали и расшвыривали ловушки, потому что изображали противоракетные маневры.
Языкан растерял всю степенность и державность. Теперь он вещал в нарочитой, захлебывающейся манере спортивного комментирования. Нагнетал интригу и пафос.
– Борт пятьдесят восемь теряет высоту!.. Он падает! Пилот не может запустить двигатели!.. Все магистрали разорваны осколками!.. Вы можете видеть, как топливо вылетает в пустоту! Его прямо выбивает в вакуум под страшным давлением!.. Оранжевый шлейф за машиной – это и есть топливо! Пусть меня поправят наши асы, но это конец!.. Это полный коллапс! Он выходит из кадра… И мы возвращаемся к борту пятьдесят два… Он все еще цел… Вы помните, ему повезло, ракеты взорвались далеко за кормой! Сейчас мы можем видеть с каким искусством, с каким мастерством, я бы сказал с филигранной точностью он уходит от последних ракет, выпущенных агрессором… Кстати! Посмотрим, чем же сейчас занят агрессор!
А что «агрессор»? Истребители группы Саржева, сбавив скорость, плыли через заколдованный ледяной лес, сквозь мир молчания, резких теней, черных провалов и белых прогалин.
– Даже нашим камерам нелегко отыскать их… Вот они! Вот! Они в нашем видеозахвате! Феноменально! Четверка воздушно–космических бандитов, сохраняя строй, на большой скорости выходит из боя! Неужели они уйдут безнаказанно?! Неужели наши соколы не поквитаются за сбитых товарищей?!
Да уж, «на большой скорости»…
«Орланы» ползли черепахами. Здесь, в самой гуще окаменевших фонтанов, было тесновато, не разлетаешься.
К тому же, от них требовалось подставиться под ответный удар «Горынычей» и притом подставиться поскорее – не стоило размазывать бой во времени. Драматургия живого эфира штука требовательная, против нее не попрешь.
Если бы не сценарий шоу, если бы шла война, если бы вместо «Горынычей» они имело дело с клонскими «Абзу», группа Саржева действовала бы иначе. Используя замешательство противника, «Орланы» свечой поднялись бы над белыми метелками криовулканов. Оттуда, с высоты, они в пологом пикировании вышли бы на флуггеры врага – и расстреляли их почти в упор еще до того, как пилоты успели сообразить, кем и откуда они атакованы.
– Нет, наши асы не из тех, кто отказывается от преследования! Три исправных «Горыныча» делают «горку»… Я уверен, они включили поисковые радары на полную мощность! Ну–ка, послушаем их рабочие частоты…
После этих слов Языкана в эфире раздался настойчивый, громкий треск.
– Да, так и есть! Вы слышали «голос» поисковых радаров наших истребителей! Клонские пилоты во время войны называли его «шепотом смерти»! Это потому… Вы уже наверное догадались, дорогие товарищи!.. Потому что «если ты слышал его, если ты слышал этот шепот, значит ты труп» – так говорили мне немногие выжившие клонские пилоты, которых я интервьюировал на прошлой неделе!
«Ну артист! – восхитился Тихон. – На ходу ведь сочиняет! Ну не могли, никак не могли пресс–офицеры пропустить в сценарий такую чушь.»
– Они догоняют… Уверенно догоняют агрессора! Да оно и не удивительно! На наших «Горынычах» установлены новейшие двигатели эм сто девятнадцать! Равных этим двигателям нет ни у одной державы мира! Так что легко понять, отчего агрессор не может оторваться от преследования наших перехватчиков!
Такие же точно двигатели стояли и на «Орланах». Тихон ухмыльнулся. Языкан ему не нравился, но вдохновенность заливистого вранья впечатляла.
– Дистанция стремительно сокращается! Я полагаю, можно стрелять! Чего ждут пилоты? Стреляйте, товарищи офицеры! Стреляйте!!!
Языкан был прав. Станция защиты задней полусферы предупреждала о том, что «Орлан» Тихона сопровождается чужим, недоброжелательным радаром.
– Конечно, они не слышали меня, но ракеты запущены! – ликовал Языкан. – Для тех, кто не успел заметить как это произошло, мы сейчас показываем пуски в замедлении. Вот эти вспышки – результат срабатывания вышибных зарядов. Ракеты «Гюрза» упакованы в специальные…
– Импакт, – коротко передал Саржев то, что ему сообщили с борта флотского флуггера–разведчика.
Тихон от неожиданности вздрогнул. Заслушавшись Языкана, он совсем забыл, что поступала информация о подходе метеора.
– Хорошая у него скорость была, – сказал Ниткин. – Не успели предупредить, а он уже грохнулся.
– Да, быстрый метеор. Наверное, интерстелларный… Кстати, прошу обратить внимание, что «Горынычи» применили по нам оружие. Имитаторы поражения сработают на условно подбитых машинах автоматически, но на всякий случай сообщаю, что по сценарию сейчас собьют борт три–два и борт три–три. Борт три–два мы вчера потеряли, сегодня вместо него три–восемь, но сути дела это не меняет.
«Три–два, три–три, три–восемь… Значит, я пока еще живой!» – обрадовался Тихон.
Бац!
Бац!
Все взрывы в вакууме были искусственно озвучены для телетрансляции ради вящего эффекта. Поэтому Тихон слышал как ракеты «поразили» флуггеры Ниткина и Пейпера.
– Ракеты настигли агрессора! Прекрасное зрелище! Вы, конечно, знаете, что вероятность прямого попадания ничтожна! Ракеты поражают цель готовыми убойными элементами, которые разлетаются при взрыве! Поток таких элементов накрывает цель! Сейчас вы видели, как были смертельно ранены два флуггера–бандита! Через пробоины они теряют воздух!.. Тритий!.. Рабочие жидкости реактора!.. Я думаю, их пилотам сейчас несладко! И правильно! Так и должно быть с каждым, кто посягнет на истребительный патруль Российской Директории!
«Мы с Саржевым – на очереди», – Тихон вздохнул.
Флюктуацию в движении «Орлана» он почуял еще до того, как о ней сообщили скачки показаний курсового контролера. На пол–ладони вверх, на полпальца вбок. А ведь среда, способная внести такое возмущение в траекторию флуггера, теоретически отсутствовала.
«Что это было? Прямое попадание учебной ракеты? Очень сомнительно…»
На самом деле, виноват был метеор, который разбился на ночной стороне планетоида. Скоростные ударные волны прошли через твердую кору Эфиальта и через жидкую горячую мантию.
Гидравлический удар выбил ледовые пробки в районе старых извержений.
Плато вспотело облаками пара и водяной пыли.
«В одном из таких облаков меня и тряхнуло, – определил Тихон. – Странно, что не случилось ни одного свежего криоизвержения.»
И вот пожалуйста.
Прямо по курсу – необъятный фонтан воды, пронизанный красными и охряными змеями! От основания веером разлетаются темные комья чего–то горячего. Упаси Бог столкнуться с ними! Плоскость оторвет – глазом не успеешь моргнуть! Ну а если такая лепешка угодит в лобовое стекло, так и вовсе пиши пропало.
Саржев перепугался не на шутку:
– Всем сняться с текущего режима автопилота! Это категорический приказ! Выходим на вертикаль!
Комэск стремился немедленно убрать всех своих подчиненных с плато. Сделать это по–настоящему быстро можно было лишь одним способом: лететь строго вверх, оставляя зону природного бедствия за кормой.
Языкану об импакте ничего не сообщили. А может и сообщили, но он решил не отвлекать внимания зрителей. Комментатор продолжал вытягивать разваливающийся репортаж на чистой импровизации. На то и профессионал.
Две «сбитые» машины больше в кадр не давали, сосредоточились на пока еще уцелевших истребителях Саржева и Тихона.
– «Горынычи» пустили в ход лазерные пушки! Но агрессоры достаточно опытны для того, чтобы не подставляться! Еще бы! Каждый пилот хочет подороже продать свою жизнь! Даже если этот пилот служит неправому делу и нападает исподтишка!
Тихон, выполняя приказ Саржева, поставил своего «Орлана» на дыбы. Он хотел сразу дать максимальную тягу. В этом случае он оказался бы над самыми высокими ледовыми перьями через несколько секунд. Однако на фоне звездного неба – там, где распушались верхушки замерзших фонтанов – творились пугающие безобразия.
Мириады обломков – многотонные кружева, раскидистые ветви–щупальца, ажурные пластины, тонкостенные пузыри, волокна – расползались в стороны от «родительских» стволов.
Обломки эти не летели, они именно ползли. Тихону показалось, что он всматривается во тьму глубокого провала – там, на дне, стоит черная вода, отражающая звезды, и в этой воде плавают невесомые белые хлопья.
Резонанс разнес вершины ледяных перьев вдребезги – вот что это было. Но какая разница что было, если то что есть можно назвать как угодно – небом в алмазах, или сном наяву, или чудом, – но, как ни назови, ради этого стоило жить, это было началом того, ради чего стоит жить, и у Тихона захватило дух от восторга.
Восторг восторгом, а он все же оставался пилотом – или, точнее, стал в тот миг настоящим пилотом – и он прибавил тягу. Плавно, на две десятых. Ворваться в роенье обломков на космической скорости – самоубийственно.
– Тут пошли помехи… – Языкан изворачивался из последних сил. – Вероятно, незапланированный сюрприз космоса. Что ж, бывает… Мы плохо видим агрессоров… Нет! – Комментатор воодушевился. – Камеры захватили одного из них! «Горынычи» тоже видят его! Выстрел! Еще выстрел! Невероятно! Попасть из такого ракурса! Вы видите, подбитый бандит движется вертикально вверх, это явно по инерции! Можно с уверенностью сказать, что пилот убит! Великолепно! Остался только один! Где же он?!
«Убит» был Саржев.
А электроника Тихонова «Орлана», между тем, продолжала трудиться.
Парсер предупредил Тихона об опасности на выбранном курсе.
Затем поставил в известность о захвате одной цели… Двух целей… Трех целей… Определил все три цели как «чужие»… Ну еще бы!
«Горынычи», которые только что расстреляли флуггер Саржева и продолжали по инерции двигаться вперед, оказались почти точно в зените над Тихоном. По космическим меркам они находились невероятно близко.
Парсер «Орлана» обнаружил их по факелам двигателей и взял на сопровождение. Это было надежней любого радара, точность такого захвата была самой высокой и промахнуться было невозможно.
Об этом парсер тоже Тихону сообщил. А также и о том, что его флуггер, похоже, облучается бортовыми радарами «чужих». Однако устойчивого захвата у них нет.
Пока нет, а в любую секунду появится – это Тихон даже не подумал, это он просто знал. Равно как и то, что над Наотаром, Паркидой, Землей, Цандером, Сатурном, Махаоном – везде – долг русского пилота: убить чужого.
Он нажал на гашетку лазерных пушек.
Имитатор первого «Горыныча» выбросил желтый шлейф.
Имитатор второго «Горыныча» выбросил красный шлейф и прибавил порцию пиротехнических шутих.
На третью цель Тихону просто не хватило лазера. Он разрядился полностью, следующих выстрелов следовало ожидать лишь через несколько секунд.
– Не верю своим глазам! Я не верю! – Пожалуй, это был первый случай в практике Языкана, когда профессиональная наигранность аффекта соединилась с искренним «охренеть–можно». – Какой предательский, подлый, но и красивейший удар! Несколько снайперских выстрелов – и два истребителя «зеленых» выведены из игры! Мы обязательно посмотрим этот эпизод в замедлении, но сейчас давайте дождемся конца поединка! Один на один! Кто – кого? «Синий» или «зеленый»? Пилот «Горыныча» или пилот вражеского флуггера?..
«Теперь меня выгонят из военфлота. Я сорвал программу. Меня точно выгонят.»
Конечно, это еще не повод для самоубийства. Вовсе не повод! И все же Тихон сделал то, от чего отказался всего несколько секунд назад – с предельно возможным ускорением бросил машину вверх, к звездам, засыпанным ледяной крошкой.
Риск – смертельный. Но только так Тихон получал шанс сбить третьего и последнего врага.
– А вот и он! Наши камеры отыскали его машину! «Синий» мчится вверх! Что он делает?!
Отсчитав до пяти, Тихон убрал тягу и положил «Орлан» набок.
– Что он творит?!.. Не могу поверить! О, да это настоящий ас! Вы поняли его маневр? Он ориентировал машину в сторону противника! Теперь он изготовился стрелять! Сразу же, как только поднимется над верхушками криовулканов! Пилот «зеленых» только сейчас сообразил, что происходит, он поворачивает свой флуггер на противника… Кто выстрелит раньше?! Кто быстрее?!
Удар–хлопок по корпусу и громкое шуршание – будто «Орлан» волокут за крыло по галечному пляжу.
Значит, машина прошла через облако ледяного крошева. И ее, конечно же, зацепило.
Они выстрелили одновременно.
– Немыслимо! Последний «Горыныч» сбит! Он сбит! Но сбит и нападающий! Абсолютная ничья!
«Нападающий сбит? Я сбит? – поразился Тихон. – С чего это он взял?»
Ему пришлось повозиться с опросом бортовых систем, чтобы понять: одна из ледяных глыб пробила четырехметровую сардельку подвесного имитатора, что и привело его в действие. И теперь за его «Орланом» тянется широкий пушистый хвост ядовито–зеленого цвета.
* * *
Саржев отделался лишь самыми формальными фразами.
Поздравил всех с благополучным окончанием показательного боя.
Порадовался за Пейпера и Ниткина, которые увели свои «Орланы» с плато криовулканов без единой царапины.
Когда Тихон доложил, что все системы работают нормально, но поврежден имитатор, что привело к его несанкционированному срабатыванию, Саржев сдержанно сказал: «Это я вижу.»
– А так, вообще–то, сбить меня ему не удалось, – добавил Тихон без тени раскаяния.
– Поздравляю, – выдавил Саржев.
Но Тихон понимал: вот сейчас сядут они на авианосец – тут–то он и выхватит. На всю катушку выхватит.
И вот они сели.
Из кабины Тихон выбирался поначалу неохотно. Но потом пожурил себя за малодушие, споро перебросил оставшиеся тумблеры в положение «выкл», лихо выехал из–под днища кабины, не покидая пилотского кресла, и спрыгнул на ангарную палубу.
Капитан–лейтенант Саржев уже дожидался его. Он смерил Тихона пресловутым «оценивающим взглядом», после которого иногда дают в морду. Чаще, правда, не дают – все–таки, русские, все–таки, офицеры.
– Михаил Бугримов, значит… «Нестандартная биография»… Интеллигентный щеголь… – сказал Саржев. – Так называемый кап–три по фамилии так сказать Бугримов… Вот что, Мамонтов, я тебе скажу: я этого субъекта знаю. Никакой он не кап–три. Полагаю, на Вибиссу он никогда не летал, в заповедных гротах не плавал.
– Да я… – начал Тихон, но Саржев остановил его резким жестом и продолжил.
– Я в танковую академию поступал. Омскую танковую. Там сидел Михаил Бугримов. В такой же форме. С теми же фотографиями жены… Правда, вместо лапочки–дочки у него сынишка–конкурист был… Это потому, что я лошадьми интересовался. Поговорил я с ним, а потом плюнул на танки и пошел в пилоты.
– Так вот они, герои!
Оба – Тихон и Саржев – оглянулись. К ним своей особенной, подкатистой походкой приближался кавторанг Жуков, замкомкрыла по летной подготовке.
– Мамонтов! Саржев! Лясы точите?! А что Ниткин? А Пейпер? Сколько вас всех ждать прикажете?!
Тут же к ним подбежали Пейпер с Ниткиным. Четыре пилота вытянулись перед Жуковым по стойке «смирно», отдали честь, Саржев доложил по форме о возвращении пилотажной группы.
– Вольно.
Тихон обнаружил, что Жуков смотрит на него. Но не так, как минуту назад смотрел Саржев, а с тщательно скрываемой гордостью.
Начал он, конечно, с разноса.
– Вот что, Мамонтов. Отстранить бы тебя на недельку от полетов… И отстраним, будь уверен! И устный выговор тебе! Ас нашелся!.. Но так… – Жуков сменил тон и глаза у него сразу стали озорными, ребячьими. – Так оно правильно, конечно. Давно пора было этому Махаонскому Крепостному полку выдать! Хорошенько выдать! Больно нос дерут! Шапкозакидательские настроения распространяют! Так что пусть шлифуют… Тактику ближнего боя… Хе–хе.
Выдержав короткую паузу, Жуков снова построжел.
– Только не думай, что самый умный. Всё, разойдись.
В дверях ангара Тихон все–таки нагнал Саржева.
– Да я догадался, товарищ капитан–лейтенант. Насчет Бугримова Михаила, интеллигентного щеголя. Давно уже догадался.