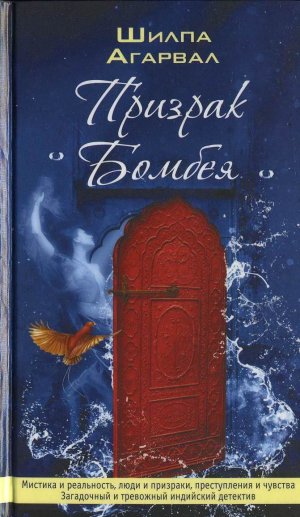
Невероятно интригующий роман. Мистически-детективный сюжет внедряется в сложнейшие культурные пласты Индии, изумляя и шокируя западного читателя столь поразительным устройством древней цивилизации, сохранившимся до наших дней.
USA TODAY
Богатый, насыщенный красками и запахами роман о трагических и таинственных событиях, раздирающих старинное индийское семейство. Еще одно доказательство того, что писатели из Индии выдвигаются на первые роли в англоязычной литературе.
LIBRARY JOURNAL
Индийская сказка, волнующая, экзотичная, мистическая. Ты погружаешься в этот мир ярких красок и густых туманов, блуждаешь в лабиринте загадок, чтобы внезапно оказаться лицом к лицу с правдой, такой неожиданной и поразительной, что еще долго не можешь отойти от потрясения и забыть этот странный, тревожный и прекрасный мир.
NEEM MAGAZINE
Обрыв
1947
Умеют ли подчиненные говорить?
Гаятри Чакраворти Спивак
Возможно, они — трещины и щели, сквозь которые нам слышится иной голос, иные голоса?
По какому праву остаемся мы к ним глухими?
Дж. М. Кутзее. «Мистер Фо»
Море внутри
Безучастная, как вода, девушка шла к темнеющему горизонту. Ей было всего шестнадцать, — возможно, семнадцать. Ярко-красное сари облегало тело. Спутанные волосы хлестали по лицу.
В сгущавшихся сумерках девушка остановилась на окраине деревни, точнее, кучки соломенных хижин, что сгрудились на берегу. К небу, сопротивляясь мощным ветрам, тянулась одинокая кокосовая пальма. Где-то беспрерывно лаяла собака. Девушка немного отступила, дожидаясь, пока луна скользнет за рваные облака. Блестки на сари отбрасывали на землю бледные отсветы неправильной округлой формы. Девушка попыталась дотронуться до них левой ступней, и отблески заплясали по ее пальцам — среднему, с серебряным кольцом, и обрубку шестого, некрасиво закрученному вниз. Она устремилась вперед, словно ее подталкивала незримая сила, коллективный страх.
Влекла ее не сама деревня, а одинокая ветхая хижина на краю. Крыша лачуги из кокосовых листьев прохудилась, а внутри царил полумрак. Ветер обжигал, словно предостерегая, и отталкивал девушку назад. Добравшись до истершейся бамбуковой циновки, прикрывавшей дверь, она смутно припомнила, как сама сплела ее в детстве. Вот оно — доказательство, что она когда-то жила в этом домишке на краю света, еще до того, как у нее начались месячные и женщины хриплыми голосами затянули древнюю песнь о девушке, что окрашивала волны в кроваво-красный цвет и наводняла их морскими гадами. Ей не следовало сюда приходить, и она знала об этом, но все же откинула циновку и шагнула внутрь.
Сначала она заметила тусклый отблеск луны на браслетах. В углу хижины кто-то сидел на корточках, раскачиваясь взад и вперед.
— Ты вернулась, — послышался голос.
Девушка кивнула, ей захотелось расплакаться.
Но сейчас некогда раскисать. Ей кое-что нужно от этой женщины — слепой повитухи с таинственными способностями.
— Помоги мне.
Звяканье браслетов смолкло.
— Ты должна, — умоляла девушка, и глаза ее горели отчаянием, — ведь это ты прокляла меня!
Повитуха фыркнула.
Девушка потупилась, вспомнив насмешки и издевательства других детей, у которых хватало наглости заговорить о ее злосчастном происхождении.
Тогда был Нариял Пурнима[1] — день, когда рыбаки выходят в море после долгого сезона дождей, во время которого рыбу не ловят. В период муссонов рыба нерестится, а мужчины отсиживаются на берегу, пока в бурных волнах приумножаются дары океана. Ранним утром женщины тоже вышли из хижин и направились в другую сторону — к святилищу, дабы поклониться Экуире, морскому божеству и покровительнице рыбачьего народа коли.
— Твоя мама еле ходила, — начала повитуха вязким голосом. — Живот так сильно выдавался — ну точно двойня! И она пошла молиться.
Девушка знала о небольшом шатре, шамияне, словно выраставшем из вероломных скал, — с плотным матерчатым пологом, украшенным разноцветными лоскутками. Ее никогда даже близко не подпускали к этому месту, но однажды она побывала здесь тайком, сжимая в ладошках бархатистую календулу, которую возложила на маленький каменный алтарь Экуиры — восьмирукой богини с оранжевым лицом, рожденной из тела бога Брахмы, Творца Вселенной. «О, милосерднейшая богиня, — прочитала она молитву рыбачек о своих мужьях, — твой океан безбрежен, а суденышко так мало».
— Потом твоя мама расколола у ног богини кокос.
Девушка собралась с духом, хорошо зная, что произошло дальше: у мамы отошли воды, осквернив святилище. Другие рыбачки с проклятьями поволокли ее прочь. Когда в тот вечер лодка отца так и не вернулась, никто даже не удивился.
Повитуха снова фыркнула, а затем, словно ей вдруг надоело рассказывать, достала небольшой ржавый фонарь и зажгла его. Ее сухое обветренное лицо — точь-в-точь соленая креветка — отбрасывало на стену зловещие тени.
— Тебя опять изгнали, — заявила она.
«Неужели я была там еще сегодня утром?» — подумала девушка, вспомнив тепло лежавшего рядом тела и алый свет сквозь разноцветные стекла в стене.
— Я должна вернуться, — прошептала она, не в силах скрыть отчаяние.
— Раз уж тебя изгнали, ты никогда не сможешь вернуться — ни при жизни, ни после смерти, — пробормотала старуха, впиваясь невидящим взором в лицо девушки. — Они совершили очистительную церемонию — как и в день твоего ухода, чтобы твой дух не проник обратно. Поэтому ты не сможешь попасть в рыбацкую деревню. Ты никогда туда не вернешься.
— Должен же быть какой-то выход, — взмолилась девушка, взгляд у нее обезумел. Это бунгало стало для нее родным домом. Правда, она просто прислуживала, но на время добилась большего. Она достала припрятанные деньги, которые Маджи, глава семейства, милостиво дала ей, и положила их в узловатые руки повитухи.
Старуха схватила пачку и впилась в нее сломанными, почерневшими зубами. По подбородку стекла ниточка слюны.
— Есть один способ, — с расстановкой сказала повитуха, и желтые от табака губы искривились в улыбке, — но для этого нужна исключительная жертва. Ты должна быть сильной и стойкой.
— Я готова! — Девушка скрипнула зубами, словно подчеркивая свою решимость. Что угодно, лишь бы попасть туда!
— Правильно, что я тебя изгнала. Умер кто-то другой.
— Младенец… несчастный случай…
— Я думала, ты знаешь, как появляются дети, — ухмыльнулась старуха, — ты же всегда подглядывала тайком.
— Я благополучно приняла роды. Все случилось так быстро, даже не успели отвезти госпожу в роддом. Маджи велела принести кипяток и простыни. Я сказала, что разбираюсь во всем, и она оставила меня с роженицей, пока другие ждали снаружи. Я сделала все точно так, как видела… но потом… — Голос у нее дрогнул.
— Когда ты ненадолго отошла, ребенок утонул.
Девушка кивнула.
— Так же, как и с твоим отцом, — то ли несчастный случай, то ли нет. Впереди — новые смерти и роковые случайности…
— Новые?
Повитуха захохотала, высунув язык:
— Ты осквернила богиню — пролила околоплодные воды и кровь на ее алтарь. Как только начались месячные, тебя изгнали. Кровь течет шесть дней, и в это время ты опасна, хотя сама не осознаешь. Ты черпаешь темные силы из нечистой крови — любой крови из этого места: родовой, менструальной, девственной.
Девушка почувствовала что-то липкое между ног: в то самое утро у нее начались месячные — пугающе обильные.
Старуха забормотала:
— Изгнана в тринадцать… На тринадцать лет…
Она подняла с земляного пола циновку и засунула руку в отверстие. Вытащила один за другим крошечные пакетики, свернутые из старых газет, и разложила их перед собой. Из-под рваного сари достала маленький кокос — гладкий, еще зеленый.
— Зачем возвращаться? — спросила она. — Что тебе там нужно?
Девушка отвернулась, вспомнив касания спутанных локонов среди ночи и аромат кожи, от которого пьянеешь, просто находясь в одной комнате. Запретное прикосновение в алом свете.
Повитуха жутко ухнула, словно прочитав ее мысли, а затем, взяв себя в руки, развернула газетные пакетики. В каждом лежал какой-нибудь порошок — бархатисто-желтый, песочно-коричневый, синий, черный… Она смешивала их, тихо напевая. Собачий лай приблизился, и сухие пальмовые ветви затрещали под чьими-то шагами. Девушка оглянулась через плечо, пожалев, что не прикрыла дверь циновкой. Тем временем старуха проворно расколола кокос койтой[2] и всыпала смесь порошков в кокосовое молоко. Зелье задымилось, наполнив воздух тошнотворным запахом.
Девушка в ужасе отпрянула.
— Изгнана в тринадцать… На тринадцать лет… — вновь забормотала повитуха, а затем ее слепой взгляд упал на девушку. — Тринадцать лет не сможешь вернуться.
— Нет!
— Чтобы желание сбылось, нужно заплатить цену — безмерную цену…
— Я и так уже слишком многое потеряла, — прошептала девушка, окутанная дымом, — и не упущу этого случая.
— Ну так думай об этом, — приказала повитуха, поднеся красноватую змеящуюся жидкость к губам девушки. — Ты должна думать о своем желании, пока пьешь, и оно сбудется.
Девушка помедлила, потрогав родинку на щеке — на счастье.
— Скорей же, скорей — кто-то идет!
Девушка снова вспомнила прикосновение теплой кожи, свежее дыхание и смех. Утрата была так велика, так тяжела, что в груди закипела жгучая ненависть к тем, кто выгнал ее тогда утром, разлучив с единственным местом, которое она считала своим домом.
И едва первые капли снадобья коснулись языка, ее охватило желание.
Но не любви, а мести.
Начало
13 лет спустя
Мы должны построить возвышенный дворец свободной Индии, в котором смогут жить все ее дети.
Джавахарлал Неру. Речь после провозглашения независимости Индии 14 августа 1947 года
Хич — существо, у которого нет ни своего места, ни своей индивидуальности (от хичга — «нигде» на языке пехлеви).
Зиа Джэффри. «Невидимки»
Бунгало
Самое раннее воспоминание Мизинчика Миттал — сверкающая вода, которая плескалась под грохот колес, щелканье хлыста по окровавленной спине вола, крики мужчин и хныканье голодных детей. Глухой гул и визг, словно от стаи ястребов, — так черные пузыри поднимаются на поверхность реки.
В этом воспоминании, настолько раннем, что оно являлось лишь во сне, Мизинчик видела женщину в сари — золотисто-желтом, как цветок чампаки[3]. Женщина смотрела в пустое небо, точно взывая к богам, а затем очень медленно падала в поток. Ее уносило течением, и паллу[4] ее сари тянулось сзади, словно трепещущая, смертельно раненная птица. Мизинчик вскрикивала — безутешный плач младенца, но золотистая женщина беззвучно опускалась на дно.
Затем пришло понимание: то была ее мать.
Мизинчик вдруг проснулась в непривычно душной комнате. Пот собирался в каждой складке тела — между пальцами, под коленями, в уголках глаз. Мизинчик открыла их и почувствовала жжение, зрение помутилось от слез, она инстинктивно потянулась вверх, пытаясь спросонья ухватиться за что-нибудь надежное, и ненароком опрокинула стальную чашку возле кровати. Чашка с грохотом упала, по лакированному деревянному полу растеклась вода.
Мизинчик приподнялась на локтях, понемногу отходя от неотвязного кошмара, и хорошо знакомая обстановка наконец ее успокоила. С матраса, лежавшего рядом с бабкиной кроватью, Мизинчик хорошо различала массивные шкафчики вдоль стены, украшенные причудливыми китайскими росписями охристого оттенка. В детстве она часами блуждала взглядом по длинным сужающимся ветвям, что изредка перескакивали с одной панели на другую. Она сочиняла нескончаемые истории об экзотических птицах, живших на этих деревьях: о жестокой малиновой с острым клювом и белыми кончиками на перьях, о спокойной красновато-коричневой, клевавшей что-то среди стеблей высокой травы, и о маленьком птенчике, что жалобно чирикал в крошечном гнездышке. На одной прямоугольной панели ветви заканчивались гроздью пунцовых ягод, которые Мизинчик мысленно наделила колдовскими свойствами.
Она нарочно затягивала каждую историю, уснащая ее различными препятствиями и поворотами сюжета, словно для того, чтобы отсрочить концовку и насладиться волнующей сценой, когда одинокая бабочка с крылышками-паутинками устремится вниз и укроет ягоды от жестокой птицы. А затем, охватив взором все шесть росписей, Мизинчик по-королевски щедро раздавала ягодки. Тогда, будто по волшебству, у одноногой птицы отрастала вторая нога, а синяя с выцветшими перьями получала в подарок новые — блестящие. Мизинчик всегда оставляла последнюю ягодку для грустного маленького птенчика, потерявшего всю семью. «Съешь, — шептала Мизинчик, — и они вернутся».
Протерев глаза, девочка потянулась, сбрасывая последние вязкие остатки сна, затем открыла тиковую шкатулочку, инкрустированную замысловатой эмалью и стоявшую на полу. Там хранились ее драгоценности: новые карандаши, прибывшие на корабле, коробка липкой маслянистой пастели, жестянка с эмалевыми безделушками, присланная в подарок родственницей из Харид-вара, образец изумрудного шелка и выцветший журнальный снимок. Фотографий покойной матери не сохранилось, и Мизинчик вырвала снимок актрисы Мадхубалы[5] из старого номера «Фильминдии». Мадхубала смотрела вдаль, погруженная в грезы, а ее лицо и волосы окружало неземное сияние. Она была великолепна: губы слегка приоткрыты, на шее жемчужное колье. Со временем Мизинчик позабыла, что женщина на фото — вовсе не ее мать. Девочка слишком мало о ней знала — помнила лишь пару случаев из детства да то, что мать утонула, переплывая реку.
Мизинчик аккуратно положила снимок обратно в шкатулку и придвинула ее к стене у тяжелого туалетного столика с латунным зеркальцем, обращенным вниз. Вверху, на внушительной кровати в стиле короля Эдуарда, на линялой простыне вздымался огромный бабкин живот, похожий на заснеженную вершину, и раздавался оглушительный храп. В углу из стены торчал одышливый кондиционер и горела спираль от москитов, источавшая горько-сладкий запах. Мизинчик щелкнула кнопкой, и кондиционер зашумел, выпустив струю холодного воздуха. Было начало июня — самая невыносимая и влажная пора, когда спать без этого агрегата невозможно.
Мизинчик села на кровать и взяла бабкины теплые руки — узловатые, с синеющими венами. Эти руки дарили жизнь: они держали, одевали и кормили ее, с тех пор как она осталась без матери тринадцать лет назад. Когда Мизинчик была еще маленькой и тоже спала на огромной эдуардовской кровати, она держалась за руки Маджи всю ночь и совершала этот маленький ритуал всякий раз, если чего-то боялась или хворала. Повернув бабкину ладонь кверху. Мизинчик водила пальцем по линиям, начиная с самой толстой, огибавшей большой палец. Она насчитала столько же линий, сколько ей лет, и словно вписала себя в бескрайнюю вселенную на руке Маджи. Мизинчик повторяла короткую молитву: «Я — в тебе». Даже в тринадцать Мизинчик не отделяла себя от своей бабки.
Затем Мизинчик вытерла пролитую воду и поставила на место стальную чашку. Заглянув в темный восточный коридор, ведущий от запертой тиковой двери через все бунгало к передней веранде, она с трудом различила тусклый свет из широкого окна во двор. Второй коридор проходил параллельно первому, в западной половине дома, разделяя его примерно на три части — со спальней, ванной и кухней в каждом крыле, а также залом, столовой и гостиной по центру. Одноэтажное бунгало построил около сотни лет назад высокопоставленный чиновник Ост-Индской компании, который превратил его в архитектурный символ британского Раджа-правления. Жена служащего, тоскуя по приятной прохладе родины, в раздражении окрестила бунгало «Джунглями». Мизинчик любила его изящную симметрию и величавые тиковые двери, сводчатые проходы, вдохновленные эпохой Великих Моголов[6], и пышный тропический сад с рощицей манговых деревьев.
С деревьев как раз опадали мясистые золотые плоды, и Маджи раздавала излишки, отсылая корзины друзьям и родственникам по всему Бомбею. День сбора манго был настоящим праздником для обитателей бунгало. Садовник приезжал спозаранку вместе с подсобными рабочими, и они собирали целые корзины фруктов, а Мизинчик и ее двоюродные братья, сидя под деревьями, впивались зубами в сладкую мякоть, и на лица их брызгал оранжевый сок. «Бог Ганеша[7] тоже их обожает», — всегда говорила Маджи, нарезая целую горсть «счастливых» манговых листьев, дабы развесить их на передней веранде. Позже в тот же день бабка следила за разделом плодов в нарядной столовой, а ее невестка Савита бродила вдоль длинного полированного обеденного стола, помечая лучшие фрукты для своей родни.
Мизинчик вышла в душный коридор — прохладой можно было насладиться лишь в спальнях и зале. Деревянные половицы, обычно скрипевшие и стонавшие при малейшем нажиме, не издали ни звука под ее легкими шагами. Мизинчик хорошо изучила эти полы, знала, где они провисают, а где лежат прочно, и шагала уверенно.
Прокрадываясь мимо комнаты дяди и тети, она заглянула в щель, сквозь которую их тихие голоса доносились в коридор — вместе с негромким жужжанием современного кондиционера. Приникнув всем телом к щели, она ощутила поток холодного воздуха, высушивший пот на ноге, руке и щеке.
— Разве мало того, что мы взяли к себе Мизинчика? — хмыкнула Савита, и ее тонкие черты исказила злость. Верхние ленты на импортной шелковой сорочке развязались, обнажив крошечный сверкающий бриллиант между грудями. — Аж не верится, что ты послал ее отцу десять тысяч рупий!
— Только по просьбе Маджи, — сказал Джагиндер, словно уточняя, что сам не способен на такую щедрость. С годами его горделивые плечи ссутулились, а на красивое лицо легла тень щетины. — Просто дал взаймы.
— Взаймы? — Савита осуждающе ткнула в него тонким пальцем с аккуратным маникюром. — Нас больше ничего не связывает. Зачем давать им деньги?
— Ну, он все-таки отец Мизинчика.
— Какой там еще отец? — фыркнула Савита. — Он снова женился, завел детей и ни разу не удосужился проведать дочку!
У Мизинчика защипало глаза от слез. Савита всегда подчеркивала, что Мизинчик — непрошеная гостья, нищенка. «Она вам не сестра, — втолковывала Савита сыновьям, пока Маджи не слышала, — а бедная родственница. Помните».
Мизинчик отступила в успокоительный полумрак и, быстро свернув налево под зубчатый свод, вдохнула ароматы сандалового дерева, перца и жареного тмина. Там было так темно, что на миг ей показалось, будто отключили электричество. Затем ее взгляд упал на рубиновые пятна, мерцавшие на стенах: отсветы стеклянных и латунных узкогорлых ханди. Мизинчик прижала ладонь к стене коридора, любуясь, как цветной отблеск целует кожу.
В западном коридоре она повернула направо и попала в кухню, где на мраморном столе стоял высокий глиняный кувшин с кипяченой водой. Мизинчик жадно выпила тепловатую воду и снова налила чашку. На девочку напала сонливость.
Свернув в коридор, ведущий к ее комнате, Мизинчик вдруг услышала скрип двери. Сначала она заглянула за угол и лишь потом на цыпочках приблизилась к спальне двоюродных братьев. На этой стороне бунгало жили только трое мальчиков. Бледный лунный свет струился в окно, озаряя тела спящих четырнадцатилетних близнецов. Пухленький Дхир беззаботно раскинулся на матрасе, широко раскрыв рот, а худощавый Туфан свернулся калачиком, точно младенец. Но третья кровать, где спал семнадцатилетний Нимиш, пустовала.
Решив, что Нимиш возвратится еще не скоро, Мизинчик подкралась к его кровати и поставила чашку с водой на тумбочку — рядом с беспорядочной стопкой книг, из которых торчали закладки. Она наклонилась и вдохнула солоноватый, дурманящий запах Нимиша, а затем, покраснев, оглянулась на спящих близняшек — не проснулись ли? Дхир спокойно, с присвистом, храпел.
Мизинчик потрогала теплую подушку Нимиша и снова вздохнула. Из-под подушки выглядывала книжка. Мизинчик коснулась пальцами странного названия: «Факир из Джангхиры»[8]. На ощупь книга была старой и пыльной, Мизинчик тотчас поняла, что она — из затхлой библиотеки в конце коридора. Книжка распахнулась на миниатюрной табличке «Идеальный мальчик», старательно вклеенной и занимавшей целую страницу. В табличке перечислялись двенадцать основных правил поведения, даже такие, как «мальчик здоровается с родителями» или «мальчик чистит зубы», и каждое правило иллюстрировала безвкусная картинка. Мизинчик не удержалась от улыбки. Нимишу выдали эту табличку еще в начальных классах. Вернувшись в тот день с уроков, он показал ее Мизинчику и близнецам, и все четверо покатывались со смеху, по очереди изображая правильного мальчика в чистой белой рубашке и бриджах, как он с важным видом «отводит потерявшихся детей в полицию». Но, хотя они тогда посмеялись над табличкой, Нимиш хранил ее все эти годы и даже вклеил в случайно подвернувшуюся книгу. Может, Дхиру или Туфану и нужны были ежедневные подсказки, как себя вести, но Нимиш и так воплощал послушного сына, причем без всяких усилий.
Удивляясь, что Нимиша нет так долго, Мизинчик положила книгу на место и решила поискать его в библиотеке. Она замешкалась, проходя мимо детской уборной с двумя отдельными дверьми: одна вела в выложенную кафелем ванную, а другая — к туалету и умывальнику. Дверь в ванную была похожа на все остальные двери внутри бунгало — из блестящего дерева с тремя филенками. В центре каждой филенки была изящно вырезана чакра[9]. Но у этой двери на самом верху помещался засов, до которого нельзя было дотянуться.
Сколько Мизинчик себя помнила, эту дверь почему-то запирали на ночь: толстый металлический стержень с гулким грохотом задвигался в паз. Детям запрещали прикасаться к двери после захода солнца. Разумного объяснения у этого ночного ритуала не было, и они выводили свои захватывающие дух теории. Близнецы были уверены, что по ночам ванная превращается в штаб-квартиру их отца-супермена или, возможно, там укрывается бесславный злодей по прозвищу Красный Зуб. Разумеется, они держали между собой пари: кто ночью вылезет из постели и дотронется до двери или подергает за ручку. Затем все мчались обратно и прятались под одеялами. Однажды они даже притащили пару стульев, чтобы дотянуться до засова. Но, едва коснувшись его, Туфан зашатался и упал. Его привалило тяжелыми сиденьями, на теле остались уродливые синяки и ссадины. Услыхав грохот, Савита выскочила из своей комнаты и истерично завопила. «Чем вы тут занимаетесь, а? — кричала она, раздавая всем по очереди затрещины. — Вам что, жить надоело?»
С тех пор никто больше не рисковал, хотя для вида они храбрились да посмеивались над зловещими словами Савиты. Но так и не нашлось объяснения звукам, доносившимся по ночам из водопроводных труб, — странному дребезжанию и непривычному свисту, что умолкали только под утро.
Мизинчик прижалась к стенке, отодвинувшись как можно дальше от двери. Она не хотела смотреть, но взгляд сам упал на задвижку. У Мизинчика похолодели кончики пальцев. Она помчалась в библиотеку.
— Нимиш?
Наверное, раньше библиотека была великолепна: книжные полки с вычурной резьбой, темные панели на стенах, кушетки с толстой обивкой и стеклянная люстра. Но когда бунгало оказалось в руках Маджи, где-то за пару лет до провозглашения Независимости, библиотека уже пришла в запустение. Некогда плюшевый ковер сильно протерся во многих местах, люстру облюбовало целое семейство бесстрашных пауков, а плотные мрачные портьеры воняли сигарным дымом, хотя их регулярно стирали раз в год.
Померкшая былая слава библиотеки успокаивала Мизинчика. Все бунгало осовременили, но эта комната оставалась прежней, затерявшись в прошлом. Нимиш часами просиживал здесь над книгами, вдыхая запах иной эпохи. Он поставил перед собой цель перечитать все книги в библиотеке до единой — от твердых бордовых или зеленых кожаных переплетов, украшенных богатым золотым тиснением, до маленьких книжек в матерчатых суперобложках. При этом Нимиш представлял себя английским сахибом. Пока что он прочитал все до единой автобиографии чиновников Англо-индийской государственной службы — эти элитные конкуренты правили Индией, а затем, выйдя в отставку, из тщеславия писали мемуары. Он также прочел произведения Киплинга и всю серию «Индийской железнодорожной библиотеки Уилера» в мягких обложках.
Слабый луч лунного света пробивался между тяжелыми шторами и падал неровной полоской на потертый ковер, пересекая прямоугольный стол, где стоял большой кальян с множеством трубок и лежали несколько книг в красивых синих переплетах. Мизинчик ощупью пробралась к окну и посмотрела в небо. Луна скрылась за темной дымкой. Еще после обеда начали собираться тучи — маленькие барашки в ясном солнечном небе, предвестники скорых муссонов. Весь этот знойный день каждый только и мечтал о первых радостных каплях долгожданного ливня.
Луна выглянула вновь, и сердце у Мизинчика екнуло, едва она заметила Нимиша. В аллее показалась его высокая стройная фигура: точеный профиль и блестящая смуглая кожа. Он вышагивал взад и вперед, решительно сжимая кулаки и хмуря брови над очками в тонкой проволочной оправе. Мизинчик вытерла пот, капавший с ладоней на пижаму, и постучала в окно. Однако Нимиш уже отвернулся и направился в сад.
Мизинчик помчалась по коридору, выскочила через боковую дверь и пробежала мимо гаража, где рядом с черным «мерседесом» обитал шофер Гулу. Грудь дрожала и гудела, а тонкая пижама намокла от сырости. Вверху под порывом ветра зашелестел сломанный бумажный змей, что зацепился за ветку. Как раз напротив бунгало, посреди заросшего травой сада, стоял великолепный бело мраморный фонтан-лотос, окруженный прудом, каменной тропинкой и кольцом розовых кустов. За ними простиралась чаща.
Мизинчик затаила дыхание и прислонилась спиной к каменной стене, отделявшей их бунгало от соседского — семьи Лавате. Она позвала Нимиша громким шепотом. В голове засела любовная песенка из популярного фильма «Дил Деке Декхо»[10]. Мизинчик углубилась в обширный сад, за которым заботливо ухаживал садовник, что приходил каждый день со ржавым серпом для работы и свежим кокосом для утоления жажды.
Она всегда любила Нимиша — с самого детства — и тянулась к нему, словно к отцу, которого не помнила. Пока она была еще маленькой, Нимиш опекал ее, ограждая от жестоких замечаний и случайных обид. Однако в последние годы, когда ее тело начало меняться. Мизинчику захотелось от Нимиша чуть большего, чем эта… отеческая любовь. Краснея, она обращала внимание на нежные нотки в его смехе, блеск волос.
Он беззаботно дразнил или поучал младших братьев, изредка с симпатией обнимая их после выговора. Но с Мизинчиком Нимиш стал вести себя суше и лишь читал ей вслух отрывки из своих бесчисленных книг или профессорские лекции, если она просила помочь с домашним заданием.
— Нимиш? — вновь прошептала она. «Неужели он ждет меня вон под тем деревом?»
Мизинчик подалась вперед, представляя его сильную руку в своей ладони, на себе. Ей даже померещился шелковый отлив за деревом — труппа танцовщиц дожидалась встречи влюбленных, дабы завести кокетливую песенку и пуститься в пляс. Мизинчик была уверена, что Нимиш завел ее сюда для признания в любви. Настал ее болливудский час…
Где-то вдали закрылась дверь, и Мизинчик очнулась от грез.
Неужто Нимиш вернулся в дом? Разве она как-нибудь нарушила сценарий? Мизинчик помчалась обратно сквозь кусты, невольно вытаптывая любовно выращенные цветы, а добравшись до бунгало, перебежала залитую луной аллею.
Дома Мизинчика обступила темнота.
В искусственной прохладе Дхир громко, отрывисто храпел, а потный Туфан блаженно дремал, засунув руку под полу пижамы. Но кровать Нимиша по-прежнему пустовала. Мизинчик спряталась за ней, стараясь унять ретивое сердце и поеживаясь от холодного, липкого пота, который уже подсыхал.
— Ну где же ты? — прошептала она в подушку.
Что он делает один в темном саду, за огромной каменной стеной? Стена окружала бунгало с трех сторон, а четвертую защищала столь же внушительная решетка с чугунными штырями в виде наконечников стрел. Но затем, мысленно пройдясь по двору, она вспомнила, что стена была не совсем уж глухой. Там есть проход — точнее, выход. «Нет!»
Она снова взяла «Факира из Джангхиры» и взглянула на стихи напротив безвкусной таблички «Идеальный мальчик»:
Навязчивые слова закрутились в голове, и тогда Мизинчик медленно, старательно отклеила табличку с противоположной страницы. Там, под «Идеальным мальчиком», скрывалась не столь уж идеальная правда — его тамариндовая голубка. Небольшое отверстие в каменной стене и впрямь вело лишь в одно место — к соседям Лавате. Ну а «птичкой» Нимиша оказалась семнадцатилетняя Милочка, лучезарно улыбавшаяся с черно-белого снимка.
Дверь на засове
В груди у Мизинчика резко укололо, и ядовитые щупальца боли расползлись во все стороны, все туже и туже сжимаясь вокруг сердца.
Она тяжело задышала, быстро повторяя влажными губами: «Милочка. Милочка. Милочка».
Нужно было догадаться. Мизинчик еще носила умащенные косы. Куда ей до ослепительной красавицы Милочки с густой копной волос, изящно убранной цветами? Соседи без конца нахваливали ее кожу, светлую на зависть, и изысканный разрез глаз. Мать Милочки, Вимла, размашисто подкрашивала их каждое утро черным каджалом[11] — от нечистой силы.
Долгие годы Милочка была подружкой Мизинчика, особенно в раннем детстве. Они прятались в тенистом саду, сооружали из ветвей самодельные алтари для пуджи[12], украшали их цветами и священными листьями тулси[13], а внутрь ставили миниатюрную статуэтку богини процветания Лакшми, из сандалового дерева. Милочка всегда была жрицей, а Мизинчик — богомолкой. Она стояла на коленях, пока Милочка кропила водой ее склоненную голову и ставила на ней пунцовую метку.
Но едва Милочка подросла, ей надоела эта детская игра, и четыре года разницы показались девочкам целой вечностью. Впрочем, Милочка иногда приглашала Мизинчика в парк на пикники, и там, вдали от любопытных глаз, они могли пооткровенничать, как подруги или даже сестры. Тогда Мизинчик впервые уловила то, чего другие никогда не замечали: мимолетную тень, скрытую бесшабашность на прекрасном лице Милочки.
С громким лязгом включился кондиционер, и Мизинчик присела возле кровати Нимиша, подавляя приступ ревности. Она чувствовала себя такой маленькой и ничтожной. Утерев слезы, попробовала приклеить «Идеального мальчика» обратно на страницу, нервно теребя желтоватую клейкую ленту.
Мизинчик так увлеклась и оглохла от пыхтящего кондиционера, что не услышала шагов Нимиша. Не успела она опомниться, как он прошептал ее имя. Девушка тотчас захлопнула книгу.
— Что ты здесь делаешь? — Он сел на кровать и склонился к ней. — Все хорошо?
Она кивнула, не поднимая головы.
Он легко опустил руку ей на плечо. Вес и тепло руки должны были успокоить Мизинчика, но не тут-то было. Неужели это и все, на что она может рассчитывать, — заботливый вопрос, жест утешения? Мизинчик оттолкнула его.
В удивлении Нимиш уселся поудобнее и поправил очки. Тогда-то он и увидел у нее свою книгу. Он напрягся и потянулся за ней, но Мизин чик вцепилась крепко. Внутри лежал снимок, которым Нимиш дорожил.
— Где ты был? — дерзко прошептала она.
Нимиш не обратил внимания на невежливый тон, но не ответил. Он снова ласково спросил:
— Все хорошо?
Из глаз Мизинчика хлынули слезы. Она не смогла устоять перед его тихим голосом, мягкими манерами.
— Ответь мне, пожалуйста, — попросила она, проверяя, солжет ли. Ведь он никогда не лгал.
Нимиш пожал плечами:
— Там, в аллее. В саду.
— Я вышла из дома. Я искала тебя.
Нимиш поднял брови:
— Тебе нельзя выходить ночью на улицу. Если Маджи узнает…
— А тебе можно? — парировала Мизинчик, утирая слезы. — Что, если все узнают, чем ты занимаешься?
— Отдай, — сказал Нимиш строже. Он протянул руку и схватил книгу, но Мизинчик стиснула ее крепче.
Их взгляды встретились. Он смотрел так нежно, что Мизинчик разжала руки.
— Почему она? — прошептала девушка, едва кондиционер заглох. — Почему не я?
Мизинчик поднесла руку к губам: в наступившей тишине ее мог услышать Нимиш! Она заметила, как он отшатнулся.
— О чем ты? Эх, Мизинчик…
Он покачал головой.
Она задыхалась, в груди пульсировала острая боль. В глазах потемнело. Просто жить не хотелось. «Как это случилось?»
В голове промелькнули сцены из древнего эпоса, отрывки из Пуран и Махабхараты[14], которые ей пересказывала Маджи. Бесстрашная принцесса Драупади вышла замуж сразу за пятерых мужчин, и все они были братьями. Прекрасная принцесса Санджана и неразлучная с ней Чхая делили одного мужа — бога солнца Сурью. Если эти легендарные романы были возможны, значит, и то, чего Мизинчик желает от Нимиша, не так уж страшно.
Хотя все-таки страшно.
— Тебе лучше уйти, — сказал он холодно.
Мизинчик встала. В голове гудело, словно острая боль поднялась из груди и, пройдя через горло, вонзилась в уши.
— Моя книга…
Она опустила глаза: книга распахнулась на табличке «Идеальный мальчик», кое-как приклеенной к странице. Теперь он глумился над ней — мальчик в бриджах, со светлой кожей и неестественно розовыми щеками.
Нимиш забрал книгу.
Мизинчик не отрывала взгляд от своих раскрытых ладоней: они остались без своего сокровища. Вернее, его сокровища.
— А теперь уходи, — сказал он, и доброта сменилась затаенной злостью.
Она не могла уйти вот так. Ведь теперь он разозлится, решив, что она сознательно вторглась в его личную жизнь, а их отношения испортятся навсегда…
Но, взяв с тумбочки свою стальную чашку, Мизинчик все же пересилила себя и вышла из комнаты.
Дверь захлопнулась за спиной.
Мизинчик опустилась на пол. Пот затекал в глаза, капали слезы. Стена согревала ее своим теплом с молчаливым, сдержанным участием. Перед Мизинчиком высилась лакированная дверь ванной. Девушка вновь подняла взор к засову.
Однажды Туфан проговорился, что дверь стали запирать по ночам с тех пор, как в бунгало появилась Мизинчик, — тринадцать лет назад, когда ему и Дхиру исполнился год. Вот и все, что он знал. Дети, конечно, расспрашивали взрослых, но их суровые лица да изредка шлепки удерживали от дальнейших расследований. Казалось, одного лишь Нимиша никогда не интересовал засов и он легко смирялся с ним, как и с большинством родительских предписаний. Это именно он каждый день запирал дверь за полчаса до захода солнца, а потом садился просматривать газеты.
Ванную отпирали на рассвете служанки, Парвати и Кунтал: они яростно выбивали белье на кафельном полу. Затем детей пускали мыться по одному. Они садились на низкий деревянный табурет рядом с полным ведром воды и лотой[15]. Ванная была без окон, маленькая и тоскливая. Лишь кран окружили прямоугольным бетонным выступом, чтобы вода не расплескивалась. Днем все так заурядно, а вот ночью…
У Мизинчика опять навернулись слезы: почему она сегодня так сглупила, зачем все разрушила! Что еще он скрывает от нее? Что там — за этой дверью? Она была уверена, что он знает. Подойдя к двери, Мизинчик поставила стальную чашку на пол и приложила ладонь к дереву. Похоже, дверь немного просела, словно прикрывая душевную рану.
Мизинчик потянулась к засову, но он был слишком высоко.
Тесный коридор не пускал, тянул назад, но Мизинчик вырвалась и помчалась за старой, расшатанной кухонной табуреткой. Половицы грозно заскрипели, но ей было все равно, услышит ли Нимиш. Точнее, она хотела, чтобы он вышел из комнаты и увидел ее. Хотела, чтобы он остановил ее. Мизинчик вспомнила древнюю сказку «Ратнавали» — о том, как царь спас принцессу, хотя она уже набросила петлю на шею; царь этот просто наконец признался: «Я не могу без тебя».
«Если это и впрямь опасно, — подумала Мизинчик, — он выйдет».
Она влезла на табуретку и потянулась вверх. Кончики пальцев коснулись металлического засова: он был сверхъестественно холодный. Все бунгало содрогнулось под внезапным порывом ветра.
Запретная дверь.
Слезы хлынули из глаз. Она взглянула на дверь Нимиша, но та была прочно закрыта. Сердце Мизинчика наполнилось горечью, оно умоляло подать знак — хоть какой-нибудь знак любви!
Она привстала на цыпочки и потянулась к засову. Дверь подалась назад, а засов отодвинулся от Мизинчика. Но она все равно ухватилась изо всех сил, словно лишь так могла вернуть любимого. «Нимиш!»
Половицы прогнулись, а табуретка накренилась, но за долю секунды, пока она падала, Мизинчик успела отодвинуть засов.
Трубы вдруг зашушукались, и вода из них устремилась в ванную.
Мизинчик тяжело приземлилась, опрокинув стальную чашку.
А потом темнота бунгало вытолкала ее из коридора и погнала прочь, прочь — лишь пятки засверкали.
Водяной
Маджи проснулась и первым делом взглянула в окно, определяя время по цвету неба. В эту самую минуту рассвело. Маджи обрадовалась: день начинался благоприятно. Она заметила, что Мизинчик спит на кровати, а не на матрасе, как обычно, и легко дотронулась до ее гладкой щеки.
Спустив ноги с кровати, Маджи сунула их в поношенные чаппалы[16], аккуратно поставленные у кровати, а затем схватила трость и встала — с большим трудом. Артритные колени хрустнули под огромным весом, и она одернула свое белое вдовье сари. Затем, пошаркав по комнате, вновь украдкой взглянула на Мизинчика, закутанную в тонкую хлопчатобумажную простыню. Маджи улыбнулась, хотя ее тучное тело пронизала боль.
Это спящее дитя — единственная отрада в ее жизни.
Ямуна, мать Мизинчика, погибла, беженкой перебираясь из Лахора в Индию во время Раздела[17].
Военные избавились от трупа, сказав, что она утонула. Этот тяжелый удар обрушился, словно кара небесная. От краткой жизни Ямуны ничего не осталось — ни имущества, ни приданого, лишь Мизинчик. Она была кровиночкой Ямуны, живущей на земле. Маджи хорошо помнила тот день, когда забрала внучку. Солнце нещадно, убийственно палило в пустынном местечке, куда она всю ночь добиралась на поезде из Бомбея. Повозка остановилась перед уродливым темно-оливковым зданием рядом с фабрикой, где высилась огромная груда металлолома. Рабочие сортировали его и уносили в корзинах на головах. Неподалеку стайка толстопузых ребятишек с черными ногами лениво рылась костлявыми руками в грязи. Один подошел с протянутой ладонью к Маджи — голый ниже пояса, с талисманом, привязанным черной ниткой по-над самым его «краником».
Маджи помнила, как щелкал хлыст за спиной, как повозка удалялась по грунтовой дороге и как лошадь шумно опорожнялась, когда ее стегали, заставляя перейти на рысь. Мимо на шатком велосипеде проехал торговец фалсаем[18] зазывая равнодушным, но звонким голосом и приглашая насладиться его прохладным напитком. Перед лестницей на второй этаж склонилось хлопковое дерево.
Когда она добралась до лестничной клетки, раскрытую дверь уже подперли, чтобы проветрить квартиру. Маджи устала, но была полна решимости, когда бесстрастно взглянула на другую бабку — с поредевшими седыми волосами, что торчали на затылке, как паутина.
Маджи прочитала благодарственную молитву за внучку — до сих пор не верилось, что она забрала ее к себе. Выглянув в окно, Маджи заметила туманные облачка, едва закрывавшие солнце. Муссоны подуют со дня на день, и выжженный город облегченно вздохнет. Она выключила кондиционер, стукнув по нему тростью, и медленно прошаркала в ванную, где склонилась над сияющей раковиной «пэрриуэйр». Маджи прочистила нос и горло от мокроты, скопившейся за ночь. Она сопела и отхаркивалась, будто слониха, а потом, заметно посвежев, вышла в коридор.
Как всегда на рассвете, Маджи отправилась по длинному коридору в привычный обход. Она завела такой порядок, с тех пор как они купили это роскошное одноэтажное бунгало у осанистого англичанина с сигарой в зубах, что бежал из Индии, оставив свои пожитки и сомнительный бизнес. Тогда она тихими утрами изучала свое новое жилище, все его щели, закоулки и антикварную мебель, отныне целиком принадлежавшие ей. Как только восторг сменился спокойной радостью, Маджи поняла, что ей даже нравится такой режим — эти матриархальные прогулки по бунгало, пока все еще спят. Она также считала, что после ежеутренней сотни обходов можно полакомиться домашним мороженым, а после полутораста — им же, но уже во фруктовом сиропе с запахом роз и розовой лапшой фалуде[19]. Но это уже вечером.
Вначале она подошла к великолепным дверям в столовую и, раскрыв их, окинула взглядом длинный тиковый стол посредине темной полированной комнаты. Маджи задумалась над сегодняшним меню и выбрала освежающие блюда: йогурт с огурцом, вареную цветную капусту с кориандром, рис с шафраном и зеленую чечевицу. Проходя мимо комнаты Савиты и Джагиндера, она вспомнила о невестке и слегка насупилась. Едва Савита ступила в их дом, как показала себя неуживчивой: ей недоставало тех качеств, которые Маджи считала главными, — бескорыстия, уважения, сдержанности. Не далее как вчера Савита наорала на прислугу и запустила тхали[20] с сырым рисом в вентилятор. Зерна басмати осыпались дождем на всех — даже на простодушного жреца, который принял их за небесное благословение.
Маджи вздохнула, минуя алтарь справа и гравированные стеклянные двери слева, а затем распахнула их, впуская свежий утренний воздух. Она заглянула в сводчатый проход: все ли там в порядке? Полы блестят, стены чистые и светлые, а латунные кувшины протерты от пыли. Маджи успокоилась.
Она не спеша двинулась по западному коридору; ее тяжелым шагам и шуршанию белого сари вторил ритмичный стук в ванной: служанки стирали одежду. Затем, сделав полный круг и вернувшись в переднюю половину бунгало, она открыла другой ряд стеклянных дверей и вошла в зал. Маджи тотчас устремила взор к фотографии неулыбчивого покойного мужа, что висела у входа, украшенная сандаловыми четками. Хотя прошло уже столько лет — почти пятнадцать, по-прежнему велика была боль утраты. В памяти всплыла песня из фильма, которую муж шептал ей на смертном одре: «Спи-спи, принцесса! Спи, и увидишь сладкие сны. Во сне ты увидишь любимого». Он сдержал это последнее обещание: приходил во сне, перенося в то неувядающее прошлое, когда она еще не пережила стольких потерь.
Зал устилали два огромных персидских ковра винно-красного цвета. Дальнюю стенку, общую со столовой, заменяли резные деревянные ширмы со стеклянными вставками, обточенными песком. Вся комната изящно обставлена превосходной плюшевой мебелью и шарообразными диковинами. На одном столе — бело-голубая фарфоровая конфетница кантонского производства, а на другом — набор европейских керамических чашек XVIII века. На полке в шкафчике — серебряные чернильницы и кубки, до блеска начищенные и расставленные на кружевных салфетках. В углу фонограф «виктрола», привезенный из далекого города с экзотическим названием Кэмден, штат Нью-Джерси, — с многодиапазонным приемником, проигрывателем и блестящими ящичками для пластинок. Служанка заботливо украсила его вазой с живыми желтыми розами.
В том же темпе Маджи зашла на следующий круг, предвкушая скорую встречу с лучшей подругой и соседкой Вимлой Лавате, как они сядут пить чаи масала[21] макая соленые матти в манговый маринад. Эти каждодневные беседы позволяли на время отвлечься от лихорадочного ведения хозяйства. Маджи отметила про себя: сказать повару, чтоб пополнил запасы «голд спот»[22] и вынес наверх коробку жареных джалеби[23] в сиропе, с нескромным убранством из съедобного серебра.
Так она размышляла круг за кругом, составляя списки и попутно раздумывая над нравственным смыслом великого эпоса Махабхарата и Рамаяна[24], а порой вдруг вспоминая покойного мужа или дочь. Маджи всегда завершала обход в зале, взбираясь на мягкий антикварный трон, который раньше, возможно, принадлежал радже небольшого княжества, пока с ним не расправились британцы. Трон был богато украшен, его латунное основание покрывал толстый матрас, шафрановая шелковая ткань и нарядно вышитые валики. Удобно откинувшись, Маджи восседала с важным, почти царственным видом, пристально наблюдая за всеми домашними делами.
— Кунтал, — позвала она служанку, с трудом подогнув ноги в позе лотоса, — принеси мне утренний тоник.
Кунтал явилась с маленьким серебряным подносом, где стоял высокий стеклянный стакан горячей кипяченой воды, смешанной со свежим лаймовым соком и медом. Кунтал уже перевалило за тридцать, но она по-прежнему вела себя, как застенчивая, пухленькая девица. Маджи протянула руку и осторожно ухватила стакан большим и средним пальцами, растопырив остальные, чтоб не обжечься паром. Сделав маленький глоток, она вздохнула, и ее строгий рот утонул в океане плоти. Лишь тогда Маджи обратила внимание, что Кунтал не уходит.
— Что-то случилось?
Кунтал закусила губу: не хотелось обманывать Маджи, ведь она глубоко ее уважала и даже чтила.
— Нет, Маджи, ничего. Просто я сегодня не выспалась.
Отчасти это было правдой. Но Кунтал не сказала, что утром дверь ванной была отперта, а рядом валялись стальная чашка и кухонный табурет. Не сказала, что она спешно вызвала свою сестру Парвати и та велела: «Только пока не говори Маджи». Потом они благополучно выбили в ванной белье и прикрепили его прищепками во дворе. Теперь оно висело на джутовых веревках, истекая влагой.
Раньше Митталы отдавали белье дхобивале, прачке. Но когда Маджи располнела, она стала стыдиться того, что незнакомый мужчина-прачка будет намыливать промежность ее гигантских трусов. В 1943 году Маджи наняла Кунтал и Парвати, поручив им, вдобавок к привычной работе по дому, еще и стирку.
Обрадовавшись ее предложению, сестры согласились без всяких оговорок. Однако со временем, когда обе освоились в бунгало, стук деревянного валька Парвати разносился каждое утро по всему дому и будил его обитателей, которые громко и недовольно чмокали губами.
Маджи пристально всмотрелась в лицо Кунтал. «Нет, что-то явно не так». Она решила пока не выяснять, поскольку семейство уже начало просыпаться. Весь дом ожил, огласившись шумом проточной воды, звоном на кухне и нарастающим гулом голосов. Маджи покачалась взад-вперед, распутывая ноги, с трудом встала и поковыляла к главным воротам, где повар Кандж встретил ее с миской риса и овощным карри. Из-за коленного артрита Маджи редко выходила из дома, но неизменно подавала милостыню знаменитому хромому садху[25], что прогуливался мимо бунгало каждое утро.
Садху прыгал на одной ноге, подгибая вторую в колене. Он был совершенно голый, не считая маленькой набедренной повязки, нескромно задиравшейся при каждом прыжке. По одному и тому же маршруту он скакал уже лет двадцать, ему поклонялись набожные люди, о нем спорили местные мужчины, и им бесконечно восторгались местные ребятишки. У себя на лбу садху рисовал три белые полосы — вот и все его имущество, и за ним повсюду следовали фанатики, один семенил впереди, сметая с пути навоз и мусор. Здоровая нога садху была мускулистая, налитая кровью, а вторая попросту отсохла от бездействия, так что пришлось подвязать ее к плечу. Садху принял милостыню от Маджи, благословил ее и церемонно поскакал прочь. Маджи умиротворилась.
Когда Мизинчик вышла из спальни, на стол уже накрыли первую смену завтрака. На блюде громоздились картофельные пирожки алу тикка[26] с пряной мятой и кисло-сладкой приправой чатни из тамаринда, а рядом стояла бутылка кетчупа. Также подали тонкие гренки, намазанные подтаявшим маслом, ломтики свежих фруктов и чаи масала.
Джагиндер с пугающей быстротой закидывал в рот алу тикки, попутно просматривая «Навбхарат тайме» на хинди. Сидя рядом с ним, Савита накладывала груду еды на тарелку и одновременно слегка покусывала гуаву, посыпанную каменной солью. Нимиш — единственный из мальчиков, кому разрешалось читать за завтраком, — ел, придерживая локтем раскрытые «Индийские каникулы»[27].
Нимиш часто разглагольствовал на мудреные темы за обеденным столом, чем вызывал раздраженные взгляды отца, горделивые улыбки матери и резкие тычки от младших братьев. Едва Нимиш достиг совершеннолетия, Савита запретила его шлепать или как-нибудь еще наказывать, например, тягать за уши и щипать за нос. «А не то мозги набекрень свернутся».
«Чушь, — отвечал Джагиндер, — он несет такой вздор, что приличная встряска только на пользу».
Тем не менее отец подчинился запрету и перестал бить старшего, но зато еще суровее воспитывал близнецов — к их неподдельному ужасу.
Дхир как раз обсуждал состав различных уличных закусок.
— Бхэлпури[28] подают в конусе из листа малу, с выжатым соком лайма и тамариндовой приправой сверху — так слаще, — сказал он, тоскуя по кислой тамариндовой пасте, обильно сдобренной сладкими финиками, сахаром и сморщенным перчиком бедаги.
Никто его, похоже, не слушал.
Туфан угрюмо ел, а рядом лежала нераспакованная стопка комиксов — «Палладии», «Энни Оукли», «Рой Роджерс» и «Одинокий рейнджер».
— Вах. они соизволили встать, — съязвила Савита, заметив племянницу в пижаме.
Лицо у Мизинчика вытянулось. Отперев прошлой ночью дверь, она бросилась на кровать к Маджи, вцепилась ей в руку и представляла всякие ужасы. В конце концов, обессилев от усталости и слез, девочка крепко уснула, а наутро почувствовала себя чуть лучше. Вся семья, как всегда, сидела и завтракала. Мизинчик украдкой взглянула на Нимиша.
— Доброе утро, — поздоровался он спокойно и вернулся к своей книге.
Мизинчик не сумела ответить как ни в чем не бывало. Неужели он вычеркнул из памяти все, что случилось между ними прошлой ночью? Но она почему-то успокоилась, и ей даже стало чуть-чуть неловко. Незаметно усевшись на стул. Мизинчик пила чай маленькими глотками.
— Ними, дорогой, — ласково сказала Савита, засовывая сыну в рот свежий пористый миндаль, полезный для головного мозга. — Почитай что-нибудь из своей книжки, чтобы не слышать этого чавканья.
Нимиш быстро прожевал и сглотнул.
— Англичанин по фамилии Экерли рассказывает, как однажды гостил у индийского магараджи, — начал Нимиш и покраснел: утром он как раз дочитал до того места, где Экерли отмечает, что у индийцев поцелуй в губы считается полноценным половым актом.
— Прочти-ка что-нибудь, — подбодрила Савита.
Туфан демонстративно заткнул уши, а Дхир принялся обсасывать косточку манго.
Нимиш послушно раскрыл книгу:
— «Остальные гости отбыли тем же утром, и перед самым отъездом миссис Монтгомери дала мне последний совет. «Вам никогда не понять мрачный, извращенный ум туземцев, — сказала она. — Если даже вам это удастся, вы мне тотчас разонравитесь, поскольку сами утратите здравый рассудок»».
Савита злобно зыркнула на сына и сунула ему в рот еще одну миндалину — для ровного счета.
— Ну, давай, Мизинчик-дм, Маджи уже помылась, — сказала Кунтал, повстречав ее в коридоре. Служанка несла охапку постиранного вчера белья невозмутимому гладильщику. Его ларек стоял в тени по соседству и обслуживал всю улицу. Гладильщик приступал к работе на рассвете — разжигал огонь, чтобы накалить уголья докрасна, а затем пересыпал их в утюг. После этого, расстелив ткань на накрытом столе, мастер обрызгивал ее водой и начинал быстро, но тщательно гладить. Попутно он увещевал миссис Гарг, заявлявшую, что именно по его вине на воротничках ее мужа появились загадочные пятна губной помады.
Кунтал повела Мизинчика в детскую ванную. Девочка на миг замешкалась, вспомнив ночные страхи, но теперь все казалось таким обыденным и даже скучным, что она чуть не прыснула со смеху. Все эти годы дверь запирали на засов. Но после того как прошлой ночью Мизинчик ее отперла, не произошло ничего ужасного. Ну ничегошеньки!
Она сидела на низком деревянном табурете и мечтала о Нимише. Свои длинные волосы, покрытые пузырьками пены, она собрала на затылке в пучок и зажмурила глаза. Камень в груди потяжелел. Мизинчик вспомнила, как Нимиш прогнал ее, — каким равнодушным, даже ледяным голосом. Понемногу она стала зябнуть и потянулась за лотой, чтобы смыть шампунь. Ее рука опускалась все глубже в бездну латунного ведра, но вместо воды дотронулась до сухого дна. Хотя низкий деревянный табурет уже нагрелся от дневной жары, Мизинчик поежилась. Она нащупала кран, вслепую подставила ведро и услышала шум воды, поднимавшейся по трубе. Как только хлынула струя, тембр звука изменился.
Водопроводная система в ванной была испорчена, и там стоял странный металлический запах — это всех раздражало. Еще неаппетитнее смотрелась груда грязного белья, кисшего в углу. Каждое утро четверо детей с этим поневоле мирились, но труднее всех приходилось Мизинчику, ведь она мылась последней.
Еще больше похолодало.
Мизинчик решила, что она просто забыла запереть дверь на защелку, а Кунтал как-то незаметно прошмыгнула за бельем и устроила сквозняк.
Девочка вновь осторожно опустила руку в ведро, но, хотя отчетливо слышала, как хлещет кран, на дне не было ни капли.
Мизинчик опрокинула ведро ногой и, открыв глаза, в отчаянии попыталась стереть шампунь. В глазах защипало и потемнело.
Насколько можно судить, дверь надежно заперта. Во всей комнате — ни единого окна. Мизинчик оглянулась на перевернутое на бок ведро и в страхе отпрянула: оттуда хлынула вода, переливаясь через край и затапливая все вокруг.
Бросившись к двери. Мизинчик встряхнула волосами и стала дергать за ручку.
Дверь не открывалась.
За спиной поднялось что-то мокрое.
— Кунтал! — завопила Мизинчик, дубася кулаками в дверь. — Кунтал! Кунтал!
Ее голос отражался эхом от стен, словно в подводной могиле.
— Парвати! — позвала она вторую служанку. Та отличалась тонким слухом и всегда подлавливала на чем-нибудь детей, чтобы потом нажаловаться Маджи и выслужиться перед ней.
Мизинчик лупила по двери со всей мочи, но так никто и не пришел.
— Маджи! — закричала она. — Кто-нибудь, помогите!
Внезапно дверь распахнулась с потусторонним свистом.
— Зачем так орать? Я не глухая.
Это была Парвати. За ней стояли Дхир — рот склеен шоколадным батончиком — и Туфан с джутовым пистолетом.
— Вас не дозовешься! — воскликнула Мизинчик. Сердце у нее бешено колотилось.
— Тьфу ты! — вскрикнула Парвати, шагнув в ванную. — А зачем кран оставила? Ты ведь целый потоп устроила!
— Я… я… я… — Мизинчик расплакалась.
— Мизинчик ревет! — весело сообщил Туфан домашним. — Ба-бах!
— И почему у тебя шампунь в волосах?
— Эй! Что случилось? — донесся из общей комнаты низкий голос Маджи — бабушка заерзала, пытаясь встать с трона. — Мизинчик цела?
Невзирая на боль в суставах, она дотянулась до своей трости и поспешила внучке на помощь.
— Просто дверь от жары рассохлась, на?[29] — сказала Парвати, громко вздохнув. — Дурочка.
— Но… а… ведро, — всхлипывала Мизинчик, икая. Она злилась на себя за то, что поддалась эмоциям. Слово «эмоции» всегда было ругательным в доме Митталов, его шептали с таким же осуждением, с каким говорят о душевнобольных. Избыток эмоций приводит к уйме пороков: высокомерию, непослушанию, одиночеству — все это губительно для девушек и вредит планам замужества.
— Ну, что стряслось на этот раз? — спросила Савита, почти не разжимая губ. Рот у нее был набит заколками, которые она по очереди вставляла в громадный шиньон.
— Она застряла, — ответил Туфан.
— Хай-хай, — огорченно выдохнула Савита, злорадствуя над бедой племянницы.
— Наверно, у тебя жар, — сказала Маджи, предложив наиболее вероятное объяснение, и приложила ладонь ко лбу внучки.
Дхир неуклюже поковылял прочь. Туфан поскакал за ним, словно за убегающим буйволом, и понарошку повалил двумя меткими выстрелами из джутового пистолета. Савита направилась в другую сторону, громко цокая языком. Маджи и Мизинчик медленно побрели в зал, а Парвати захлопнула дверь ванной.
Быть может, это просто скрипнули петли или рассохшаяся дверь уперлась в раму, но Мизинчику послышался тихий стон.
Плакучая листва
Щурясь от яркого солнца, Мизинчик и Маджи брели по двору, срывая цветы для пуджи. Маджи глубоко вдыхала ароматы, проходя мимо бесстыдно-карминных гибискусов и застенчивых розовых жасминов. Наконец она остановилась под джутовой веревкой. Свежий запах белья сулил очищение от случайной скверны, возможно еще оставшейся на теле после утреннего купания. Уже было жарко, и безжалостные солнечные лучи опаляли кожу.
— Я устала, — сказала Мизинчик дрожащим голосом.
— Скоро гроза, — сказала Маджи. — Вот все и замирает. Ночью грянет гром, засверкает молния и подуют муссоны. — Она остановилась и с тревогой уставилась на внучку: — У тебя все хорошо?
Мизинчик кивнула.
Быстрые взмахи короткой метлы на задней веранде, негромкое хлопанье белья на веревке, жужжание пчел в цветах — все так обыденно, что ей даже стало немного стыдно за свою пугливость. Наверное, она просто не туда поставила ведро — не под самый кран, а подвинула немного вбок. Ведь когда Парвати подошла к двери, вода была еще открыта, глаза щипал шампунь, и Мизинчику было плохо видно. Возможно, она все перепутала.
Или Туфан запер дверь снаружи. Он проделывал это и раньше, закрывая наружный замок, и приходилось просить, чтобы выпустил. Туфан похож на те гуавы, что продаются на пляже Чоу-патти: их тонко нарезают и обильно посыпают толченым чили — сведет даже самый крепкий желудок. Брата назвали в честь цунами, что обрушилось на Бомбей в 1945 году, когда он родился; стихия сметала рыбацкие суда и затапливала прибрежные селения. Оправдывая собственное имя, Туфан сеял на своем пути одни разрушения.
В святилище для пуджи Маджи еле-еле опустилась на сиденье у самой земли — напротив черного мраморного алтаря с латунными и серебряными фигурками богов. Над огромным каменным лингамом[30] висела картина в рамке: Сарасвати, богиня мудрости, восседает на белом лотосе, а у ног ее — пестрый павлин. Мизинчик поставила цветы возле двух серебряных ваз: одна — с подслащенной халвой, другая — со свежими яблоками, бананами и кокосом. Бабушка и внучка зажгли дии и, молитвенно сложив руки, пропели Шири-мантру: «Ом бхур бхува сваха… О Творец Вселенной, податель жизни и счастья…»[31]
Мизинчик окропила атласные оранжевые лепестки перед богом Кришной и его возлюбленной Радхой[32]. Девочке нравилось ходить вместе с бабкой в святилище. Казалось, они ограждены здесь от всех житейских забот. После молитв обе отведывали халвы, густой и маслянистой от миндаля, и Маджи пересказывала какую-нибудь историю из великого эпоса. Бабка откидывалась назад, и глаза ее затуманивались.
— Жил-был когда-то на свете великий царь, и очень ему хотелось ребенка. Он молился долгие годы, и вот однажды родилась у него дочь. И превратилась она в красивую, умную женщину, но ни один мужчина не смел попросить ее руки. Тогда отец отправил дочь в путешествие, наказав отыскать мужа, достойного ее чар.
Мизинчик знала эту историю о Савитри из Махабхараты. Принцесса встречает благородного принца, который умрет через год. Она влюбляется и выходит за него замуж. В последний день его жизни они приходят в лес, где Яма, бог смерти, вынимает из тела мужа его душу. Не в силах расстаться с любимым, принцесса решительно преследует Яму по густым зарослям куманики и безлюдным местам. Наконец, уже на границе царства. Яма берется исполнить любое ее желание, но отказывается вернуть мужа к жизни. «Тогда подари мне много детей, — просит она, — и пусть отцом их будет мой супруг».
— Господь Яма усмехнулся: все-таки его перехитрили, — закончила Маджи. — «Ступай, — сказал он, — ты воскресила его». Она побежала обратно в лес и нашла там своего мужа: он словно очнулся от долгого сна. Они возвратились в его царство и правили вдвоем всю оставшуюся жизнь.
Мизинчик смущенно улыбнулась.
— Вот видишь, — добавила Маджи, подводя разговор к замужеству, — жена должна быть отважной, особенно если дело касается жизни мужа.
Мизинчик вспомнила свое признание Нимишу: ночью она думала не о нем, а о собственном счастье. И даже запретную дверь отперла с горя.
— Маджи, — неожиданно спросила она, — а почему ту дверь запирают на ночь?
Маджи горестно посмотрела на нее:
— Есть вещи, о которых лучше молчать.
Мизинчик потупилась. Видеть, как печалится бабка, было нестерпимо, и она больше не стала настаивать. Потому-то Мизинчик редко расспрашивала бабку о своей матери, хотя вопросов хватило бы на целую жизнь.
Маджи дотронулась до ее щеки:
— А теперь ступай — скоро придет дарзи[33] с твоими новыми нарядами. Возьми ключи и достань деньги из комода.
Из-за пояса у Маджи обычно торчала тяжелая связка из разукрашенного серебра, на нее были плотно нанизаны две дюжины ключей, похожих на орудия пытки. Все ценные вещи, даже одежда и древние беспошлинные товары из-за границы, хранились в бунгало под замком — на случай грабежа, ну и чтоб не вводить в соблазн прислугу. В каждой комнате было по несколько шкафчиков, каждый со своим ключом, и Маджи почти всегда носила связку с собой, если, конечно, не посылала Мизинчика с поручением. Даже во сне Маджи надежно прятала ключи под подушкой.
Китайские шкафчики скрипели, не желая открываться. Там хранились старые штаны из «Рэймонде Шопа»; коробка с глиняными лампадками, слегка пахнущими горчичным маслом; пожелтевшие письма, перевязанные бечевкой; лосьон после бритья; японский транзистор, так и не вынутый из кожаного футляра; стопка ярких териленовых рубашек и целый набор фигурок бога Ганеши в коробке из прозрачной пластмассы — чтобы не потускнели.
Элегантное кремовое пальто, слишком теплое для тропического климата, было обернуто просвечивающей тканью и слабо пахло тальком «ярдли». Спереди и на манжетах — серебряные пуговицы с выгравированным гербом: двумя императорскими львами. Пальто одиноко висело на крючке и казалось пустым, бесплотным. Мизинчик подумала, что его носила еще мама, и представила, как Ямуна просовывает тонкие руки в рукава, посмеивается в новом лахорском доме над непривычным зимним морозцем и думает, что впереди уйма времени — еще успеет свыкнуться.
Мизинчик погладила пальто и потрогала пуговицы, которых, возможно, касалась мать.
— Пошли, бэти[34], — сказала Маджи, войдя в комнату: к бедру она прижимала поднос со смесью орехов, — идем завтракать.
Маджи заметила пальто, и в груди проснулась застарелая, неизбывная боль. Его подарила дочь — вскоре после свадьбы. «Приезжай к нам в гости зимой», — написала Ямуна в письме, которое Джагиндеру пришлось читать вслух: Маджи так и не научилась ни читать, ни писать. Но она так и не поехала — не хотелось гостить у дочкиной свекрови, ведь та оказалась мелочной и бессердечной. «Приезжайте лучше вы к нам, в отпуск», — велела отписать Маджи. Однако эти планы не сбылись: начались стычки между индуистами и мусульманами. «Выбирайтесь, пока еще не поздно, — настойчиво советовала Маджи. — переселитесь в какой-нибудь безопасный район, с индуистским большинством».
«Но это же наша родина», — упрямился муж Ямуны.
А потом случилось невообразимое: Индия разделилась на три географические области, индуистов и мусульман принудительно размежевали. Неожиданно Ямуна оказалась беженкой — одной из многих, слишком многих, кто так и не успел пересечь границу.
В гостиной мелодичный голос Латы Мангешкар[35], искажаясь, доносился из новенькой «виктролы».
— Эй, — степенно отрыгнув, сказала Маджи прибывшему портному, — раз уж вы здесь, снимите с меня мерку для новой кофты и нижней юбки. На свою лучшую белую кофту я капнула чатни из самосы[36] на махаджановской свадьбе.
Портной обошел Маджи кругом, примеряясь так и сяк. Это был долговязый человечек с густыми черными волосами в носу и тоненькими руками. Своей обтрепанной мерной лентой он едва ли мог обхватить столь внушительные бедра.
Джагиндер приковылял в курте, обтягивающей солидное брюшко. Он являлся в контору значительно позже завтрака и все утро просиживал за угловым столиком в гостиной, разговаривая по трем телефонам одновременно. Попугно Джагиндер умудрялся пить обжигающий чай. Руки, рот и подбородок беспрестанно двигались, словно он был современной аватарой[37] бога Шивы.
— Ну и что с того, что грузовик перевернулся? — говорил он в первую трубку. — Платеж нужно произвести сегодня…
Во вторую:
— Разве я плачу тебе для того, чтобы ты разбазаривал мои деньги?
Ну и потом крысенышу Лалу — управляющему судоразделочного завода:
— Идиот! Тебе что, в башку напекло?
Если позже Джагиндеру требовалось что-ни-будь из дарукханской конторы у восточных доков — юридические документы, забытый портфель или коробка конфет из Гхаситарамовой лавки, — он тотчас отправлял шофера. Сделав домашнее задание, Мизинчик и близнецы иногда садились прокатиться вместе с Гулу. На заднем сиденье они слушали затейливые байки шофера, что поразительно напоминали новейшие фильмы на хинди, — вот только главным героем-любов-ником в них выступал сам Гулу. На прошлой неделе он разыгрывал из себя Раджендру Кумара по прозвищу Юбилей из «Кануна»[38] и преследовал собственного тестя за убийство.
В комнату влетела Савита, на руках — пара ярдов гранатового кандживарамского шелка.
— Я передумала. Это нужно сшить за два дня, — сказала она портному.
Тот приковылял к ней и потрогал дорогой материал, замирая от удовольствия.
— Мерки, — пропищал дарзи, лукаво отводя взгляд от пышных форм Савиты.
— Тьфу ты, — возмутилась она, оправляя на себе сари. — Ты же в прошлый раз снял.
Долго и медлительно прижимал он мерную ленту к ее стройной талии, изящной шее, голым плечам. А затем с довольным видом достал изо рта карандашный огрызок и нацарапал на бумажном клочке пару неразборчивых цифр.
В тот же день после обеда пришла семнадцатилетняя Милочка Лавате, соседка. Она была в сапфирном шальвар камизе[39] с золотистой накидкой, дупаттой, которую носила почти с каждым нарядом, набрасывая на плечи и грудь; накидка трепетала, словно крылья апсары[40] — небесной богини.
Поначалу Савита дразнила ее: «Милочка, дорогуша, что ж ты все время носишь одну и ту же дупатту!» Но Милочка лишь улыбалась да туже натягивала накидку. Она присмотрела ее, когда ходила с матерью за покупками на Колаба-козуэй. В витрине блеснул замысловатый узор с плакучей листвой, вышитый от руки: на темной позолоте — великолепная миниатюрная птичка пхулчаки с огненной грудкой: в жизни она размером с палец. Неугомонный цветосос, самая маленькая пташка Индии, заблудился в плотном лабиринте изумрудных лепестков, угодил в ловушку и звал самца с малиновым сердечком: чик-чирик.
Милочка стала упрашивать мать купить ей дупатту. «Я доложу ее в твое приданое, — пообещала Вимла. — Такая диковина годится лишь для новобрачной». Но Милочка настаивала, и отзывчивая Вимла уступила. С тех пор Милочку редко можно было увидеть без накидки.
— Намаете[41], тетя-джи Маджи, — скромно улыбнулась Милочка, входя в дом, и протянула коробку со сладостями. — Мама утром сходила в Гхаситарамову лавку.
— Он готовит вкуснячие паквааны — выпалил Дхир и вспомнил хрустящие жареные скорлупки, посыпанные дымящейся чечевицей. Он всегда покупал их, когда отец водил его в гости к своему другу, что живет на Нараян-Дхурусгрит — всего в двух кварталах от лавки. Еще через один переулок, на Калбадеви-роуд, рабочие расплющивают серебряные слиточки и делают тончайшую фольгу для конфет.
— Сегодня я купила только ладду, — призналась Милочка, откинув крышку.
Дхир тотчас завился вокруг нее ужом, хватая пухлыми пальцами липкие желтые шарики, испеченные из сладкой нутовой муки.
— Это тоже тебе, — сказала Милочка и протянула ему шоколадку «Кэдберри».
— Спасибо, диди\ — поблагодарил Дхир, уважительно назвав ее старшей сестрой, спрятал шоколадку в карман и скрылся в своей комнате.
— А мне? А мне? — нетерпеливо завопил Туфан.
— Сегодня ничего, — Милочка погладила его по голове. — Но как только выйдет новый «Моряк Попай»[42], обязательно принесу.
Туфан схватил один сладкий шарик и потащился прочь.
— Когда ешь, не думай ни о ком плохо, — крикнула Савита ему вдогонку, — а то живот разболится.
Нимиш стоял в отдалении, со стопкой книг в руке.
— Что ты сегодня читаешь? — спросила Милочка, повернувшись к нему.
Нимиш опустил взгляд, разбирая название, но сердце так и выпрыгивало из груди. Он влюбился в Милочку, когда она еще носила детские платьица до колен. Он полюбил ее так сильно, что каждую ночь прокрадывался к отверстию в стене и любовался тамариндом на соседском дворе. Дерево посадили еще в начале века, когда бунгало Лавате на Малабарском холме[43] владел сэр Райфус Пайтон. Согласно местному преданию, сэр Райфус приехал по делам в португальский колониальный порт Гоа, к югу от Бомбея, и какой-то дерзкий мальчишка оскорбил его прямо в лицо, а затем стремглав убежал.
«Тамариндовая башка, сэр, — перевел проводник и замахнулся кулаком, искусанным москитами. — Этот чертов кули обозвал вас тамариндовой башкой!»
Райфус вскоре выяснил, что жители колонии, забредая в квартал туземцев, вставляли себе в уши тамариндовые стручки. «Проклятые туземцы верят, что в стручках обитают злые духи, — объяснил проводник и расхохотался. — Вот мы и пошли на хитрость: засовываем стручок в ухо, и они к нам больше не цепляются».
Возвратившись на Малабарский холм, Райфус немедленно приказал посадить тамаринд: его особые свойства должны были подействовать и в Бомбее. И они впрямь подействовали — наверное, даже чересчур, так что Райфус вернулся в Англию намного раньше своих соотечественников.
Меж тем маленький тамаринд спокойно рос, покрываясь легкой перистой листвой и небольшими желто-красными соцветиями. Каждую зиму дерево приносило кислые плоды, ими лечили язву, запоры и лихорадку, а также добавляли в разные блюда — для кислинки. Милочка обожала длинные тамариндовые стручки с коричневой съедобной мякотью, сладкой и в то же время кисловатой.
«Держись подальше от дерева, — наставляла ее мама Вимла с самого детства. — Оно опасное. По ночам в нем живут злые-презлые духи. Погляди, даже листочки свернулись от страха».
Но Милочка ее не слушала. Тамаринд стал ее отрадой — единственной отдушиной в слишком уж безопасной жизни. По ночам, пока все спали, Милочка частенько забиралась на дерево через окно и лежала на прохладном сером стволе.
А Нимиш следил за ней каждую ночь: подкрадывался к небольшому отверстию в дальнем конце стены и подглядывал. Он заставлял себя подойти к ней, но его сковывала нерешительность, и он всегда возвращался в постель — безутешный и полный сомнений.
Разумеется, Нимиш никому не рассказывал о своих чувствах и ночных вылазках. Романтическая любовь — она ведь только в кино, а в приличной индуистской семье для нее нет места. Так же, как предки, он должен жениться на той, чей гороскоп соответствует его натальной карте. Его семья была родом из Пенджаба — северо-западного района Индии, а семья Милочки — махараштрийская, из самого Бомбея. Хотя оба семейства тесно общались, не могло быть и речи о браке с членом другой региональной общины. Но когда дело касалось Милочки, привычный здравый смысл Нимишу изменял.
«Ними, имя твоей будущей жены начертано на небесах», — всегда говорила мать.
Но едва Нимиш начал себя осознавать, он решил нарушить эту древнюю традицию и во что бы то ни стало жениться на Милочке. Сейчас он покрутил в руках книги, пытаясь скрыть волнение, а затем протер краем рубашки очки.
— Ответь ей, Ними, на? — встряла Савита и ткнула в книгу «Синд, или Злосчастная долина», которую написал знаменитый путешественник Ричард Бёртон[44]. — На вид занятная.
— «Как милы восточные ночи, — послушно прочитал Нимиш на заложенной странице. — Особенно если сравнивать их с немилосерднейшими восточными днями!»
«Как милы… Милочка», — подумала Мизинчик, и у нее защемило в груди.
Савита фыркнула:
— И что уж такого милого-премилого в английском-то небе? Оно ведь цвета гнилого риса, да еще такое холодное, что у всех англичан носы вечно синие!
Милочка прикрыла рукой улыбку и скромно отвела взор от Нимиша.
Затем, поправив гирлянду из возбуждающих цветов могра на своих блестящих волосах, она повернулась к Мизинчику:
— Маджи сказала, тебе нужно проветриться. Пойдем в парк?
Мизинчик кивнула, но заметила покрасневшие щеки Нимиша, и ее кольнула ревность.
Едва они ушли, Маджи решила обсудить с матерью Милочки, Вимлой, последние брачные предложения, которые передала миссис Гйрг. Эта навязчивая женщина с орлиным носом жила чуть дальше по улице и считала себя главной местной свахой, хоть за ней и тянулся длинный шлейф неудач. Первое предложение Милочке сделали в четырнадцать, а теперь она девушка на выданье, и тонкий ручеек разлился полноводной рекой.
Матери всей махараштрийской общины прочили семнадцатилетнюю Милочку в жены своим сыновьям, учитывая не только ее сногсшибательную внешность, но и практическую выгоду: семья ведь богатая, да и дочь воспитывали в строгости. У современных девушек, сетовали Маджи с Вимлой, совсем нет достоинства, они красятся и расхаживают по городу после занятий, словно бесстыжие кинозвезды. «Эти пади-ликхи[45] едва научились читать да писать, а уже считают себя королевами», — сурово осуждала их Маджи.
— Моя Милочка не такая, — сказала Вимла.
— Да-да, она славная девушка.
— И приданое уже почти готово. Намедни ювелир принес последние комплекты. Все наволочки вышили и даже заказали холодильник.
— А машинку «зингер-швингер»?
— И ее тоже. Правда, без швейных ножниц.
— Правильно, ничего острого — чтоб не поранила молодого мужа!
Обе женщины захихикали и продолжили поиски жениха, степенно попивая чай.
— Но она бывает такая переборчивая, — пожаловалась Вимла и раскрыла вишневую матерчатую сумочку, куда складывала все предложения, обвязывая их золоченой нитью из храма. — На нее не угодишь.
— В наши-то времена девушкам выбирать не приходилось, — сказала Маджи, рассматривая черно-белый снимок молодого человека с густыми напомаженными усами.
— Что-уж-тут-поделаешь! Дети больше не следуют старым обычаям. — печально пробормотала Вимла и вспомнила, как безжалостно бил ее муж — кулаком в живот, по лицу, по спине…
— Милочка сделает, как вы попросите, — сказала Маджи, погладив Вимлу по коленке.
— У меня дурное предчувствие, — вдруг призналась Вимла, и на глаза ей навернулись слезы. — Словно случится что-то страшное, и я не выдам ее замуж.
— Вам просто не хочется с ней расставаться. Но это же так естественно, ведь дети — не наша собственность.
Вимла кивнула и вытерла лицо вышитым носовым платком. Но предчувствие не покидало, надвигаясь, словно тень. Вимла пролистала пачку и наткнулась на самое последнее предложение: молодой врач с лицом пшеничного цвета, коллекционирует американские автомобили и бабочек.
— А как вам этот?
— Нет, — сказала Маджи, прищелкнув языком. — Взгляните на его глаза. Жесткие, как камень. Он будет обижать вашу Милочку.
Вимла еще раз посмотрела на красивое лицо юноши: нос с горбинкой, аккуратно подстриженные усы, и лишь потом — на глаза. Взгляд и впрямь жесткий, изумилась она. И жутко похож на взор ее покойного мужа.
Густые грозовые тучи заволокли все небо, но солнце по-прежнему палило. Мизинчик и Милочка отыскали тенистое место и расстелили покрывало. Они немного посидели молча, каждая погрузилась в собственные мысли — так, словно листья унесло ветром. Над мусорным ящиком париком повисло облако мух. Неподалеку детишки визжали от восторга, играя в «башмак ста-рухи-великанши». Юноши открыто пялились на Милочку и, прохаживаясь мимо, старались поймать ее взгляд. А старики украдкой бросали тоскливые взоры, за что жены лупили их ридикюлями и тягали за дубленые уши.
Милочка не обращала внимания, будто и не догадывалась, какая она красивая. Ну а Мизинчик заглушала в себе ревность и подозрительность. «Она тоже его любит?» Раньше Милочка делилась с Мизинчиком секретами: давала советы перед первыми месячными, рекомендовала есть «небесный фрукт» и кору ашоки, чтобы грудь лучше росла. Но хотя они были так близки и полностью доверяли друг другу, порой Милочка умолкала и задумывалась, а лицо ее становилось непроницаемым. Догадываясь, что она не расскажет о ночных событиях в саду, Мизинчик решила обсудить другую животрепещущую тему.
— Ты знаешь, диди, — начала она, — что дверь одной нашей ванной запирают на ночь?
Сначала Милочка смутилась, а затем вдруг поняла. Она поднесла изящную руку к губам:
— Правда?
— Ты ведь знаешь об этом?
Милочка покачала головой.
— Нет, знаешь! — воскликнула Мизинчик и схватила Милочку за руку. — Расскажи мне!
Милочка вздохнула, вспоминая тот день. Ей было всего четыре года, но утром она взобралась на тамаринд, пока родители спали, и выследила старшего брата — тогда еще мальчонку. Он перешел двор и шмыгнул в проход к соседнему бунгало. Брат проник через боковую дверь — ее отпирали на рассвете, чтобы слуги могли свободно входить и выходить. Немного спустя он вернулся с печеньем, которое украл из чулана Маджи, и уже успел набить им рот. Она не рассказала родителям — особенно после всего случившегося. Долгие годы Милочка мучилась от этого, но теперь уже незачем раскрывать тайну.
Она снова вздохнула:
— Это тетушка Савита ввела такое правило — запирать дверь. Ты же знаешь эти ее суеверия и пережитки.
В самом деле, Савита всегда боролась с призраками и злобными духами, оберегая свое счастье, которое они норовили разрушить. Потрясая черным карандашом для подводки, точно мечом, она защищала сыновей от нечисти, затаившейся поблизости, и рисовала черные точки у них за ушами — от сглаза.
— Но ее-то ванная ночью открыта, — сказала Мизинчик.
— Больше я ничего не знаю, — быстро ответила Милочка и отвернулась от подруги. Золотистая накидка соскользнула с плеч, и мужчины, проходившие мимо, замерли от восторга при виде покатых бедер, которые открывал разрез на камазе.
Ведьма
Кондиционер гудел, а в ночном небе грохотал гром. Душный воздух наваливался, словно груда кирпичей, и Мизинчику мерещилось, будто спадает плотная драпировка, под которой что-то скрывается.
Девочка встала и зашагала по комнате, дожидаясь, пока Маджи впадет в забытье: во сне она обычно разговаривала, шептала и даже порой молилась, перебирая пальцами невидимые четки. В голове у Мизинчика все так и зудело: мысли опережали одна другую, но каждая приводила к запертой двери. Вчера девочка спросила о ней Дхира и даже попыталась подкупить Туфана, но ни один из близнецов так и не смог ответить. Мизинчику оставалось лишь отправиться прямиком к тетке.
Савита была единственной дочерью во влиятельной семье из Брич-Кэнди — старинного, закрытого британского анклава. Она хорошо усвоила женскую науку: как подбирать комплекты сверкающих драгоценностей, умасливать деловых партнеров мужа и облачать свое великолепное тело в непомерно дорогой шифон. Но лучше всего научилась она вызывать зависть у подруг за чашкой огненного пряного чая. «Нимиш — такой славный мальчик! Отец обязательно передаст ему бизнес… Одну или две ложки сахара?.. У Дхира просто феноменальная память. Помнит все, что ел за обедом неделю назад!.. А малыш Туфан — такая умничка. Первый в классе по математике!.. Печенья? Нет, ты просто обязана попробовать, это же импортное».
Соревнование с подругами за «самую первосортную и самую первоклассную жизнь» превратилось в особый вид спорта, и суммарный счет подводился в умах соперниц каждую неделю. На одной первое место заняла Зарина: ее кузина объявила о помолвке с молодым человеком из влиятельной семьи автопромышленников. На следующей — Анджали, что записалась в класс живописи, хотя мужнина родня и возражала. Мамта выбилась в лидеры, как только наняла второго шофера, жутко похожего на кинозвезду Дэва Ананда[46]. А Зарина с ее моложавым лицом еще долго не сходила с дистанции — даже после того, как сбежала с тощим иностранцем, приехавшим в Бомбей по программе Фулбрайта[47].
Савита всегда в жизни стремилась побеждать. Еще в прошлом месяце она не приняла соседку в члены своего закрытого обеденного кружка. Савита предусмотрительно обзвонила кучу сплетниц, сочинив историю о том, как соседка средь бела дня втирает себе в грудь настоянный на розах творог. Для бедняжки не только закрылась дорога в кружок, но ее также внесли в черные списки всей приморской части города. Словно для того, чтобы унизить женщину еще больше, пару месяцев компания хорошо воспитанных молодых людей собиралась перед воротами ее дома; парни смотрели в бинокль, выставляя напоказ неприличные выпуклости.
Да уж, Савита была грозным врагом, и ее гнев чаще всего выливался на Мизинчика.
Кондиционер громко затрещал и заглох. Мизинчик подошла, щелкнула выключателем, но не послышалось ни звука — даже скрипа. Она вздохнула: опять сломался.
Маджи забормотала во сне, ворочаясь на кровати.
Мизинчик живо распахнула оба окна в аллею, и девушку тотчас окутал душный ночной воздух. Снаружи все было тихо. Умолкли даже сверчки. Ночная рубашка промокла от пота. В горле пересохло от жажды. Мизинчик включила старинный вентилятор, тот постепенно ожил и стал гонять густой воздух, но это не приносило облегчения.
Маджи вдруг застонала и лязгнула зубами. Потом распахнула глаза и села в кровати — бабке давно уже не удавалось этого сделать, пока она бодрствовала.
Мизинчик открыла в изумлении рот.
— Я знаю, Савита, все знаю, — сказала Маджи глухим голосом, уставившись в противоположную стену немигающим взором; изо рта потекла слюна.
Затем Маджи снова откинулась на кровать и захрапела. Ее сон нарушил лишь «хороший дядя» премьер-министр Неру, что склонился, будто собираясь куснуть ее за ухо, и вкрадчиво напевал: «О, моя дорогая матушка Индия».
Мизинчик стояла рядом, сердце колотилось в груди. На кровати лежала Маджи — она говорила во сне и шептала что-то бессвязное.
В небе сверкнула молния.
— Сказали, что она ведьма, — с жаром зашептала Маджи. Дышала она тяжело и быстро, будто в панике. — Она — ведьма! Ведьма! Ведьма!
Мизинчик выбежала за дверь, и тут же пророкотал гром.
Пока Мизинчик ждала в темноте, переводя дыхание, ее обнял душный воздух коридора. Пару минут спустя Джагиндер распахнул дверь спальни и прошмыгнул в прихожую. Его рубаха сверкнула в лунном свете. Вскоре послышался приглушенный щелчок зажигания, а затем — шум двигателя и скрип ворот. Джагиндер уезжал из бунгало чуть ли не каждую ночь. Мизинчик понятия не имела, куда он отправляется, но знала, что эти полуночные отлучки очень тревожат Маджи.
Мизинчик подкралась к дверям спальни и заглянула внутрь.
Тусклый свет слабо озарял комнату, что была обставлена шикарной белой мебелью с защитной металлической окантовкой. Мебель входила в приданое Савиты, которое доставили прямо перед свадьбой.
«Увезите это обратно», — сказала Маджи, в ужасе уставившись на блестящие серебристые стулья. Она содрогнулась от мысли, что белый — цвет траура — столь некстати проник в ее дом. Не говоря уж о том, что этот суперсовременный гарнитур плохо сочетался с величавыми цветами бунгало — ее бунгало. Джагиндер промолчал, но скрытая демонстрация силы будущей жены его заинтриговала: ведь она уже побывала в доме после помолвки и прекрасно знала его стиль и колорит.
На помощь пришла дочь Маджи, Ямуна, которая тогда еще была не замужем.
«Да нет, мамочка, — сказала она, — она же не белая, а голубоватая — как та керамическая ваза «сэйдзякудзи» из Японии. Почти молочная».
«Белый — он и есть белый», — проворчала Маджи, но под конец уступила, тем более что жуткий гарнитур все равно должен был стоять в спальне Джагиндера и Савиты.
Савита уселась перед изящным трюмо, зажгла свечу, и серебристую обшивку усеяли мириады светляков. Зеркало на стене завесили тончайшей тканью. В жилище Митталов зеркала были редкостью: Савита полагала, что в них прячутся злые духи, которые любят красивых детей и норовят сглазить ее мальчиков. Когда Савита не смотрелась в свое зеркало, она покрывала его тонкой хлопчатобумажной простынкой, а овальное зеркальце с блестящей латунной подставкой прятала у Маджи на комоде.
Савита провела рукой по хрустальным флакончикам с аттарами[48], коснувшись каждого, — будто совершала ритуал. Потом переставила набор цветных стеклянных баночек из Уттар-Прадеша, что отсвечивали в мерцании свечи, раскрыла обшитую серебром пудреницу и поднесла к носу пуховку.
На краткий миг Мизинчик с тоской вспомнила мать.
Савита взяла полированную серебряную шкатулочку с бинди[49] для лба и поставила перед собой. Погладила, придерживая крышку рукой, словно боялась, что нечаянно снимет ее с петель. Неторопливо открыла шкатулку и стала рыться внутри. Она достала квадратный клочок бумаги и уставилась на него. Нежно потрогала бумагу и расплакалась.
Мизинчика бросило в жар от стыда, она попятилась из комнаты и случайно задела гирлянду из крохотных птичек с серебристыми клювиками, висевшую в дверном проеме.
Савита подняла глаза: в зеркале отразилось ее жутковатое перекошенное лицо.
Мизинчик стремглав понеслась по коридору. Темнота кухни поглотила ее, и девушка вмиг распласталась на полу.
Несколько минут спустя она увидела странно освещенную полу халата, волочившуюся по земле. Изысканные ступни с бриллиантовыми кольцами на пальцах медленно прошагали по западному коридору, мимо спальни мальчиков, и остановились.
Мизинчик приподняла лицо.
Это была Савита.
В руке она высоко держала свечу и пристально смотрела на засов ванной.
Раздумывать было некогда. Мизинчик помчалась по коридору к спальне Савиты и одним махом раскрыла серебряную шкатулку с бинди на туалетном столике. Мизинчик знала, что Дхир однажды залез туда и в восторге рассортировал украшения по цвету, форме и назначению. «Для храма, — пересказывал он потом, — для обеда, для магазинов, для ссор с папой…» Савита неожиданно вернулась к себе после завтрака и отвесила ему такую оплеуху, что он отлетел через всю комнату. «Не смей больше никогда ее трогать», — прошипела Савита и лишь с трудом успокоилась. Дхир свернулся калачиком на полу и остаток дня провалялся в соплях и слезах, не реагируя даже на Мизинчика, предлагавшую батончик «перк».
В шкатулке для бинди лежал тот самый квадратный клочок бумаги, над которым Савита расплакалась. Это была черно-белая фотография. Вверху — размытая рука с тонкими браслетами на запястье. Рядом погремушка, а прямо под ней туго запеленатый младенец. На обратной стороне нацарапано одно слово: «Чакори» — и дата: 1947 год.
Младенец.
У Мизинчика екнуло в груди и зашумело в ушах. Она уронила снимок и обернулась к выходу.
В дверях стояла Савита, белая от ярости.
Она спокойно закрыла дверь, прошагала к Мизинчику и дала ей пощечину.
Мизинчик отшатнулась.
— Как ты посмела?! — прошипела Савита. — Прокрасться в мою спальню, как воровка!
Мизинчик что-то залепетала, схватившись за щеку. Гул в голове перерос в какофонию голосов. Девочка заткнула уши, но навязчивые, заглушавшие друг друга голоса не смолкали.
Савита выдернула пальцы Мизинчика из ушей.
— Хочешь знать, из-за чего я тебя ненавижу? — Она резко схватила фото со стола и ткнула Мизинчику в лицо: — Ты здесь потому, что она умерла!
Мизинчик увидела пухлые щечки младенца и блестящие волосики — прилизанные, как у всех новорожденных. Его глазки, еще закрытые от мира, и толстые ресницы в капельках влаги. Сумбурные, бесплотные голоса продолжали стенать.
— Это ведь ты должна была умереть, ты! Когда Маджи привезла тебя, ты была такая квелая, такая мозглявая, вся кожа в прыщах. — Савита скривилась в отвращении. — Но ты выжила, а моя кровиночка умерла…
Она разрыдалась. Слезы текли по щекам, шее и собирались в ложбинке между грудями.
— Простите, — выдавила из себя Мизинчик. Голоса в голове оглушительно гремели.
Савита откинула волосы назад.
— Этот дом никогда не станет твоим, — сказала она. — Я отправлю тебя обратно. Клянусь!
Утопленница
На следующее утро Мизинчик неподвижно стояла в ванной, прислонившись к двери. Пол остался после мальчиков мокрым, а ведро с водой — наполовину пустым. «Умерла новорожденная, — печально размышляла Мизинчик, — и меня взяли вместо нее». Но все было не совсем так. Савита не хотела ее, Джагиндер — тоже. Это утаивали от Мизинчика, хотя в доме Митталов секреты строго возбранялись.
Если днем хотя бы ненадолго закрыть дверь, тебе делали замечание и дотошно расспрашивали: чем ты там занимаешься — может, чем-то предосудительным? Единственный законный повод запереться — одно из трех ежедневных очищений: от внутренней, внешней или незримой скверны. Другими словами, для уединения отводились лишь туалет, ванная и комната для пуджи. Ну или уединяйся ночью.
Мизинчик с ужасом вспомнила, как вчера перепугалась. Но все трое кузенов уже благополучно помылись и вышли, раскрасневшиеся, обмотав бедра полотенцем. Тогда Мизинчик успокоилась и проворно закрепила косы на макушке.
В следующий миг она заметила, что с табурета исчезло квадратное коричневое мыло, которое там всегда лежало. Стараясь не впадать в панику, Мизинчик громко вздохнула, будто в раздражении, и решила, что Туфан просто забыл положить мыло на место. Но, отправившись по коридору в кладовку, она заволновалась: «А вдруг не забыл?»
В кладовке всегда было темно: когда в дом проводили электричество, решили, что здесь освещение не нужно. Дневного света, проникавшего сквозь узкий проход на кухню, едва хватало для того, чтобы различить мешки с рисом «басмати», что спокойно дозревал с одной стороны, и банки с закусками — пропаренным рисом в пятнах куркумы и соленой чевдой[50], которые аппетитно выстроились на полке. Здесь же стоял небольшой второй холодильник, списанный с корабля на судоразделочном заводе Джагиндера. Шкаф изредка погромыхивал, словно больной гриппом. В кладовке пахло старой бумагой, пылью и засохшим печеньем. Этот запах обычно казался таким уютным, но сегодня вывел Мизинчика из себя. В каком-то безумии она ощупала угол верхней полки, где хранилось мыло, и вытащила брусок «люкс» с выдавленной надписью «только для кинозвезд», но им пользовалась лишь Савита. Пошарив еще немного. Мизинчик обнаружила коричневый брусок и помчалась в ванную, убегая от непривычной тишины.
— До сих пор не помылась, Мизинчик-ды? — спросила Кунтал, подметая коридор.
— Мыла нету!
— Как это нету? Я же только вчера принесла новое. — Кунтал просунула голову в ванную. — Так вот же оно — прям на табуретке!
Мизинчик на миг застыла от ужаса, но тотчас вспомнила вчерашний смех Туфана.
— А я и не заметила.
— Серое на сером — где уж тут заметить, — добродушно сказала Кунтал.
Мизинчик отдала новый брусок и шагнула в ванную.
Девочка трижды открыла и закрыла дверь, проверяя, не застревает ли, и только потом заперлась на задвижку. Раздевшись, Мизинчик уселась на деревянный табурет и вылила на плечо лоту воды. Ополоснула лицо, намылилась и ополоснулась вновь.
В ванной похолодало.
Даже с закрытыми глазами Мизинчик увидела, как внезапно вспыхнул свет.
Латунное ведро ослепительно засветилось. Да так ярко и мощно, что девочка закрыла глаза руками.
Прижав ладонь к губам, чтобы не закричать, она кинулась к двери и навалилась на нее.
— Помогите! — завопила Мизинчик, жмурясь от нестерпимого блеска. Птза слезились из-за слишком резкого света.
Дрожащими пальцами Мизинчик пыталась нащупать дверную ручку. Неожиданно девочка вспомнила, как Маджи сказала вчера в комнате для пуджи: «Бэти, бог Вишну[51] никогда не дремлет, и он всегда придет к тебе на помощь». Затем бабка быстро сунула горсть изюма ей в рот. Этот прасад[52] из миндаля и изюма, освященный богами, все еще был внутри. Мизинчик ощутила прилив сил. Сегодня у нее был запор — редкий случай, и, значит, бог Вишну, воплощение милосердия и доброты, пребывал с ней, в ее кишечнике.
— Никого я не заменяю! — закричала Мизинчик, повернувшись к свету, нащупала задвижку и открыла ее. — Маджи любит меня!
Вдруг все стемнело.
Мизинчик открыла глаза и с минуту привыкала к полумраку. Ванная казалась такой же будничной, унылой и пустой.
Девочка схватила полотенце и опрометью выскочила наружу.
Она опять спаслась.
В тихом и безопасном святилище для пуджи Мизинчик расплакалась и во всем созналась Маджи.
— В ванной что-то есть!
— Что ж там может быть, девочка?
— Свет! Яркий-преяркий. Я зажмурилась, но видела.
— Наверно, у тебя жар, — сказала Маджи и потрогала ее лоб. — Иногда от него ум за разум заходит и в глазах темнеет…
Мизинчик покачала головой. Всю жизнь она слышала рассказы о таинственных привидениях и злых духах, что насылают чары на беззащитных жертв. Даже ее любимая учительница из католической монастырской школы, сестра Прамила, которая носила в кармане сутаны статуэтку младенца Кришны, однажды рассказала, как их одноклассница нарвала цветов на душистом поле за школой, а потом у нее страшно разболелся живот. «Она была непослушная девочка, — сказала сестра Прамила замогильным голосом. — Плохие-преплохие духи вошли к ней в живот, и бедным родителям пришлось везти дочку в Мехндипур — а это аж в самом Раджастхане! — дабы исцелить ее. Христе Боже, помилуй ее!»
— Да не жар это был, — не унималась Мизинчик. — Наоборот, я озябла, и было так страшно… будто призрака увидела…
— Сядь, — перебила ее Маджи, махнув рукой, и насупилась. Она помолчала, выбирая историю, а затем притянула внучку к себе: — Знаешь рассказ о рани Джханси?
Мизинчик потупилась.
— Она была царицей и сражалась с британцами во время Первой войны за независимость[53]. Когда напали на ее царство, она сбросила с себя покрывало и встала во главе войска. Царица не ведала страха.
Мизинчик подняла глаза.
— Она облачалась в воинские доспехи, но перед битвой всегда надевала золотые ножные браслеты.
— И что с ней случилось?
— Ее смертельно ранили, и земляки положили ее под манговым деревом.
— Она умерла?
— Да, но память о ней чтят по всей Индии. — Маджи пропела строчку из песни деревенских женщин: — «Имя ее столь священно — мы поем о ней лишь на рассвете».
Наступила долгая пауза.
— Когда люди боятся, им повсюду мерещатся темные, потусторонние силы. Если тебя что-то пугает, ты должна с этим бороться, — сказала Маджи. — Помни о рани. У тебя тоже есть внутренний стержень.
— Но…
— Ты уже не ребенок, — сказала в завершение Маджи. — Отвыкай от сказок. Не желаю слышать все эти россказни о призраках. Так говорят лишь неучи да бродяги.
— Но в них верит тетя Савита…
Маджи нахмурилась:
— Она рассказала мне, что ты ночью заходила к ней в комнату. Зачем?
— Я увидела, что она плачет. Она держала фотографию… Мне захотелось взглянуть. Там был младенец. Девочка!
Маджи и вида не подала, что знает об этом снимке. Лишь обхватила голову и закрыла руками глаза:
— Кью? Кью?[54] К чему ворошить прошлое?
— Мне просто хочется знать, что случилось, — тихо сказала Мизинчик.
Маджи тяжело прислонилась спиной к стенке. В душу нахлынули воспоминания.
— Уходи! — вдруг крикнула она, прогоняя Мизинчика рукой. — Уходи же!
— Маджи? — испугалась Мизинчик.
Но Маджи не слышала: она уже окунулась в беспощадную тьму.
Маджи тонула в незабытом прошлом — возвращалась в то далекое утро, когда привычно обходила бунгало. «Никакие пороки не омрачат для нас Солнце — мировое око, — повторяла про себя Маджи строки четырехтысячелетних Упанишад[55], — так и единое Я, пребывающее во всем, не осквернят несовершенства этого мира».
Едва Маджи миновала библиотеку, Джагиндер потребовал молочную смесь — дымящуюся сладкую кашу, от которой набухнут порожние груди Савиты. Выскочив из детской ванной, молодая айя[56], помчалась на кухню; огненно-красное сари она стянула на поясе, чтобы не замочилось. Через секунду нянечка выбежала с лакированным подносом и ринулась по коридору к комнате Савиты.
Маджи завершила полный круг и начала следующий, как вдруг услыхала судорожные всхлипы. В ванную вели следы мокрых ног. Переступив порог, она увидела, что айя трясет младенца, пытаясь оживить его крошечные легкие. Пшдя на ребенка, Маджи подумала лишь одно: «Синюшной родилась — такой и померла».
Когда стало ясно, что помочь уже нельзя, Маджи сама взяла бездыханное тельце, легкое, как полдюжины манго. Она молча вывела айю на переднюю веранду.
— Эй, Гулу, — позвала она семейного шофера низким, скрипучим голосом.
Он как раз сидел у себя в гараже и причесывался, но прибежал в мгновение ока. Одну половину волос он аккуратно, натерев маслом, уложил волной, а вторая стояла дыбом, словно уже услыхав страшную новость об увольнении айи. Шепнув ему на ухо приказание, Маджи достала из-за пазухи свернутую пачку рупий — высоченные груди натягивали блузку — и вручила шоферу. Гулу не хотелось выполнять поручение, но айя без единого слова скользнула на заднее сиденье черного «амбассадора». Ее красное сари намокло, глаза распухли.
Маджи не стала дожидаться, пока он тронется, накрепко закрыла ржавые зеленые ворота, заросшие побегами жасмина, и заперлась в своей скорбной крепости. Она поспешно возвратилась в ванную, побаюкала на прощанье любимое дитятко с амулетом из золотых и черных бусин на шее и омыла тельце от грязи, приставшей, пока оно лежало на земле. Оторвав край своего домотканого сари. Маджи завернула младенца в эту бесцветную траурную ткань и прижала его к груди.
Она все же нашла в себе силы постучать в дверь. Савита полулежала с закрытыми глазами, откинувшись на большие вышитые подушки, и темные волосы ниспадали ей на плечи, точно пышные лозы бугенвиллеи. Джагиндер сидел рядом на кровати и заботливо кормил ее кашей с ложечки.
Стоя в дверях, Маджи наблюдала за этой трогательной сценой. На миг она вспомнила дочь Ямуну — еще живую, но уже беженку в другой части страны.
— Ma? — сказал Джагиндер и со стуком опустил ложку в миску. — Что-то случилось?
Воздух стал вдруг прозрачным и светлым, переливаясь сотнями красок, словно Джагиндер и Савита уже ощутили всю важность момента — того краткого мига, когда их жизни висели на волоске.
Покачав головой, Маджи стиснула окоченевшего младенца — всего разок, совсем чуть-чуть, но этого хватило.
Савита завизжала.
Маджи увидела широко распахнутые глаза сына и за долю секунды поняла, что смерть младенца — лишь первая весточка грядущего Джаггернаута[57]. Самое худшее — еще впереди.
Джагиндер попытался встать, но оступился. Стиснув зубы, он все же поднялся.
— Айя, — сказал он. Это был не вопрос, а утверждение.
— Несчастный случай, — прошептала Маджи.
Джагиндер уже выскочил из комнаты и понесся с грохотом, наклонив голову и грозно сжав кулаки.
Где-то на другом конце бунгало захныкали близнецы.
— Отдайте ее мне! — закричала Савита и прижала младенца к груди. Спальня огласилась ее воплями.
Маджи стояла рядом, в душе у нее разрасталась бескрайняя чернота.
Она — глава семейства.
Ей плакать нельзя.
Нужно держать себя в руках.
Нектарницы
Мизинчик потрясла грубость Маджи, и девочка заперлась в туалете. «Уходи! Уходи же!» Раньше бабушка никогда не отталкивала ее. «Если Маджи меня разлюбит, — подумала Мизинчик, — у меня больше никого не останется». Кто бы ни прятался в ванной (а Мизинчик не сомневалась, что там таится нечто), он уже отдалил ее от бабки. Больше всего на свете девочке хотелось перекинуть мост через эту пропасть, чтобы все стало, как прежде. Но Маджи так себя повела, что Мизинчик больше не задаст ей подобных вопросов.
— Эй, Мизинчик, — послышался голос за дверью.
Она затаила дыхание. Двери в бунгало закрывались не только по расписанию, но и на время: двадцать минут на опорожнение кишечника, двенадцать — на мытье и десять — на прочие туалетные надобности. В общей сумме — сорок две минуты уединения в день, и ее лимит как раз исчерпался.
— Что ты там так долго делаешь? — закричала Маджи уже ласковым, усталым голосом.
— У меня расстройство, — отозвалась Мизинчик, обрадовавшись, что бабка все-таки пришла за ней.
— Так и знала, что ты заболела, — громко сказала Маджи, мысленно прибавив еще тридцать минут к ее «задверному» времени. Ну, максимум сорок пять, если понос сильный. — Даже близко не подходи к пури[58]. И ничего жареного сегодня. Ладно?
— Никакого чили, лука, чеснока и приправ, — подхватила Савита из столовой, где она ставила галочки в списке продуктов, что притягивают злых духов. Савита заставляла повара Канджа готовить еду в двух вариантах: первый — для нее самой и сыновей, а второй, острый вариант — для остальных членов семьи. После свадьбы Савита пыталась перевести на пресный рацион и Джагиндера, но, несмотря на пылкую страсть к новобрачной, тот заупрямился.
«Чеснок вызывает скверные-прескверные мысли», — не унималась жена.
«Их вовсе не чеснок вызывает», — лукаво подмигивал муж.
Поэтому Савите пришлось посадить на строгую диету детей, и они расслаблялись только на светских приемах, когда матери некогда было за ними следить. Нимиш с головой ушел в книги, и его не волновали подобные мелочи. Туфан же подкупал повара Канджа, чтобы он потихоньку давал ему лук, а не то грозился наябедничать Маджи, что у него жена нерадивая. Едва Савита вздремнет, Туфан тотчас съедал этот лук сырым. Во рту пекло, а по щекам катились слезы. Аскетическое меню больше всего изводило беднягу Дхира, но, как бы он ни скулил, мать была непреклонна. Впрочем, отчаянный взгляд сына мог разжалобить даже ее, и она каждую неделю исправно заказывала импортный шоколад.
При каждом удобном случае Мизинчик незаметно передавала Дхиру свои пряные блюда под столом. Но теперь о ее поносе растрезвонили по всему дому, так что овощи, манго, чатни и соленья сменились в ее рационе легкими рисово-чечевичными кхичиди и разбавленными йогуртами ласси. Вызвали даже доктора М. М. Айера, семейного врача, и он прописал шипучие розовые таблетки, подсоленную воду с лаймом и чечевицу, приправленную асафетидой.
Затем Мизинчика, как и полагается, уложили в постель. Она беспокойно металась на матрасе. Столько еще тайн! Кто же та девочка? Ведь она безвременно погибла, а Мизинчик благодаря этому спаслась.
Тем же днем Вимла, мать Милочки, пришла к обеду через узкий пролом, который проделали в дальнем конце стены, пока оба соседних бунгало принадлежали одному владельцу, хоть и длилось это недолго. Затем почти полвека дыру плотно прикрывали заросли китайской розы, чаща бледно-фиолетовых флоксов и нежно-голубого барвинка. Но Вимла и Маджи овдовели, им больше не нужно было прислуживать мужьям, и потому кусты вырубили, чтобы можно было спокойно ходить в гости, — главные ворота уж больно гремели. Габариты Маджи не позволяли ей протиснуться в отверстие, и с ее молчаливого согласия приходила всегда Вимла.
Это была хрупкая женщина с худыми руками и большими оленьими глазами. Вимла всегда носила белые сари, как велел обычай, хоть и позволяла себе небольшие вольности: например, аккуратно вставляла в блестящие черные волосы розово-фиолетовый цветок гибискуса. Пока был жив муж, Вимла наслаждалась своим роскошным гардеробом: пурпурными бенгальскими балучари, гуджаратскими гхарчолами с квадратным узором, бенаресской парчой в могольском стиле и керальскими нараянпетами с золоченой каймой[59]. Запираясь в спальне, она частенько мечтала о том, как управляла бы «Прелестной модой» или каким-нибудь другим магазином праздничных сари на Колаба-козуэй.
«Принеси майсорский креп», — приказывала бы она работнице, и та спешила бы через весь ярко освещенный зал, а затем по щелчку Вимлы разворачивала сари из тонкой дорогой ткани. Дамы в тяжелых украшениях вздыхали; под мышкой у них ридикюли, туго набитые банкнотами, а в руках — шипучая кока-кола.
Когда муж умер на пятом десятке от сердечного приступа, Вимла оплакивала вовсе не его, а свои ослепительные сари. Обычай предписывал бесцветную одежду, но Вимла не хотела расставаться со своим гардеробом и заботливо спрятала самые дорогие платья под замок — в алмари[60] у себя в спальне. Когда детей не было дома, а прислуга спокойно дремала, Вимла открывала шкаф и расстилала перед собой ткани всех цветов радуги. Она подносила к лицу шелковые материи, набрасывала на грудь золотистые многоцветья и мысленно возвращалась в те дни, когда и на нее смотрели, затаив дыхание.
Муж Вимлы был богатым промышленником, дружил с британцами и вызывал страх у индийцев. Этот жестокий собственник растаптывал людские жизни на пути к благоденствию, и его не волновало даже счастье своей семьи, которую он всячески тиранил. Однажды на званом обеде в отеле «Тадж», что возвышается над Бомбейской бухтой, махараштрийцы завели разговор о многолетней борьбе с гуджаратскими соседями, которые хотели присоединить Бомбей и сделать его столицей собственного штата.
— Мы контролируем городской совет, — с жаром заявил муж Вимлы, — и весь Бомбей перейдет к нам — это лишь вопрос времени.
Группка мужчин радостно чокнулась охлажденными бокалами «Роял салют».
— Хорошо бы купить пушку у этих парсских бандуквал[61], — заключил один из них.
Словно по сигналу, вдалеке раздался небольшой взрыв. Хотя стрельба в городе была редким явлением, выстрел прогремел довольно далеко, и его почти заглушила громкая киношная музыка и гул нетрезвой беседы. Величавый отель «Тадж» надежно защищал их от уличного насилия и от пехотинцев из «Самьюкта Махараштра Самити»[62], что ютились в городских трущобах и отстаивали свои права грубой физической силой.
Вимла стеснялась вступать в разговор с более искушенными женами и потому расслышала выстрел. Не задумываясь она бросилась к мужу.
— Пули! — в страхе закричала она, пролив мандариновый «голд спот» на его элегантный белый костюм. — Там внизу кто-то стреляет!
Настроение у всех вмиг испортилось, и гости поспешно разъехались по огороженным имениям в импортных автомобилях с надежно запертыми дверьми. По дороге домой Вимла чувствовала, как муж едва сдерживает ярость, и надеялась, что он хотя бы не станет распускаться перед шофером. Однако наедине в спальне он ударил ее кулаком по лицу, и бриллиантовый перстень рассек ей щеку.
После смерти мужа Вимла замкнулась в своем безопасном, благополучном мирке и целиком посвятила себя детям. К сожалению, сын Хар-шал пошел в своего бессердечного отца. Он очень любил топить пурпурных нектарниц, свивавших гнезда в саду, давился от смеха, наблюдая, как они испуганно трепещут, и ощущая приятную предсмертную дрожь. Своими руками Харшал извел всех птиц в саду и стал иногда выходить на улицу, чтобы охотиться на жертв покрупнее.
Как-то утром Милочка играла в аллее, а Харшал незаметно проник за ворота с силком. Пару минут спустя он вбежал обратно с заблудшим щенком и заперся в доме, прячась от его рассвирепевшей матери. Потрясенная Вимла наблюдала за всем из окна, не в силах пошевелиться, а сука бегала за Милочкой, пока двое слуг не прогнали ее метлой. Мать с дочерью тогда ни слова не сказали Харшалу, но в глазах у них вспыхнуло смутное отвращение. С тех пор Милочка не хотела называть Харшала бхаия, как ласково обращаются к старшему брату, и даже не явилась на церемонию Ракша-бандхан, что освящает любовь между братьями и сестрами.
Вимла решила не вмешиваться в молчаливую вражду своих детей и пряталась, словно в коконе, у себя в спальне или коротала время у соседки Маджи. За долгие годы женщин связала тесная дружба, которая еще сильнее укрепилась, когда умер муж самой Маджи — Оманандлал[63]. Овдовели-то они обе, но Маджи стала непререкаемой главой семейства, а вот Вимла отошла в тень — ее застращали сын с невесткой. В жизни у нее осталось лишь две заботы: найти хорошего жениха Милочке и уговорить Химани родить ей внука.
— Женаты уже два года, а ребенка нет как нет, — вновь пожаловалась она.
— А вы водили ее в храм Махалакшми, на? — спросила Маджи, не сомневаясь, что искренние молитвы этому божеству всегда вознаграждаются.
— Она и слышать не хочет. Что-уж-тут-поде-лаешь!
— А врачиху вызывали?
— Даже тут упрямится! — воскликнула Вимла, бессильно выкручивая кисти. — Намекает, мол, надо сыну провериться!
— Бэшарам![64] Что она из себя строит?
— Ей будто и не хочется детей. Что-уж-тут-поделаешь! Все кругом шушукаются. Даже говорят, из-за тамаринда у Химани прокисла матка. Я хочу его выкорчевать, но сын не желает тратиться на такую ерунду.
— Дорогая моя Вимла, — сказала Маджи, подавшись вперед, — лишь Господь обладает властью давать и отнимать, а все прочее — злые духи, якобы живущие в дереве, — полнейшая ахинея.
Вошла Савита, недовольно щелкнув языком.
— Тетенька-джи, — обратилась она к Вимле, — вы не слышали о женщине на седьмом месяце? Как она купила ласси близ кладбища Матунга.
— Да, в газетах сегодня писали, — ответила Вимла, и лицо ее исказил страх. — У нее тотчас случился выкидыш?
— Дурища, — фыркнула Савита перед уходом, — нельзя же пить молоко у мест погребения. В тело могут вселиться своенравные духи!
— Вимла, — серьезно сказала Маджи, — не поддавайся страху и верь, что Господь распорядится нашей участью, как должно.
Мизинчик подслушивала их беседу у двери в коридоре и поражалась твердой убежденности Маджи. Бабушка не терпела глупостей ни от кого — особенно от надоедливых духов с того света. Если бы даже все эти призраки, демоны, ракшасы[65] и прочая нечисть взобрались на чугунные ворота бунгало, она тотчас встала бы у них на пути.
Но боги и богини индуистского пантеона были посетителями совсем иного рода. Маджи принимала их как очень важных персон и обустраивала в доме, словно взыскательных гостей. Кришна играет на флейте у реки; у Ганеши — голова слона и хобот, полный изобилия; Сарасвати дарует мудрость, сидя на цветке лотоса, — все эти статуэтки кочевали из комнаты для молитв на угловые столики или в застекленные шкафчики и оттуда с восторженным вниманием наблюдали за жизнью Митталов.
Маджи не позволяла себе излишней фамильярности с богами и богинями, ведь они весьма злопамятны. Она всюду носила с собой сандаловые четки и успевала перебрать двенадцать бусин на долгом и мучительном пути в ванную или читала быструю молитву на одну бусину, едва в дверях показывался долговязый портной, уже собиравшийся обхватить пышные груди Савиты мерной лентой. Порой, когда Кунтал массировала ей ступни, Маджи молилась довольно долго: она перебирала четки от начала до конца целых три раза. «Продолжай, — говорила Маджи, вздыхая от удовольствия, а Кунтал втирала кунжутное масло между налившимися кровью пальцами, — я еще не закончила молиться».
После смерти мужа Маджи признавала только авторитет богов и богинь. Но благоговение вовсе не мешало ей изо дня в день добродушно шутить и торговаться с ними. «О бог Кришна, мой сын — такой дурачок, водится с этим мошенником Чатвани. Дай ему хоть немножко ума, на? Я попрошу Пандит[66]-джи, чтобы он целый день совершал для тебя хаван[67] с лучшими сладостями из Гхаситара-мовой лавки». Точно богиня Дурга[68], поддерживающая гармонию во вселенной, Маджи считала, что сохраняет равновесие в собственном мирке.
Мизинчик увидела, что близнецы забрались в спальню родителей, и решила проверить, чем они там занимаются. Дхир сидел на белом покрывале, с завязанными глазами, и читал наизусть «Кредо Одинокого рейнджера».
— Верую, — произнес он, — что все изменчиво, кроме истины, и лишь истина остается навеки.
— Ты как раз вовремя: Кимосаби[69] на арене, — сказал Туфан Мизинчику, откупорил пузырек одеколона, который отец купил в аптеке близ больницы «К. Э. М.», и помахал им перед носом брата.
У Дхира было потрясающее обоняние — он различал самые неуловимые запахи и тончайшие ароматы. На нюх определял состав любой косметики, которой мать тешила свое тщеславие, — от широкого ассортимента индийских аттаров в хрустальных флакончиках до мыла «Чистота лотоса».
— «Олд спайс»! — Завопил он, и Мизинчик в восторге зааплодировала.
— Настоящий импорт или местная подделка? — спросил Туфан, подозрительно разглядывая бутылочку.
Дхир поморщился.
— Бодяга, — сказал он, словно извиняясь. — Разлит, поди, в Кальяне или Улхаснагаре.
— А синдхи[70] в магазине уверял папу, что настоящий — контрабандный. — Туфан нахмурился и вспомнил, как лавочник дал Джагиндеру понюхать зубочистку с ваткой, пропитанной одеколоном.
— Если даже папа не отличил, — добавил Дхир, стараясь угодить, — никто наверняка не догадается.
— Папа не будет душиться черт-те какой бурдой, которую беженец намешал! — Туфан защитил отцовскую честь.
Он осторожно засунул белый флакон под кур-ту и решил обменять его на что-нибудь у предприимчивого раддивалы[71], который доставит «олд спайс» туда, где его можно перепродать. Затем Туфан крикнул: «Эге-гей!» — и быстро ушел, напоследок расстреляв невидимую банду грабителей и убийц.
Дхир виновато пожал плечами и повернулся к Мизинчику:
— Давай найдем Гулу. Он уже отвез папу на работу и вернулся.
Мальчик надеялся, что уговорит шофера подбросить их до «Бадшаха», где подают прохладительные напитки и можно освежиться лаймово-апельсиновым соком с солью, сахаром и перцем.
— Маджи меня не отпустит, — сказала Мизинчик, — из-за живота.
Дхир снова пожал плечами и поковылял вон из комнаты.
Маджи и Вимла еще сидели в гостиной, судача о ежегодном наплыве туристов из Саудовской Аравии и Персидского залива в период муссонов.
— Круглый год торчат в своей пустыне, а потом прутся сюда, чтобы нежиться под дождем, — возмущалась Маджи. — Моются только по пятницам, а несвежий запах перебивают арабской парфюмерией…
— Но от муссонов же вся Индия расцветает, — мечтательно сказала Вимла. — Вместо черной земли — изумрудная зелень, а небо не белое, а нежно-голубое.
— …Да еще и развлекаются с нашими девушками, — продолжала Маджи, грозно помахав тростью. — Теперь даже парсские девушки захаживают к арабам — копят денюжку на приданое.
— Хай Рам! — воскликнула Вимла, внезапно очнувшись. — Аж не верится! Своим-то парсы не дадут умереть с голоду. Правда, все они потеряли работу после ухода британцев, что уж тут поделаешь!
«Потому-то она так и следит за Милочкой-диди», — подумала Мизинчик. Вимла часто сетовала на перемены, произошедшие в Бомбее после обретения Независимости. Современные девушки стремятся получить образование и не торопятся замуж, а некоторые эгоистки даже делают карьеру. Дабы оградить дочь от дурного влияния, Вимла держала ее взаперти.
Маджи тоже присматривала за Мизинчиком, но — заботливо и ненавязчиво.
Просто Маджи уверена в себе, решила Мизинчик, а тетя Вимла — боится.
Чертовщина
В тот день Нимиш был непривычно возбужден: он уломал Гулу съездить в парсский книжный магазин «Тарапоревала», неподалеку от Хорнби-роуд. Нимиш собирался накупить хрестоматий по английской литературе на следующий год в колледже св. Франциска Ксаверия — одном из старейших и наиболее почитаемых учебных заведений города.
— Я уехал, — крикнул с порога мальчик.
Нимиш едва сдерживал волнение, ведь скоро он обернет целую кучу новых книжек, с приятным хрустом загибая линейкой каждый упрямый лист оберточной бумаги.
«Амбассадор» Гулу выехал из аллеи. Шофер заранее обрызгал водой жасминовую гирлянду, которой он украсил миниатюрную статуэтку Ганеши, «устраняющего препятствия», над приборной панелью. Гулу купил цветы у торговца, проходящего мимо бунгало на рассвете, и положил такие же гирлянды для служанок на передней веранде — Парвати и Кунтал позже оставят ему пару монет. Раньше Гулу покупал каждый день по одной календуле, но это было давно.
— Можно? — спросила Мизинчик, открыв дверцу машины, и запрыгнула внутрь. — Маджи вздремнула, а мне нужна школьная тетрадка, ведь уже на следующей неделе начинаются занятия.
— Мне тоже! — завизжал Дхир и пустился за ними со всех ног.
— И мне! И мне! — заорал Туфан, тоже не желая оставаться в стороне.
— А что тебе задали? — спросил Нимиш, когда они тронулись.
Мизинчик замялась:
— Про привидения.
— Привидения?!
— Рам! Рам! — вскрикнул Гулу, выруливая из ворот, и пробормотал защитную мантру. — Каким только страстям не учат в школе…
— Так нечестно! — взвизгнул Туфан. — Мы этого не проходили.
— Но мы же смотрели «Бен-Гур»[72], — сказал Дхир, словно это одно и то же.
— Истории о привидениях, народные сказки — ну, все такое. — Мизинчик наигранно пожала плечами.
— Ясно. — Нимиш поджал губы и поправил пальцем очки на носу. — Народные сказки — полная белиберда, если, конечно, они не запротоколированы.
— В каком смысле?
— А вот в таком, — Нимиш приподнял «Рассказ о паломничестве в Медину и Мекку» сэра Ричарда Ф. Бёртона и постучал по обложке. — Он прибыл в Индию вместе с Ост-Индской компанией больше ста лет назад.
— Скучи-и-ища, — проскулил Туфан.
— А какая связь с привидениями? — спросил Гулу. — Хотя этот болван и сам на призрака смахивает…
Ему хотелось пресечь ученый разговор в зародыше. Нимиш любил углубляться в дебри и водить слушателей за нос. А Гулу нравились более увлекательные, хоть и приземленные темы. Например, последний фильм «Мугхал-э-Азам»[73] с роскошными танцовщицами-куртизанками или новая соседка, падкая на мужиков с широкими задами в тугих синтетических штанах.
— А по-моему, он милашка, — сказала Мизинчик и больно ткнула Туфана локтем.
Нимиш наградил ее улыбкой.
— Он величайший британский путешественник. И он не просто писал о жизни людей в колониях, но пытался понять ее, объяснить для остального мира. Нашу, кстати, тоже.
— Ну и как, он нас понял? — спросил Гулу, подняв брови, и ткнул почерневшим ногтем в свою кричаще-пеструю рубашку.
— Я родился слишком поздно для подобных открытий, — продолжал Нимиш. — Обо всех народах, к сожалению, уже написано. Но я тоже хочу путешествовать, переодевшись арабом или даже англичанином. Хочу раскрыть темную изнанку цивилизации, нащупать ее тайный пульс. Понять, чем живет общество, каковы его коллективные мечты и страстные чаяния.
На слове «страстные» Мизинчик слегка покраснела.
— Хочешь прикинуться англичанином? — спросил Гулу.
— Запросто.
— Бледный — еще не белый, — повторил Туфан любимую мамину фразу.
— Ишь ты, запросто-напросто! — воскликнул Гулу. — Едва ступишь на землю ее величества, фат-а-фат[74] поймешь, что ты черен, как трубочист.
— А что с привидениями? — перебила Мизинчик.
— Бёртон написал книгу «Индусские сказки о чертях», — невозмутимо ответил Нимиш.
— Индусские черти? — переспросила Мизинчик и задумалась, знает ли о подобной жути Пандит-джи.
Этот жрец с сальными волосами и глазами-бусинками приходил каждый понедельник. Он благословлял и давал бесполезные советы, не спуская глаз с пачки рупий, топорщившей ткань над неохватной бабкиной грудью. Мизинчик была глубоко уверена, что жрецы регулярно общаются с призраками и прочими духами, но сомневалась, что Пандит-джи интересуется чем-нибудь еще, кроме липких сладких ладду, которые он скрупулезно пересчитает перед каждой церемонией.
— Ну и бредятина! — Гулу отмел все слова Нимиша, надменно махнув рукой. — Христиане типа его — вот кто настоящие черти.
— На самом деле там говорится не о чертях, — в раздражении сказал Нимиш. — Это перевод мистических историй о царе Викрамадитье[75].
— A-a, — сказал Гулу. — Тогда я их знаю.
— Ты читал эту книгу? — поинтересовалась Мизинчик.
— Когда-то давно, — ответил Нимиш. — Однажды царь нес труп, висевший на мимозе, до гхапгы[76], но в труп вселился демон Бетаал. Он загадывал царю загадки, и в каждой заключалась человеческая мудрость.
— Мудрость-шмудрость! Для этого книжек читать не надо. — Гулу неодобрительно щелкнул языком. — Я все на свете узнал в детстве на вокзале.
Мизинчик хотела продолжить разговор, но Гулу уже пустился в свои обычные россказни:
— Я начинал чистить обувь на вокзале Виктория совсем мальцом — лет шести-семи. Виктория стучит, как сердце: ди-дом, ди-дом, ди-дом. Ее можно услышать, на! Там бьется пульс Индии. Сто лет назад построили самую первую железную дорогу, и отходила она от Виктории.
— Скучи-и-ища, — заныл Туфан.
— Я уже это слышала, — сказала Мизинчик. Обычно она с удовольствием слушала побасенки Гулу, но сегодня ее волновали насущные проблемы.
— С корешами Хари и Бамбаркаром я вкалывал на Большого Дядю, — продолжал Гулу, словно пересказывая приключенческий роман. — Он был толстенный, потому что проглотил целиком тигра, когда служил в армии. Едва разинет пасть, как оттуда рев слышится! Но он платил по паре ан[77] в день, их хватало на роти и дал, а то и на жареную чанну[78] в пакетике из газетной бумаги — от нее даже пар еще шел! Тогда мы были самыми счастливыми людьми на свете…
— Скучи-и-ища.
«Амбассадор» с визгом затормозил на перекрестке, и тотчас на машину накинулась стая торговцев, которые навязчиво стучали в окна своими товарами.
— Джао! Джао! — завопил Гулу, вымещая на них злобу: его рассердил Туфан. — Я заработал на собственную банку ваксы «вишневый цвет» всего за два месяца. — Он презрительно глянул на уличных оборванцев, будто они попрошайничали исключительно из-за лени. — Как мне нравилось гладить ее блестящую крышку с ярко-красными вишенками! По утрам я даже натирал ваксой нос — чтобы скорей проснуться.
При этой душистой подробности Дхир встрепенулся.
— Но однажды Большого Дядю убили, — Гулу помчался наперерез мотороллеру, куда взгромоздилась целая семейка из пяти человек, — и его место занял человек с красными зубами — красными от паана[79]. Мои кореша Хари и Бамбаркар фат-а-фат нанялись к этому Красному Зубу — даже глазом не моргнули, но я остался верен Большому Дяде. Ведь он, как-никак, был моим благодетелем. Короче. Красный Зуб избил меня до полусмерти — я чуть не отдал концы прямо на перроне. — Гулу театрально вздохнул и представил, как шумно опускается темно-бордовый занавес, под каблуками хрустит ароматный перченый попкорн, а благодарная публика восторженными криками поддерживает юного героя, что встает на ноги после стычки с Красным Зубом.
Нимиш поморщился:
— Как последний фильм в кинотеатре «Метро».
— Думаешь, я сочиняю? — Тулу возмущенно обернулся к Нимишу: — А ты видал этот шрам над бровью?
Трое мальчиков всмотрелись в лицо шофера, но увидели только оспину от прыща.
— А как демон вселился в труп на мимозе? — спросила Мизинчик.
— Ну, на свете еще и не такое бывает, — отмахнулся Гулу. — Обычное дело.
— Чепуха, — сказал Нимиш. — Все это суеверия. Говорят даже, ваш доблестный царь Викрамадитья родился от осла.
— У тебя есть хоть капля уважения? У бога Ганеши — голова слона, а царь Викрамадитья появился на свет в необычных условиях. Ну и что из этого?
— А как же демон?
— Мизинчик-dud», — подчеркнуто терпеливо сказал Гулу, — демоны — это блуждающие духи, которые ищут, куда бы вселиться. Тут что угодно подойдет: труп, уличные животные и даже никуда не годный мотор этой машины.
Нимиш покачал головой и вновь погрузился в «Рассказ» Бёртона.
Мизинчик совсем пала духом. Делясь познаниями, Гулу импровизировал так же, как и при вождении. Что бы он ни говорил — правду, ложь или какой-то вздор, — шофер отстаивал свои слова с пеной у рта, словно священный стих из своей потрепанной Бхагавад-гиты[80]. Хотя Гулу был неграмотный, он повсюду таскал книгу с собой и цитировал отрывки нищим, что лупили в окна автомобиля. «Лучше плохо исполнять свой долг, нежели хорошо — чужой», — зачитал он однажды парикмахеру на углу, когда тот нечаянно выстриг висок у клиента.
— Не бойся, — сказал Гулу, неверно поняв, почему она приуныла. — Некоторые очень дружелюбные.
— А призраки? — спросила Мизинчик.
— С ними все иначе. Призраки не хотят никуда вселяться. Это души людей, умерших насильственно, — ну, знаешь, самоубийство, убийство и все такое. Например, один попал под грузовик с бамбуком, а другого размазало деревом, когда он высунулся из вагона в час пик. Кого-то не кремировали по всем правилам: у родственников не хватило денег на дрова. И души возвращаются на этот свет, чтобы улучшить свое положение, а иногда — чтобы предостеречь других.
— Но как понять, чего они хотят?
— Нужно прислушаться.
Мизинчик вжалась в сиденье — не такого ответа она ожидала.
— Но ты не бойся, — успокоил Гулу. — Некоторые очень дружелюбные… Да вы же скоро будете проходить все это в школе, на?
На обратном пути дети решили заглянуть в кафе «Эмпресс» на Колаба-козуэй — выпить чего-нибудь освежающего и прихватить полдюжины знаменитых сдобных лепешек, любимого лакомства Савиты.
— «Дьюкс сода», «мангола», кока-кола, — монотонно перечислил лысый официант в красной куртке, не подходившей ему по размеру. Он старательно имитировал британский акцент, как требовал владелец кафе — англофил.
Мизинчик выбрала «голд спот» со свежим соком лайма и изрядной щепотью каменной соли, от которой газировка начинала яростно бурлить, переливаясь через край. Дхир заказал подрумяненные оладьи в сладком молоке, а Нимиш — кофе. Туфан взял себе кока-колу и обхватил потной ладонью соблазнительную бутылку, похожую на песочные часы. Она напоминала американскую кинозвезду Мэрилин Монро, а напиток приятно щекотал горло.
Сжимая узкую талию бутылки, Туфан спросил:
— А помните торговый автомат у кинотеатра «Метро»?
Дхир с готовностью кивнул, набивая рот размокшими оладьями:
— Когда школьные падре водили нас на «Бен-Гур», мы его опробовали. Вставляешь в щель монетку, и он ка-ак затарахтит! Потом открываешь заслонку посередке, а там — вах! — холоднющая кока-кола!
К ближайшей остановке с грохотом подкатил автобус. Казалось, ему хочется раздеться и отдохнуть, а не тащиться дальше по жаре. Он кашлял, задыхался и плевался вредными газами, а спереди из радиатора валил густой дым. Автобус был точной копией тех двухэтажных, что с лязгом курсируют по улицам Лондона, вот только на обоих боках нижнего этажа по трафарету написали аббревиатуру БЭСТ — «Бомбейское электроснабжение и транспорт». Автобус опасно кренился на осях, весь покрытый вмятинами, а его красный цвет едва проглядывал под слоем сажи и пыли. Махараштрийцы и гуджаратцы ожесточенно боролись между собой за присоединение города, поэтому автобус обтянули проволочной сеткой, и он напоминал передвижную тюрьму. Кроме того, у двери стоял вооруженный полицейский, который следил за тем, чтобы никто не швырялся камнями или не нарушал порядок как-ни-будь еще.
Из задней двери выпрыгнул кондуктор, потрясая алюминиевой коробочкой с билетами, точно оружием. Толпа мигом ринулась вперед, причем каждый энергично отпихивал соседа, стараясь его опередить.
— Терпеть не могу автобусы, — сказал Туфан, — там воняет.
— Не так уж и сильно, — возразил Нимиш, — все окна выбиты, и продувает насквозь.
— Там полно «озабоченных», — выпалила Мизинчик, вспомнив недавний четырехдюймовый заголовок в «Ивнинг ньюс»: «АРЕСТОВАН «ОЗАБОЧЕННЫЙ»!» Ниже в короткой статье описывалось, как поймали мужчину, который терся о девушку в переполненном «БЭСТЕ».
«Чертов придурок, — выругался тогда Джагиндер. — Сперва этого Ромео поколотили пассажиры, потом — полиция, а теперь ему еще светит полгода тюрьмы».
«Если только он не из хорошей семьи?» — сказала Савита, желая удостовериться, что богатство и положение спасут ее младшеньких от унижения, если они вдруг собьются с пути.
«Ну да, — ответил Джагиндер, — судье вполне хватит того, что хорошую семью опозорили во всех газетах».
«Если едешь на автобусе, — вставила Парвати, — в сумочку надо класть вязальную спицу. Быстренько уколешь Ромео в его хозяйство — и он тебя пальцем не тронет!»
— А по-моему, тетки еще опасней, — сказал Дхир. — Когда мы ездили на «Бен-Iyp», одна баба спихнула меня с сиденья!
Он рассказал, как она качнула необъятными бедрами и вытолкнула его прямо в проход, а когда он возмутился, огрела туго набитым ридикюлем. У женщины были густые усы и волосы в ушах, но она плюхнулась прямо среди класса мальчиков. «Вечно домогаетесь к нам», — сокрушалась она, словно это они к ней приставали, а затем, расстегнув ридикюль, кокетливо вынула носовой платок и зеркальце и жеманно подкрасила усатую верхнюю губу.
Нимиш, Мизинчик и Туфан покатились со смеху.
В эту минуту двухэтажный автобус, благоухая несвежей мочой и неусвоенной едой, окончательно заглох перед кафе «Эмпресс», и разъяренный водитель принялся тормошить его, энергично поколачивая ржавой трубой. Как только двигатель завелся, шофер громко посигналил грушей и вырулил на дорогу, затем обогнал целый выводок «фиатов» и чуть не врезался в трех обедавших коров.
— Мне больше нравятся трамваи, особенно зеленые, — добавил Нимиш. — Садишься у «Дхоби-Талао» и едешь аж до «Кингс-Сёркл», а там рабочие разворачивают его на шариковых опорах в обратную сторону. Больше часа пути!
— Так долго! — проскулил Туфан и лизнул свою фигуристую колу.
— Зато я там читаю, — пожал плечами Нимиш, — а по выходным встречаюсь с друзьями, и мы идем на дневной английский спектакль.
— Как тебе удается сосредоточиться? — изумилась Мизинчик. — Ведь трамвай идет через Калбадеви-роуд — самую многолюдную улицу города!
— Даже легче, чем дома, где меня… отвлекают, — неопределенно сказал Нимиш, а затем вдруг позвал официанта и заказал еще кофе.
Мизинчик напряглась, вспомнив Милочку.
Внезапно они услышали громкий барабанный бой и пронзительные голоса.
— Хиджры![81]
Кучка танцующих гермафродитов — высоких, с мужскими чертами, но в ниспадающих складками сари — двигалась в их сторону, один стучал в дхолак[82]. Прохожие в основном сторонились хид-жров, но некоторые смельчаки глумились над ними в раскрытые окна.
— Арэ, чхакки![83] — выкрикивали они слово, означающее шестой день недели, когда хиджры обычно выходят в люди, но так еще обзывают трусливых или изнеженных мужчин.
— Пошли прочь в Коливаду! — завопил кто-то, имея в виду их поселение в трущобах близ Сиона.
Некоторые хиджры пригрозили задрать сари и показать, что у них нет гениталий, а один даже выставил засушенный мужской орган в закатанной стеклянной банке.
— Может, пойдем? — сказал Дхир и поглубже втиснулся в расшатанный стул, стараясь казаться невидимым.
— Они погонятся за тобой, — предупредил Туфан, — и оторвут тебе яйца.
— Ничего не оторвут!
— И то правда, — согласился Туфан, демонстративно схватив гульфик его штанов. — У тебя же их все равно нет.
Дхира аж передернуло:
— Они такими рождаются?
— Не все, — ответил Нимиш. — Некоторых кастрируют в юности с помощью грязного ножа и кипящего масла. Или каждый день затягивают узел из конского волоса, пока их причиндалы не почернеют и не отвалятся.
Дхир скрестил ноги, а Туфан прикрыл пах бутылкой колы.
— Во времена Моголов, — шепотом продолжал Нимиш, — они охраняли императорские гаремы и занимали привилегированное положение. Многим жаловали даже земельные участки. Но после того, как в 1884 году британцы составили Индийский уголовный кодекс, их объявили вне закона.
— Они всегда приходят на свадьбы, — сказала Мизинчик.
— Они спекулируют на страхах и суевериях, которые внушают другим, особенно — в торжественных случаях. Даже полиция обычно их не трогает — из-за их сверхъестественных способностей. Ведь они одновременно мужчины и женщины, но при этом — ни то ни другое.
Процессия поющих хиджров приближалась, они громко хлопали в ладоши, привлекая всеобщее внимание. Остановившись перед кафе «Эмпресс», где сидели дети, они позвали владельца — толстяка Джолли.
— У них договоренность с местными роддомами, — пояснил Нимиш. — Хиджры платят за фамилии семей, у которых есть пополнение. Благословляют здоровых и требуют себе несчастных, что появились на свет увечными или без половых органов.
— Тогда, наверное, у Джолли недавно родился ребенок, — сказала Мизинчик.
— Вот бы он оказался уродцем, — с надеждой добавил Туфан.
Хиджры танцевали все неистовее, и гам стоял оглушительный. Они пели и попутно дразнили местных мужчин из-под паллу.
«Ой, мамочки, у нас никогда не будет деток, — распевали они, — вот мы и пришли благословить вашего ребеночка».
В этот миг появился Джолли. Казалось, у него какая-то жуткая кожная болезнь, но стоило приглядеться получше, и язвы на лице превращались в комки варенья. Просто он дремал на кухне, под полкой с приправами, и тут вдруг сверху упала банка с повидлом, которая и разбилась у него на лице. Сейчас он стоял, злобно поглядывая на гермафродитов, и грозил им метлой. Его жена — крохотная женщина с серой мучнистой кожей — вышла и встала рядом, с новорожденным сыном на руках. Хиджры танцевали, их руки и тела непристойно извивались, а вожак требовал тысячу рупий. Это был откровенный грабеж, но жена засияла от радости, ведь хиджры пришли, дабы возвестить о рождении ее ребенка всему свету. Она весьма искусно торговалась.
Вожак скинул цену до пятисот рупий.
— Проваливайте! — заорал Джолли. — Сукины дети!
— Арэ, идиот! — выбранила его жена. — Хочешь оскорбить хиджров в такой счастливый день и навлечь на наши головы их проклятья?
Джолли с трудом подавил ярость.
Довольный столь суровым выговором, вожак умерил аппетит и тотчас снизил сумму до сотни. Жена вытащила деньги из-за пазухи и протянула ему.
— Покажите нам мальчика! — потребовал вожак.
Женщина развязала треугольный подгузник на бедрах младенца и обнажила идеальные гениталии, которые тотчас выпустили тугую желтую струйку. Хиджры весело захлопали в ладоши, нахваливая детскую пипиську, и стали передавать младенца из рук в руки.
Нимиш, Мизинчик, Дхир и Туфан непроизвольно вытянули шеи, и Туфан пал духом, убедившись, что хиджры не могут претендовать на младенца.
— Он станет большим человеком, — благословил первый хиджра.
— Он будет богатым, — добавил второй.
— Как вам повезло — такой красивый сыночек! — проворковал третий.
— Матушка, — сказал предводитель и повязал на запястье ребенка черную нитку от сглаза, дайка нам еще сари.
— Джолли! — крикнула жена, растаяв от всех этих благословений. — Принеси-ка одно сари из приданого.
Хиджры еще громче застучали в барабан, напевая, приплясывая и поддразнивая. Наконец появился Джолли. Выругавшись вполголоса, он швырнул им дорогое свадебное сари. Хиджры улыбнулись хозяину, любезно поблагодарили его жену и побрели прочь колышущейся волной.
— Зачем они рассматривают ребенка? — спросила Мизинчик.
— Не поверишь, пока не проверишь, — ответил Нимиш, пожав плечами, словно это и так ясно. — Иначе навсегда останутся сомнения.
Дхир громко отрыгнул, Туфан заказал еще одну колу, а Нимиш оплатил счет.
Гулу подкатил на машине.
— Раз я видел, как хиджры утащили ненормального ребеночка, — сказал он, когда они сели. — Дело было в трущобах Дхарави. Несчастные родители так убивались! Ведь закон не запрещает хиджрсш забирать уродцев. Хотя, с другой стороны, им только там и место.
Пьющая лунный свет
Сидя перед трюмо в ночной тиши, Савита всматривалась в снимок дочери и вдруг вспомнила, что не видела ребенка после родов. Она даже не знала, мальчик это или девочка. Не наблюдала, как перерезали пуповину. Не слышала первого крика. Не прижимала окровавленное, трепещущее тельце к груди. С последней схваткой она потеряла сознание и очнулась лишь много часов спустя, когда Маджи внесла младенца, уже обмытого и туго запеленатого, для кормления.
«Я не видела, как она явилась на свет, — подумала Савита и расплакалась, — и не видела, как она покинула его».
Савита замерла, услышав приближающийся грохот в небесах. Промежутки между ударами грома становились все короче, молнии исчеркивали небосклон сверкающими зигзагами, но дождь все никак не начинался. Эта задержка раздражала, обессиливала. Савита вытерла слезы и бережно положила фото в серебряную шкатулку для бинди.
Джагиндер был таким ласковым во время беременности: он не сомневался, что после троих сыновей жена родит наконец дочку.
«Рака моя, — дразнил он ее «лунной ночью',» как предписывали священные тексты для будущих мам, — у нашей дочки самое роскошное приданое во всем Бомбее: современная мебель, брильянты, импортные холодильники — саб кучх!»
«Прелестно!» — улыбнулась Савита, счастливая и довольная жизнью.
«А назовем мы ее Чакори».
«Чакори? — Савиту удивил столь непривычный выбор. — Сказочная птица?»
«Да, — задумчиво сказал Джагиндер, нежно глядя на нее. — Райская…»
«Пьющая лунный свет», — добавила Савита, вспомнив легенду. В тот миг она окончательно полюбила своего мужа.
Их отношения ее вполне устраивали. Джагиндер был светлокожим красавцем, довольно высоким, с небольшим представительным брюшком. К тому же человек ответственный: он уверенно занялся семейным судоразделочным бизнесом, когда умер его отец Оманандлал, давал Савите вдоволь денег на украшения и трижды в неделю делал все для того, чтобы сыновья рождались один за другим. Она страшно боялась, что придется когда-нибудь надеть белое вдовье сари, — так же, как ее свекрови Маджи. Но пока Джагиндер жив, она всегда заткнет подруг за пояс в конкурсе на «самую первоклассную жизнь».
По крайней мере, так ей казалось. Когда бог смерти Яма унес новорожденную, Савиту потрясла не сама смерть дочки, а то, что эта непоправимая трагедия случилась именно с ней, Савитой, — в безопасном мире денег и связей. Траур она провела в одиночестве, а в голове пышно расцвели древние суеверия. Савита позвала тантриста, который подтвердил, что их дом — под дурным влиянием, и дал семечки куркумы, чтобы развесить их над детскими кроватками.
Она даже решила отправиться в паломничество в Мехндипур, полагая, что ребенка сглазила ведьма. «Помнишь ту нищенку, что подходила к нашим воротам? — кричала она Джагиндеру. — Я тогда была на шестом месяце, а Гулу никак не мог ее прогнать, пока твоя мать не отдала ей мое старое сари? Парвати еще замела и опалила ее следы, а ты сидел и смеялся. Это была ведьма, клянусь тебе! Она наложила проклятие на мое сари и сжила со свету моего ребеночка!»
Джагиндер пытался ее урезонить: мол, то был несчастный случай — обычная халатность, а Маджи объясняла все злым роком. Но Савита не унималась и убеждала, что во всем виновата айя. «Она ведьма! Ведьма!» — выкрикивала она, все дальше погружаясь в мир тайных чар и чудодейственных снадобий. Наконец закадычные подруги стали вежливо ее избегать: «Тебе нужно время, на? «Скажешь, когда оправишься, ладно?»
А затем произошла странная метаморфоза и с Джагиндером, который из бабочки превратился в жука. Всю жизнь он был строгим вегетарианцем и трезвенником — даже не лакомился шоколадками с алкогольной начинкой, что привозили из-за границы его разноплеменные друзья. Как и отец, он был благородным человеком — подлинным джентльменом: грубого слова сроду не услышишь. Заботливый, добрый, довольный жизнью, и ему страшно хотелось дочку.
Когда же она появилась на свет, родители даже не успели совершить церемонию и окрестить ее: девочка так и умерла безымянной. Однако в сердцах Джагиндера и Савиты она навсегда осталась Чакори — неуловимой лунной пташкой. После ее гибели Савита прочла в глазах мужа не скорбь, а смятение. Словно сама краткость младенческой жизни подорвала его авторитет — лишила его поразительной способности все делать по-своему. Джагиндер нашел утешение в бутылке «Джонни Уокер Блю», которую запирал в металлическом шкафчике; он обронил свои крылья и, словно куколка, спрятался в коконе стыда, раскаяния и вины.
Он больше не хотел спать с Савитой, как будто боялся зачать еще одну кроху, которую можно так же внезапно потерять. Он засматривался на вездесущие рекламные щиты, что призывали «пользоваться спиралью», и приучал Сави-ту к этому противозачаточному средству. «Разве ты не слышал, — издевалась она над мужем, — что спираль бьет мужей током?»
Парвати советовала каменную соль, пропитанную растительным маслом, или семена саршапы[84], вымоченные в белой воде из-под риса. Когда сын отчаялся и попросил мать о помощи, Маджи повела Савиту к специалисту по аюрведе, и тот прописал отвар из цветов джапы и кореньев тандулияки[85], вызывающий бесплодие. Савита отказывалась от всего. «Не хочешь, чтобы я забеременела? — набросилась она на Джагиндера. — Тогда сам пей каждое утро харидру[86] с козлиной мочой. Говорят, отличная контрацепция для мужчин».
Убитый горем Джагиндер совсем отдалился от Савиты и смотрел на нее в ужасе, словно это она виновата в случившемся. Он предавался одиноким раздумьям в спальне, и речь его становилась сердитой и злобной. Рюмочки вскоре сменились стаканами, а стаканы — целыми бутылками. Целые ночи проводил он вдали от жены, наедине с бутылкой.
Савите хотелось растоптать его.
Даже ее мать, приехавшая в гости из Гоа, ничуть не развеяла тяжелую атмосферу, что установилась в доме Митталов, словно июньский зной.
«Не вешай носа, лапушка, — успокаивала мать, с деликатным чмоканием попивая чай. — Тебе просто нужно с этим смириться».
Но Савита не унаследовала от нее эту капризную черствость, а потому замкнулась в своем мрачном мирке, поклявшись больше оттуда не выходить. Но затем ее золовка Ямуна погибла где-то на индийско-пакистанской границе, и в семье вновь наступил траур. Пару недель спустя Маджи вернулась с малышкой Мизинчиком, и это бессрочное пополнение издевательски напомнило Савите о ее собственной утрате.
Наконец Савите обрыдла добровольная изоляция. Утерев слезы, она накупила сногсшибательных золотых украшений на целых двадцать два карата, с надменными эмалевыми павлинами, и пригласила на обед подруг. Улыбка не сходила у нее с лица. «Какое чудесное ожерелье!» Чмок-чмок. «Джагиндер купил… Ой, девочки, он такой милашка». Как ни в чем не бывало. Десять — ноль в пользу Савиты.
Она загоняла страх глубоко в себя: Савита не верила в то, что смерть дочки — случайность.
Тут явно не обошлось без нечистой силы.
Поэтому она приказала запирать ванную по ночам на засов: Савита до смерти боялась, что злобный дух, сгубивший ее ребенка, по-прежнему прячется там.
Гулу остановился перед забегаловкой, где подавали только чоле масала[87] нут с карри да поджаренный хлеб, — в народе ее называли «Везунчик Дхаба». Изнутри популярный кинодуэт Аши Бхосле и Кишора Кумара[88] горланил песню «Йе Раатэн, Йе Мосам». Запись то и дело прерывалась: душными предмуссонными ночами часто случались перебои с электричеством. Вначале Гулу подошел к тележке паанвалы[89] у закусочной, которую обступили мужчины. Одни ждали паан, другие прикуривали сигареты от тлеющей веревки на тележке, а большинство попросту гапшаппили, то бишь обменивались новостями. Все фамильярно закивали Гулу.
— Ну и ну, — сказал один, с пучком волос на бритой голове — признаком высшей касты. — Во всем городе отключили электричество, а на свадьбе у дочери министра от света ослепнуть можно.
— Эти негодяи обирают народ без зазрения совести.
— Даже позавтракать нельзя, пока они сами не нажрутся.
— По городу везде темно, как в твоей заднице, и ни один вентилятор не пашет, — произнес другой мужчина, похлопав Гулу по спине.
— А новобрачным устлали путь розами аж на десять километров! — добавил Гулу.
— Брешешь, сволочь, — со смехом выругались мужчины, возмущаясь такой расточительностью, и губы их зарделись от паана.
Паанвала — пухлый мужик с блестящей кожей, подведенными глазами и тилакой[90] от переносицы до самых корней волос — погладил ряд золотых пуговиц вверху курты. Его пальцы мелькали над влажной красной тканью в стальном блюде с листьями бетеля. Обрезав края листа, он намазал его соком лайма, а затем наполнил толченым супари[91], кардамоном и щепоткой табаку. Наконец, свернув паан в аккуратный пакетик, сколол его гвоздичкой.
Гулу засунул паан в рот и выдавил зубами первый кисло-сладкий, едкий сок. С довольным видом он кивнул и побрел к «Везучнику Дхабе» — на встречу с другом детства Хари, что ославился на весь город как Хари Бхаи — «Браток Хари». Они сели за столиком на улице — прямо под черными тучами, заволокшими небо.
— Как дела в чавле[92], Бхаи? — спросил он, намекая на трущобы, где жил Хари и откуда он правил своей контрабандистской империей.
— Ты прикинь, этот бахэннод[93] Рену затащил в постель жену моего соседа. Пришлось позвать Тантриста Бабу. Он щелкнул кнутом и сказал, что нашлет на Рену духа — прямехонько в лунги[94], чтоб у него больше никогда не встал. Ха! Так этот бахэнчод брык на колени и ну канючить прощения!
Гулу смущенно усмехнулся и сплюнул на землю.
— Ты чего? — спросил Хари. — Сохнешь по той своей шлюшке Чинни?
Гулу щелкнул языком:
— Да нет, не по ней.
— Ну, значит, по второй, — ухмыльнулся Хари. — По рыбачке.
— В молодости я был очень красивый, брат. Все люди говорили: «Тебе в кино бы сниматься, Гулу». Вот так прямо и говорили. Если б я только попробовал, может, моя судьба сложилась бы иначе.
— Против судьбы не попрешь. — Хари вытащил пачку биди[95], завернутых в газету, и прикурил одну.
— Неужели у нее судьба такая: устроиться в бунгало, влюбить меня в себя, а потом пропасть бесследно? — спросил Гулу, наморщив лоб.
Хотя обоих наняла Маджи, миры их редко соприкасались. Айя жила и работала в доме, а Гулу — на улице. Все эти годы они поддерживали связь лишь одним способом: каждое утро Гулу покупал красновато-оранжевую календулу, которую айя прикалывала к волосам. Тысяча цветов — как тысяча признаний в любви.
— Будто пламя, яр.
— Я собирался на ней жениться, брат. Копил деньги. Говорил себе: вот еще полгода, пять месяцев, четыре… А потом…
Гулу вспомнил низкий голос Маджи и ее срочное требование: «Отвези на вокзал и отдай эти деньги».
— По дороге я сначала думал лишь об одном: «Наконец-то мы наедине!» Я так давно просил бога Ганешу об этом одолжении. Хотелось просто попросить ее руки! Я понимал: что-то случилось и ее уволили, но не хотелось расспрашивать. Пока молчал, все оставалось по-прежнему. Ну, типа антракта в кино…
Хари что-то проворчал, затем отломил кусок жирного поджаренного хлеба и обмакнул его в тарелку с обжигающей бобовой похлебкой.
— Потом, когда уже доехали до вокзала, она призналась, что утонул ребенок. Я не знал, что думать, что говорить. Даже не помню, как добрались до Виктории. У меня сердце разрывалось от горя. Хотелось вернуться на день назад — перемотать пленку, как в фильме…
Галу засунул в рот ломоть хлеба и вспомнил ее глаза. Они были красные — как у богини Кали[96].
— Все покраснело, и я вдруг испугался: меня засасывал ее рот с красным языком, опутывали ее кровавые слова. «О, Разрушительница Вселенной! Ты погубила жизнь ребенка, лишила покоя семью, загубила мою жизнь!» — закричал я на нее.
— Она ж не нарочно, яр, — сказал Хари и откусил еще. Он уже много раз слышал эту историю, но терпеливо, по-дружески внимал Гулу.
— Когда она открыла дверцу, с плеча соскользнула паллу. Краснота прошла, и она снова стала моей — моей возлюбленной. Меня затошнило, голова закружилась. Я больше ничего не понимал. «Не уходи!» — закричал я. А она вырвала из волос календулу и побежала. Я бросился за ней, но она исчезла. Словно богиня Бхумдеви разверзла землю и поглотила ее…
У Гулу хлынули слезы. Он вытер глаза грязным носовым платком и смачно высморкался.
— Я бился о руль головой, бился до крови — снова и снова…
И когда у него застучало в окровавленных висках, Гулу обернулся и увидел календулу — яркое оранжевое пятно на черном заднем сиденье.
— Ни одна баба не стоит таких страданий, — сказал Хари, громко рыгнув.
Гулу прикурил биди и, глубоко затянувшись, кивнул.
А сам вспомнил цветок календулы, который он любовно вставил между газетными страницами и спрятал под койкой. Гулу безумно любил ее и в ту же ночь совершил невообразимый, неописуемый поступок — лишь бы вернуть ее. Он так сильно тосковал по ней, что на сердце остались рубцы. По ночам, перед тем как уснуть, он молился лишь об одном — повидаться с ней хоть разок.
— Боже милостивый, — заканчивал он свою мольбу, — тогда мне и помирать будет не страшно.
Но Гулу не знал и никогда не узнает, что она-то не любила его.
Ну вот ни капельки.
Ведь еще раньше она отдала свое сердце другому человеку в бунгало.
Джагиндер вел «амбассадор» по темным улицам, что изредка освещались всполохами в небе. Жена, мать и бунгало все больше отдалялись, и на душе становилось спокойнее. Питейные заведения усеивали все бомбейское побережье, как минимум одно угнездилось в каждой христианской рыбачьей деревушке — Махиме, Бандре, Пали-хилле, Андхери, даже Версове. Он обследовал эти адды[97] в глухую ночную пору, пока Савита спала, и прятал свой стыд под покровом темноты. Джагиндер радовался, что отец не дожил до этого позора и не видел, как низко пал его сын.
После смерти дочери, в эпоху «сухого закона», Джагиндер сделал тайную заначку «Джонни Уокера». И, хотя о его пьянстве никогда не говорили открыто, Савита всегда заботилась о престиже и приказывала наполнять пустые бутылки из-под дорогущего виски «Роял салют» водой и с нетронутыми этикетками хранить в холодильнике. Оставшуюся тару перепродавали по изрядной цене раддивалам, которые затем обменивали ее на что-нибудь у бутлегеров. Джагиндер добился разрешения от семейного врача М. М. Айера, и толстая пачка рупий незаметно переместилась в блестящий докторский портфель. «Официально признать вас алкоголиком, чтоб вам отпускали максимальную дозу?» — спросил врач, заговорщицки ухмыляясь.
По медицинскому заключению Джагиндер мог покупать «иностранные спиртные напитки индийского производства» в легальных винных магазинах. Но по вкусу местные марки были ничуть не лучше тех, что варились бутлегерами из гнилых апельсинов, кокосовой стружки, темных голов неочищенного сахара и лошадиных порций наусагара[98], ускоряющего брожение. Даже для такого пьяницы, как Джагиндер, это было уже чересчур.
Порой он засматривался на лицензионные бары клуба «Веллингтон-Торф» или «Бомбейской Гимкханы», где эпоха табличек «только для белых» навсегда ушла в прошлое: суровая необходимость вынудила раскрыть двери перед зажиточными туземцами. Но Джагиндеру не хотелось связываться с младшими полицейскими инспекторами, что вечно дежурили в частных клубах, — одной рукой они записывали в журнале имя, адрес и объем в пинтах, а другую прятали в рукаве, чтобы щедрой взяткой можно было избавиться от излишней дотошности. К тому же Джагиндер смущался пить в такой обстановке, ведь хотя приезжие белые сахибы могли (и даже должны были) выпивать для подкрепления своего авторитета, его дурная привычка не имела столь же уважительного оправдания.
Поэтому он и сбегал посреди ночи в адды. Джагиндер не стал беспокоить Гулу. Во-первых, шофер в тот вечер взял выходной, а во-вторых, Маджи всегда наставляла сына: «Прислугу использовать только по делу. Никогда не заставляй ее потакать твоим минутным прихотям».
Крутя баранку, Джагиндер почему-то вспомнил о дочери. Прошлой ночью, когда он вернулся из адды, Савита не спала и ждала его, вне себя от ярости.
«Мне крышка», — подумал он и обреченно рухнул на кровать. Пусть орет на него, бьет — все что угодно, он это заслужил. Хотя Джагиндер винил Савиту в том, что их отношения дали трещину, он знал, что виноват сам.
Но вместо того, чтобы наброситься на него, жена выкрикнула имя племянницы.
— Она воровка! — звенел в ушах голос жены, пока алкоголь стучал в висках и давил на веки.
Джагиндеру ужасно хотелось забыться сладостным, гулким сном. Как славно просто плыть по течению!
— Она рылась в моей шкатулке для бинди\ И нашла фото…
Глаза Джагиндера внезапно распахнулись. Страх заклубился в груди, точно дым тлеющего костра.
— Она знает?
— Я сказала, что она попала сюда благодаря нашему горю — нашей трагедии!
Джагиндер взвыл. Они договорились ничего не рассказывать детям. Один только Нимиш, хоть ему и было тогда всего четыре года, понял, что нельзя упоминать о погибшей сестренке. И вот теперь, спустя столько лет, все открылось. Как ни утаивали, как ни старались забыть, это ни к чему не привело.
— Зачем ты сказала, что это наша дочь?! Не могла что-нибудь придумать?
— Просто у меня больше нет сил! — закричала в ответ Савита. — У Мизинчика есть отец. Почему он ее не воспитывает? Почему ты не отправишь ее обратно? Почему я должна жить с ней — с этой чужой девчонкой?
— Оставь меня в покое, — сказал он. — Ты не в себе.
— Ах, это я не в себе? — взвизгнула Савита. — А ты? Каждую ночь где-то шляешься, а ко мне боишься даже притронуться, будто я прокаженная.
Она расплакалась.
Джагиндер вновь закрыл глаза, отвернулся и заставил себя уснуть.
Голод и стирка
Парвати и Кунтал сидели на корточках друг напротив друга, раздвинув колени, точно крылья. Сари они подоткнули, будто затеняя предмет этой угренней беседы.
— Хм! Думает, что удовлетворяет меня своим штырьком — не больше стручка бамии![99] — Парвати развела пальцы дюйма на три.
Кунтал захихикала.
— Ждет, что я буду извиваться: «Ах, Кандж, Кандж!» Будто сабзи[100] на сковородке! — Парвати взяла валек и стала энергично выбивать безутешную рубашку.
— А раньше ты по-другому пела.
— Хм. Ну, тогда-то и он был побольше, а с возрастом все усыхает, на Парвати вышла замуж за повара Канджа вскоре после того, как вместе с Кунтал поступила на службу к Маджи. — зимой 1943-го, за четыре года до приезда Мизинчика. Парвати было четырнадцать, Кунтал — на год меньше. Они приехали из аграрных районов Бенгалии, на севере Индии, спасаясь от голода, унесшего жизни трех миллионов человек. Большинство погибших были сельскохозяйственными рабочими, как и их родители. Ни Парвати, ни Кунтал не понимали решений английского колониального правительства, вызвавших голод, ведь в том году урожая зерна хватило бы на прокорм всей Бенгалии. Но такова экономика военного времени: британцы уже предчувствовали фиаско и, стремясь упрочить положение, изъяли зерно в аграрных районах и уничтожили дополнительные запасы, чтобы они не попали в руки японцев. Продовольствие транспортировалось в Калькутту — столицу Бенгалии и главный порт имперского правительства, а затем вывозилось из Индии в другие британские колонии.
Калькутта была до отказа набита зерном, и городские рабочие ничуть не страдали от инфляции, вызванной Второй мировой, а тем временем индийцы из отдаленных областей — где и выращивали рис — медленно умирали от голода. Родители Парвати и Кунтал прослышали о еде и бесплатных кухнях в Калькутте и выехали из своих деревень в нестерпимую жару, когда в воздухе стоял едкий смрад свежих трупов. Девочек оставили у соседа: им оставалось только ждать и медленно гибнуть. Выделенный паек таял на глазах, ведь продовольствие тогда припрятывали. Целыми днями Парвати искала в мусоре съестное, собирала семена да ловила насекомых. Всем, что нашла или сумела украсть, она делилась с Кунтал, которая настолько ослабела, что не могла стоять на ногах. Так Парвати спасла себя и сестру. Кунтал угасала, но Парвати упрямо цеплялась за жизнь, помогали крепкие мышцы и небольшой жирок на груди и бедрах. Она не допускала даже мысли о смерти и сама бы убежала в Калькутту вслед за родителями, если бы Кунтал набралась хоть немного сил.
Как-то раз деревенские старейшины (трое из них слепые, а остальные — неграмотные) пришли с порванной британской газетой «Стэйтс-мен» и ткнули в зернистый снимок с изможденными телами. «Смодриде дам, — кричали они по-английски беззубыми ртами. — Они мерд-вый!»
Затем старички плотоядно уставились на сироток, и Парвати поняла: нужно бежать немедля. Если не в Калькутту, так в Бомбей, решила она, это второй по значению колониальный порт. «Золотой Город».
В ту же ночь сосед изучил газету за бутылкой сельской сивухи, а потом затащил Парвати в свою комнатушку.
«У тебя никого не осталось, — пьяно рассудил он. — Значит, теперь ты моя».
Пока все происходило, Парвати думала о Бомбее и надеялась, что этот город ее спасет. Едва сосед завалился спать, она схватила кинжальчик, лежавший поверх сброшенной лунги, и вонзила ему в сердце. Глаза крестьянина раскрылись от изумления. Затем, чтобы окончательно расквитаться, она отрубила сморщенный член и вышвырнула в окно, там его мигом сожрала стая бешеных псов.
Ночью, когда все стихло, Парвати выползла из комнаты и забрала остатки имущества: деньги, джутовый мешок риса и ржавый велосипед. Привязав Кунтал к рулю, она крутила педали, не замечая капающей крови, и так доехала до станции, где обменяла рис на два билета до Бомбея. Во время поездки и за пару недель бесприютных блужданий по городу Парвати помаленьку выходила Кунтал. Она навела справки и на последние деньги купила себе и сестре новую одежду, а затем принялась стучать в двери всех домов подряд: «Прислуга не нужна?.. Прислуга?..»
Двери захлопывались одна за другой.
Повару Канджу тогда уже перевалило за тридцать. Конечно, он рассердился, что его разбудили, но все же открыл ворота после настойчивого стука Парвати. Взгляд ее тотчас пленил Канджа. Хотя голод подточил ее красоту, глаза Парвати блестели весьма убедительно. Повар усадил девочек на веранде и, неожиданно для себя, накормил. Когда Маджи встала и увидела, как Парвати бойко подметает аллею, она поняла, что наконец-то обрела прислугу, о которой молилась последние пару недель: прежняя служанка вышла замуж и уехала. У девушек не было рекомендаций, но проницательная Маджи сразу почувствовала, что они из хорошей семьи и просто хотят начать новую жизнь — так же, как Гулу много лет назад. «Две недели», — сказала она и пошла распорядиться насчет ночлега.
На задах торчали два гаража, похожих на мышиные уши. В первом жили Гулу и повар Кандж. Маджи мельком подумала, не поселить ли Парвати и Кунтал во втором — рядом с черным «мерседесом», занимавшим почти все место? Но затем она остановилась все же на дальней гостиной для официальных гостей. Хоть Маджи и доверяла Гулу с Канджем, они все-таки мужчины, а ей не хотелось никаких скандалов между прислугой по ночам.
В тридцать с небольшим повар Кандж был красавцем с волнистыми волосами. Накрахмаленные белые рубашки он заправлял в лунги, а по праздникам — в единственные брюки. Он с самого начала не спускал глаз с сестер, словно они были его подопечными: Парвати — нахальная и резкая, Кунтал — мягкая и застенчивая. Он окружил вниманием обеих: подкладывал им сахар на поднос барфи с кешью, тайком подносил манговый ласси и лаймовый шербет — словом, откармливал. А потом лицо Парвати неожиданно стало являться ему по ночам, прогоняя сон. Днем он украдкой поглядывал на нее и влюблялся все больше. Вскоре уже Кандж угощал ее одну. «Почему нет?» — наконец подумал он.
«Почему нет?» — сказала себе Парвати, когда повар предложил ей руку и сердце, хотя низость соседа и оставила мерзкий осадок. Так или иначе, рассуждала девушка, Кандж ее впустил, тогда как другие захлопывали перед носом двери, и нежно, чутко заботился о ней, заменив пропавшего отца. Повар был похож на сыр панир[101] — жесткий и хрустящий снаружи, но мягкий и обволакивающий внутри. Узнав о предстоящей свадьбе, Маджи благословила их и великодушно выделила второй гараж под спальню.
— Тебе повезло, что ты не была замужем. Работы лишь прибавляется, — сказала Парвати, откинув мыльной рукой прядь со лба. — Мне бы вечерком отдохнуть — так нет же, хватает меня за все части тела. Не успею войти, как он уже стаскивает лунги. И сует мне свою кочерыжку. Будто у меня руки без того за день не устали. Вот погоди, огрею как-нибудь вальком — посмотрим тогда, как он запляшет!
— Он же любит тебя!
Кунтал была права. Годы не остудили пыл Канджа. Да и Парвати, как ни жаловалась, все так же кокетливо поглядывала на мужа, проходя через кухню, хоть он уже усыхал, точно лайм, оставленный на палящем бомбейском солнце. Ей нравилось распалять мужа, дразнить и доводить до безумия, а в конце рабочего дня тянуть время перед возвращением в гараж.
— Да какая там любовь! — отмахнулась Парвати. — Говорю же, повезло тебе.
Хоть они были сестрами, Парвати относилась к Кунтал по-матерински. Родителей они потеряли, и Парвати не хотела выдавать сестру замуж, ведь она могла стать легкой добычей какого-нибудь мерзавца. Парвати с Канджем уже навсегда останутся в бунгало. Но если Кунтал подыщет себе пару, то, еще чего доброго, уйдет от Маджи. Несмотря на то что сама Парвати удачно пристроилась, она при каждом удобном случае жаловалась на бессовестных мужиков и тяжкую семейную жизнь.
— Старый дурень умеет готовить баклажан по-могольски, расмалай[102] и всякие вычурные блюда, а вот посадить семечку в мою утробу ему слабо, — пробурчала Парвати только для вида.
Из-за дверного косяка показалось лицо Мизинчика.
— Хай-хай, смотри-ка, а нас подслушивают, — сказала Парвати, не отрываясь от белья, и кивнула на девочку.
— Надо чего-нибудь, Мизинчик-дм? — спросила Кунтал, споласкивая руки.
Мизинчик покачала головой и, войдя в ванную, уселась на деревянный табурет:
— Помыться можно?
— Прикажешь нам все бросить и уйти? — в раздражении воскликнула Парвати.
— Нет-нет-нет! — успокоила ее Мизинчик. — Я могу и при вас.
Парвати и Кунтал переглянулись и пожали плечами.
Мизинчик стала раздеваться:
— Ты любишь Канджа?
— Хай-хай, ну и вопросики, — Парвати поправила локтем сари. — Я не обязана его любить — он же мой муж.
— Ну конечно, любит, Мизинчик-дм, — ответила Кунтал, щелкнув языком. — Она это говорит только из-за меня.
— А чего ты вскочила в такую рань? — перебила Парвати.
— Не спится.
— Не спится? — переспросила Кунтал. — Что-то стряслось?
— Маджи не верит мне! — выпалила Мизинчик, в глазах у нее стояли слезы.
— Не верит? Насчет чего?
— Насчет призрака. Тут, в ванной, — привидение!
— Привидение? — Парвати отложила валек и понимающе взглянула на Кунтал. — Ого, ну, значит, приспела пора.
— Ara, — согласилась Кунтал. — Тебе ведь уже тринадцать.
— Со дня на день из твоей су-су[103] пойдет кровь, — буднично сказала Парвати. — Живот жуть как разболится. Будешь вонять, тебя не пустят на кухню, да и в комнату для пуджи тебе путь будет закрыт.
— Это месячные? — спросила Мизинчик. Она слышала о них от Милочки.
— Ничего страшного, Мизинчик-ди. Все девушки через это проходят.
— Не так уж это безобидно, — вставила Парвати, ткнув пальцем в Мизинчика. — Теперь ты сможешь рожать. Если, конечно, муж попадется с нормальной штуковиной, а не то что мой.
— А как же привидения? — спросила Мизинчик.
— Мои первые месячные случились уже в Бомбее, — продолжала Парвати. — Меня мучили кошмары. Видела Бабу как наяву, но это был сон. Ого, как он на меня смотрел! Сердился, что мы уехали из Бенгалии. Но ведь они сами нас бросили! И нечего теперь на меня дуться!
— Это было давным-давно, Мизинчик-ди, не думай, — успокоила Кунтал.
— Что с ними? — спросила Мизинчик.
Парвати швырнула валек, вздохнула и вышла.
Кунтал молча вернулась к стирке.
Воздух незаметно посвежел.
Мизинчик ополоснулась, по телу побежали мурашки.
— Тебе тоже холодно? — спросила она Кунтал.
Та покачала головой и потрогала ей лоб.
— При месячных чуть-чуть знобит, но это ничего, тело ведь охлаждается, на? Давай быстрей домывайся.
Мизинчик плеснула себе в лицо водой и открыла глаза. В ведре ей померещилась вспышка — черный всполох, и он почему-то ослепил. Затем, когда сморгнула, — красная и серебристая пульсация, на долю секунды.
— Ты видела? — вскрикнула Мизинчик.
Кунтал подняла глаза:
— Что видела?
— Всполохи в ведре!
Сощурившись, Кунтал заглянула внутрь и с сожалением покачала головой.
Мизинчик понуро одевалась.
— Ты веришь мне?
— Наступят со дня на день, — ласково сказала Кунтал. — В первый раз всегда как-то диковато…
Парвати вернулась с тонким пакетом, завернутым в старое сари. Она уселась на деревянный табурет и медленно, даже почтительно развернула желто-красную ткань бандхани[104].
— Ах, ди, — вздохнула Кунтал, догадавшись. — Мизинчик ведь еще маленькая…
— Она хочет знать, что произошло, и я покажу ей.
Номер газеты «Стэйтсмен» от 22 августа 1943 года. В пожелтевшем, забрызганном кровью конверте — целая страница с фотографиями изможденных женщин и детей, умирающих на улицах города.
— Видишь этот снимок? — ткнула Парвати. На зернистом черно-белом фото растянулась шеренга женщин с торчащими ребрами и осунувшимися лицами, а в углу к повозке прислонился расплывчатый мужчина. — Там, в конце, наши родители. В деревне был голод, и они уехали в Калькутту за едой.
Мизинчик не могла оторваться от смазанных фотографий, особенно от снимка с матерью в порванном сари в горошек.
— Нашли?
— Издеваешься? — крикнула Парвати, поглаживая фото. — Все оказалось враньем. В городе тоже еды не хватало. Они умерли прямо на улице.
Кунтал тихо заплакала:
— Ах, ди, зачем ты это хранишь?
— Чтобы помнить, — ответила Парвати, бережно заворачивая газету в ткань. — Нужно выживать любой ценой.
Муж и мужеедка
Статуэтки в комнате для пуджи блестели. Взяв по щепотке белой рисовой пудры, Маджи и Мизинчик нарисовали мандалы на черном мраморном алтаре. На изображение Сарасвати в рамке они повесили свежую цветочную гирлянду.
Маджи затянула мантру:
— Богиня Сарасвати, прекрасная, как жасминовая луна!.. Избавь меня от неведенья…
После молитв Маджи удобно уселась и вздохнула.
— Когда я была еще маленькой, рядом поселилась юная брахманка. Ей было лет тринадцать-четырнадцать, и она вышла замуж за соседского сына…
Маджи вспомнила, что эта девушка любила пить тревожно-яркие фруктовые сиропы с колотым льдом, что окрашивали ей язык: гуава — зеленым, джекфрут — желтым[105].
— Год спустя ее муж умер. С крыши я видела, как две женщины из касты брадобреев выволокли ее во двор. Девушка стала вдовой. С нее сняли драгоценности и одежду. Стерли со лба пунцовую точку и нарисовали погребальной золой линию от кончика носа до корней волос. Выбрили голову. Омыли тело холодной водой и закутали в грубое белое сари. А она все припадала к земле и горько плакала. Подняв глаза, она увидела меня на соседней крыше. Мне захотелось спуститься и защитить ее…
Маджи умолкла и прижала пальцы к глазам, словно сдерживая слезы.
— И ты защитила? — спросила Мизинчик.
Маджи усмехнулась.
— Я ведь сама была еще ребенком. Побежала к родителям, но они лишь сурово посмотрели, чтобы я не вмешивалась, ведь все эти обряды предписаны Законами Ману[106]. Бедняжку кормили раз в день грубой едой, и она понемногу чахла. Свекровь обвиняла ее в смерти сына и ругала кхасма ну кхание — «мужеедкой». Ее называли даже не «она», а «оно», словно девушка стала бесполой. Я передавала ей фрукты по веревке, привязанной на крыше, с каким же аппетитом браминка их уплетала! Но однажды ее застали врасплох и куда-то увезли…
Одна слезка все же прорвалась и скатилась по бабкиной щеке.
В груди у Мизинчика сжался тугой, твердый комок.
— И что с ней сталось?
— Не знаю, бэти, не знаю… Наверное, отправили в ашрамы Вриндавана или Варанаси — жить подаянием. Выйдя замуж, я попросила твоего дедушку взять меня с собой в паломничество. Я пристально вглядывалась в каждое безучастное лицо, но так и не отыскала ее. Благодаря Ганди-джи[107] вдовам стало полегче, но в обществе им все равно нет места. После всех этих ритуалов с погребальным пеплом и бритьем головы они — как живые покойницы. — Маджи промокнула глаза. — Тогда я поклялась, что со мной никогда такого не случится. Я буду бороться и даже покончу с собой, если…
— Маджи! — возмутилась Мизинчик.
— Прости меня, бэти, я была тогда молодая — ветер в голове. Жаль, что мои родители не посмели забрать ту девушку к нам. Просто они боялись, что ее зловещая тень падет на меня. Сегодня мне приснилась эта бедняжка. И это спустя столько лет! Я так жалею, что не запомнила ее имени…
За завтраком Савита, как обычно, жаловалась Джагиндеру:
— Всю ночь над головой москиты гудели, да еще ты вдобавок храпел! Все будто сговорились и не давали мне спать!
Целые стаи москитов и впрямь закручивались бешеными воронками над волосами Савиты, стоило ей выйти в люди. Порой самые преданные возвращались вместе с нею домой, а остальные пускались в неудержимое паломничество к прочим надушенным шевелюрам. Кунтал изредка расстилала циновку в комнате Савиты, дабы разделить ее мучения, и с сочувствием выслушивала беспрерывные жалобы.
Джагиндер крякнул.
— А, Парвати, — позвала Савита, заметив ее в прихожей, — портной завез мое кандживарамское сари?
— Да, утром доставили. Я положила у вас в комнате, — ответила Парвати и поскорей улизнула.
Ее сестра чистила ванную.
— О-хо-хо! Эта Савита меня скоро до ручки доведет. Слыхала, как они с Джагиндером грызлись ночью?
— Аччха?[108] — Кунтал поправила стакан с истертыми зубными щетками и мятый тюбик «ко-линос» на мраморной полочке над раковиной. Кафель в ванной блестел.
— Едва он вернулся на «амбассадоре», я обо всем догадалась. Пяти минут не прошло, как она завизжала — я аж у себя в гараже услышала.
— Бедная Савита-ди…
— С чего это она «бедная»? — Парвати грозно ткнула пальцем в Кунтал. — Ты хоть раз видела, чтоб она корячилась над бельем? Палец о палец за весь день не ударит. А теперь даже ночью лень юбку задрать.
После завтрака повар Кандж гремел в раковине посудой, прямо у кухонного окна, а Гулу, громко насвистывая, готовил «мерседес» к послеобеденной прогулке. Близнецы наполовину разделись и понарошку мутузили друг друга, подражая героям любимых кинофильмов. Джагиндер топтался в передней: он терпеть не мог всякие общественные обязанности, особенно если это касалось бесконечных жениных родственников. Савита вихрем носилась по бунгало, выкрикивая указания, улещивала или журила многочисленных членов семейства, попутно примеряя ожерелье с сапфирами и брильянтами.
— Хай-хай, Нимиш, и это ты называешь обувью? Протри очки и разуй глаза!..
— Дхир, ты что, оглох? Я же сказала: кремовая курта с коричневой жилеткой, а не коричневая курта с кремовой жилеткой…
— Туфан, кончай хныкать-шмыкать! Ты ДОЛЖЕН поехать. Хочешь, чтоб я позвала отца?..
— Джагиндер? ДЖАГИНДЕР? Ну куда ты запропастился? Вразуми своего сынка — он скоро мне все нервы вымотает!..
Джагиндер схватил Туфана за шкирку, когда тот мчался по коридору в одних трусах, и слегка задел его кулаком. Туфан ловко увернулся и убежал.
— У тебя ровно три секунды, чтобы одеться, пока я не пришел! — крикнул вслед Джагиндер.
— Мамуля, я не хочу надевать кремовую кур-ту… — заскулил Дхир и вышел из комнаты, но тотчас замолк, увидев в коридоре отца, уже занесшего руку.
Нимиш бочком прокрался мимо, не отрываясь от книги сэра Эдвина Арнольда[109] «Снова об Индии».
— «Проехавшись на следующий день по военному городку и прогулявшись по туземным базарам, — читал он вслух, — я обнаружил, что Индия, в сущности, почти не изменилась, несмотря на все нововведения, приукрашивания и усовершенствования британцев».
— Думаешь, я тебя не стукну? — рыкнул Джагиндер, смутно сознавая, что оскорбляет старшего.
— Джагиндер? ДЖАГИНДЕР? — взывала Савита.
Он что-то пробурчал и исчез.
Из супружеской спальни донеслись разгоряченные голоса, а затем — пронзительные вопли, и мальчики бросились врассыпную.
Мизинчик осторожно вышла из укрытия и побежала в бабкину комнату. Маджи неторопливо надевала новую белую блузку, которую недавно привез портной. Обильная плоть свисала со всех сторон. Блузка растянулась, плотно облегая внушительные груди. Из-под тугих рукавов выпячивались валики жира, словно им тоже хотелось немного проветриться. На громадных бедрах разошелся шов нижней юбки. Парвати встряхнула девятиярдовое белое сари с пестрой узорчатой каймой и, быстро отцепив английскую булавку от бретельки своего лифчика, сколола порвавшуюся юбку. Маджи облегченно выдохнула.
— Ты почему до сих пор не оделась, бэти?
— Голова-а… — Мизинчик без сил рухнула на твердую бабкину кровать.
— Хай-хай! — Маджи потрогала ей лоб. — Ладно, полежи здесь. Посмотрим по твоему самочувствию…
Мизинчик с благодарностью закрыла глаза.
Джагиндер вышагивал взад-вперед по спальне, жалея самого себя. Ему хотелось лишь одного — поскорее сбежать в контору, где можно свободно раздавать указания. Судоразделочный завод в Рэти-Бандере и торговый склад в Дарукхане — как пара истоптанных чаппалов, что обуваешь, даже не вымыв ноги.
Даже само название «Дарукхана» звучало веско и внушительно: британцы хранили там черный порох, который ввозили через главные доки Александры и транспортировали вдоль восточного берега. Тем не менее этот район принадлежал Бомбейскому портовому тресту и был застроен ветхими сараями из рифленой жести, в которых ютились коммерсанты типа Джагиндера, да сотнями хибар, где в полной антисанитарии жили обнищавшие рабочие, в основном — переселенцы из Уттар-Прадеша и Бихара. Невероятно узкие проезды Дарукханы днем запруживались грузовиками и ручными тележками, а ночью кишели грабителями. Однако Джагиндера это не беспокоило: он платил за чистую воду из кранов и включал убытки от воровства в торговые издержки. В Дарукхане он сидел за столом с черным телефоном, что непрерывно звонил. Где-то поблизости суетился Лалу с блокнотом в руке, и Джагиндер ощущал себя важной персоной — ответственным лицом.
Но едва Савита в своем блестящем сари напоминала о долге перед семьей, он чувствовал себя не в своей тарелке. Перебарывая смущение, Джагиндер избегал любых разговоров или сводил их к чисто деловым вопросам, ловя на себе беспощадный взгляд Савиты при малейшей оплошности. Вот и теперь он стоял пень пнем, а Савита оглашала длинную череду наставлений.
— И заруби уже себе на носу: не болтать лишнего.
— Я и так никогда не болтаю лишнего.
— А помнишь, на вечере у Нараяна? — фыркнула Савита. — Ты сказал моей подруге Мам-те, что Нимиш не интересуется судоразделкой?
— Но это же чистая правда! — выкрикнул Джагиндер. Кровь прилила к голове, как у дикого зверя, пойманного в сеть.
— Правда? — вскинулась Савита на отражение мужа в зеркале. — С каких пор это стало так важно? Что скажут люди, если узнают, что Нимиша не волнует семейный бизнес?
Она представила, как Мумта радостно пересказывает пикантную новость подругам, досочиняя нелепые подробности, чтобы опустить Савиту в еженедельном рейтинге «самой первоклассной жизни».
— Ну и что с того? Рано или поздно ему придется смириться с судьбой. А мы ему вправим мозги.
— Ты не понимаешь, — сказала Савита, задетая его словами. Она знала по горькому опыту, что победить в этой схватке нельзя: Джагиндер нападал на нее, а она лишь дрожала, обливаясь слезами. Защититься можно только одним способом — отказать мужу в садистском удовольствии. — Я все сказала. И нечего тут больше обсуждать.
— А по-моему, есть! — заорал Джагиндер, который только входил во вкус. Муж потянулся всем телом, и шея хрустнула в трех местах. Стресс уже прошел, в паху запульсировала кровь.
Савита молчала и сосредоточенно приклеивала на лоб бинди с драгоценным камнем.
— Мне начхать, что себе думают эти твои долбаные подружки! — Джагиндер вернулся к началу. — Тебе что, заняться больше нечем?
Савита полюбовалась бинди, но затем передумала и приклеила его среди россыпи красных кружочков, экземой усеявших зеркало.
— Отвечай!
Но Савита молчала. В этом раунде она, черт возьми, победила.
Джагиндер направился к «мерседесу», который Тулу любовно отполировал и загнал обратно в гараж, чтобы не нагревался на солнце. Из багажника Джагиндер достал бутылку выдержанного «Джонни Уокера» и перед уходом ужаснулся, в каком убожестве живет шофер. Джутовая койка, бельевая веревка да рекламный плакат обувного крема «вишневый цвет»: два котенка, желтый и голубоватый, удобно расположились в паре блестящих черных ботинок. Внизу слоган: «Комфорт для обуви».
Джагиндер с минуту разглядывал плакат и заинтересовался, где же Гулу проводит выходной, который регулярно берет раз в две недели. Возвращаясь поздно вечером, шофер напевал мелодию из какого-нибудь фильма и с важным видом открывал калитку. «Алкаш из низшей касты, — подумал Джагиндер и скривился в отвращении. — Небось снимает шлюх на Фолкленд-роуд».
— Сахиб?
— Ой, Гулу! — Джагиндер обернулся и увидел в дверях шофера. — Выпьешь?
— Нет, сахиб, не велено, — почтительно произнес Гулу.
Джагиндер быстро глянул на него, глотнул и проворно засунул бутылку обратно в багажник.
«Как же все изменилось», — думай он, расхаживая по аллее и поджидая семью. Обед по случаю помолвки устроили в «Тадже» — самом роскошном отеле Бомбея. Он был построен в 1903 году, постояльцам предлагались турецкие бани, электрическая прачечная и даже штатный врач. Много лет назад Джагиндер с Савитой отпраздновали здесь и свою помолвку — в номере с видом на Врата Индии[110].
Когда он впервые увидел ее, она была прекрасна и беззащитна, словно крошечная нектарница. Она порхала между людьми, лучезарное оперение сверкало, а в драгоценностях отсвечивало солнце. В тот день Джагиндер поклялся: что бы ни случилось, он будет всегда ее оберегать.
И в кого они теперь превратились?
Он стал для нее самым свирепым тираном.
«Когда же это произошло?» — спрашивал себя Джагиндер, хотя прекрасно знал ответ. После смерти дочери в их отношения вкрался стыд: как в американском кино, где длинные диалоги нагнетают напряженность. Оба бездумно следовали сценарию и, позабыв обо всем, жестоко обижали друг друга. Наконец мизансцена поменялась, первоначальное возбуждение прошло, и они неожиданно оказались совсем в другом кинотеатре… Джагиндер вздохнул.
Савита вышла в аллею, щелкая вечерним ридикюлем.
— Хорошо… выглядишь, — выдавил из себя Джагиндер.
На долю секунды Савита замедлила шаг и потупилась.
Остальная родня уже собралась в тени, и каждый погрузился в свои мысли. Маджи беспокоила головная боль Мизинчика, что началась вскоре после поноса, и бабка решила все же вызвать доктора М. М. Айера — пусть пропишет таблетки в обертке из фольги. Туфан стоял у дверцы автомобиля, воинственно скрестив руки: Парвати в конце концов пришла к нему в комнату и, грозно завязав дупатту сзади, чтобы освободить руки, силой его одела. Дхир куксился в своей кремовой курте и коричневой жилетке, а Нимиш углубился в книжку «Снова об Индии».
— А где Мизинчик? — спросил Туфан.
— Нездоровится ей, — ответила Маджи. — Пусть посидит дома.
Во взорах всех четверых вспыхнуло возмущение.
«Так нечестно!» Близнецы понимающе переглянулись. Маджи всегда обходилась с Мизинчиком по-особому.
«Что она затевает?» — холодно подумала Савита, подкрашивая губы.
«Как я сам не додумался?» Джагиндер разозлился, что племянница его объегорила.
— М-м-м, — вдруг сказал он, вынашивая планы побега, — чуть не забыл — мне же надо заскочить на завод.
— Не смей так со мной… — начала Савита дрогнувшим голосом.
— Это ведь в двух шагах от «Таджа», — парировал Джагиндер, — там и встретимся. Какие, на хрен, проблемы?
— Дети, чало[111], садитесь в машину, — велела Маджи.
— Они же тебя ждут, — сказала Савита, и взгляд ее посуровел.
— Аккурат к обеду поспею. А ты пока заболтаешь их…
— Ну и проваливай! — сорвалась на визг Савита.
Потемнев от злости на отца, Нимиш быстро подошел к матери и бережно усадил ее в машину.
Джагиндер наблюдал, как они загружаются в «мерседес»: первой на заднее сиденье — Маджи, за ней — Савита. Дхир и Туфан втиснулись посередке, а Гулу и Нимиш разместились спереди.
Он выиграл. Джагиндер победно потянулся и громко зевнул, прогоняя внезапную слабость. «Черт, черт, черт, — думал он. — Опять напортачил». Как ни старался он быть добрее к Савите, злость все равно пересилила и превратила его в скота.
Джагиндер тихонько взял ключи от «амбассадора» и поехал на завод в Рэти-Бандер вдоль восточного берега, где когда-то черпали из моря песок для строительства.
Его сверкающий автомобиль остановился, кругом вовсю кипела работа. Джагиндеру предложили стул, парасоль и прохладительный напиток. Он с радостью сел, окинул взглядом свою империю. Он унаследовал ее от отца и еще больше укрепил — деловым чутьем и финансовой сметкой.
Вдали виднелся массивный остов списанного корабля: полная грузоподъемность — более пяти тысяч тонн, двадцать пять лет в открытом море, ремонту не подлежит. Целый рой монтеров и слесарей разбирал судно, снимая раскалившиеся на солнце стальные пластины с асбестовым покрытием. На каждую пластину — по работяге, из инструментов — лишь газовая горелка да голые руки.
Носильщики, в одних дхоти[112] да тюрбанах от палящего солнца, таскали на спинах металлолом. Они напоминали муравьев, ползающих по мертвой туше, их босые ноги ступали в такт с ритмичными призывами запевалы. Грузчики складывали железяки в грязные грузовики, ярко разрисованные красным и оранжевым. Металл шел на перепродажу — его переплавят и отольют из него водопроводные трубы, а то и кузов нового «амбассадора».
Многие неквалифицированные работяги жили на окраине завода в шатких лачугах на сваях, среди протекающих бочек, костров и грозных пустырей, что тянулись вдоль берега.
— Все тхик-тхак[113], босс-сахиб?
Джагиндер одобрительно буркнул.
Ну хоть на работе все чин чинарем.
Ведро в ванной
А Мизинчик тем временем мирно спала. Родня уехала, и прислуга вскоре ушла на рынок. Недовольный Кандж поставил на столик тарелку из нержавейки с мунг далом[114] маринованным в лаймовом уксусе, суп с ярко-зелеными ломтиками кабачка джиа и дымящиеся роти. Вернувшись на кухню, он расстелил циновку, чтобы наконец-то вздремнуть. Кандж подсчитал, что до возвращения шумного семейства осталось еще целых три знойных часа в окружении назойливых мух.
Мизинчик проснулась чуть позже и вяло поклевала еду. Затем пересекла зал и остановилась: пальцы ног утонули в густом ковре. Как странно — в комнате, что обычно гудела от шума и гама, царила полная тишина. Мизинчик шагнула в коридор и услыхала хриплый, режущий ухо храп Канджа.
Дверь в ванную была открыта, и Мизинчик долго простояла на пороге, уставившись на латунное ведро с зацепленной за край лотой. Девочка впервые заметила мокрые пятна вдоль трубы, опоясывавшей комнату, словно змея, и стену, побеленную лоскутами. Ванная, выложенная зеленым кафелем, казалась древней. На трубе лежал треснувший деревянный валек — покоробившийся и давно пришедший в негодность. На стыке стены и пола струился тонкий ручеек склизкой жидкости, омывая пятнышки липкой плесени. Хотя Кунтал ежедневно драила ванную, та не сияла чистотой, как остальные комнаты: никакими порошками нельзя было смыть въевшуюся печать запустения и память о давно минувших событиях.
Мизинчик притащила из зала резной столик ручной работы и подперла открытую дверь.
— Жалко, что ты умерла, — сказала она, робко шагнув в ванную.
Мизинчик вспомнила фото. Стоило ей увидеть ребенка, и неосязаемый призрак вдруг облекся зримой плотью — стал реальнее, обрел человеческие черты.
— Я знаю, как ты выглядишь, — продолжала она, подбираясь ближе к ведру. — Гулу говорит, духи возвращаются, чтобы исправить свои ошибки…
Мизинчик обернулась, но тотчас успокоилась: дверь оставалась открытой.
— Или чтобы предостеречь других. Это все тетя Савита? От тебя заставляет?
Девочка заглянула в ведро, не касаясь его.
Совершенно пусто.
— Но почему я? — прошептала Мизинчик.
Внезапно кто-то засунул в ведро ее голову.
И оно стало наполняться водой.
Девочка заметалась, не в силах разогнуть шею. Дыхание ледяное. Вода подбиралась все ближе к ноздрям. Мизинчик брыкалась и дергала головой, хватая ртом воздух. В ужасе она поняла, что в доме никого нет и ей никто не поможет — разве что спящий повар.
— Кандж!
В ответ только свист, шелест и журчание в трубах.
Инстинктивно она принялась читать мритьюн-джая-мантру — животворящую молитву, которой научила ее Маджи: «Она превозмогает саму Смерть»[115].
— Ом триямбакам яджаамахе… — Девочка закашлялась: в нос попала вода.
Ведро закачалось, и Мизинчик отпихнула его.
— Сугандхим пушти вардханам.
Внезапно ведро перевернулось и с грохотом повалилось на пол. Вода хлынула мощным потоком.
Мизинчик отпрыгнула к открытой двери, затем — через зал и, наконец, юркнула под одеяла на бабкиной кровати. Девочка лежала и тряслась до тех пор, пока не услышала спасительный шум мотора: в ворота въехал «мерседес».
Разомлевшие родственники поднялись на веранду. Обед по случаю помолвки прошел успешно. Все одобрили брак между сестрой Савиты Солнышком и ее женихом. Даже Джагиндеру понравился будущий свояк, и он был непривычно весел. Измученные долгим общением и нестерпимым зноем, Митталы с радостью устремились к обеденному столу, где отлично выспавшийся повар Кандж накрыл ужин из риса и дала.
Он вернулся с полной тарелкой горячих пападов — нряных сухих лепешек с черным перцем и асафетидой. Их сначала поджаривают на открытом пламени, а уж затем подают на стол. Папады[116] компании «Лиджджат», которые готовит горстка женщин в бомбейских трущобах, — одно из редких блюд, которые Кандж покупал, а не стряпал сам, неохотно признавая, что они вкуснее.
— Баап рэ! Бахут гарми хай! Господи, как душно! — воскликнула после ужина Савита и включила вентиляторы на полную.
Мизинчик неслышно вошла и села.
Туфан замахал руками, проветривая подмышки, но тальк давно превратился в мокрую кашицу.
— Кукушки еще не прилетели из Африки, — сообщил Нимиш, просматривая газету. — Едва они прибудут, как скоро подуют муссоны.
— Включите радио, — приказал Джагиндер. — Послушаем, что там наврет чертов синоптик.
— Мизинчик, бэти, ты поспала? — спросила Маджи, когда любовные песни Латы Мангеш-кар сменились столь же чувственным прогнозом погоды.
Мизинчик кивнула.
Туфан зыркнул на нее, но воздержался от грубостей. После обеда слишком долго пришлось строить из себя пай-мальчика в колючей, перекрахмаленной курте, и теперь это сказывалось. Он хотел побыстрее раздеться и рухнуть в постель.
— Хорошо, — сказала Маджи, с тревогой отметив бледность внучки, — тогда помоги Канджу внести чай.
Мизинчик отправилась на кухню, где на чугунной плите закипал котелок молока, благоухая свежим имбирем. Девочка взяла коробку «Брук Бонда» с красной этикеткой и залюбовалась очаровательной семейкой на крышке: мать, отец, брат и сестра навеки блаженно застыли со стаканами молочно-белого дымящегося чая. Мизинчик дотронулась до матери и вспомнила древнюю легенду о Савитри, которая своей великой любовью вырвала мужа Сатьявана из безжалостных лап смерти. «Одной любви маловато», — подытожила девочка.
Кандж насыпал в пенное молоко черных листьев, добавил молотого кардамона, гвоздики, щепоть корицы, много сахара и все перемешал. Затем принялся переливать жидкость из одной кастрюли в другую, поднимая на целый метр, пока светло-коричневый чай не вспенился. Наконец повар разлил его по стеклянным стаканчикам, расставленным на подносе.
К стаканам протянулось сразу семь рук. Едва горячая жидкость потекла в глотки, все обмякли и стали громко вздыхать. Нимиш забрал стакан к себе в комнату, пробурчав через плечо, что у него куча работы.
— Чало, шабаш, — сказал Джагиндер и, расстегнув верхнюю пуговицу, энергично почесал густую шерсть на груди.
— Так, значит, тебе понравился Солнышкин жених? — осторожно спросила Савита.
— Ага, — ответил Джагиндер: чай поднял ему настроение. — Хорошо иметь юриста в семье. Кстати, продувной малый.
— А по мне, так зану-уда, — добавил Туфан, жалея о потраченном времени.
Савита испепелила его взгядом:
— Иди к себе, пока не стукнула.
Туфан закинул в рот пригоршню жареных семян фенхеля и охотно удалился.
— Самое главное, что мальчик из хорошей семьи, — сказала Маджи и, осушив стакан, с помощью Кунтал медленно отправилась в спальню. — Зайди потом, Мизинчик, я помассирую тебе голову перед сном.
— Уже иду, Маджи.
Джагиндер громко рыгнул и столь же звучно выпустил газы.
— Чало, думаю, нам всем надо лечь пораньше.
Они с Савитой встали из-за стола. Из кухни вышел Кандж, собрал посуду.
— Чем ты тут занималась, пока нас не было? — спросил Дхир. Его кремовую курту усеивали зеленоватые пятна. В отличие от прочих мужчин в семействе Митталов, он обожал светские приемы. Волнующий ассортимент блюд, в основном жареных, — пакор, самос, алу тик-ка[117], которые можно приправлять мятной чатни и объедаться от пуза. Дхиру не терпелось пересказать Мизинчику обширное меню, ведь он, как всегда, выучил его назубок, педантично все перепробовав.
— Спала — чем же еще? — ответила Мизинчик, с деланным безразличием пожав плечами. Затем, удостоверившись, что никто не подслушивает, она перестала притворяться, и на глаза навернулись слезы. — Мне нужна твоя помощь, Кимосаби.
— Моя? — переспросил Дхир, загребая со стола горсть леденцов.
— Идем, — сказала она, потащив Дхира за руку, — пошли со мной.
— Сюда? — Дхир недоверчиво окинул взглядом ванную, и глаза у него забегали: если они с Мизинчиком здесь запрутся, можно нарваться на большие неприятности.
Вдруг ему в голову пришла тревожная мысль, от которой даже защемило под ложечкой. «Господи, что это она хочет мне показать?»
— А ты… ну, — заикался он, стараясь не смотреть на ее блузку, но все равно взглянул мельком на едва заметные округлости. — По-моему, это плохая затея.
— Я больше не могу! — Мизинчик тихо всхлипнула.
Дхир побагровел и прижался спиной к двери, обливаясь потом.
— Ладно, — успокоил он, — только не кричи.
— Не хочу быть одна козлом отпущения, — сказала Мизинчик. — Хочу, чтобы ты тоже увидел.
Убедившись, что речь идет уж никак не о новой марке шоколада, Дхир бешено замотал головой и вмиг отпер засов.
— Ну пожалуйста! — Мизинчик показала на ведро: — Всего разок! Загляни один раз внутрь, и сам все поймешь.
При этих словах Дхир так раскашлялся, что изо рта у него полетело разноцветное леденцовое крошево, облепляя блузку Мизинчика.
Она постучала его по спине.
Дхир вдохнул запах кокосового масла в ее волосах, пудры на шее и пряный гвоздичный аромат кожи. Ему сделалось дурно.
А затем в нос неожиданно ударил другой аромат. Дхир распахнул глаза:
— Пажитник!
— Пряность? — Мизинчик принюхалась, но ничего не услышала.
— Терпеть не могу этот запах, — признался Дхир, радуясь, что отвлек ее внимание.
— Но почему?
Он пожал плечами, к горлу внезапно подступил комок. Нахлынуло смутное воспоминание, как он еще ребенком весело играл рядом с матерью на джайпурском покрывале. Савита держала в руке стеклянный стакан с желтоватой жидкостью — горячим отваром из семян пажитника. Дхир потянулся за ним и ошпарил себе руку. После этого кожа еще несколько недель воняла чем-то очень горьким и едким.
— Кипяченое молоко, — сказал он. — Вот сейчас запахло кипяченым молоком. И сахаром.
— Может, просто чаем с кухни?
— А теперь миндалем.
— Что ты все выдумаешь?
— Я? — Дхир взглянул на Мизинчика, отпер засов и вышел за дверь; в глазах у него стояли слезы. — Пожалуйста, не надо так делать. Это… неправильно.
— Ты о чем? — крикнула она вдогонку, но он уже мчался к своей комнате.
«Я совсем одна, — горестно подумала Мизинчик, стоя в коридоре. — Одна-одинешенька».
Восемь смертей
Мизинчику снилось, что она тонет. Ее толкали в воду — глубже и глубже, пока легкие не распирало от воды. Единственный способ вынырнуть — сунуть голову еще дальше, перестать барахтаться и поверить, что не умрешь. Но всякий раз она пугалась и барахталась. И всякий раз резко просыпалась, так и не потеряв сознание.
Мизинчик осторожно вышла из дома и прокралась мимо гаража Гулу в темный сад. Почти в тот же миг она уперлась в душную стену воздуха. Волосы липли к лицу и шее, пот застывал, точно клей. Страшные тучи теперь полностью заслоняли месяц. Изредка вспыхивала молния, пронизывая небо электрическим разрядом, и тут же пугающе грохотал гром.
Мизинчик знала: гроза может разразиться в любую секунду. Она вытерла влагу с лица. Пот выступил в каждой впадинке, пропитал пижаму. Перед самым носом кружились большие кровожадные москиты — даже не боялись, что она их прихлопнет. Густая листва погружала сад во мрак. Колючие кусты впивались в спину, вьющийся плющ хлестал по лицу, впереди колыхались тени, но Мизинчик кралась все дальше, и сад смыкался вокруг плотной стеной. На ощупь она упорно двигалась к проходу в ограде.
Девочка подождала, укрывшись в душной зелени. Молния рассекла небеса, и Мизинчик приметила Милочку, сидевшую под тамариндом.
Мизинчик знала, почему она приходит сюда по ночам, сбегая от брата Харшала. Он запрещает ей ходить в гости к подругам, смотреть кино и даже слушать радио — блюдет ее целомудрие. А в будни даже звонит с работы — проверить, вернулась ли она домой из женского университета ШНДТ[118]. Вимла не решалась заступаться за Милочку. А жена Харшала, Химани, заботилась лишь о себе. Милочка выжидала момент, безропотно подчиняясь жестокому брату.
Именно Харшал, а вовсе не наивная мать выберет ей жениха — слабовольного, падкого на деньги парня, которым можно помыкать. Когда это случится, Милочка должна быть готова к решительному шагу. Сбегая по ночам под тамаринд, она собиралась с духом и мечтала об иной жизни.
— Милочка-диди! — окликнула Мизинчик и бросилась к ней.
Ее возглас заглушили раскаты грома, а затем наступила мертвая тишина. Минуту спустя вновь застрекотали сверчки, зажужжали жуки, зашелестели листья.
— Диди?
— Кто там? — донесся испуганный голос Милочки.
— Это я. Мизинчик.
— Мизинчик? Что ты здесь делаешь?
— Мне нужно поговорить с тобой наедине, — ответила она, неуклонно продвигаясь во мраке. Пальцы онемели. Она шла на Милочкин голос, словно тот мог ее защитить. Тонкие волоски на руке встали дыбом.
Снова вспыхнула молния, и девушки ринулись друг к другу.
— Что-то случилось? — спросила Милочка, прижимая к себе Мизинчика.
Мизинчик расплакалась, вдыхая сладкий аромат ее кожи, одежды, волос.
— Я знаю про ребенка, диди. Знаю, что девочка умерла. Она утонула в ванной — в латунном ведре!
Милочка напряглась, глубоко в груди кольнуло:
— Ах, Мизинчик…
Милочка села на землю и за обе руки притянула Мизинчика:
— Айю кто-то отвлек, а когда она вернулась, ребенок уже захлебнулся. Все случилось так быстро.
— А что потом?
— Айю прогнали, и сразу же позвали Пандит-джи, чтобы он совершил очистительный обряд. Мама забрала нас — меня и Харшала. Она принесла еды, и повар Кандж перетащил всю свою утварь в нашу кухню.
Хоть ей было всего четыре года, она помнила, что Савита рухнула на пол рядом с ребенком и безутешно причитала. Милочка и Харшал сидели на диване в гостиной, обнимая испуганных близняшек, и молча смотрели, как Парвати злорадно вышвыривает на улицу постель, одежду и скудные пожитки айи. Затем служанка развела в аллее костер и сожгла все, что могло сгореть. Джагиндер упал подле Савиты, умоляя ее не плакать.
— Маджи все взяла на себя. Набрала номер, хоть сама бледная как полотно и рука трясется. Но она обо всем договорилась.
Мизинчик представила эту душераздирающую сцену. Грянул гром, потом еще — уже ближе. Она задрожала, хотелось куда-то спрятаться. Листва зашелестела под порывом ветра, и деревья затрепетали.
— Не помню, сколько я там просидела…
Милочка умолкла.
«Я расскажу, — прошептала она на ухо брату, пока они держали вырывающихся близняшек. — Расскажу им, что ты сделал сегодня утром».
Харшал рассмеялся:
«Думаешь, папа тебе поверит? Да он выпорет тебя за вранье! А мама расплачется, и он ее тоже отлупит. И все из-за тебя!»
Милочка поняла, что он прав.
— Через пару часов Маджи, тетя с дядей и Пандит-джи положили ребенка в машину и уехали. Вот и все. Мама говорит, что Маджи после этого изменилась. Ей так сильно хотелось внучку. Она перестала общаться с чужими, с тех пор встречается только с мамой.
— Какой ужас.
— Даже не знаю, — очень тихо сказала Милочка. — Она, конечно, утонула, но зато теперь свободна.
Притаившись в проходе, Нимиш увидел при вспышке молнии, как Милочка и Мизинчик прижались друг к дружке под тамариндом. Его невольно пронзила ревность. Будь он девчонкой.
как просто было бы разговаривать с Милочкой, держать ее за руку, лежать рядом и вместе смотреть на небо!
Детьми они обычно играли вдвоем в саду, и он зачитывал ей целые отрывки из книг, найденных в домашней библиотеке.
«В зараженных местах мужчине следует жевать ревень, — категоричным тоном прочитал он однажды из «Набобов» — монографии о нравах британских колонизаторов Индии[119], — и дышать через платок, смоченный в уксусе…»
«…А при первых признаках простуды срыгнуть», — продолжила Милочка и выхватила у него книжку. Потом они повалились на землю, обнялись и дурашливо рассмеялись.
Тогда-то их и застукала Вимла. Впредь она запретила им играть вместе.
Повзрослев, Нимиш начал выискивать в тех же книгах многозначительные строки или фразы, которые можно прочесть Милочке, когда она придет в гости. Так он втайне объяснялся ей в любви.
Мизинчик не сумела скрыть возмущения:
— Как ты можешь так говорить, диди?
Милочка сдавленно усмехнулась и стиснула ее руку.
— Уже ничего не исправишь. Мизинчик. Дело давнее.
— Но… — Мизинчик запнулась: нельзя же рассказывать Милочке о том, что происходит в ванной, — вдруг она тоже не поверит? — А как люди умирают? И что случается потом?
— Когда умирал папа, он был сначала живой, а потом вдруг — бах! — и умер, — ответила Милочка. — Моя подружка Бодхи, буддистка, пришла меня утешить. Села со мной и принялась рассказывать, что на самом-то деле человек умирает восемь раз: тело переходит из земли в воду, из воды в огонь, из огня в ветер, из ветра в космос, а четыре последних раза — это вспышки света.
— Вспышки света?
Милочка кивнула.
— В пятый раз наши мысли вспыхивают серебристым светом, нисходящим из разума в сердце. Потом от копчика к сердцу поднимается раскаленная капля росы. А в седьмой, предпоследний раз обе сливаются в черной вспышке. Потом загорается белый свет, который возвещает истинную зарю смерти.
У Мизинчика к горлу подступила тошнота. Девочка резко встала. Воздух так наэлектризовался, что стало трудно дышать.
— Все хорошо?
— Мне пора, — решительно сказала Мизинчик.
Она уже видела этот яркий свет и цветные вспышки. Точь-в-точь как их описала Милочка.
Только в обратном порядке.
Мизинчик бежала наобум.
Она не помнила точно, где выход, но все равно мчалась, выставив руки вперед и приминая босыми ногами траву. Девочка влетела точно в пролом и, выхваченная вспышкой молнии, врезалась в Нимиша, за долю секунды заметив его перепуганное лицо. Он опрокинулся навзничь, а она распласталась на нем сверху. Раскатистый грохот заглушил их вскрики. Руки запутались в лозах, острые края листьев рассекали кожу, а шипы протыкали ее до самого мяса. Нимиш отпихнул Мизинчика, пытаясь сбросить ее с себя, но проход был слишком тесным и узким — особо не развернешься. Сквозь тонкую влажную пижаму девочка ощутила его потную плоть, тяжелые ноги Нимиша переплелись с ее ногами. Сладостный аромат пурпурных флоксов дурманил.
— Мизинчик! — настойчиво зашептал Нимиш. — Перестань брыкаться!
Он отполз от нее и стал ощупью искать отлетевшие очки.
Мизинчик выпрямилась, сердце бешено колотилось.
— Там призрак! — выпалила она.
— Чего?! — Нимиш крепко схватил ее за руки, быстро и тяжело дыша. — Что ты несешь? Совсем сбрендила?
Мизинчик расплакалась.
— Мизинчик, ну прости, — смягчившись, сказал Нимиш и попятился.
Они сидели, молча слушая сверчков и громыханье небес.
— Нимиш-бхаия, — наконец прошептала Мизинчик. — Как заговорить с кем-нибудь, если боишься?
Он вздохнул: его сердце осталось там, в темноте под тамариндом, где сидела одинокая Милочка.
— Расскажи ему какую-нибудь историю.
Призрак
Едва забрезжил рассвет, Мизинчик пришла на кухню к повару Канджу. Старую кухоньку и судомойню заменили новой, и просторную светлую комнату оснастили современной техникой — газовой плитой и холодильником «Электролюкс». На полках выстроились кастрюли и котелки из нержавейки, а латунное ведро со свежими фруктами подвесили к потолку — чтобы муравьи не добрались. Два окна выходили в аллею, одно — в сад за домом, и все три забрали сеткой от палящих лучей послеполуденного солнца.
На тхали из нержавейки — кучка зеленой бамии, ее кончики повар обрезал еще на Кроу-фордском рынке. Наструганные огурцы дожидаются на тарелке, пока их не посыплют каменной солью; верхним ломтиком натирают остальные, чтобы с пеной вышла горечь. Лук, имбирь и чеснок высятся соблазнительными горками, только что нашинкованные и натертые. На плите закипает кастрюля растительного масла, черные горчичные зерна бьются о стенки с отрывистым стуком. Измельченная куркума и чили устилают столешницу желтым, оранжевым и красным бархатистыми ковриками. Сам Кандж сидит на корточках с тхали розовой чечевицы и проворно просеивает ее сквозь пальцы, вынимая камешки, палочки и прочий мусор, пристально их рассматривает, а затем складывает в кучку на полу.
Мизинчик внимательно наблюдала, с ужасом думая о том, что когда-нибудь ей тоже придется познать азы кулинарии.
«Самое главное в замужестве — уметь вкусно готовить», — всегда подчеркивала Маджи, хотя сама не заглядывала на кухню уже лет двадцать. В подтверждение своих слов она притащила туда Мизинчика и решила показать, что такое «глубокое прожаривание», но все закончилось катастрофой.
«Ничего страшного, — сказала Маджи, снимая заляпанное маслом сари. — Сходи пока понаблюдай за Канджем, а я научу тебя готовить самосы потом».
Учиться у Канджа было сложновато, но не потому, что он не следовал правилам и рецептам, просто ему лень было учить. Легкими взмахами рук, изредка покряхтывая, он превращал груду овощей и специй в сущее объедение, но ровным счетом ничего не рассказывал Мизинчику. Он считал ее всего-навсего зрительницей и представлял, будто споро орудует ножом в огромной кухне, мастерски подсыпая пряности на глазах у благоговейно застывших поварят.
В молодости он мечтал хотя бы денек поработать в шикарном ресторане — в «Бомбелли» на пути между Чёрчгейт-стэйшн и Марин-драйв или в «Наполи» с его ультрасовременным музыкальным автоматом. Но у Маджи ему жилось так вольготно, что он всегда гнал от себя эти неясные мечты о будущем. Ну а после появления Парвати в 1943 году Кандж и думать о них забыл, блаженно запекаясь в тандуре супружеской жизни. Митталы досыта набивали желудки, оглашая столовую благодарными отрыжками, однако повару все же казалось, что его таланты не оцениваются по достоинству. Поэтому Кандж ожесточался и наполнялся горечью, как твердые бугристые тыквы, которые он фаршировал чили, а потом усердно тушил на сковороде.
— Повар Кандж?
Он с кряхтеньем пересыпал розовую чечевицу в миску, а затем энергично тряс ее под холодной водой.
— А когда смешивают молоко, миндаль, сахар и пажитник? — спросила Мизинчик, перечислив компоненты, запах которых Дхир учуял в ванной.
Кандж не любил, когда его расспрашивали о стряпне. В знак недовольства он швырнул лук в горячее пузырящееся масло, и тот негодующе зашипел. Затем повар включил газ на полную, добавил чеснок с имбирем и тщательно все перемешал.
— Ну, скажи, — умоляла Мизинчик.
Канджа интересовало только то, что можно пожарить, замариновать или приправить масалой. Тем не менее он вздохнул и, убавив газ, задумался. Он смешивал эти компоненты больше тринадцати лет назад, да и то всего пару дней. Повар снова вздохнул:
— Смесь.
— Смесь?
— Молочная. Готовил твоей тетке Савите, когда она родила ребят.
После той трагедии он заперся в кухне, как велит обычай, и приготовил кашу с халвой для пуджи. Кастрюли и котелки спрятал, а холодильник и кладовку освободил. Кувшины молока, корзины царского пурпурного бринджола[120] подносы с сочным сырым миндалем и даже целый набор девидаяльской кухонной утвари из нержавейки — все это Кандж постепенно перенес к соседям Лавате. В месте скорби запрещалось готовить целых три дня. Соседка тотчас поспешила к ним со сгущенкой «овалтайн» и свежим пури, приправленным сахаром и молотым миндалем. Парвати с радостью избавилась от пожитков айи, а Кунтал зажгла в каждой комнате глиняные дии — якобы для того, чтобы облегчить душе ребенка путь обратно к Богу (на самом же деле, дабы отогнать злых духов от бездыханного тельца). В тот же вечер прибыл доктор М. М. Айер и назначил Савите корамин[121].
Кандж вновь вернулся к тхали с бамией и нарезал ее зеленые стручки, похожие на пальцы, небольшими кружками; овощной сок покрыл нож буроватой слизью. Мизинчик хотела еще что-то спросить, но повар отвернулся, и она поняла, что разговор окончен.
Мизинчик побродила по мрачной библиотеке, ощупывая замысловатую резьбу на тиковой мебели. Пальцы ног утопали в лысеющем ковре. Девочка потрогала широкое железное основание кальяна с множеством трубок, которое покрылось неприятным зеленоватым налетом, и уселась на диван, опасно продавленный посередке, с выцветшими, обтрепанными массивными валиками. В углу одиноко высился беломраморный бюст королевы Виктории, потускневшая медная табличка гласила: «Императрица Индии». Люстру опутала паутина. От несвежих штор разило табаком и древностью.
Мизинчика изумлял контраст между этой запущенной библиотекой и другими комнатами величавого бунгало, где столь дотошно поддерживался порядок, ведь в зале даже самая маленькая серебряная чернильница всегда стояла на своем месте. Взгляд Мизинчика упал на четырнадцатое издание «Британники» — Маджи раздобыла его для Нимиша на книжной распродаже в библиотеке Американского инфоцентра пару лет назад. Внук с жаром накинулся на энциклопедию, выискивая и старательно запоминая мелкие, но важные детали. Каждый факт становился новой ступенькой лестницы, по которой Нимиш рассчитывал с Божьей помощью подняться к самой Англии.
Все стены от пола до потолка были заставлены книгами, смутно нависавшими над Мизинчиком, и она чувствовала себя здесь совсем ничтожной. Подшивки «Журнала Азиатского общества Бенгалии» и серия «Правители Индии» в синих переплетах — с томами «Граф Мэйо, 1891 год» или «Лорд Клайв, 1900 год»[122]. Можно ли сравнивать этих людей, думала Мизинчик, с великим царем Ашокой, чье Колесо Дхармы[123] украшает индийский флаг? Или с императором Акбаром, поощрявшим искусства, литературу и веротерпимость?
Зажмурившись, она протянула руку и выбрала книгу наугад. Ей нужна была история, для того чтобы объяснить призраку: она заняла его место не нарочно и готова потесниться.
Мизинчик открыла глаза и прочитала название: «Дневник Восстания сипаев, 1860 год», автор — военный корреспондент Уильям Говард Расселл[124]. Внутри напечатано письмо, адресованное автору: «Индия — это чистый лист бумаги. Боюсь, он так и останется чистым, если вы его не заполните».
Чистый лист бумаги.
Мизинчик тотчас поняла, что историю нужно искать не здесь, в этих заплесневелых книгах, а у себя в памяти. Ведь она выроста на одной из бабкиных притч, где говорилось о силе, решимости и вечной любви.
Мизинчик стояла у двери ванной, под ложечкой щемило от страха.
Она понимала, что придется войти, ведь никто ей не верил.
За завтраком Нимиш читал вслух «Поездку в Индию»[125], и голос его разносился по коридору:
— «Суеверия — ужасная штука! Это самый большой недостаток нашего индийского характера!»
Вздохнув, Мизинчик шагнула в ванную.
— Жила-была принцесса, — сказала она, не решаясь запереть засов.
Еще не поздно убежать и спастись.
Она глубоко вдохнула, чтобы сердце успокоилось. На языке вертелись слова древней пьесы на санскрите.
— …И звалась она Ратнавали.
Мизинчик ступила к ведру.
— Все думали, что она утонула.
Девочка медленно присела на табурет и осторожно заглянула в ведро. Там было немного чистой воды. Мизинчик рассказывала дальше: как принцесса отправилась на корабле к будущему супругу — царю далекой страны, но по пути корабль затонул во время сильного шторма. Ратнавали спасли, доставили в рубище к царю, и она стала служанкой при дворе. Хотя никто ее не признал, она поняла, что царь и есть ее суженый, и вскоре влюбилась в него. Однажды царь случайно столкнулся с ней в саду и пленился ее красотой. Он договорился о тайном свидании, но царица, первая его жена, их разоблачила.
— От стыда принцесса решила покончить с собой, — продолжала Мизинчик. — Она сделала петлю из побега мадхави[126] и накинула себе на шею.
В ванной внезапно подул ветерок, словно кто-то с шумом втягивал воздух.
Мизинчик озябла, и легенда вмиг вылетела из головы. Девочка цеплялась за любые слова, персонажей, малейшие подробности, но это не помогало.
Ну и холод.
«Беги! Беги!» — звенело в голове.
Но она крепко ухватилась за деревянный табурет обеими руками.
Больше нельзя убегать.
«Если тебя что-то пугает, нужно посмотреть страху в глаза, — говорила Маджи. — Сила — внутри тебя».
Мизинчик вновь глубоко вдохнула и выпустила облачко пара в морозный воздух. В памяти всплыл образ несчастной принцессы: потупленный взгляд, голова покрыта паллу, нежную кожу стягивает петля — Ратнавали приготовилась к смерти.
— Но царь ее спас, — сказала Мизинчик, представив, как нежно он ее обнимал, умоляя не бросать его. Однако ревнивая жена бросила Ратнавали в темницу, которая внезапно загорелась. Вот и в третий раз Ратнавали попрощалась с жизнью: сначала она должна была погибнуть от воды, затем от земли и, наконец, от огня. Но, словно по волшебству, адский огонь с шипением угас, и в пленнице все узнали утонувшую принцессу.
Вода замерцала, точно гаснущее пламя.
Повалил клубами густой серебристый дым.
Мизинчик стиснула зубы, чтобы унять дрожь.
— Наконец-то Ратнавали была с царем. Она стала его царицей! — шептала девочка. — Заняла свое законное место.
Мизинчик умолкла.
Трясущейся рукой потянулась за лотой, зачерпнула воды и плеснула в лицо.
Вытерла влагу и сморгнула.
В упор на нее глянули свирепые глаза.
Мизинчик упала с табурета навзничь, в голове зароились сотни мыслей. «Вспышки света… Из космоса в ветер, из ветра в огонь, из огня в воду…» Призрак оживал.
Его словно рисовала невидимая рука, и он превращался в девочку с тонким носом, длинными ресницам и красивыми гладкими губами. Она была крошечная и нагая — лишь серебристые локоны окутывали прозрачное тело, точно райские крылья серафима.
Мизинчик протянула дрожащие пальцы к призраку, сквозь него смутно виднелись черные трубы на дальней стене. Но рука прошла навылет и с негромким плеском окунулась в ведро.
Тогда привидение поманило Мизинчика: «Пошли».
Она покачала головой, не в силах ответить. Призрак был прекрасен, как серебристый ангел.
«Пошли».
Тусклая висячая лшпй-ханди бешено закачалась, едва призрак прижал бесплотные ручки к лицу Мизинчика. Глаза его затуманились, будто набежали дождевые тучи. Мизинчик потупила взор и ощутила пульсирующую прохладу. Призрак подтянул ее ближе к себе, и она сразу почувствовала нерушимую связь с ним. «Это же моя кузина, двоюродная сестра». Грудь переполнилась странной любовью, прогнавшей страх.
Мизинчик непроизвольно склонила голову над ведром, все тело обволокла туманная дымка.
Привидение утаскивало ее в свой водяной мир. Медленно, почти незаметно пересекли они границу между живыми и мертвыми, и каждый проник в мир другого.
«Именно ты должна была вызвать меня».
Перед мысленным взором Мизинчика проносились образы краткой жизни младенца — картины тринадцатилетней давности. Они мелькали все быстрее и быстрее, точно разматывалась бобина.
По верхней губе Туфана двумя ленивыми струйками стекает слизь.
Сверкают браслеты, Савита расстегивает блузку и разминает обнаженные груди.
Под палящим лучом солнца вспыхивает бу-генвиллея на окне.
Мизинчик затаила дыхание, боясь хоть что-либо пропустить. А затем бобина замедлила ход, образы тоже сбавили скорость и стали искажаться, будто пленка набухла от воды. Перед глазами поползли черно-белые кадры, дергаясь и расплываясь, — уже не сумбурный калейдоскоп, а отдельные эпизоды.
Тоскливая ванная, облицованная кафелем и опоясанная трубами.
Бесцветная вода бежит из крана в матовое металлическое ведро.
Молодое лицо с крошечной родинкой на щеке. Блестящая вышивка на яркой ткани искрится, точно фейерверк.
Губы движутся в пении.
Из кувшина падает вода: лучистый поток.
Лицо вдруг оборачивается к двери, словно кто-то позвал, и тотчас исчезает.
А потом…
Мизинчик резко открыла глаза и поняла, что голова окунулась уже целиком. Девочка забарахталась, нахлебавшись воды. Легкие распирало, в ушах стоял оглушительный звон. Сознание отключалось, но давить вдруг перестали, и Мизинчик откинулась назад. Сначала ее вырвало, потом она судорожно глотнула воздуха.
Благополучно добравшись до спальни, Мизинчик свернулась калачиком и заплакала. В памяти навсегда запечатлелся последний образ.
Ниоткуда возникает бесплотная рука и настойчиво топит ее под толщей прозрачной воды.
Ослепительное видение
Маджи больше не могла закрывать глаза на поведение Мизинчика.
Повар Кандж кропотливо отбирал из джутовых мешков на Кроуфордском рынке свежие пурпурные баклажаны, а затем готовил из них карри с луком, томатами и пряностями. Так и Маджи созвала к себе всех домочадцев, дабы отобрать, рассортировать и приправить карри тревожные слухи о внучкином недуге.
— Всю ночь на ногах. Нормальные люди спят, а она что-то вынюхивает, — брякнула Савита.
— У нее скоро месячные, — доложила Парвати.
— Стряпня ее не интересует, — пробрюзжал Кандж.
— Учит всякую галиматью в монастырской школе, — высказался Гулу.
— Ее завалили домашней работой на будущий год, — предположил Нимиш.
— Очки ей нужны, — выпалила Кунтал.
— Какая-то она недяглая, — отметила Савита и украдкой махнула Канджу, чтобы подсыпал в питье горсть молотых фисташек.
Дхир лишь пожал плечами да покраснел от смущения.
Туфан стоял молча — ему нравилось просто наблюдать за этой игрой под названием «Что не так с кузиной?».
Маджи полулежала на мягком троне, обмахиваясь старинным номером «Фильминдии». Все не спускали с нее глаз.
«Наверно, это я недосмотрела, — подумала она. — Не смогла заменить Мизинчику мать и отца».
Маджи откинулась на спинку и всмотрелась в горку супари на соседнем столике. Пожелтевшая кокосовая стружка в океане жареных семян фенхеля, розово-белых леденцов и крошечных красных шариков сахара. Маджи тщательно отобрала темные треугольнички горького бетеля и, старательно разжевывая их, вспомнила, как решила забрать Мизинчика у отца в тот роковой день. Она ведь правильно тогда поступила?..
…Даже не поздоровавшись, Маджи прошла мимо второй бабки в ветхую квартирку в захудалом поселении индусских беженцев. Стены были голые, вдоль них лишь извивались черные провода, убегавшие в круглые розетки. Из-за металлической решетки торчал стенной вентилятор. На полке рядом со столиком для пуджи — овальная баночка с тальком «ярдли» и крашеная жестяная заводная машинка.
«Ярдли». Неужели тот самый тальк, что Маджи незаметно подкинула новобрачной Ямуне в сумку перед ее отъездом из Бомбея? Маджи уставилась на безразличный порошок, которым ее дочь когда-то посыпала кожу. Как несправедливо, подумалось Маджи, ее любимая доченька умерла, а тальк по-прежнему стоит себе на полке.
Отец Мизинчика, с темными кругами под красными глазами, вошел в комнату и упал к ногам Маджи, слезно умоляя о прощении.
«И это тот самый мальчик, которому я своими руками поднесла сладости в день свадьбы?» — спросила себя Маджи, с трудом узнавая зятя.
В соседней комнате захныкала Мизинчик. От ее тоненького голосочка у Маджи замерло сердце. На краткий миг ей показалось, что дочка тоже здесь. Тогда-то она и поняла: Мизинчик — ее кровинка, поэтому она будет бороться за нее и победит.
Маджи поступила не совсем уж бескорыстно. Только так могла она вырваться из мрака, ведь две смерти за два месяца — дочкина и внучкина. Мизинчик была удивительно похожа на Ямуну, и одно это необычайно утешало Маджи. Девочка стала истинным даром небес, воздаянием за прошлые обиды…
…Вздохнув, Маджи швырнула журнал на пол, чтобы привлечь внимание. На побережье лениво собирались муссонные тучи, а суставы распухали и ныли еще сильнее обычного. Доктор Айер, когда ему сказали, рассудил, что призрак — это воображаемая подружка Мизинчика, ведь она живет в доме, где одни только мальчики. «Дети склонны к таким прихотливым играм», — добавил врач.
Но Мизинчика нужно все равно куда-нибудь увезти, это Маджи знала четко.
— Я повезу ее в Махабалешвар, — громко сказала она.
Махабалешвар был летней резиденцией британского раджи в Бомбее с 1828 года, когда губернатор Джон Малколм[127] устроил там европейский курорт и санаторий. Как и многие горные местности, Махабалешвар славился здоровым воздухом, живописной природой и освежающей прохладой. Поздним летом, перед самым приходом муссонов, плато обступал густой туман, насыщенный озоном. Считалось, что махабалешварская вода замечательно повышает уровень гемоглобина в крови.
— Махабалешвар! — У Савиты загорелись глаза. — Однажды я плавала там на лодке по озеру Венна!
— Перед муссонами все забито, — сказал Нимиш. — Вы не найдете свободного места.
— Я сама все улажу, — ответила Маджи. — Если выедем сегодня же вечером, доберемся, пока не ливануло.
— Я хочу посмотреть форт Пратапгад! Там Шиваджи выпустил кишки Афзал-хану своими стальными когтями![128] — закричал Туфан и показал, как это было, растопырив пальцы и запустив пятерню в толстый живот Дхира.
— Земляника! — воскликнула Савита, шлепнув Туфана. — Все на свете отдала бы за махаба-лешварскую землянику!
— А еще тикки с кунжутом, — добавил Дхир.
— Я повезу Мизинчика, — твердо сказала Маджи. — Пока только ее.
— Так нечестно, всегда ей поблажки! — захныкал Туфан.
— Только Мизинчика, — передразнила Савита и выбежала из комнаты: слова эти вновь больно кольнули в сердце. — И вот так всегда.
Маджи медленно ковыляла к перрону, тяжело опираясь на трость и приволакивая ноги. Вокзал, построенный еще при королеве Виктории, вырастал из земли, точно колоссальный собор. Однако за величественным фасадом с каменной отделкой и витражами скрывались вовсе не молчаливые алтари и застывшие распятия: там царил оглушительный гул суетливой толпы.
Просторное помещение вокзала вибрировало от сотен тысяч снующих людей, а вдалеке изредка лязгали поезда. Мизинчик шла рядом с бабушкой, крепко схватив ее за руку. Они пробирались сквозь лабиринт лестниц и платформ, огибая грузчиков, тащивших багаж на головах в красных тюрбанах, и отрешенных нищих, которые поднимали и опускали руки, будто механические куклы.
На доске у входа от руки записывали время отправления и прибытия поездов: пенджабский почтовый до Агры на северном направлении, экспресс «Гитанджали» до Калькутты — на восточном и экспресс «Каннья Кумари» до Кочина — на южном. На соседнюю платформу прибыл состав. Едва он остановился, уличные оборванцы лихо запрыгнули в вагоны и устремились к ресторану, надеясь разжиться горячими сэндвичами, конфетами в целлофане или бутылками газировки. Возле каждого купе теснились толпы пассажиров с багажом, маленькими детьми и с массивными узлами на головах.
Ha платформе воняло давнишней мочой и немытыми телами с глубоко въевшейся грязью. Эти запахи перебивали даже сильный дух чая с кардамоном, что дымился в круглых глиняных горшочках — их продавали через зарешеченные окошки в душных купе второго класса. Маджи и Мизинчик остались ждать, а Нимиш с Гулу стали протискиваться сквозь толпу к зарезервированному купе. Оба вернулись через неколько минут, раскрасневшиеся и довольные: они запихали багаж под сиденья и проверили, все ли в порядке. Мизинчик держала две коробки из нержавейки с тремя отделениями. Кандж наполнил их горячей, душистой едой. Сверху — паратхи[129] с картошкой, посредине — сморщенные и перевязанные зеленые сверточки с карэла сабзи[130], а внизу — вареный картофель с лимоном и соленьями.
Слегка опираясь на голову Мизинчика, Маджи забралась в купе и со вздохом плюхнулась на сиденье. Нимиш протянул руку в окно и схватил Мизинчика за ладонь.
— Вот, возьми, — сказал он, передавая ей «Очерки о моем прошлом»[131]. — Может, и пригодится.
Он смотрел нежно и ласково.
Мизинчик крепко прижала книгу к груди, пытаясь совладать с эмоциями. А потом высунула голову в окно и помахала на прощанье.
Ha минутку зажмурившись, Мизинчик вытерла пот с лица, а открыв глаза вновь, заметила боковым зрением женщину в красном, что взбиралась с путей на платформу. Хотя колеса уже со скрипом покатились, Мизинчик увидела все так отчетливо, будто смотрела в увеличительное стекло.
Загадочная женщина пробиралась сквозь толпу — мимо чаивалы[132], разливавшего на корточках чай, мимо громоздкого багажа усталого путешественника, опоздавшего на поезд, и мимо семей, что, прислонившись к свернутым постелям, играли в карты на каменных плитах и попивали чай. Один конец огненно-красного паллу, с блестящей вышивкой по краю, женщина засунула в рот, чтобы не улетел, а второй развевался за спиной, словно пламя пожара.
Она прошагала мимо носильщиков в красных мундирах и шапочках «под Неру» — те спорили, кто соберет больше чаевых в купе первого класса, — и переступила через груду мусора, наметенную уборщиком. Женщина оставляла после себя тонкую полоску влаги. Что-то вдруг заметив, незнакомка остановилась. Ее паллу засверкало еще ярче, буквально ослепляя.
Нимиш и Гулу не видели приближавшейся женщины. Они просто отвернулись и пошли прочь.
Но женщина медленно подняла лицо вслед уходящему поезду, и паллу соскользнуло с головы. Мизинчик открыла в изумлении рот: она узнала это лицо. Женщина встретилась глазами с Мизинчиком и просверлила ее таким тяжелым, пробирающим взглядом, что девочка потеряла равновесие и проехалась носом по грязному оконному стеклу.
Затем, опустив веки и удовлетворенно улыбаясь, загадочная женщина устремилась за Ними-шем и Гулу, растопырив пальцы, словно хотела взять обоих за руки.
И поразительная троица неторопливо побрела домой.
Границы 1960
Лицо нельзя убить. Оно не может стать содержанием, которое охватывается вашим мышлением; оно неохватно и выводит вас вовне.
Эммануэль Левинас. «Этика и бесконечное»
А человеческое лицо бросает нам вызов, поскольку мы неизбежно понимаем его уникальность, храбрость и одиночество. Прежде всего, это относится к личику младенца. Я считаю это своего рода видением — поистине мистическим.
Мэрилин Робинсон. «Гилеад»
Дурной знак
Мизинчик и Маджи прибыли в Махабалешвар на рассвете.
Из каньонов поднялся легкий утренний туман, пышные зеленые долины и сверкающие водопады озарились. Небо — кристально-голубое, как в раю.
Они остановились в вегетарианском бунгало близ рынка и сняли номер, слегка пахнувший инсектицидом «флит». На завтрак подали чай, тосты и крыжовенное варенье. После душа и посещения храма Кришны, который местные называли Панчгана, Маджи поспала в номере, затем перекусила блинами из черного горошка с уймой красного чили и капелькой лаймового сока.
— Иди сюда, — сказала Маджи, похлопав по кровати. — Отдохни.
— Я не устала, — ответила Мизинчик и вспомнила загадочную женщину на вокзале. Кто она? И почему шла вслед за Нимишем и Гулу? Она вовсе не нищенка, Мизинчик поняла это инстинктивно. Но на лице у нее безошибочно читалась тоска. «Отправляясь в дорогу, обращай внимание на дурные знаки, — всегда наставляла Маджи. — Сам бог Ганеша предупреждает нас, что лучше остаться дома». Но Мизинчик не сошла с поезда. Она молча ехала, иногда проваливаясь в беспокойный сон, пока на соседней полке самозабвенно храпела Маджи.
Даже здесь бабка мгновенно заснула. Мизинчик достала из сумки «Очерки» и прижала к груди, пытаясь вновь пережить тот миг, когда Нимиш схватил ее за руку и дал эту книгу. Мизинчик раскрыла ее на одной из закладок. «Как-то раз Бинда обратила взор к звездам, пересчитала их и показала на самую яркую: «Это моя мама…» И тогда я поняла, что, если мать призывает к себе Господь, она превращается в звезду и по-прежнему присматривает с вышины за своими детьми».
У Мизинчика подступил комок к горлу.
Он все понял.
Хоть и не полюбит ее никогда.
Вечером Маджи и Мизинчик гуляли в тени джамболанов[133]. Созревая, овальные розовые ягоды становились малиново-черными, и тогда их срывали. Вскоре язык у Мизинчика окрасился темным фиолетом.
— Сушеный джамболан очень помогает пищеварению, — сказала Маджи, гладя Мизинчика по голове.
Внучка подняла глаза на бабку. Ее обычно суровый рот растянулся в полуулыбке.
— В горах хорошо, — вздохнула бабка.
— Маджи, — робко начала Мизинчик, — я видела девушку на вокзале в Бомбее. По-моему, я узнала ее.
— Школьная подружка? Тебе нужно чаще встречаться с подругами.
— Нет, старше, возможно, даже замужняя. Но я не знаю, как ее зовут. Я могу тебе ее описать.
— Гм. — Маджи поглядела на деревья. — Я рассказывала тебе историю про обезьяну и дерево джамболан.?
Мизинчик вздохнула. Маджи тщательно упорядочивала свое общение, и оно всегда было односторонним: молитвы к богам, приказания слугам, замечания Савите, советы Джагиндеру, рассказы из санскритского эпоса или басни о животных из «Панчатантры»[134] — Мизинчику и ее двоюродным братьям. Каждая древняя история поучала, загадочно соотносясь с их нынешней жизнью.
— На дереве джамболан жила обезьяна, — воодушевилась Маджи. — И все бы хорошо, да только не было у нее друзей…
Она посмотрела на Мизинчика: внимательно ли слушает.
— Маджи, — перебила внучка, — как ты привезла меня в Бомбей? Ты никогда не рассказывала. Я хочу знать.
Маджи глубоко вздохнула.
— Когда я приехала к твоему отцу, — наконец сказала она, — ты горько плакала. Лежала на кроватке и жмурилась, крепко сжимая кулачки и широко раскрыв рот…
Она не рассказала, что крошечное личико, складочки на шее, локотках, запястьях и коленках все были усеяны красными прыщиками, из которых сочился гной, словно все тело обливалось слезами.
Тогда Маджи опустила ладонь на головку младенца и ощутила в нем милость Божью. Дитя, прекрасное маленькое дитятко. Она расплакалась от избытка чувств.
«Чем вы ее лечите?» — спросила Маджи зятя. На врача денег не хватало, и малышку отмачивали в ведре с водой, куда добавляли карболки.
«Девочка заболела сразу после смерти Ямуны». Назвав имя жены, он вновь разрыдался.
— Я помассировала тебя, а потом искупала в отваре из листьев нима. — Маджи брела по тропинке, растаптывая перезрелые ягоды…
…Она вошла в кухоньку, зачерпнула воды из глиняного сосуда и помыла руки над низкой раковиной. Маджи немного успокоило то, что ее дочь никогда не жила в этой холодной темной квартире. У стены стоял мешок грубой краснозерной пшеницы из Америки — дешевле местной индийской атты. На столе — полупустая банка с вегетарианским гхи[135]». Маджи открыла круглую жестянку с плотной крышкой, лежавшую рядом с плитой, и набрала стальную чашку куркумы. Смешав ее с последними остатками нутовой муки, подлила воды и замесила густое тесто.
Потрясенные отец и бабка Мизинчика наблюдали за ней. Кто эта женщина, которая ввалилась к ним, словно к себе домой? После смерти Ямуны Маджи поддерживала с ними очень слабую, зыбкую связь, и от ее своеволия они онемели.
Мизинчик словно взывала о срочной помощи.
Маджи уселась на кровать, сняла с внучки пеленку и подгузник. Затем прижала голенького ребенка к груди. Мизинчик перестала плакать. Глаза ее раскрылись, и она заглянула бабушке в лицо.
«Я с тобой, — прошептала Маджи. — Больше не надо плакать».
Она положила Мизинчика на простынку и, обмакнув пальцы в тесто, бережно втирала желтую массу в кожу…
— Потом я тебя обняла, и мы обе уснули.
— Но как тебе удалось меня забрать? — спросила Мизинчик. — Разве папа не удерживал меня?
Маджи вздохнула…
…Она заночевала, объявив, что завтра утром уедет и возьмет с собой Мизинчика.
«Да у вас совесть есть? — заворчала другая бабка, собравшись с мужеством. — Вы потеряли дочь, и мы вас уважили, но это… это уже черт знает что!»
Маджи оставалась невозмутимой:
«Ребенку нужен уход, а здесь его нет. Я о ней позабочусь».
«От вас ей ничего не нужно! — завопила старуха и, сграбастав младенца, крепко прижала его к себе. — Мы никогда на такое не пойдем».
Мизинчик захныкала.
«Прошу вас, перестаньте!» — воскликнул отец. Он столько всего потерял за последние недели — дом, работу, достаток, жену. Как ему отдать еще и ребенка? Но он знал, что Маджи позаботится о девочке, та получит наилучшее образование и выйдет замуж за хорошего парня из культурной, обеспеченной семьи. Всего этого сам он никогда ей не даст. Маджи обеспечит Мизинчику будущее. Разве он не отпустит девочку ради ее же блага?
«Я доверила тебе свою дочь, — твердо сказала Маджи. — Теперь доверь мне свою».
«Не выманивайте у меня внучку!»
«Она не будет нуждаться ни в чем, — парировала Маджи, озарив квартиру своей обаятельной улыбкой, а затем, словно выкладывая последний козырь, добавила: — Я и вам помогу. Обустрою вас. Денег вышлю».
Отец Мизинчика молчал, обдумывая эту сделку: единственный ребенок — и такие необходимые деньги. Как ни крути, обмен неравноценный. Он дотронулся до Мизинчика, поразительно похожую на Ямуну с ее длинными ресницами и тонким носом.
«Ладно. — Его практичная мать передала Мизинчика Маджи. — Пока что выкупите фабрику, а впредь платите нам десять тысяч рупий в год».
«Нет. — Отцу Мизинчика стало стыдно, что он до такого докатился, ведь он сын одного из самых уважаемых бизнесменов Лахора! — Нет, так не годится! Дело же не в деньгах!»
Он протянул руки к дочери.
«Снова женишься, дети пойдут, — буднично сказала мать. — Деньги никогда не лишние».
Маджи скрипнула зубами: потеря дочери вспомнилась так остро, что сперло дыхание. Как легко они изгнали ее из сердца и своего дома!
«Переведу деньги почтой сразу, как только вернусь».
Затем, даже не удостоив их взглядом, она отвернулась и вышла с Мизинчиком на дневной свет. Ее чаппалы подняли облако пыли, которое окутало обеих, словно сплавляя их воедино. Осколки двух биографий неожиданно стали одним целым.
— Твой папа тебя удерживал, бэти, — сказала Маджи после долгой паузы. — Он очень хотел тебя удержать, но понимал, что у меня тебе будет лучше. Ради твоего же блага он тебя и отпустил.
В ту ночь Мизинчику снилось, что она ныряет в водопад посреди буйной зелени махабалешварских каньонов, в ушах ревела ледяная вода. В следующий миг она уже плыла в лодке по озеру Венна, мимо туристов, а Маджи напряженно гребла к дальним берегам. Вода была мутная, зеленые растения грозно раскачивались у самой поверхности, колючие листья тянулись к Мизинчику. Лодка бешено закачалась, и Мизинчик упала. С минуту — ни единого звука, лишь тягучая, томительная глухота. Затем Мизинчик всплыла и стала хватать ртом воздух. Вдруг оказалось, что она барахтается в латунном ведре у них в ванной, а призрак швыряет в нее сверху гнилые джамболаны.
Затем чья-то рука нагнула ее так быстро, так внезапно, что Мизинчик даже не успела вскрикнуть. Она боролась и тянулась к поверхности, которая была в паре недосягаемых сантиметров. Вверху над собой она узнала лицо с родинкой на щеке — лицо айи.
И с воплем проснулась.
— Что стряслось? — испуганно спросила Маджи, прижимая Мизинчика к груди.
— Это она, — простонала Мизинчик.
— Проснись, ты грезишь!
Мизинчик открыла глаза. С лица капал пот, сердце бешено колотилось. «Это айя, — поняла она, — та женщина на вокзале!»
— Выпей водички, — нежно сказала Маджи и поднесла чашку к ее губам.
Мизинчик крепко прижалась к бабке:
— Не хочу возвращаться! Никогда! Никогда!
— Тьфу, бэти, я же знала, что тебе здесь будет хорошо. Но муссоны начнутся со дня на день. Дома и коттеджи уже поросли кулум-травой. Не сегодня завтра всю область перекроют…
— Мне все равно!
— Ты взрослеешь прямо на глазах, скоро станешь юной барышней. Не мешало бы уже и о замужестве подумать. Нужно сдерживать свои эмоции.
— Да не хочу я замуж! — выпалила Мизинчик. — Не хочу от тебя уходить! Никогда!
— Так вот в чем дело. — Маджи тихо рассмеялась, словно до нее лишь сейчас дошло. — Я вышла замуж в четырнадцать, в самом начале муссонов. Едва твой дедушка надел мне на голову венок, в темечко забарабанили первые счастливые капли. Я поняла, что бог Ганеша благословил наш союз. А на свадьбе у твоей мамы…
Маджи умолкла.
— Все с тех пор изменилось, — сдавленно сказала она.
Мизинчик заплакала.
— Ну, будет, — успокоила Маджи и потянулась за бутылкой с горчичным маслом. — Наверное, ты простыла — ночью было зябко. Ну-ка, ляг, я натру тебя маслицем.
Мизинчик высморкалась. Нужно как-нибудь рассказать, что она видела на вокзале, — так, чтобы Маджи поверила.
— Тот младенец, что утонул, — расскажи о нем!
Маджи нахмурилась, усердно, широкими движениями умащивая Мизинчику шею и плечи.
— О таком мы не говорим.
— Но говорим же мы о моей маме, так почему про него нельзя?
— Зачем бередить рану? — вздохнула Маджи. — Прошлого не исправить, как бы нам ни хотелось.
— Но куда делась айя!
— ХВАТИТ! — заорала Маджи, вскочив с кровати, так что бутылка с грохотом повалилась на пол. — Не упоминай о ней при мне! Никогда! Ясно? Я сносила всю эту чушь о привидениях. Я даже привезла тебя сюда, но не потерплю, чтобы мой слух и мое жилище оскверняли упоминаниями о ней.
— Но я же видела…
— ТЕБЕ ЯСНО?
Слегка покачиваясь, Маджи побрела к двери, а затем остановилась и обернулась. В глазах у нее стояли слезы.
— Больше никогда не говори об этом, — сказала она. — Для меня важнее всего ты. Только ты. Неужели не понимаешь?
Мизинчик потупилась.
— Прости, — прошептала она. — Я больше не буду.
С большой неохотой Маджи ушла от Мизинчика в ночную тьму. Перед глазами у нее стояла другая внучка. Спустя столько лет боль в груди не прошла, там еще оставалась одна слабая, пугливая точка. Чернильная клякса, давным-давно пометившая ей сердце, за последние четыре дня угрожающе растеклась.
Маджи вспомнила, как ехала к ветреному океану вместе с Джагиндером, жрецом Пандит-джи и Савитой, сжимавшей мертвое тельце.
«Древние Веды[136] гласят, — пояснил Пандит-джи, — что душа младенца еще не обрела мирских привязанностей, которые необходимо сжигать на погребальном костре».
Поэтому они направились не в крематорий на склоне Малабарского холма, где ранее предали огню тело мужа самой Маджи, а к индуистским кладбищам на берегу Аравийского моря.
Встав тесным кружком у кладбища, они прочитали древнюю шлоку[137]: «Рам Нам Сатья Хай, Сатья Бол Гутъя Хай» — имя бога Рамы[138] есть истина, истина есть спасение.
Заключив младенца в треугольник из своих рук, они бережно положили ему на глаза бархатистые цветы календулы и шепотом с ним попрощались.
Муссоны и магия
Повар Кандж уверовал в Бога, когда готовил вечером чавал[139]. Жареные пакоры со шпинатом и луком плавали в шафрановом море нутовой муки, простокваши и подрумяненного аджваина[140]. От этого любимого семейного блюда мрачное лицо Канджа обычно слегка светлело. Но сегодня он лишь сильнее нахмурился и надул губы, словно случайно их обжег. Повар заглянул в кастрюлю и выругался. Карри получалось чересчур водянистое и, сколько бы он его ни нагревал, не густело. Даже досыпанная мука не помогла. Скоро обед, и у Канджа не оставалось выбора. Он был не шибко верующий, но в ту минуту все же помолился о чуде.
«Добавлю кучу сахара в завтрашнюю халву для пуджи, — поклялся он богам, разливая водянистое карри черпаком по стальным тарелкам. — Ладно, не хотите загустить карри, не надо. Но пусть они хотя бы не заметят, на?» — умолял он про себя, медленно ставя тарелку под нос Джа-гиндеру.
Джагиндер на миг удивленно и недовольно поднял брови.
Но тут над бунгало прорвало муссонную тучу.
Туфан и Дхир выскочили в аллею и встали, раскинув руки. Пижамы вскоре промокли насквозь, пухлый живот Дхира облепило тканью, а на боку Туфана проступила целая армия марширующих родинок.
— Джантар Мантар, каам карантар, чху, чху, чху![141] — затараторили близнецы заклинание, будто волшебники, что своими чарами прогнали солнце, жару и пот.
Джагиндер выбежал на веранду и выставил толстый палец под ливень.
— Не вздумайте войти в дом мокрые, а не то я каждому отвешу по паре крепких чант![142] — пригрозил он, чтобы скрыть внезапную зависть к беспечному восторгу сыновей. Когда-то и он так же протягивал руки к небу, думая, что ему принадлежит весь мир.
Земля и небо сцепились в свирепых любовных объятиях. Ветер стонал и хлестал, гремел ставнями, задувал в открытую дверь, кружил листья и мусор посреди аллеи в бешеном вальсе. Савита взглянула на Джагиндера — ее грудь непривычно затрепетала, а щеки слегка порозовели. Неужели ей снова захотелось этого мужчину — того, что сейчас строго расхаживает по веранде, отдает приказания и сыплет угрозами? Смущенная скорее этой мыслью, нежели своим внезапным возбуждением, Савита незаметно встала и бросилась к себе в комнату.
Нимиш тоже разгорячился. Раньше ему недоставало смелости, но теперь он наконец-то собрался с духом. Разумеется, дожди неизбежно привнесли в город романтику. Закрытое окно Милочки Лавате, за которым порой виднелся неяркий свет, манило неодолимо, словно взгляд возлюбленной. Нимиш поправил очки, быстро пробормотал «спокойной ночи» над прибранным столом и поспешил в свою комнату.
— Гулу, «амбассадор»! — Голос Джагиндера донесся сквозь громыхание небес и барабанную дробь капель о кровлю.
— Сэр? — Гулу вышел под зонтом, который испуганно отшатнулся и затрясся на проволочном каркасе.
— «Амбассадор», — повторил Джагиндер, подгоняемый жаждой деятельности. — Не волнуйся, я сам поведу.
— Папа, ты куда? — пропищал Туфан, ослепленный фарами.
— Молиться, — кратко ответил Джагиндер, плюхнулся на переднее сиденье и газанул.
Гулу отпер зеленые ворота и неохотно распахнул их. Он с тоской посмотрел вслед «амбассадору», с трудом пробиравшемуся по затопленной улице, словно попрощался с дочерью перед брачной ночью.
Кандж и Парвати куда-то пропали: позабыв о домашних обязанностях, они незаметно исчезли в соблазнительной муссонной темноте. Осталась лишь Кунтал с мокрыми полотенцами в руках. Нимиш улизнул через черный ход — ливень придал ему храбрости, а пасмурное небо укрыло от чужого любопытства. Робко, с волнением в груди пробрался он к стене, отделявшей их бунгало от дома Лавате. В ушах шумел дождь, в ногах пульсировала кровь, а сердце сжималось в отчаянии.
Пару дней назад он украдкой листал английский перевод «Ананга-ранги» — древнего трактата о супружеском сексе[143]. Там говорилось, что плоды тамаринда усиливают сексуальное наслаждение у женщин. Прочитав об этом, Нимиш тотчас закрыл выцветшую страницу дрожащей рукой. Мать когда-нибудь ела тамаринд? Нимиш порылся в памяти, но вспомнил, что Савита старательно избегала всего кислого, даже тамариндового чатни, утверждая, что это вредно для матки. А Маджи? Ее тучное, мужеподобное тело в белой вдовьей одежде не вызывало даже отдаленных мыслей о сексе, и Нимиш поежился, представив зачатие своего отца. Но Милочка… Милочка сидела под тамариндом и неспешно ела один стручок за другим в октябре и ноябре, когда они полностью созревают. Нимиш даже ощутил кисло-сладкий вкус на ее губах, которые так вызывающе окрашивались красновато-коричневым соком.
Едва Джагиндер потарахтел спасать душу, Савита уселась перед зеркалом и поискала ответ на свой вопрос. Сразу же нашлось два.
Глаза блестят, тушь растеклась синяками.
А блузка заметно натянулась.
Савита вытерла глаза, объяснив первое влажным воздухом. Правда, она не понимала, откуда взялся блеск. Дожди словно смыли с лица налет суровости и крошечные обиженные морщинки, что расходились лучиками от уголков глаз. Савита сдвинула с плеча паллу и сбросила ее на пол.
Блузка, безупречно сшитая всего пару дней назад, теперь врезалась в ребра. Рукава с серебряным шитьем туго облегали предплечья. Спереди вытянулись в ряд шесть металлических петелек. Запыхавшись, удивленная Савита осторожно расстегнула их и сняла блузку. Лифчик упал на пол, и она обхватила руками груди.
Торчащие соски тыкались прямо в зеркало. Голубоватые вены под кожей проступали контурной картой. На один миг Савита отчетливо услышала оглушительный шум прорвавшихся туч, неистовую дрожь бунгало под безжалостным потопом и ликующие возгласы сыновей. Вдруг она вспомнила о муже и мельком взглянула на дверь, надеясь, что та заперта на защелку.
За секунду до того, как вырубилось электричество, Савита увидела в зеркале кое-что еще.
Можно сказать, Джагиндер сдержал слово. Промокнув до нитки, он сидел на деревянном стуле, уставившись в стену. Над каминной полкой, накрытой белой вязаной тканью, висела картина в рамке — Богородица и младенец Иисус в бесплотном ореоле от латунных подсвечников. Вверху на гвозде слегка накренилось грубое деревянное распятие.
— Тоже чанну и арахис, мужчина?
Джагиндер поднял голову. Над ним стояла упитанная баба в цветастом платье до колен. Короткая стрижка и никакого макияжа. Родинка на подбородке колыхнула тремя длинными волосками. Не дожидаясь ответа, баба шваркнула на стол полную бутылку дару[144], цветной стакан со льдом и «дьюкс соду».
— Да, — проворчал Джагиндер, протягивая деньги.
Расторопная хозяйка адды щелкнула мясистыми пальцами. Почти тотчас же хорошенькая девушка, ее молодая дочь, принесла тарелку поджаренной чанны и арахиса. Украдкой глянув на девчонку, Джагиндер положил на стол еще одну купюру. Через пару минут появились корзина жареной рыбы и сигареты.
Сжимая в руке стакан, Джагиндер припоминал, как вел «амбассадор» по промокшим улицам пригорода Бандра, вдоль грохочущего берега. Джагиндер едва различал сквозь ливень оштукатуренные дома с покатыми черепичными крышами. Пальмы, что приютились между жилищами, качались и встряхивались, будто свирепые сторожевые псы. Он проехал мимо кладбища с надгробиями и бетонными крестами. Один явно стоял над могилой известного христианина. На кресте остались только инициалы I. N. R. I., «Иисус из Назарета, Царь Иудейский» — надпись, которую римляне прибили над распятым Христом. Теперь она навеки осенила останки обычного селянина.
Джагиндер не помнил, как оказался в этой адде. «Амбассадор» словно сам туда его привез. Джагиндер не мог усидеть дома: его завораживало простонародье и эта освежающая бурда, которая снимала все проблемы как рукой. Он корил себя за то, что так низко пал, поступился честью и уважением, сбегал тайком среди ночи или под проливным муссонным дождем: стыдно было открыто признать свой порок.
Адда принадлежала бесстрашной христианке средних лет, которую местные прозвали Теткой Рози. Здесь не только подавали чистейший алкоголь, на чем и держалась ее репутация, но и царила праздничная семейная атмосфера — благодаря религиозному оформлению людям казалось, будто с ними веселится сам Господь.
— Ну, за муссоны! — сказал Джагиндер Иисусу и выпил все залпом.
Рози проворно принесла еще полпинты и молодцевато выпрямилась. Затем она грозно направилась к соседнему столику.
— Если нет денег, мужчина, пошел вон! — прикрикнула хозяйка на перепуганного посетителя.
Открылась дверь, и в проем неистово хлынул дождь. Толпа негромким разноголосьем приветствовала завсегдатая, который вошел, пошатываясь, выжал воду из шляпы и театрально поскользнулся в луже. Он был худой, с широкими завитыми усами и волнистой умащенной шевелюрой, чудом не растрепавшейся под дождем. Рози провела его к ближайшему столику, и он тотчас схватил карты, словно товарищи только и ждали его хода. Хозяйская дочка Мари внесла блюдо жареного арахиса. На ней было миленькое розовое платьице, а густые черные косы стягивал такого же цвета бант. Спокойные карие глаза оттенялись длинными ресницами, и взгляд был не таким уж невинным.
— Арахис? Бас?[145] — решил пофлиртовать с ней завсегдатай. — И больше ничего не предложишь?
Девушка ушла и вернулась с жареной рыбой и матерью.
Завсегдатай помрачнел и заказал выпивку на всех.
Крыша над столиком Джагиндера протекала. По ней хлестали пальмы. Вода на полу взблескивала змеей. Юная Мари сновала между столами, изящно удерживая поднос на бедре. Завсегдатай не на шутку разошелся и внезапно схватил ее за задницу. Девушка взвизгнула, и стулья с резким скрипом отодвинулись.
Джагиндер зачарованно наблюдал: «Везет же этому парню — свободно выражает эмоции, не сдерживает себя». А его-то жизнь в бунгало такая пресная, регламентированная и пустая.
Рози растолкала бедрами стулья и ловко шлепнула дочку по голове:
— Бесстыжая!
Девушка выскочила из зала, в полумраке блеснул крошечный золотой крестик у нее на шее.
— Пардон! Пардон! Пардон! — лопотал завсегдатай, размахивая руками над головой, словно белыми флагами.
— Опять этот мистер Пардон? — заорала Рози. — Эй, Джонни! Иди-ка сюда, слабоумный мой сыночек!
Джонни мгновенно появился из подсобки, где от нечего делать тягал цилиндры с бренди. Скорчив грозную рожу, он пересек зал, и на его бицепсе самодовольно выгнулось пурпурное распятие.
— Зачем нам дадагири[146] Джонни? — вмешался партнер завсегдатая по игре и выставил вперед руки, словно пытаясь отразить атаку.
— Не надо! Не надо! — попугаем завизжал завсегдатай. Хотя он и выглядел закоренелым рецидивистом, но накачанного сынка Рози явно испугался. Даже завитые усы съежились от страха под носом.
— ВОН! — прохрипел сынок, подражая Джеймсу Дину[147]. На нем была майка-алкоголичка и треники. Худые ноги торчали спичками, и напоминал он вовсе не громилу, а шоколадное мороженое на палочке.
— Не надо! Не надо! — снова взмолился завсегдатай, защищаясь ладонью от невидимых ударов.
— Отправь его вместе с Шухером, — вынесла суровый приговор Тетка Рози и кивнула на дверь.
Шухер был штатным таксистом и аккуратно развозил посетителей по домам, если они засиживались допоздна. Сынок схватил завсегдатая за шкирку. Тот съежился и запричитал, хотя в адде Тетки Рози его ни разу пальцем не тронули. Как бы он ни изгалялся и ни напивался, хозяйка всегда принимала его обратно — просто он был выгодным клиентом. Прочие посетители наслаждались представлением, Джагиндер тоже. Одни подстрекали завсегдатая настоять на своем, другие уговаривали Джонни избить его до полусмерти. Парень дотащил охальника до двери, швырнул на мокрую землю и отряхнул руки, словно выкинул мусор.
Шухер затолкал завсегдатая в такси. Оказавшись в безопасности, тот широко ухмыльнулся посетителям, выглядывавшим в дверь. Тем временем публика оживилась.
— Ну и хитрец! — усмехнулись пьянчуги и заказали еще выпивки на всех. — Старая песня.
— У него просто планка упала, — сказал дружок завсегдатая и засунул карты в нагрудный карман. — Завтра же вернется, как пить дать.
Даже Рози не сдержала улыбки. Мари мигом принесла чанну, дерзко выгибая бедра. Джонни снова скрылся в подсобке и с излишними, выдуманными подробностями рассказал о своих подвигах младшему брату.
Джагиндер вздохнул с уже подзабытым чувством удовлетворения. Закинув в рот горсть сингданы[148], он храбро набился сыграть партийку.
Друзья завсегдатая переглянулись, но одобрительно крякнули. Джагиндер заказал выпивку на всех, искоса поглядывая на Мари. Она вся трепетала, резко отличаясь этим как от чопорной Савиты, так и от властной, сдержанной Маджи. «Моя дочка, — подумал он, — могла бы наполнить наш дом такой же теплотой и юным задором».
Ему страстно хотелось дотронуться до нее, вкусить беззаботной энергии этой лучезарной молодости.
Мари подошла к их столику, и рука Джагиндера невольно потянулась к ее стройной талии. Касаться другой женщины, да еще и незамужней девушки, — кощунство, но он обязательно это сделает. В глубине души что-то его подстегнуло — желание наказать себя за гибель ребенка и разлад в семье.
Он жаждал спасения и в то же время возмездия.
Рози оттолкнула его руку.
— Совсем стыд потерял? — рявкнула она.
Публика затихла, осуждающие взгляды словно спрашивали: «Кто эта важная-преважная шишка? Зачем он пришел сюда, нам мешать?»
Джагиндер отпрянул, будто его ударили по лицу: «Господи, что на меня нашло?»
Мари скромно улыбнулась, взволнованная тем, что привлекла внимание столь богатого сахиба.
Джонни схватил его за шкирку и вышвырнул на улицу.
— Салам, сахиб! — съязвил он и с гордым видом вошел обратно.
— Она ж тебе в дочки годится! — крикнула Рози в дверной проем.
Никаких комичных сцен, как с завсегдатаем, а лишь холодная, резкая отповедь. Ему здесь никто не рад. Не место здесь ему.
— Нет у меня дочери, нет, — выкрикнул Джагиндер, растянувшись на мокром тротуаре.
И он наконец оплакал свою утрату.
Во внезапной темноте Савита не поверила своим глазам: что же там было в зеркале? Она медленно подняла палец и потрогала влагу вокруг соска. Поднесла палец к носу и вдохнула хорошо знакомый приятный запах. Груди пронзила назойливая боль. Савита вновь обхватила их, изумленная их полнотой. Затем, приложив палец к губам, попробовала его на вкус. И тогда она поняла. С негромким вскриком Савита рухнула на трюмо. Невероятно: через тринадцать лет после рождения последнего ребенка ее груди вновь налились молоком.
Муссоны не только воскресили выжженную землю, но и наполнили чудесами жизнь ее истомившихся обитателей. В тот год, едва разверзлись хляби небесные, их посулы показались еще желаннее. Дхир и Туфан плясали под благодатным дождем, пока Кунтал не уложила их в постель, изрядно снабдив шоколадом. А Нимиш остался снаружи, у стены, и ждал появления Милочки.
Джагиндер прокладывал дорогу по стоячей воде, поднимая снопы брызг. «Дворники» лишь баламутили поток, обрушивавшийся на ветровое стекло. Вода просачивалась в машину сзади и через открытое окно, брюки и рубашка намокли. Черные тучи вдруг расступились, и показалась красноватая, усеянная прожилками луна, которая словно отражала его затуманенный взор. С нетерпением дожидаясь свой любимый «амбассадор», Гулу очнулся от беспокойного сна и вгляделся в ворота: не видно ли хорошо знакомых фар?
Спичечные головки размякли и отсырели, нечем было зажечь свечи, и дом погрузился во тьму. В гараже Кандж и Парвати сплелись на своей кровати, и вспышки молний озаряли их страстно извивавшиеся тела. Завтра утром повар добавит в халву для пуджи побольше сахара, как и обещал. Ведь ливень разразился в тот самый миг, когда он подавал ужин. Нетронутые тарелки и холодный рис так и остались на столе. Каким-то чудом никто не заметил, что карри водянистое.
Незамеченным прошло и еще одно чудесное событие.
Из-за грохочущей грозы и ливня не заперли вовремя засов. После захода солнца запретная дверь со скрипом отворилась и открылась брешь.
Призрак младенца впервые отважился выйти из ванной, и его серебристая грива оставила сверкающий влажный шлейф — прекрасный и фосфоресцирующий, как лунный свет.
Тамаринд под дождем
Маджи и Мизинчик вернулись в уже преображенный Бомбей.
С передней веранды Мизинчик наблюдала, как дожди обольщают город, точно лживый любовник: люди на улицах кричали от радости и внезапно пускались в пляс, хотя вокруг явственно воняло гниющей канализацией.
Утром начался новый учебный год, и девочки пришли в розовых плащах, а мальчики — в плащах цвета хаки, причем те и другие в британских резиновых сапогах. Дождь приятно стучал по опаленной земле, девушки пели на улице и бешено кружились, взявшись за руки, и длинные косы со свистом рассекали сырой воздух.
Маджи с благодарностью вспоминала любимого мужа, как он возил ее смотреть кино, которое всю жизнь упорно называл «биоскопом», и как они вдвоем ехали в закрытом конном экипаже. Тогда они были молоды. Оманандлал щеголял в шелковой рубашке с четырьмя золотыми пуговицами, а рядом гордо сидела она, покрыв голову паллу, и в носу у нее поблескивал бриллиантовый гвоздик. Маджи и Оманандлал были очень красивой парой, когда в самый разгар муссонов подкатывали к кинотеатру в своих лучших нарядах.
Стук дождя неизбежно навевал эти бесценные воспоминания, по которым она тосковала весь остаток года. Маджи на краткий миг возвращалась в ту полноценную эпоху, когда были живы Оманандлал, Ямуна и младенец.
Выжженный город облегченно вздыхал, а бурная влага проникала во все жилища без разбора — от рогожных лачуг в трущобах до богато украшенных бунгало элиты, например в «Улей» и «Чащу», которые были первыми построены на Малабар-ском холме в 1825 году и позже критиковались за абсолютное несоответствие местному климату. Так и «Джунгли», бунгало Маджи, совсем не подходили для тропиков с их гнетущей влажностью, нестерпимым зноем, буйной зеленью и малярийными комарами. Хоть дом и оснастили современными кондиционерами, электричеством и новой черепичной крышей, он все равно покорился воле природы.
Едва подули яростные ветра, нескончаемые вереницы гладких муравьев стали переползать толстую полосу куркумы, насыпанную по всему периметру бунгало, хотя обычно она их отпугивала. Тараканы спасались из туалета бегством. Вентиляторы на потолке крутились без остановки, тщетно пытаясь высушить утреннее белье, висевшее теперь по всем комнатам и коридорам на импровизированных веревках. Настенные панкхи[149] замыкало, когда в проводку попадала вода. Туфан постоянно бегал в пижаме, тайком выскакивал под ливень и прыгал по лужам, пока Парвати не затаскивала его за ухо в дом. Дхир рыскал по «Джунглям», точно охотник, отыскивая сухие места, где можно спрятать плесневеющий шоколад. Нимиш разгуливал по коридорам с отсыревшей «Ярмаркой тщеславия» Теккерея и читал, перекрикивая грохот:
— «Эй, Доббин, кто еще так побеждал, как в битве при Саламанке?[150] Но где же он обучился этому искусству? В Индии, мальчик мой. Джунгли — школа для генералов, попомни мои слова».
Савита каждый день часами просиживала взаперти у себя в комнате и, раздевшись до пояса, любовалась набухшей грудью. Джагиндер зачастил к Тетке Рози, а «незапылившийся» завсегдатай предложил ему сыграть партийку и проворно опустошил его бумажник. Повар Кандж вступил в неравный бой с полчищами вредных козявок, проникавших в кухню сквозь каждую кривую щелку или трещинку. Кунтал предусмотрительно расставляла стальные миски в местах, где протекал потолок, и число их росло с каждым часом. Парвати натянула джутовые бельевые веревки в помещении, поскольку на улице одежда уже не успевала сохнуть. Гулу выметал постоянно прибывавшую воду из гаража короткой метлой. Тем временем Маджи, как обычно, переносила все стоически: пол вытирали ежечасно, а туалет два раза в день чистил бханги[151] — бунгало должно было пережить еще один бурный сезон дождей.
— Как съездили? — спросил Дхир Мизинчика, набивая ранец печеньем «глюко». Шла первая неделя учебы, и он кропотливо подсчитывал, сколько взять еды, чтобы хватило на весь день.
Мизинчик кивнула и протянула ему пачки кунжутных чикки[152] в сахарной глазури, привезенные с горного курорта.
Дхир минуту помедлил, а затем с благодарностью принял гостинец. Брат открыл рот и тут же закрыл, словно хотел что-то добавить, но передумал. Закинув ранец за плечо, он поковылял прочь. По настоянию Маджи Мизинчик осталась дома. В то знаменательное утро она наблюдала, как дождь хлещет в окна, и лакомилась жареными мучными матти, щедро обмакивая их в манговый рассол.
Позже в тот же день, по-прежнему оттягивая купание, она удалилась в комнату Маджи. Вверху рядами висела мокрая одежда, упорно не желавшая сохнуть. Задумчиво посмотрев на нее, Мизинчик услышала шорох. Вентилятор на потолке был выключен, окна законопачены, но белье над головой колыхнулось. Она села в постели и вновь ощутила странную нежность в груди — любовь к своей призрачной двоюродной сестренке.
Шафрановое сари на веревке вздрогнуло.
«Не может быть!» Привидение раньше не выходило из ванной — оно обитало только в водной среде. Блуждало по трубам или занимало ведро, но никогда не выбиралось в другие помещения. Однако сейчас Мизинчик вдруг с ужасом поняла, что в каждой комнате натянуты джутовые веревки и на каждой висит мокрое белье, — да это же готовый водный маршрут!
Лицо обдал холодный сквозняк.
Мизинчик встала на кровати и тряхнула сари свободной рукой. Оно с шелестом слетело. Синий шалъвар тетки Савиты закачался, жесткие манжеты блеснули россыпью пайеток. Мизинчик перекинула ноги через край кровати, на глаз оценив расстояние до двери.
И побежала.
Одежда хлестала, заслоняла обзор, задерживала. Полотенце обмоталось вокруг лица — липло, душило. Мизинчик попыталась его стянуть. Упала на пол. За спиной вновь качнулся шаль-вар. Комната наполнилась грохотом, биением, светом.
Впереди заплясали брюки: штанины извивались и злорадно тянулись к ней.
Мизинчик оттолкнула их, но они обвились вокруг нее змеей, затягиваясь все туже и туже.
А затем так же поспешно ее отпустили.
Внезапно из них выпала серебряная грива.
Штаны по-прежнему качались. Вдоль края медленно сжались два крошечных кулачка, в одной штанине сверкнули два перевернутых яростных глаза. Злоба заволокла комнату, как туман.
— Эй, ты! — выдохнула Мизинчик.
Привидение уставилось на нее, не шевелясь.
Казалось, оно пришло для того, чтобы забрать ее, спланировать возвращение, выработать новую стратегию.
— Теперь я все знаю, — сказала Мизинчик, с трудом отдышавшись. — Та девушка — твоя айя, так ведь?
Призрак насторожился, волосы окутали его голову дождевой тучей.
— Но это же была случайность, да? Зачем ей тебя топить? Та рука, без лица, что ты показала мне, — обычное недоразумение, и больше ничего. Я тебе не верю.
Глаза призрака помутились. Джутовые веревки затряслись, одежда хлестала во все стороны, брызгаясь водой при каждом рывке. Привидение протянуло руку ладонью кверху и коснулось щеки Мизинчика.
Но то была не ласка, а ледяное, студеное прикосновение, обжигающее холодом.
Потом, дерзко встряхнув ниспадающими волосами, призрак юркнул обратно в штаны и исчез.
Щека Мизинчика распухла от синяка, смутно похожего на отпечаток руки. Девочка неудержимо тряслась и кашляла, ее уложили в постель. Из комнаты Маджи убрали джутовые веревки и установили там на полу обогреватель, чтобы прогнать сырость. Но в комнате по-прежнему было зябко.
Вызвали доктора Айера.
— Возможно, простуда, а может, и начало пневмонии, — как всегда, очень веско заявил врач. — Единственное средство — покой.
Правда, чтобы визит как следует окупился, он вручил заждавшейся Маджи рецепт.
— Снимите веревки во всем доме, — слабым голоском умоляла Мизинчик бабку.
— Чушь какая! Как же белье сохнуть-то будет? Не переживай, что здесь сыро, я включу обогреватель.
Мизинчику показалось, что ее дурачат, и от этого стало совсем тошно. Благодаря ее истории о Ратнавали зыбкое привидение обрело фигуру и черты лица. Но теперь призрак набрался сил и сам искал себе пропитание, передвигаясь по бельевым веревкам и пристально наблюдая за будничной жизнью семейства, точно голодный ребенок.
Мир привидения больше ванной, больше Мизинчика. Страшно даже представить, насколько он велик, с растущим ужасом думала девочка.
Дождь ненадолго унялся, и бунгало оказалось на осадном положении, словно его заволокла непроглядная туча. За строгой дисциплиной, которую ввела Маджи, проглянуло беспокойство, что пронизывало сырые стены и портило настроение. Привидение шныряло повсюду, целеустремленно сжимая во влажных тисках весь дом и охватывая всех обитателей волной вины, словно каждый приложил руку к гибели младенца. Изначальная радость, принесенная ливнем, теперь извращалась, искажалась, омрачалась набиравшим силу призраком.
Савита первой испытала последствия — ровно через четыре дня после того, как она с изумлением обнаружила, что груди налились молоком. Сначала она втайне наслаждалась их пробуждением. Бесцельность и ничтожность, которые она так остро ощущала долгие годы после смерти дочери, внезапно сменились давно забытой полнотой, второй молодостью, торжеством материнства. Она окружала сыновей такой заботой, от которой они давно отвыкли, нежно ерошила им волосы и даже садилась послушать, как Нимиш зачитывает целый раздел из книги леди Фолкленд «Чау-чау: дневник, который я вела в Индии, Египте и Сирии»[153]:
— «Когда заканчиваются проливные дожди, небо напоминает капризного ребенка, еще не переставшего вредничать: по малейшему пустяку он может разреветься, а большие серые тучи с белыми верхушками готовы в любую минуту пролить слезы…»
— Ну разве что на капризного ребенка гора[154], — фыркнула Савита, — вы-то у меня послушные.
Оставшись одна, она вспомнила, как раздувался живот, с каким благоговением носила она в себе новую жизнь, и ужасно захотелось вновь забеременеть. Хоть они с Джагиндером уже много лет не были близки, Савита осушила стакан возбуждающего молока с шафраном и в ту же ночь, по возвращении мужа от Тетки Рози, совратила его. На третий день муссонов у Джагинде-ра настолько поднялось настроение, что он повез всю семью ужинать в ресторан «Рандеву», что в отеле «Тадж», и купил Савите изумрудное ожерелье у семейного ювелира. Савита была в восторге.
А на четвертую ночь, едва сумерки сменились темнотой, Джагиндер променял соблазнительные Розины снадобья на колдовское зелье своей жены. В первые годы супружеской жизни Джа-гиндеру нравилось представлять себя первопроходцем (хоть он ни разу и не выезжал за пределы страны), следуя традиции, освященной парнями из Ост-Индской компании, что разведали путь в Индию и заложили основы Империи. Разумеется, он не завоевывал земель, ведь завоевывать уже было нечего — даже ни одного дальнего княжества. Но пред ним простирался девственный, сладостный и загадочный пейзаж, столь же экзотичный и еще не тронутый цивилизацией, — его жена в манящем красном белье. С какой радостью увидел он на горизонте ее голые берега и затем высадился на них с орудийным салютом, пролив кровь и пометив территорию! После этого в бухте возвели ворота для спокойного входа, и страна безропотно, хоть и горестно смирилась с его присутствием.
Словом, чары развеялись. А Джагиндер, идя по стопам краснолицых бриттов, пристрастился к выпивке. Гибель дочери, конечно, ускорила процесс, но порой казалось, что Джагиндер уже давно свернул в эту сторону и на полном ходу мчался навстречу смерти. В те невыносимые времена оставалось лишь заливать горе «отверткой» да вспоминать блаженные деньки беззакатного солнца. Но теперь, когда уже закатилось столько солнц и Джагиндер заплутал в холодном, по-лондонски промозглом тумане на пару с единственным приятелем — «Джонни Уокером», он затосковал по неотвратимому жару жениного тела, его хмельной загорелой сумятице, толчее цветов и вкусов, диким мангровым лесам. Как глупо было полагать, что он проживет без нее, ведь он не стоил ни гроша без своей главной жемчужины — Савиты.
Сейчас, когда они лежали рядышком на кровати, в Джагиндере проснулась незнакомая, поразительная нежность. С непривычной теплотой ласкал он пышные бедра жены, гладил ее мягкие губы, вглядывался в сияющие глаза, а затем медленно, почти болезненно испытывал оргазм.
— Лишь об этом я всегда и мечтал, — тихо мурлыкал он, жадно вдыхая вкусный ореховый запах ее волос.
— Джагги, — прошептала Савита, пылая страстью, от которой давно отказалась в скуке совместной жизни, — прошу тебя, не дай это разрушить.
— Обещаю, — серьезно ответил он. Про себя Джагиндер поклялся, что больше никто не отнимет у него Савиту — ни его собственные страхи, ни их общее прошлое. Полностью растворившись в этой нежданной близости, он уже не представлял себе ничего другого.
— Джагги, пожалуйста, — сказала Савита еще мягче, — больше не пей. Ради меня.
— Не буду, — пообещал он. Ведь любовь Савиты — это пьянящий эликсир, что придает сил и энергии, а главное — вселяет надежду.
Их ноги переплелись, и Джагиндер провел руками по тонкой шее Савиты, тонким ключицам, легкому подъему грудной клетки. Спустившись ниже, он стиснул ее груди и ласкал их восхитительную полноту. Слизнул йот в ложбинке и, передвинувшись, обхватил губами сосок. Но едва начал нежно его посасывать, как призрак младенца, паривший над ними в мокрой нижней юбке, наконец отомстил за себя.
Груди Савиты брызнули молоком.
Захлебнувшись, Джагиндер отшатнулся. Сладкое, густое, сырое молоко застряло в горле, быстро замерзая и застывая. Он не мог его выхаркнуть. Не мог даже вздохнуть.
Савита подскочила, скрестив руки на груди, и в смущении качнулась. На ощупь груди были холодные как лед.
Джагиндер стоял на четвереньках и шатался, весь посинев.
— Джагги! — вскрикнула Савита и заколотила его по спине.
Молоко одновременно выплеснулось из носа и рта. Джагиндер рухнул на пол и брызнул слюной:
— Что с тобой такое?
Савита потупилась и замкнулась. Ее душа вновь захлопнулась. За долю секунды она уловила упрек в словах Джагиндера и поняла, что их недавняя нежность друг к другу оказалась слишком хрупкой.
— Не со мной, а с тобой! — огрызнулась она, натягивая на себя одеяло. — Это ты во всем виноват!
— Я? — Джагиндер с трудом встал на ноги, точно лев, почуявший добычу. — Но это ж твои груди.
— Не останавливается! — в ужасе завопила Савита. Молоко выстрелило из сосков, словно в отместку за тринадцатилетний простой. Ей было холодно, одиноко, страшно.
Джагиндер уставился на нее в панике.
— Разбужу Маджи, — сказал он, вытирая остатки молока, вылившегося из ноздрей.
Даже средь ночи Маджи сохранила спокойствие и поняла: случилось что-то из ряда вон.
— Врача не вызывать. Ни один посторонний не должен знать, — приказала она.
— Что же нам делать?
— Уйти из моей комнаты! — взвыла Савита.
— Молиться, — ответила Маджи.
В памяти Джагиндера всплыл образ Иисуса и Девы Марии из адды Тетки Рози.
— Я помолюсь, — сказал он, и тревогу как рукой сняло. Мать по старинке позаботится обо всем. А Джагиндер сможет улизнуть.
Маджи недоверчиво подняла бровь и взглянула на сына, а затем переключилась на невестку.
Савита свернулась клубочком, отвергая любую помощь, и ревела, пока не уснула от изнеможения.
В то время как родители извивались в страстных объятьях, Нимиш прокрался на улицу через боковую дверь. Последние три ночи Милочка не отваживалась выходить в дождь под тамаринд. Однако несломленный Нимиш решил испытать судьбу еще раз. Его обуяло необъяснимое желание — настойчивая потребность наконец-то подойти к Милочке и объясниться в любви.
«Объясниться или умереть», — прошептал он про себя, словно кто-то произнес эту фразу ему на ухо во сне. На дворе хлестал сильный, безжалостный ливень. Шум дождя сопровождал Нимиша, и размеренная барабанная дробь вторила его решительным шагам.
Окно Милочки тускло светилось, тамаринд качался и размахивал ветвями, словно предостерегая. Не успел Нимиш опомниться, как уже оказался в дальнем конце сада — у лаза в стене. Побеги жасмина задевали лицо, разливая в воздухе тяжелый аромат. Взгляду открылся Милочкин двор — гобелен смутной тоски, спрятанный в буйной зелени.
А затем, точно ангел, явилась и сама Милочка: она шла на цыпочках по грязи и лужам, но не к тамаринду, а к боковым воротам, и грудь ее перетягивал ремень ранца. У Нимиша сердце зашлось, и он едва удержался, чтобы не ринуться ей навстречу.
— Милочка!
Она остановилась, испугавшись фигуры на лужайке.
— Это я, Нимиш!
— Нимиш?
Она направилась к нему под свирепые завывания муссонной арии, и они встретились под деревом. Нимиш робко схватил Милочку за предплечье. Лицо у него потемнело от страстного желания. Дождь забрызгал очки, и пользы от них было мало. Нимиш снял их и засунул в карман. Казалось, будто его карие глаза с мокрыми длинными ресницами плачут.
— Все в порядке? — спросила Милочка, глядя ему в лицо.
— Да-да-да. — Нимиш почти задыхался. «Объясниться или умереть». Сколько раз он придумывал, что скажет Милочке, записывал на бумаге, менял слова и фразы, а потом заучивал все назубок и съедал листок, чтобы не осталось улик! Будь Нимиш киногероем, с его губ слетело бы правильное объяснение, затем он с песнями закружил бы Милочку в танце и, наконец, шикарно рванул с места на мотороллере, а возлюбленная, затаив дыхание, обхватила бы его за талию. Но сейчас все тщательно подобранные слова вылетели из головы, едва он взял Милочку за предплечье; конец ее рукава был вышит прозрачным бисером, который заключал запястье в нежное объятие.
Дождь лупил Нимиша по лицу и капал на курту, призрачно белевшую в кромешной тьме. Слова, поступки и мысли, запрещенные днем, когда старшие поглядывали неодобрительно, строго соблюдая общественные правила, теперь вырвались на волю под тамариндом. Неожиданно Милочка вытерла капли с лица Нимиша краем своей золотистой дупатты, и шелковая ткань, прилегавшая к ее груди, наконец коснулась его щеки.
Онемев, он опустил взгляд.
— Нимиш? Что случилось?
Он схватил Милочку за руку, и жар его ладони обжег ей кожу.
— Мы росли, как брат и сестра, но я никогда не считал тебя сестрой.
— Да?
— Да. — Нимиш решительно посмотрел ей в лицо. — Только прошу, не говори, что видишь во мне брата. Прибереги эти слова для кого-нибудь другого. Только не для меня.
— Ах, Нимиш, — сказала Милочка, и глаза ее заблестели. Сколько раз играли они вдвоем в детстве, бегали по заднему двору и даже сидели под этим самым деревом, пока взрослые отдыхали! Нимиш рассказывал с жаром о прочитанной книге, а она качала золотые цветы на ладонях, представляя себя где-то вдали от семьи, мечтая о другой жизни, иной эпохе. Но теперь Милочка поняла, что Нимиш в этих грезах всегда был рядом. Он неизменно присутствовал в ее фантазиях — стоял с книгой в руке, с румянцем на щеках и плел небылицы. Повзрослев, они стали видеться реже. Тем не менее Нимиш изредка зачитывал отрывки из книг — лишь так мог он с ней общаться, соединяя вместе нелепые цитатки. Его рассказы переносили ее в иные миры, давали ей то, чего больше никто дать не мог. Почему же она не понимала этого до сих пор?
— Расскажи, что ты прочитал, — попросила Милочка. — Что угодно.
Нимиш глубоко вздохнул: на ум пришло одно из любимых стихотворений:
— Как лотосы на глади хладных вод,
негромко продекламировал он строки из «Бледных рук, что я любил» Лоренса Хоупа[155].
Милочка всмотрелась в его симпатичное лицо словно впервые.
— Нет, Нимиш, — наконец сказала она, — не брата.
Он в удивлении сглотнул, по небу прокатился гром. Бешеный ливень наполнил Нимиша страстным желанием, стук капель по мокрой земле отдался пылким галопом в груди.
— Милочка, — начал он, надеясь добиться еще одного обещания, — прошу тебя, не принимай тех предложений, что тетя Вимла обсуждает с Маджи.
— Не буду, — искренне сказала она, невольно взглянув на боковые ворота бунгало, словно прямо за ними ее кто-то ждал. — Я даже не собиралась.
Ей совсем не хотелось выходить за того, кого выберет мать или брат, ведь оба не обращали внимания на гнев отца, даже если он их бил. Милочка решила сама, собственными силами найти свою любовь. Возможно, она и вовсе не выйдет замуж. Как раз сегодня у нее возник план, вероятно еще непродуманный, но в глубине души Милочка понимала, что время ее истекло. Она тронула ранец на боку. Сердце екнуло.
Она поднесла руки к лицу, потом закрыла глаза, подалась вперед, и их лбы соприкоснулись. Так они и стояли под тамариндом, кишащим духами, которые наблюдали, как юные сердца распускаются, словно цветы на рассвете. «Пусть даже не теперь, но когда-нибудь наверняка», — молча помолилась Милочка.
Нимиш запрокинул ее голову и поцеловал в губы.
Вдруг по лицу Милочки хлестнула ветка, оставив тонкий порез, похожий на выбившуюся прядь.
— Мне пора, — сказала Милочка, отпрянув точно ужаленная. Она натянула на плечи дупат-ту и потрогала расцветающую красную линию на щеке. Кончик пальца окрасился кровью, а все тело напряглось в безжалостной темноте.
— Пожалуйста, не уходи, — взмолился Нимиш. — Извини, я нечаянно…
Но Милочка отвернулась и растерянно побежала не к воротам, а обратно в бунгало. Нимиш попытался ухватиться за край дупатты, но шелковая ткань вырвалась из ладони, лишь скользнув по ней изумрудными листьями узора.
В ту ночь другие домочадцы в семействе Митталов тоже неожиданно проснулись. Гулу. разумеется, терпеливо выгнал из гаража «амбассадор» для ночного бегства Джагиндера и сонно переоделся в сухое дхоти. Кандж и Парвати, разбуженные шумом двигателя, еще раз вяло овладели друг другом под металлическую дробь дождя о крышу гаража, ставшего их домом.
Тем временем призрак бесшумно передвигался по бельевым веревкам: вначале отметился над спящими Мизинчиком и Кунтал, а затем пробрался в комнату мальчиков. Дхир прерывисто храпел, а Туфан метался в постели, точно припадочный. Нимиш вернулся с раскрасневшимися щеками, переоделся в сухую пижаму, а затем лег в постель и уставился в потолок, словно молясь. Призрак почти с тоской смотрел сверху на трех своих почти что братьев, разглядывая их с жадным любопытством. Улыбнувшись, он спрятался в висящей накрахмаленной рубашке. В комнате посвежело. Нимиш потянулся за своей сорочкой.
Дхир с упоением храпел на всю комнату. Вдруг его рот захлопнулся, а ноздри раздулись. Он проснулся, подтянул колени к груди и принюхался к простыням — они отдавали орехами. «Миндаль и кипяченое молоко», — подумал Дхир, и ему сразу захотелось есть. «И тростниковый сахар», — вздохнул он в предвкушении. Но потом примешался еще один запах. Он подогнал его пальцами ближе и смутно припомнил это сладковато-горь-кое сочетание. Копаясь под подушкой, он так усердно обнюхивал простыни, что даже запыхался. Пижама задралась кверху, обнажив пухлые ягодицы, блестящие от пота. Запах усилился. Ноздри Дхира расширились, губы задвигались, ладони сжались, и в мозгу промелькнуло: «Пажитник».
Туфан резко проснулся. Он лежал на спине и тяжело дышал. Вглядевшись в темноту, он услышал непривычное пыхтенье брата и шорох простыней. Туфан тоже почуял запах, но не тот, что выискивал брат. Пахло тело самого Туфана. Глаза его расширились, он ощупал простыни — пусть и не столь дотошно, как Дхир, и рука наткнулась на влагу между бедрами. Со странным удовлетворением Туфан быстро проверил свою пипиську: она сморщилась крохотной гусеничкой от внезапного холода намокшей пижамы. Туфан родился последним из близнецов и был младшим из братьев, так что ему отчаянно хотелось вырасти — стать настоящим мужчиной, чтобы его принимали всерьез, как Нимиша. Поэтому он ощутил прилив энергии: его час наконец настал. Больше не нужно просыпаться и тормошить свою штучку — она справилась сама. Туфан самодовольно поднес палец к носу. Но, вдохнув поглубже, он с ужасом понял, что аромат вовсе не указывает на обретение мужественности, а напоминает о детском кошмаре недержания. Это невероятно: он обмочился в постели!
Дхир задышал с трудом, едва горький запах пажитника набился в нос, вызвав удушливый приступ тошноты. Он помнил эту горьковато-сладкую смесь ароматов по одному давно забытому случаю в ванной: тогда Дхир не сумел отвести взгляд от нежных грудок Мизинчика, проступавших сквозь сорочку, и почуял запах пудры у нее на коже. В тот миг ему стало стыдно, он разозлился, даже возбудился и в отместку совсем перестал общаться с сестрой. Но теперь, хватая ртом воздух и яростно растирая нос, Дхир понял, что ошибся. «О господи, это что-то другое!»
— Дхир? — Нимиш вышел из задумчивости. Он привык, что братья неестественно шумят во сне, Дхир даже порой бродил лунатиком, но сейчас его одышка встревожила Нимиша. — Все в порядке?
Туфан не шелохнулся, перепугавшись, что братья могут узнать о его «аварии». Едкая вонь уже поднималась вдоль по хребту.
— Не-ет, не-ет, — застонал Дхир и разревелся.
Нимиш выпрыгнул из постели и включил свет. С веревок на пол косым проливным дождем хлестала вода, хотя белье тщательно отжали и повесили еще утром.
— Что случилось?
— Я… за… задыхаюсь.
— Туфан! Утхо! Мигом за мамой и папой!
Но даже настойчивый голос Нимиша и мысль о том, что Дхир может погибнуть, не вытолкали Туфана из постели. Он крепко зажмурился, надеясь, что Нимиш каким-то чудом оставит его в покое.
— Туфан, вставай, охламон! — Нимиш запустил книгой, и та глухо стукнулась в Туфана.
— Чертов… — Туфан рывком сел.
— Ой, как… х-холодно, — застонал Дхир.
— Наверно, кондиционер заклинило! — закричал Нимиш, выпустив клуб пара изо рта, вырубил прибор и закутал Дхира в одеяло. — Успокойся! Дыши медленно.
Дхир вновь застонал. Запах был невыносимый, плотный, молочный, горький. Дхир закатил глаза.
— МАРШ! — заорал Нимиш на младшего брата.
Решив, что теперь-то Нимиш ничего не заметит, Туфан выпрыгнул из постели и помчался к шкафу, а потом на ходу натянул свежую курту.
Он со всех ног побежал к спальне матери, громыхая через столовую, и шаги его отдавались эхом от восточного коридора до самой комнаты для пуджи, куда Маджи удалилась, после того как Савита отвергла ее помощь.
— Ой! — воскликнула Маджи, в изумлении выйдя из молитвенного транса. — Кто там?
— Мама! Мама! Мама! — Туфан ворвался в спальню и закричал с порога: — Что-то случилось с Дхиром!
Савита открыла глаза, надеясь, что события сегодняшнего вечера были всего лишь кошмаром. Затем она обнаружила, что перед блузки намок: молоко больше не брызгало, но еще сочилось. В глазах у нее потемнело.
— Мама!
Из последних сил Савита сосредоточилась на сыне.
— Ну, что опять? — отозвалась она, не желая открывать дверь.
— Мама, пошли! Дхир задыхается!
Савита тотчас встрепенулась, точно ее окатили холодной водой. «Нечисть из ванной, — подумала она, — уже и до нас добралась». Крепко прижимая руку к груди, она распахнула дверь и побежала в спальню мальчиков — мимо Маджи и недавно проснувшейся Кунтал.
Дхир посинел. Нимиш стучал его по спине, будто он чем-то подавился.
— Дхир! — вскрикнула Савита. Мгновенно забыв о сочащейся груди, она схватила сына и затрясла его.
Туфан оцепенел в углу, в страхе поглядывая на свою кровать. В комнату примчались Кандж и Парвати, разбуженные Кунтал.
— Да сделайте же что-нибудь! — запричитала Савита.
— Переверните его вверх тормашками! Быстро! — приказала Маджи, наконец приковыляв в спальню.
Дхира подняли за ноги втроем. Нимиш стучал его по спине.
Нестерпимый запах вареного пажитника, который слышал только Дхир, проник за его скулы, просверлил виски, и кровь в голове застучала так сильно, что мальчика в конце концов вырвало. Изо рта хлынули целые литры рвоты, воняющей горьким пажитником и простоквашей. Всех затошнило, и они заткнули носы.
Призрак скользнул к вентилятору на потолке и слился с медленно гудящей лопастью. Серебристые волосы блеснули за его спиной, точно солнечный свет сквозь туман.
Пару минут спустя Дхир переоделся в чистую пижаму, бухнулся обратно в постель и вскоре захрапел. Кунтал прибрала за ним. На кухне повар Кандж уже заваривал целую кастрюлю чаи масала. Маджи внезапно плюхнулась на кровать Туфана.
Вот тогда-то, в желтоватом свете комнаты мальчиков, и раскрылись три тщательно скрываемых секрета.
Придя в себя, Савита опустила взгляд на грудь и вдруг увидела там большие мокрые круги. Она тотчас обхватила себя руками и выбежала из комнаты, но от домочадцев ничего не ускользнуло.
— Кунтал, сходи к ней, — приказала Маджи с деланным спокойствием. — Спроси, чем помочь.
— Я хочу спать, — проскулил Туфан, тщетно пытаясь согнать Маджи с постели.
— Маджи, что с мамой? — Нимиш пошарил на столе, пока не нашел очки. Зацепив дужки за уши, он осмотрелся. В углу валялась груда простыней. Мокрое белье безвольно свисало с веревки, натянутой по диагонали через всю комнат}'. Воняло рвотой и потом.
— Как это случилось? — спросила Маджи, показав на Дхира, чья грудь теперь шумно вздымалась во сне.
— Не знаю. — Нимиш виновато поправил очки на переносице. — Наверно, подавился чем-нибудь…
Вошел Кандж с подносом чая. Потянувшись за чашкой, Маджи почувствовала под собой сырость и передвинулась:
— Что это?..
Туфан стрелой выскочил из комнаты и помчался по коридору, пока не открылся второй секрет.
Парвати засунула ладонь под необъятный зад Маджи и пощупала постель:
— Мокро.
Все посмотрели на висящее белье. Нимиш глянул на груду промокшей от дождя одежды в углу, и у него сжалось сердце.
Парвати убрала руку и скривилась:
— Чхи![156] Это не дождь, а су-су!
— Туфан обмочился? — Маджи глубоко вдохнула. — Ой, забери меня отсюда и переодень в свежее сари.
Кандж собирал чашки, пока Парвати стаскивала Маджи с кровати. Все молчали, но каждый прокручивал в голове странные события этого вечера, пытаясь сложить их, как головоломку: рвота Дхира, намокшая блузка Савиты, мокрая постель Туфана — три стихийных телесных выделения.
— А теперь всем спать, — скомандовала Маджи, словно по ее приказу все должно прийти в норму, и тяжело оперлась о плечи Парвати.
Но тут в комнату вошла Мизинчик — так тихо, что никто поначалу не обратил внимания. Она сразу увидела то, чего не заметила остальная родня, — на лопасти вентилятора мотыльком светился призрак младенца.
— Мизинчик, деточка, иди спать. — Голос Маджи смягчился.
Мизинчик не двинулась с места, лишь покачнулась.
— Неужели никто из вас не видит? — прошептала она, ткнув в вентилятор на потолке.
Призрак оторвался от лопасти, словно в удивлении. Мизинчик поймала взгляд младенца. На краткий миг они заглянули друг другу в глаза.
— Что? — спросила Парвати, задрав голову. — Снова течь?
— Мизинчик, детка, иди-ка ты спать.
Маджи была непреклонна. Но даже Нимиш, отодвинув влажное белье, чтобы лучше видеть вентилятор, заметил, что на долю секунды бабкин голос дрогнул. Кандж с резким звоном поставил поднос и выгнул тощую шею кверху.
— Неужели вы не видите? — повторила Мизинчик. Она побледнела и осунулась, но глаза горели решимостью.
— Ничего не вижу, — ответил Нимиш.
— Мизинчик — спать! — настойчиво приказала Маджи.
— Она там, прямо на панкхе.
— Кто?! — спросила Парвати, прогнувшись под весом Маджи.
— Мертвая девочка, — медленно проговорила Мизинчик, раскрыв третий и последний секрет той ночи. — Она вернулась.
Молния у зеленых ворот
На миг Маджи, Парвати, Кандж и Нимиш всмотрелись. Но потом Маджи так рассвирепела, что весь дом затрясся от ее гнева.
— Снова эти бредни о призраках! — загудела она, ее гигантские челюсти задрожали, а волосы взметнулись за спиной.
— Призрак? — Нимиш всплеснул руками. Уж этого-то он точно не мог ни увидеть, ни понять, несмотря даже на странные события того вечера.
Повар Кандж покачал головой.
— Перегадить всю ночь из-за такого… — пробормотал он и рассек воздух ладонью, будто ножом, а другой рукой ловко подхватил чайный поднос.
— Она там! Там! — кричала Мизинчик, не собираясь отступать, — только не теперь, когда семья в опасности.
— Видишь, что бывает, если дитю во всем потакать, — прошептал жене Кандж.
— Нимиш, отведи Мизинчика в мою комнату. СЕЙЧАС ЖЕ! — скомандовала Маджи. — Пошли, Парвати.
Но Парвати не шелохнулась.
— Я вижу его, — твердо сказала она, вглядываясь в вентилятор на потолке.
Повар Кандж уронил поднос. Полдюжины стальных чашек взлетели в воздух, заплескав сладкой пеной висящее белье. Нимиш отпустил руку Мизинчика и принялся срывать влажную одежду с джутовых веревок. Маджи часто задышала. Призрак теперь собрался темной тучей, и она громыхнула над вентилятором. Винт закрутился по нарастающей, разбрызгивая студеную воду, и желтую лампочку в центре закоротило.
— Прочь отсюда! — приказала Маджи.
Не зная, кому она кричит — привидению или им, Нимиш схватил Мизинчика и побежал по коридору. Кандж и Парвати помчались следом, волоча за собой Маджи. Нимиш бесстрашно вернулся за Дхиром, который все так же дрых, словно Кумбхакарна[157]. Его не разбудил даже внезапный ливень. Все собрались в гостиной — единственном месте, не считая комнаты для пуджи, где не было импровизированных бельевых веревок. В полной тишине они ждали, гадали и искали объяснения.
— Парвати, принеси Мизинчику одеяло, — сказала Маджи, прошаркав в комнату в сухом сари. — А ты, Кандж, — чая.
Повар боязливо заглянул в коридор, где на темной стене смутно белел прямоугольник — свет из кухни.
Кандж робко вздохнул. Но его жена уже отправилась по коридору за одеялом, виляя бедрами и словно бросая вызов непрошеным гостям. Тогда повар подтянул лунги, выпятил грудь колесом и зашагал на кухню.
— Маджи? — окликнул Нимиш, обнимая Мизинчика. Тяжесть его тела успокоила девочку, и ей хотелось, чтобы это мгновение длилось вечно.
— Нимиш, — тихо сказала Маджи, — всему есть логическое объяснение. Нам нельзя расстраивать твою мать.
Нимиш кивнул, вспомнив намокшую блузку матери. Она же в таком щекотливом положении. Но почему? Он отгонял от себя этот вопрос, но в душе поднималась злость на отца. «Ну где же, в самом деле, этот пьяница?» Нимиш еще помнил то время, когда между родителями все было хорошо: отец внушал уважение и трепет, а мать была счастлива — точь-в-точь как последние пару дней. Какой же он идиот — решил, что все каким-то чудом изменилось! Что-то действительно стало другим. Но теперь он с растущим страхом понимал, что вовсе не на это надеялся. По всему дому расползалась тьма — нечто совершенно непостижимое.
— Что происходит?
Лицо у Маджи обрюзгло, кожа на руках бессильно обвисла складками. После долгой паузы, глядя на Мизинчика, она призналась:
— Не знаю, бэта[158], не знаю.
Парвати вернулась с одеялом и помогла Маджи привести себя в порядок.
— Я знаю, это ее призрак, — сказала Мизинчик Нимишу, радуясь, что все наконец вышло наружу.
Нимиш стиснул ее плечо и впал в задумчивость, пытаясь мыслить разумно и выбрать оптимальный план действий. Бунгало погрузилось в тревожную тишину — лишь покашливала Мизинчик да глухо гремел посудой на кухне Кандж.
К счастью, Савита пропустила кульминацию драмы, что произошла в комнате мальчиков. Еще раньше Кунтал перевязала ей дупаттой грудь, чтобы не разбухала от молока. Сейчас Савита лежала ничком и плакала спросонья, а Кунтал сидела рядом и ласково растирала ей голову и шею.
— Я должна выбраться отсюда, — прошептала Савита, — пока еще не поздно!
— Не говорите так, — успокаивала хозяйку Кунтал.
— Мальчики мои. — Савита потянулась к ее руке, и по лицу вновь потекли слезы. — Я должна их спасти!
Бтза ее свирепо блеснули.
— Это отродье, Мизинчик, — вот кто во всем виноват! Это ведь она отперла ванную — разве не так сказала Парвати? Он там, я знаю!
— Кто?
— Злой дух, погубивший мою доченьку!
Кунтал разинула рот.
— Мы должны выбраться отсюда. Причем сегодня же!
— Давайте дождемся Джагиндер-сохмба, — предложила Кунтал. — Он решит, что делать.
Имя супруга разозлило Савиту:
— Да ему плевать на все, кроме «Джонни Уокера»!
— Все мужчины пьют, Савита-du, — сказала Кунтал, вспомнив мрачное предостережение Парвати, хотя повар Кандж был трезвенником.
— Бас! — крикнула Савита и сорвала с пальца изысканное золотое кольцо с брильянтом. — С меня хватит!
Призрак грациозно развернулся на джутовой веревке в комнате мальчиков и повис вверх ногами, покачивая волосами и любуясь своей работой. В комнате творился кавардак. Мокрая одежда, сорванная с веревки, валялась по углам, пол и мебель блестели после недавнего ливня с потолка, постель Туфана тошнотворно благоухала. Призрак не хотел заходить в ту ночь так далеко, не хотел столь скоро открываться. Он сделал это только из-за Мизинчика.
Мизинчик ткнула в него указующим перстом и показала всей семье, когда он еще не был готов. Привидение передвинулось по веревке, подтянулось, влезло на шкафчик, куда натекла лужица пыльной воды, и задумалось над их хрупким союзом. Все изменилось в одночасье, едва Мизинчик выбежала из ванной, не захотев видеть того, что призрак целую вечность мечтал раскрыть: конец кинопленки, последние минуты жизни младенца, правду о его смерти. Привидение, брошенное в ванной, внезапно решило действовать самостоятельно. И когда Мизинчик вернулась из Махаба-лешвара другой, снова твердо встав на сторону живых, когда она сказала: «Я тебе не верю», призрак убедился, что решение было правильным.
Удивляясь переполоху в доме, шофер Гулу стоял навытяжку у зеленых ворот и потягивал биди. словно вдыхаемый дым мог согреть его до возвращения «амбассадора». Раньше, чем ожидал, он расслышал сквозь шум дождя урчание двигателя и быстро распахнул ворота. На краткий миг его осветили фары, и машина плавно остановилась в брызгах воды. Промокший насквозь Гулу открыл дверцу и, заботливо поддерживая зонт над Джа-гиндером, проводил его до веранды.
— Эх, Гулу, — весело сказал Джагиндер, — а что делать? Сегодня я раненько — долг велел.
Этой ночью Джагиндер так и не доехал до Тетки Рози, а развернулся и на обратном пути утолил жажду из бутылки, припрятанной в багажнике. Но домой Джагиндера позвал вовсе не долг, а томительный страх. Ведь в ту ночь он бросил жену точно так же, как и после гибели дочери.
— Конечно, сахиб, — ответил Гулу, поддерживая шатающегося Джагиндера под локоть.
— Уж поверь, это очень нелегкая ответственность.
— Я должен загнать машину, сахиб, — сказал Гулу, вытер лицо влажной тряпкой и вновь вышел под ливень.
Джагиндер крякнул и вдруг возбудился, вспомнив, как Савита соблазнила его накануне. Может, сегодня у нее уже отлегло от души? «Пусть даже молочко чуть-чуть капает, ничего страшного», — великодушно подумал он. У Джагиндера странно пересохло в горле, он неторопливо шагнул в дверь и застыл как вкопанный.
— Что за…
Маджи, Нимиш, Парвати, Кандж и Мизинчик молча сидели в гостиной.
«Умерла?» Он представил, как Савита лежит в растекающейся лужице молока, и курчавые волосы у него на груди встали дыбом. Джагиндер быстро расстегнул две верхние пуговицы курты и бешено зачесался.
— Где ты был, папа? — резко спросил Нимиш, отбросив привычную деликатность.
— Как ты смеешь говорить со мной в таком тоне? — проревел в ответ Джагиндер, оценивая новоиспеченного соперника. «Ну и ну, и это мой родной сын, черт бы его побрал. Наконец-то, на хрен, возмужал». Если б он не был таким пьяным, возможно, похлопал бы Нимиша по спине.
— Парвати, Кандж… — Маджи слегка взмахнула рукой. Кандж понял намек и торопливо встал, чтобы уйти. Но Парвати с удовольствием наблюдала за семейной драмой, словно купила дорогу-щий билет на хорошее представление.
— Где Савита? — спросил побагровевший Джагиндер, едва сдерживая эмоции.
— Спит. Умаялась.
Он громко выдохнул.
— Какое тебе дело до нее? — крикнул Нимиш. — Тебя же вечно нет, когда ты нам нужен!
— Да как ты смеешь…
Черт! Рановато он расслабился — подходящего ответа наготове не было. Но он не допустит, чтобы его припер к стенке собственный сын, — ишь, больно умный выискался! Метнувшись вперед, Джагиндер набросился на Нимиша.
Но тот оказался проворнее и, вовремя отскочив, упал на диван.
— Прекратите оба! — приказала Маджи.
Нимиш резко выпрямился, на его худых скулах яростно заходили желваки.
На потолке вдруг открылась новая течь, и пол забрызгало дождевой водой. Мизинчик сидела на диване, с благоговейным страхом глядя на Нимиша. Туфан рядышком завидовал смелости брата.
— Джагиндер, ты — мой старший ребенок, мой единственный сын. Мы с отцом дали тебе все, — сказала Маджи, на миг затосковав по покойному мужу. — И как ты себя ведешь?
— Ма!
— Ты очень плохой семьянин, ты позоришь фамилию своего отца.
Губы Джагиндера неистово задергались, пытаясь сложить верткие, ускользающие слова. Зря он приговорил ту бутылку «Джонни Уокера». Зря не остановился, когда еще приятно шумело в голове. Маджи подняла руку, пока он вконец не запутался. Взглянув на Нимиша, она поняла, что именно он, единственный из Митталов, воплощает непоколебимое дедово чувство долга перед семьей.
— Нимиш, — негромко и веско сказала она. — Пора тебе взяться за дело.
— Что?!
Эта новость потрясла обоих — Джагиндера и Нимиша.
— Тихо! — Маджи завела руку за голову и собрала распущенные волосы в тугой узел. — Сегодня я поняла, что нужны перемены. Они назрели уже давным-давно. — Бабка вздохнула. — Я чересчур либеральничала. Пустила все на самотек.
— Но… но… — залепетал Нимиш: вся его жизнь разваливалась на глазах, превращаясь в отупляющий ад семейного судоразделочного бизнеса.
— Я не потерплю! — вскинулся Джагиндер. «Так они это все подстроили! — Он почувствовал себя пешкой в чужой игре. — А Нимиш — парень не промах, сукин сын». Джагиндер хрустнул шеей, и в голове у него зародился смутный, едва продуманный план.
— А тебе не приходило в голову, что за твоей спиной хитрюга Лалу огребает невиданные барыши? — съязвила Маджи. — Ты слишком уж расширил бизнес, и Лалу прогрызает в нем дыры, точно крыса.
— И ты думаешь, Нимиш с этим справится? — Джагиндер ехидно рассмеялся.
В Нимише поднимался жгучий, разъедающий гнев. Он не хотел иметь никакого отношения к отцовскому бизнесу, но эти слова его разъярили.
— Это я-то не справлюсь? На себя посмотри! Сбегаешь тайком и напиваешься, как будто мы не знаем всей мерзкой правды.
Что означало: «Именно это всех нас и губит». Притворяться поздно. Шах и мат.
Мизинчик разинула рот. Туфан зааплодировал. Раз уж отец проигрывает, рассудил он, лучше подлизаться к братцу.
— Вон из моего дома! — заорал Джагиндер, брызжа слюной, и влепил Нимишу звонкую пощечину.
Нимиш покачнулся, очки полетели на пол. На его бледной щеке расцвели бордовые пятна.
— Это правда! Правда! Я видела, как ты уезжал среди ночи! — Мизинчик сверлила взглядом дядино лицо. — Я видела!
— Ты! — Пальцы Джагиндера сжались в кулак. — Неблагодарная, маленькая…
— Уходи сейчас же, — низким голосом велела Маджи, яростно глядя на сына.
Переборов отчаянное желание кинуться на мать, а заодно свернуть к чертям собачьим шею Нимишу и Мизинчику, Джагиндер вышел из гостиной, хлопнув дверью.
— Гулу! — Выгони мне «амбассадор»! — голос его заглушался дождем.
В гараже Гулу заботливо выхаживал промокший автомобиль: вытирал мягкими тряпками сиденья, вычищал обрывки листьев и песок, что набился под ветровое стекло и откидное сиденье, проверял уровень масла, бормотал слова утешения.
— Гулу! — Джагиндер вошел в гараж. — Оглох, что ли?
— Сахиб? — Гулу встал перед машиной, словно защищая ее от хозяйского гнева.
— Я уезжаю, — нетерпеливо сообщил Джагиндер. — Открой ворота.
— Но, сахиб, я еще не протер двигатель.
Джагидер шлепнулся на водительское место и бешено газанул. Гулу едва успел открыть ворота.
«Амбассадор» с ревом умчался.
В другом гараже, приспособленном под жилье, повар Кандж крепко обнимал Парвати.
— Ты правда видела призрака?
— Там, в ванной, всегда что-то было.
— Почему же ты не рассказывала?
— Нам не разрешали о таком говорить. Савита перепугалась, когда умер младенец, и приказала запирать на ночь дверь. Маджи сперва заупрямилась, но Савита не захотела ночевать дома и отвезла мальчиков в отель «Тадж», — тогда-то Маджи и уступила. Ну а мы привыкли к странным звукам в трубах. Раньше ведь ничего такого не случалось.
— А сегодня случилось, — сказал Кандж.
— Да, тринадцать лет спустя. Она перешла рубеж.
— Нам надо уезжать отсюда, пока не поздно.
— Ты мужчина или мальчишка?
— Есть и другие странности. Ты не заметила, что моя стряпня стала водянистой?
— Конечно, заметила.
— Да? — Кандж вытаращил глаза. — Маджи меня рассчитает. Лучше уж свалить, не дожидаясь.
Парвати цокнула языком:
— Да толкись тут хоть целый табун привидений — никуда я отсюда не уйду!
— Но нельзя же так жить!
— Я не уйду. — Парвати набычилась. — Помнишь, я ведь тебе рассказывала, как ко мне явились духи родителей. Переполошили, столкнули ночью с циновки. Но я тогда не испугалась. И сейчас не боюсь.
— Но моя стряпня…
— Столько всего творится, что никто и не заметит.
Кандж приуныл.
— Эй, — Парвати шаловливо схватила его за подбородок, — ты-то хоть заметил, что у меня задержка?
— Задержка? — повторил Кандж в недоумении. — Никогда ведь не было.
— Раньше — никогда.
С этими словами Парвати затащила мужа под хлопчатобумажное одеяло и выключила свет.
После ухода Джагиндера Маджи сидела в кресле, и грудь ее тяжело вздымалась.
«Ах, Оманандлал, — мысленно обращалась она к покойному супругу, — жаль, что ты уже не можешь приструнить своего сына».
— Чало, Мизинчик, ложись спать в моей постели, — наконец сказала она вслух. — Туфан, выйди из-за двери и помоги брату принести еще одно одеяло из моей комнаты. Можете переночевать на софе.
— Я не засну! — заявил Нимиш. Щеки у него раскраснелись, погнутые очки испачкались от эмоций.
— Постарайся.
— А папа? — проскулил Туфан в дверях. Неужели Маджи вышвырнула отца навсегда?
— Не говори мне о нем, — приказала Маджи в раздражении. — Делами займется Нимиш. Завтра я обо всем распоряжусь.
Нимиша охватило полное отчаяние. «Я не могу этого допустить. Я этого не допущу».
Туфан сновал туда-сюда с подушками и одеялами, довольный новым развлечением.
Мизинчик помогла Маджи взобраться на кровать и села рядом:
— Теперь-то ты мне веришь?
Маджи приложила теплую ладонь к щеке Мизинчика. Но в голове роилось столько мыслей, что бабка так и не смогла ничего ответить.
После полуночи Джагиндер вернулся в Бандру. Дорога была свободной, но, проезжая мимо храма Махалакшми неподалеку от Брич-Кэнди, он вдруг попал на затопленный участок, где вода поднималась выше колес. «Амбассадор» неожиданно заглох. Чертыхаясь, Джагиндер выскочил из машины и, придерживая одной рукой руль, а другой рукой и плечом упираясь в дверцу столкнул автомобиль с дороги. Пока он брел по воде, трое насквозь промокших беспризорников, от шести до десяти лет, появились из-за лачуги и стали помогать сзади.
— Джао — пошли прочь! — заорал на них Джагиндер.
Но, притворившись глухими, те навалились с удвоенной силой.
— Женина родня подарила колымагу небось? — Какой-то водитель опустил стекло, специально высунул голову под дождь и выкрикнул эту избитую шутку.
Мальчишки весело заулюлюкали. Их поддержал целый хор других водил, которые от нечего делать давали бестолковые советы или отпускали обидные замечания. Некоторые, не заглушая мотор, даже выходили из машин и, передавая из рук в руки мокрую пачку «Уиллс Нэйви Кат», с трудом пытались втянуть в легкие дым.
Ниоткуда возник предприимчивый торговец с широким черным зонтом и корзиной чан-ны на шее. В глиняном горшочке под корзиной тлели угли, белый дым обволакивал лицо торговца мягким свечением, и в воздухе так вкусно запахло деревом, что аппетит разгорелся у всех.
— Чанна джор гарам! — выкрикивал продавец, заворачивая пряный нут в длинные узкие пакетики из старых газет. — Всего двадцать пять пайс[159] за пакетик.
Мужчины купили по одному, некоторые скрылись в своих машинах и медленно потащились по улице. Почуяв, что им могут не заплатить, уличные оборванцы заволновались, десятилетний даже стал угрожать. Тогда Джагиндер купил им по пакетику и спровадил.
— Продай по дешевке! — крикнул водитель проезжавшей мимо машины и ткнул пальцем в заглохший «амбассадор».
— Лучше продай по дешевке свою чертову мамашу! — огрызнулся Джагиндер.
Одни автомобилисты засвистели, другие одобрительно закивали, и у всех поднялось настроение.
— И что теперь делать? — обратился он к толпе, показывая на машину.
Мужчины выкрикивали советы — порой грубо-сексуальные и, как правило, совершенно бесполезные. Затем, вдруг вспомнив о делах, они в последний раз глубоко затянулись и умчались на своих машинах. Один, в облегающей рубашке с высоким воротом и синтетических штанах, пожевал сигарету, перекидывая ее во рту, и деловито сплюнул на землю:
— Арэ, открой бахэнчод капот.
Джагиндер насупился и открыл «гребаный капот».
— Я знаю одного механика, — заявил мужчина, выпустив в лужу струю красного сока па-ана. — Очень толковый парень, тут в двух шагах.
— Так сходи за ним, — неохотно согласился Джагиндер, ведь выбора у него не было.
Мужчина вернулся через полчаса. К тому времени вокруг промокшего двигателя «амбассадо-ра» собралась новая толпа; люди заглядывали в него с таким интересом, словно там показывали блокбастер типа «Кануна». Худющий, скуластый «механик» принес с собой ржавый гаечный ключ и палку, на конце которой горели промасленные тряпки. Размахивая этим факелом в опасной близости от мотора, он мастерски вытер насухо все электрические контакты. Джагиндер запрыгнул в машину и в очередной раз попробовал ее завести. Зеваки попятились, «амбассадор» резко накренился и с шипением заглох. Без буксира тут явно было не обойтись.
«Механик» пожал плечами и стукнул по двигателю гаечным ключом — для полного счастья. Расстроившись, что представление так быстро закончилось, водители с неохотой вернулись в машины — к своей привычной одинокой жизни. Настроение у всех испортилось. Еще один автомобилист отпустил соленую шутку. «Механик» грозно взмахнул факелом. Испугавшись, как бы он и впрямь не поджег машину, Джагиндер достал из бумажника пару банкнот. Первый мужчина шумно сплюнул на землю. Джагиндер вынул еще десятку, и оба помощника исчезли.
Его кинули на произвол судьбы.
Гулу внезапно проснулся. В волнении он уставился на рекламу ваксы «вишневый цвет» над койкой, пытаясь успокоиться. На него обиженно посмотрели два котенка в блестящих черных сапожках.
— Тум бхи — и вы туда же? — спросил Гулу с напускной беспечностью и постучал по бумажным носикам.
Сев в койке, он энергично растер лицо, пока не запекло. Что-то случилось. Первым делом он подумал про Чинни — проститутку с Фолкленд-роуд, к которой наведывался по выходным два раза в месяц. Отношения у них были неглубокие, но иногда почти нежные.
Правда, в последний раз Чинни отстранилась от Гулу.
— Я его видела! Видела! — закипятилась она, закрыв руками глаза.
— Кого? — грубо спросил Гулу: под его дхоти уже нетерпеливо пульсировала шишка.
— Своего сыночка — пропажу свою, — бесновалась Чинни, не обращая внимания на Гулу и его шишку. — Этот бахэнчод дядька привел его сюда — совсем еще мальчонку. Убью старую сволочь — пусть только еще раз сунется!
Будто в подтверждение своих слов, она достала из-под койки девятидюймовый нож, сделанный в Рампури.
«Еще чего доброго, Чинни натворила глупостей», — подумал Гулу, и на него надвинулись стены гаража. Он вскочил, схватил изорванный зонт и осторожно пробрался на переднюю веранду. Усевшись на табурете, стал высматривать фары «амбассадора». Гулу решил, что, как только Джагиндер вернется, он тайком съездит к Чинни и проверит, все ли там в порядке. Надо будет в следующий раз купить ей новую побрякушку — какой-нибудь браслет из цветного стекла.
Прошло около часа, и Гулу услышал шум мотора. Спросонок он оторвался от стены и прошел к зеленым воротам, отпер замок и снял цепь. Ворота распахнулись с недовольным стоном, будто сквозь ритмичный стук дождя заскулил раненый пес. Протерев глаза, Гулу вгляделся в дорогу. Вдалеке виднелся неяркий свет. Гулу успокоился, почти возликовал. Он отпер вторые ворота, распахнул их и встал у въезда, гордо подняв голову, хотя зонт почти не защищал от ливня. Гулу с радостью встречал любимую машину.
Он ждал — ждал долго, пока не потерял терпение. Щурясь в попытке хоть что-то разглядеть сквозь пелену дождя, он с надеждой смотрел на дорогу. Свет по-прежнему горел — где-то за полем зрения. Гулу нерешительно шагнул на проезжую часть и прислушался, стараясь отвлечься от барабанной дроби капель по твердой земле.
— Джагиндер-сахиб? — крикнул он во мрак.
Против света возникла темная фигура, направлявшаяся к бунгало.
Даже в потемках Гулу заметил две вещи: для Джагиндера человек был слишком стройным и этот всемирный потоп ничуть не стеснял его движения.
Испугавшись, Гулу закрыл одну створку ворот и прочно загнал фиксатор в землю. Фигура остановилась, словно услышав шум. Потом зашагала быстрее — почти поплыла в слабом свечении, отбрасывая жутковатые тени на неровные края дороги. Гулу отшвырнул зонт и дернул вторую створку. Но ее заклинило. Вода так яростно хлестала по лицу, что он едва различал собственные руки, лихорадочно трясшиеся прямо у него перед глазами. В вышине грянул гром, а затем раздался звук пострашнее. Над улицей пронесся низкий вой, оглушая своей потусторонностью.
Гулу навалился всем телом на ворота, железо поддалось и со свирепым лязгом захлопнулось. Но в тот же миг раздался крик, слетевший с уст самого Гулу: металлическим створом ему зажало и отрубило палец. По руке хлынула горячая влага, цепь со звоном рухнула на землю. Здоровой рукой Гулу вслепую ощупал затопленный бетон, по-прежнему упираясь всем телом в ворота. Поток унес палец под ними на улицу, и он бешено закружился в переполненном водоотводе. Зажав раненую кисть под мышкой, Гулу в отчаянии протер глаза и высмотрел цепь, но не смог до нее дотянуться. На долю секунды отпустив ворота, он кинулся к цепи, словно к спасательной шлюпке.
Но, обернувшись, понял, что опоздал. Ворота распахнулись. Сверкнула молния, и в тот же миг он увидел, как вспыхнуло огненно-красное паллу, как блеснул металл и как поманили тонкие руки. С темных губ слетел призрачный смех.
— Авни! — воскликнул Гулу, цепь вновь выскользнула из рук, и он повалился лицом вниз на твердую мокрую землю.
Розовые сапожки в луже
Мизинчик лежала рядом с бабкой, не в силах уснуть. Она в страхе гадала, что еще преподнесет призрак, искала логическое объяснение гибели девочки. «Айя сошла с ума? Призрак мне это пытался сказать?» Решив найти привидение, едва Маджи задышит ровно, Мизинчик равнодушно прислушивалась к возне Гулу во дворе, стону открывающихся ворот и голосу шофера. Но затем вдруг раздался ужасный вопль, и тотчас за ним — быстрый топот.
— Что? Что еще? — спросонья закричала Маджи, и Мизинчик помогла бабке слезть с кровати.
Они следили за происходящим с веранды.
Повар Кандж и Нимиш уже мчались к парадным воротам.
— Он упал! — То был голос Нимиша, он добежал первым.
— Кто здесь? — крикнула Парвати во тьму, подняв с дорожки изорванный зонт. В лунном свете блеснула ржавая металлическая спица. Стерев грязь и стряхнув обрывки листвы и цветов, она увидела истертую латунную пластинку с надписью: «Джунгли, 1825 год». Прямо под зонтом на дороге блестели безупречные следы, не смываемые водой. Парвати наклонилась, чтобы лучше их рассмотреть, и заметила на левом отпечатке шесть четких пальцев. Она застыла в изумлении, тотчас догадавшись, кто виноват в несчастье Гулу. Внезапно следы исчезли, точно мираж.
— Парвати! — позвал Кандж, увидев, что жена сидит на корточках у ворот, зажав ладонью рот. — У тебя все в порядке?
Парвати быстро встала и кивнула. Отбежав от ворот, она оглянулась на густую листву, словно что-то высматривая среди мокрых лоз и туго скрученных бутонов. Лишь добравшись до веранды, где робко мигала тусклая желтая лампочка, Парвати вспомнила про Гулу и душераздирающе завизжала.
— Палец! — вскрикнул Нимиш, заметив кровь.
— Внесите его в дом! — распорядилась Маджи и велела Парвати принести чистые полотенца, марлю и аспирин из ее личных запасов.
Кандж кинулся на кухню и вернулся с чашкой обеззараживающей пасты из куркумы, которой обильно смазал обрубок, и с чашкой нимбу пани[160] который влил в распахнутый рот Гулу. Шофер закашлялся и пришел в себя.
— Во дворе, — простонал он, пытаясь показать целым пальцем.
— Где он? Где? — Савита ворвалась в комнату, решив, что Гулу говорит о ее муже. Выглянув в окно, она излила на Джагиндера поток брани. Невозмутимая Кунтал усадила ее и принялась массировать плечи.
— Ворота, — вновь выдохнул Гулу.
— Мы должны уехать! — простонала Савита. По блузке потекло молоко, у Савиты закружилась голова, к горлу подкатила тошнота. — Бежать, пока не поздно! Ними, принеси мою шаль и портмоне!
— Мама!
— Я кому сказала!
Нимиш вылетел из комнаты. Дхир, крепко спавший на диване, наконец проснулся, — точнее, его разбудил собственный желудок. Даже не пытаясь подавить необъятный зевок, он потянулся и плюхнулся на кушетку к Туфану, свернувшемуся под простыней.
— Наверно, оступился под дождем, — объяснила Маджи, — и зацепился пальцем.
— Нет, Гулу не поскальзывался. — Парвати скрестила руки на груди. Довольно этих семейных тайн, тем более что прошлое вернулось и оставило влажные следы за воротами — зловещее предзнаменование. Однако, глянув на побелевшую Кунтал, Парвати закусила губу и решила не раскрывать правду. «После всего, что тогда случилось, Кунтал не должна знать, кто приходил к воротам».
Парвати вспомнила очистительную церемонию, которую они совершили после гибели младенца, чтобы дух айи — живой или мертвой — никогда не вошел больше в бунгало. «Пока мы здесь, мы в безопасности».
— Что же тогда? — спросил Нимиш. — Что там произошло?
— Это был призрак, — солгала Парвати.
Савита дернулась.
— Призрак?
— Призрак? — откликнулся эхом Туфан и, спрыгнув с кушетки, точно укушенный привидением, кинулся к матери.
— Во дворе? — недоверчиво переспросила Мизинчик. «Но зачем? Зачем ей после стольких лет уходить из бунгало?»
Маджи испепелила Парвати взглядом:
— Принеси детям молока.
Та неохотно разняла руки и побрела на кухню.
— Призрак? — повторила Савита. Вдруг ее осенило: то, что находилось за дверью все эти годы, еще страшнее, чем она думала. — Дхир! Нимиш! Ко мне!
Дхир примостился рядом с матерью. Нимиш вернулся с ее шалью и портмоне.
— Проверь дверь ванной! — крикнула Савита Парвати. — Убедись, что на запоре!
Мизинчик схватила розовые резиновые сапожки и под шумок незаметно выскользнула за дверь.
— Это был призрак? — Повар Кандж присел на корточки и ткнул Гулу в бок.
— Призрак? — Гулу растерялся и побледнел. На тряпке, обернутой вокруг его руки, распустились красные соцветия свежей крови.
— Дверь не заперта, — сказала Парвати, вернувшись с подносом солодового молока «хорлик».
— С печеньем? — Пролепетал Дхир, позабыв про страх.
— Я знаю. Она уже вышла, — уверенно добавила Парвати.
— Она?! — Савита остолбенела. Неужели она ошиблась? Неужели в ванной обитал не злой дух, погубивший ее кровиночку, а…
— Парвати! — одернула служанку Маджи.
— Нет, расскажи!
— Мизинчик что-то видела, — сказала Маджи и отмахнулась. — Она ведь еще ребенок.
Савита ухватила Парвати за сари:
— Кто это?
— Ваш ребенок!
Савита так пронзительно завизжала, что Дхир захлебнулся молоком. Из ноздрей брызнули струи пузырящейся жидкости.
— Перестань нести чушь! — приказала Маджи.
— Где она? — закричала Савита, глаза ее, казалось, вот-вот выскочат из орбит. — Гйе? Я хочу увидеть свою малышку Чакори!
— Мама! — пискнул Туфан, а Нимиш силой усадил мать на диван.
— Савита, возьми себя в руки, — велела Маджи. — Она умерла.
— Она вернулась ко мне! Я знала, что она вернется!
— Мама, ты бредишь, — воскликнул Нимиш, набрасывая шаль ей на плечи.
— Успокойся, — увещевала Маджи. — Ради сыновей.
— Мы остаемся, — объявила Савита Нимишу и сбросила с себя шаль. — Моя деточка вернулась ко мне.
Повар Кандж снова тряхнул Гулу, уже сильнее:
— Это был призрак?
Гулу попытался понять смысл вопроса и разобраться, что же случилось ночью. Мысли путались, но две вещи он знал наверняка: во-первых, вернулась Авни, айя утонувшего ребенка, и, во-вторых, он не расскажет об этом ни одной живой душе.
— Нет, — сказал он вслух. — Я просто… поскользнулся.
— Ну, что я вам говорила? — прогудела Маджи, шумно выдохнув.
— А где Мизинчик? — внезапно спросил Дхир.
Все затихли и огляделись.
— Мизинчик! — крикнула Маджи, подавшись вперед на своем троне. — Мизинчик!
Никто не откликнулся. Кунтал и Нимиша послали проверить восточный коридор, но они вернулись ни с чем. Парвати и Кандж вместе обыскали весь дом, но тоже безуспешно. Гигантская грудь Маджи вздымалась, пока она слезала с трона.
— Мизинчик!
— Может, вышла во двор? — предположил Нимиш.
— Во двор? — переспросил Гулу, вспомнив жуткую сцену у ворот.
— Боже упаси! — Парвати метнулась к двери.
— Гйе она? — кричала Маджи, продвигаясь к входной двери с тростью в руке. — Мизинчик! Иди в дом! Кандж, найди ее!
Кандж нерешительно шагнул на веранду.
— Мизинчик! — Маджи заковыляла к воротам.
Гулу, Парвати и Нимиш подскочили к ней и втроем распахнули створки.
Цепь лежала в воде.
Рядом в луже валялись розовые резиновые сапожки.
Но Мизинчика нигде не было.
Пленник ненастной ночи
Оставив запертый «амбассадор» на обочине, Джагиндер отправился сквозь грозу и сумрак на попутках — мимо Чамбала-Хилл, мимо своего дома на Малабарском холме и до самого Чёрчгейтского вокзала на Чёрчгейт-стрит. Как раз напротив размещалась кафешка «Азиатика», где горстка стариков сутулилась над «Ивнинг ньюс», стайка студентов баюкала томики Горького, Чехова и Тургенева, а пары молодоженов осторожно входили и выходили из наглухо закрытых кабинок, которые прозвали в народе «семейными номерами». Несмотря на столь поздний час, в «Азиатике» жизнь била ключом, и атмосфера была дружеская, расслабленная.
Джагидер медленно прошагал мимо высокой мраморной стойки. За ней хозяин-иранец, в пижаме из тонкого белого муслина, в курте без рукавов, с треугольным вырезом, и со священным зороастрийским шнуром садра на поясе, вел торговлю, взгромоздившись на высокий табурет.
— Желтого слона, — сказал парень, показывая на сигареты «Ханидью» со слоном на пачке.
Хозяин потянулся за пачкой, а затем, выдвинув ящик из-под стойки, положил деньги в одно из шести округлых углублений. В каждом лежали монеты различного достоинства: от крошечных двухпайсовых до крупных — в одну рупию, с профилем короля Георга на обратной стороне.
Джагиндер остановился у стойки и засмотрелся на выставку сигарет: дорогие «Голд флэйк» и «Кэп-стен» уютно примостились на самом верху, их подпирали ряды подешевле — «Чарминар», «Хани-дью», «Ссисорс», «Кэвендерс», «Панамас», а внизу выстроились картонные коробки «Пассинг шоу» — с трусоватым хлыщом в цилиндре на пачке.
— Одну «Голд флэйк», — сказал Джагиндер, поглядывая на выцветший плакат за стойкой, с хвастливым слоганом: «Голд флэйк» от Уилла: почувствуй, что значит курить.
Хозяин достал одну сигарету из жестянки на пятьдесят штук и протянул ему.
Джагиндер нашел свободный столик с круглой мраморной столешницей и сел на шаткий деревянный стул с надписью на спинке: «Сделано в Чехословакии». Закурив, он на миг задумался, кому это взбрело в голову закупать колченогие стулья в далекой коммунистической стране. Взгляд упал на длинные вертикальные зеркала, вставленные промеж деревянных панелей. На верхнем зеркале было написано: ИЗВИНИТЕ, У НАС НЕЛЬЗЯ: ДРАТЬСЯ, РАССИЖИВАТЬСЯ, ГРОМКО РАЗГОВАРИВАТЬ, РАСЧЕСЫВАТЬСЯ, ПЛЕВАТЬСЯ, ОБСУЖДАТЬ АЗАРТНЫЕ ИГРЫ И КЛАСТЬ НОГИ НА СТУЛЬЯ. МЫ НЕ ПОДАЕМ ВОДУ ПОСТОРОННИМ И НЕ ДАЕМ АДРЕСНЬГХ СПРАВОК. Ниже, мокрым мелком, нацарапано меню: «Чай — 10 п., кофе — 20 п., кхари[161] — 10 п., пирожные — 25 п.,бран маска — 50 п., омлет (одинарный) — 50 п., омлет (двойной) — 90 п., кока-кола, голд спот, мангола, фруктовая вода с мороженым, содовая — 25 п.».
Джагиндер заказал популярные иранские лепешки с маслом, которые немолодой хозяин Рустам до недавнего времени готовил на месте, пока не умерла его жена. Теперь лепешки и прочие десерты моторикша доставлял в жестяной коробке из «Макдумии» — частной пекарен-ки в Дхарави, самом крупном районе бомбейских трущоб. Джагиндер пролистал стопку газет, лежавших на столе: англоязычные «Таймс оф Индия», «Индиан экспресс» и «Фри пресс джорнал», парсскую «Джаам-э-Джамшед» и еженедельный коммунистический таблоид «Блиц». В «Блице» его привлек заголовок: «Золотой слиток найден спустя шестнадцать лет!» «Взрыв американского парохода «Форт Страйкин» в Бомбейских доках в 1944 году, — говорилось в статье, — запомнился не только фантастическими разрушениями, но и загадочной пропажей 28-фунтового слитка чистого золота. Взрыв вызвал такую гигантскую волну, что корма 4000-фунтового судна обрушилась на крышу эллинга. Доки сгорели дотла в бушующем пламени преисподней. Но золотой слиток бесследно исчез. Специалисты-океанографы заявили, что его подхватило и унесло подводным течением. Однако вчера был задержан мужчина, который пытался контрабандой вывезти из страны золотой слиток с похожей маркировкой».
Джагиндер положил газету на стол и вздохнул, задумавшись над своими невзгодами: «Ну почему же все так испоганилось?» Он вспомнил, каким страдальческим голосом Савита потребовала оставить ее в покое. Джагиндера унизил родной сын. Невероятно: мать выгнала его из собственного дома! Джагиндер скрипнул зубами. Он ума приложить не мог, как вернуть любовь Савиты, уважение сына и благосклонность матери. Впрочем, семейный бизнес по-прежнему у него в руках. Нужно лишь оформить юридические документы, чтобы мать не могла больше вмешаться.
Джагиндер припомнил, что отец Оманандлал был почтенным старейшиной их общины до самой смерти. Мужчины приходили к нему отовсюду за советом по деловым вопросам, и порой их сопровождали женщины, которые осторожно расспрашивали Маджи на темы бытовые. Джагиндер унаследовал обширную империю отца, деньги и связи, уважение и почет. Он заботливо пестовал свое наследство, чтобы передать его затем сыновьям. Все шло по плану. Но потом у него умерла дочь.
Рустам принес заказ: чай со сливками, заваренный в медном самоваре, и твердую булочку с маслом.
— Под дождь попадай? — дружелюбно спросил чайханщик, хотя взгляд был безучастный. Прошли те славные времена, когда он собирался с соотечественниками за чаем и вспоминал жизнь в старинном городе Фарсе. Теперь у каждого чертова иранца есть своя чайхана. Прошли и те деньки, когда он подавал чай в розовых чашках христианам и собратьям зороастрийцам, в чашках с цветочным узором — индусам и в белых — мусульманам. Об этом позаботился Махатма Ганди. Теперь Рустам просто коротал время, хотя все его прежние друзья оказались куда изобретательнее. Один продавал четырехэтажные свадебные торты, а кафе другого послужило декорацией для популярного индийского фильма.
— Машина заглохла тут недалеко, — ответил Джагиндер.
— А, — сочувственно хмыкнул Рустам. Пижамная куртка туго обтягивала его пухлый живот, штаны складкой обозначали пах, доходя до самых лодыжек и оставляя открытыми лишь волосатые ступни в шлепанцах. — Езди не время, лучше ходи пешком.
— Я далеко живу — пешком туда никак не дойти, — возразил Джагиндер и повертел в руках булочку.
— А, — снова хмыкнул Рустам. — Я включай вентилятор — обсыхай в момент.
Отступив, он указал на потолок, где на длинной металлической трубке висел вентилятор — пережиток британской эпохи, с широким каркасом и сверхдлинными лопастями. Вентилятор с треском завертелся. Постепенно он набрал скорость и громко запыхтел, точно вертолет, с каждым оборотом норовя сдуть со стола газеты.
Джагиндер поежился и махнул Рустаму. Над головой у хозяина висела картина в раме, освещенная красной лампочкой: бородатый Заратуш-тра в белом тюрбане, с устремленным ввысь взглядом — вылитый Иисус Христос. Над ним — портрет Мохаммеда Резы Пехлеви, шаха Ирана, в царственном мундире, увешанном блестящими медалями, с красной лентой через всю грудь, с мечом в ножнах и кушаком. Серебристо-черные волосы аккуратно зализаны за уши. Строгий, жесткий взгляд и кустистые брови.
Рустам заметил жест Джагиндера и широко улыбнулся; тонкие усы на миг исчезли под носом-картошкой.
— Уже высыхай? — крикнул он Джагиндеру и щелкнул выключателем.
— Да, спасибо, — ответил тот и плотнее запахнул плащ.
Он поднес чашку с чаем к губам. «Завтра, уже утром, — сказал себе Джагиндер, — возьму власть в свои руки». И тут же понял, что это будет непростительное, безоговорочное предательство. Худший грех — обмануть свою мать. Но он не может просто так уступить желанию Маджи и сложить оружие, чтобы его место незаконно захватил малолетний сын. Он попался, как дикий зверь, в капкан беспощадного охотника.
Горячая жидкость обожгла горло, и Джагиндер решил, что ему остается лишь одно — бороться.
Незадолго до этого, когда в бунгало поднялась суматоха. Мизинчик бесшумно пробралась к зеленым воротам, надеясь встретить призрак. В неяркий прямоугольник света перед верандой внезапно шагнула девушка.
— Милочка-дыдм? — Мизинчик потихоньку прокралась обратно к дому, по спине побежали мурашки. — Что случилось?
— Пошли! — лихорадочно шепнула ей Милочка.
Мизинчик смотрела на нее. Милочка была не в ночном хлопчатобумажном шалъвар камизе, а в шифоновом платье, насквозь промокшем и страшно изорванном. Шелковая дупатта облепила грудь, подчеркивая пышные формы, золотая пташка соблазнительно угнездилась в ложбинке.
1устые пряди, обычно стянутые узлом на затылке, рассыпались по спине рваной шалью; помада на губах, которые Милочка раньше никогда не красила, размазалась по подбородку, точно ссадина. Холщовый ранец тяжело обвис на бедрах. Но больше всего Мизинчика поразило другое — скрипучий, напряженный голос.
— Ты заболела, диди! — спросила Мизинчик. — С тетей все нормально?
— Прошу, пошли! — Милочка шагнула к ней, но уставилась невидящим взором, и у Мизинчика зашевелились волосы.
Даже бродячий пес, вынюхивавший мусор в канавах, попятился, оскалился и зарычал.
— Пошли в дом, — сказала Мизинчик и повернулась к бунгало.
— Нет, — отрезала Милочка, взяла Мизинчика за руку и потащила к красному мотоциклу, что вхолостую урчал в темноте. — Обратно дороги нет.
Милочка резко выжала газ, и розовые сапожки, сорвавшись с ног Мизинчика, приземлились прямо в лужу у зеленых ворот. А мотоцикл уже мчался вниз по склону прочь от веранды, одиноко светившейся в густом облаке мошек, — к океану.
— Диди! — вскрикнула Мизинчик, прижавшись к Милочке. — Куда мы?
— На волю, — ответила Милочка, и два дома на Малабарском холме вдруг раскинулись сверкающими шатрами, словно пытаясь дотянуться до грозовых небес.
Дверь «Азиатики» распахнулась, и в кафе влетел тощий парень, похожий на испанского пирата.
— Инеш! — заорали студенты, с радостью прервав скучный спор о русских писателях.
— Он исчез! Она исчезла! — крикнул им парень, оглянувшись на дверь, словно за ним гнались. Длинные волосы были собраны «хвостом», в каждом ухе — по золотой серьге, свободная белая рубашка колышется на хилой груди, а ноги обтянуты «дудочками» с заниженной талией. Инеш схватил колченогий стул, крутанул его и сел. Поставив ноги в заостренных черных туфлях с кубинскими каблуками на край сиденья, он облокотился на стол и дрожащей рукой закурил.
— Что теперь, Инеш? — подколол его приятель с американским «ежиком». — Попробуешь охмурить другую девчонку?
— Похоже, ему сегодня подфартило, — сказал толстячок с пунктиром из крошек на щеках. — В прошлый раз сиганул со второго этажа, лишь бы не попасться с поличным.
— Эка невидаль, — подначил малый с «ежиком». — Инеш вечно пикирует из окна столовки, когда декан Пател проверяет, кто прогуливает занятия!
Столик взорвался от смеха.
— Придурки. — Инеш пустил клуб дыма прямо в лицо толстяку. — Меня поимели.
— Опять? — съехидничал Ежик. — Кто на сей раз?
Инеш молчал.
— Ну скажи, яр, — дразнил Ежик, — та девчонка, Милочка?
Инеш смутился.
Джагиндер за соседним столиком прислушался.
— Красотка, которую ты привел сюда, когда она спасла тебе жизнь? — спросил третий, в наполовину расстегнутой облегающей рубашке, что открывала безволосую грудь и золотую цепочку.
— Да, — сказал Инеш, вспомнив о своей гордости и отраде — рубиновом 500-кубовом «триумфе», что стрелой проносился мимо «радждутов», «яв» и «роял энфилдов», натужно тарахтевших следом. Инешу крупно повезло: он купил мотоцикл всего за 6400 рупий у пилота из Англии.
Неделю назад Инеш мчался на своем «триумфе» под дождем. Вдруг раздался безумный крик: «Стой!» — и он с визгом затормозил. Лишь тогда парень увидел электрический провод, висевший в паре дюймов от горла. Инеш оглянулся на голос, спасший ему жизнь. Оказалось, что он принадлежит богине в золотистом наряде, и от растерянности Инеш смог лишь сказать: «Угостить тебя чаем?»
Милочка отказалась и, не глядя в глаза, направилась к кампусу университета ШНДТ, но Инеш настаивал.
— Пойдем, — уговаривал он. — Я прокачу тебя на своем мотоцикле. Он один такой во всем Бомбее. Я даже научу тебя на нем ездить!
Девушка посмотрела на хромированную махину. Робко протянула руку и погладила ее. Глаза вспыхнули в предвкушении, и она села сзади, свесив ноги с одной стороны и скромно обхватив Инеша рукой за талию. Лопаясь от гордости, он повез ее в «Азиатику», а девушка всю дорогу смеялась, явно радуясь неожиданному приключению.
— Сегодня днем я поехал на Малабарский холм, но…
— …ее уже увез другой ухажер, да? — подтрунил Толстяк.
Ежик вскочил и завращал бедрами, распевая песенку из «Дил Деке Декхо» — «Отдай мне сердце, и поймешь», первого рок-н-ролльного фильма в городе. Свирепых взглядов хозяина-иранца парень будто не замечал.
— Эй, Кэки! — наконец крикнул Рустам костлявому официанту и, показав на перечень запретов над зеркалом, сказал: — Добавь: «НЕ ТАНЦЕВАТЬ»!
— Ну что такое, Рустам-бхай? — Ежик простодушно взглянул на него, сел и повернулся к друзьям.
— Да какой там ухажер, — возразил Инеш странным голосом. — По крайней мере, мне так не кажется.
— Что же стряслось-то, яр?
— Я ждал ее возле дома, — ответил Инеш, — и начал читать стихи — из джентльменского справочника «Как ухаживать за дамой». Ну, знаете, романтические такие.
— Может, ей не понравился твой стих? — предположил Толстяк.
— Она вышла вся растрепанная, ошалелая, — продолжал Инеш, затушив окурок в его тарелке. — А потом я очнулся на земле — и ни мотоцикла, ни Милочки!
Друзья звонко, раскатисто захохотали. Толстяк чуть не подавился своей булочкой.
Рустаму за стойкой показалось, что его чересчур долго игнорируют. Внезапно он выключил вентилятор над столиком студентов: мол, немедля что-нибудь закажите или убирайтесь.
— Рустам-бхай, зачем вырубили вентилятор? — всполошился Инеш.
Джагиндер перевел взгляд на выставку пирожных, кексов, печенья, картофельных чипсов, булочек и салли — тонкой, глубоко прожаренной картофельной соломки, — что выстроились в ряд у миски с маслом.
— Чай, кофе, мороженое? — спросил Рустам, показывая на бело-голубой холодильник с небрежной надписью «Качиства», под которой нежился ухмыляющийся арктический тюлень.
— Пачку печенья с земляникой и кешью и чаи масала, — сказал Инеш, вымучив широкую улыбку.
— Чая на всех, — подмигнул Ежик.
Вентилятор на потолке снова запыхтел.
— Она забрала твой мотоцикл? — воскликнул парень с безволосой грудью.
— Ага, точно, — фыркнул Толстяк. — Будто девчонка умеет на нем ездить!
— Наверное, кто-то меня ударил, — сказал Инеш и пощупал лицо: нет ли синяков. — Ничего не помню. Я осмотрел все кругом, даже заглянул за ворота, но ее нигде не было. И мой «триумф» тоже исчез!
— Не переживай, такой мотоцикл, как у тебя, далеко не спрячешь. — Ежик сочувственно покачал головой и постучал Инеша по спине: — Лучше не гоняйся за девкой, если у нее уже есть ухажер, яр. От этого одни неприятности.
— Я думал, она убежит со мной, а она свалила с моим мотиком! — простонал Инеш.
— Девка нынче ветреная пошла, — подытожил Толстяк и высыпал в рот целую банку ирисок «пэрри».
— Простите, — сказал Джагиндер, подойдя к их столику. — Вы случайно не о Милочке с Малабарского холма говорите?
— Правильно, о ней, — кивнул Инеш, с любопытством и подозрением разглядывая Джагиндера.
— О Милочке Лавате? — уточнил тот. Невозможно было представить благовоспитанную соседскую дочку на мотоцикле. Девушки так не делают.
Инеш молча кивнул.
— Своим мотиком он соблазнит любую девчонку, — пояснил Ежик. — Просто не повезло в этот раз.
— Да что ты врешь? — надвинулся на парня Джагиндер. — Я знаю соседскую дочку. И знал ее отца, пока он был жив. Как тебе не стыдно?
С этими словами он бросился вон из кафе, подавляя нарастающий приступ паники. «Чертов мальчишка просто врет. Бахвалится перед дружками». Соседи строго оберегали девушку, он бы и сам воспитывал свою дочь так же, останься она в живых.
Свою дочь.
В сознании Джагиндера его лунная пташка стала воплощением добродетели. Если бы можно было кое-что предотвратить, жизнь развернулась бы перед ним роскошным восточным ковром, как и намечалось. Никаких сюрпризов или крутых поворотов. Лишь пышный гобелен из дней и ночей, который в конце земного пути он бы свернул и гордо назвал своей собственностью.
Ко всеобщему удивлению и радости, инспектор полиции Паскаль постучал в парадную дверь всего через четверть часа после спешного звонка в участок.
Жильцы сидели в доме — чопорные и перепуганные. Бунгало они перевернули вверх дном, понимая, что брошенные сапожки Мизинчика — зловещий знак.
Не снимая длинного плаща, Паскаль направился прямо в комнату. Он отрывисто кивнул Маджи и вытер лицо носовым платком.
Кунтал забрала у него черный непромокаемый плащ и фуражку, а Паскаль стянул черные резиновые сапоги и в одних носках цвета куркумы бесшумно прошел к кушетке. В комнате появился повар Кандж с подносом чая и печенья.
— Нет-нет, все хорошо, — сказал инспектор, отмахиваясь от повара одной рукой, а другой налил себе чаю. — Так-с, и что у нас?
— Пропала моя внучка. — Осунувшееся лицо Маджи было бледным, руки дрожали.
— Аччха, — Паскаль поискал в кармане рубашки ручку, доставая по ходу конфетные обертки, сигареты и паан, который затем бесцеремонно развернул и сунул в рот. — Имя? Возраст? Род занятий?
— Мизинчик Миттал. Ей всего тринадцать.
— Соседям звонили? — спросил инспектор. — Может, она забрела к ним в гости?
— Посреди ночи, инспектор? — вмешалась Савита. Этот развалившийся на кушетке хам вовсе не внушал ей доверия.
— Обзвоните, — приказал Паскаль. — Не по нутру мне это.
«Меньше надо объедаться дармовыми обедами», — желчно подумала Савита.
— Я позвоню тете Вимле, — вызвался Нимиш и скрылся в столовой.
— Так-с… — Паскаль черкнул что-то в блокноте. — Ну и каковы обстоятельства ее досадного исчезновения?
— Наш шофер поскользнулся под дождем, и воротами ему отхватило палец, — начала Маджи, и грудь ее заколыхалась от волнения. — Пока мы с ним возились, Мизинчик вышла на улицу. Мы заметили это… слишком поздно.
Савита театрально всхлипнула.
— У ворот кто-нибудь еще был?
— Нет, — ответила Парвати. — Я вышла, когда Гулу упал, и никого больше не видела.
— А где этот Гулу?
Маджи показала на шофера, который, закрыв глаза, привалился к дивану. Перевязанная рука была прижата к груди.
Паскаль поднял колючие брови:
— А что он делал в столь поздний час у ворот?
— Ждал возвращения моего сына, — ответила Маджи.
— Аччха, вашего сына. Ну и где же он может быть?
— В конторе.
— Поздно ночью?
— Да.
После второй чашки чая и новых расспросов Паскаль запихнул блокнот в карман рубашки и вздохнул:
— Все это крайне любопытно.
— Любопытно? — вскинулась Савита. — И это все, что вы можете сказать?
Нимиш вернулся в комнату — белый как полотно.
— Похоже, плохие новости. — Паскаль подался к нему.
— Милочка, — выдавил из себя Нимиш.
— Что это значит, бэта? — Савита повернулась на стуле, чтобы лучше видеть сына.
— Ты поговорил… с тетей… Вимлой? — спросила Маджи, запинаясь от волнения.
Нимиш в отчаянии кивнул:
— Тетя сейчас придет с Харшалом-бхаия и Химани-бхабхи[162].
— А Милочка?
— Она пропала! — выдохнул Нимиш и непроизвольно поднес руку к груди. «Это я во всем виноват!» — добавил он про себя, вспомнив, как Милочка убежала от него — от его поцелуя.
— Милочка для него как родная сестра, — пояснила Савита инспектору.
Ворвавшись в комнату, Вимла с плачем упала в объятия Маджи. Харшал казался растерянным. Он грузно опустился на диван. Левая щека у него припухла.
— Ну-ну, — принялась успокаивать Маджи подругу. — Это инспектор Паскаль, один из лучших в Бомбее.
— Мистер Лавате, — обратился Паскаль к Харшалу, — что произошло?
— Ну…
Харшал вспомнил разгоряченное тело Химани, сочную плоть ее грудей и бедер. Ночь началась, как обычно: Харшал нежно перевернул спящую Химани на спину и раздвинул ее податливые ноги. Когда у него полностью встал, Харшал нырнул в нее и разбудил, насладившись ее коротким испуганным вздохом. Затем, пока жена возилась в ванной, куда всегда надолго исчезала после секса, Харшал метался на кровати, не в силах заснуть с привычным удовлетворением. Сам воздух был плотным и вязким от желания.
Он вылез из постели, побрел к окну и увидел сцену, которая его шокировала и взбесила.
— Ну, — повторил Харшал и, скрипнув зубами, решил утаить два обстоятельства исчезновения Милочки: во-первых, свидание Нимиша и Милочки под тамариндом, а во-вторых, собственную встречу с сестрой вскоре после этого. — Разумеется, мы все спали, — сказал он, вспомнив прикосновение к шелковистой шее Милочки, ее сдавленный вскрик. — Когда позвонили, я разбудил мать и обнаружил, что сестра пропала.
— Вы не заметили чего-нибудь необычного в ее комнате? — спросил Паскаль. — Следов взлома?
— Нет, — ответил Харшал, в панике осознав, что должен попасть в ее комнату раньше матери и жены. Нужно смыть кровь.
— Похоже, у нее было тайное свидание, — подмигнул Паскаль.
Нимиш опустился на диван и старательно протер очки. «Если с ней что-нибудь случилось, я никогда себе этого не прощу».
— Да как вы смеете такое предполагать! — ошеломленно воскликнула Вимла.
— Тогда почему Милочка была не в пижаме? — спросил Харшал и стиснул зубы, словно перебарывая незримую боль. Кишки в животе раздулись и с неимоверной силой давили на задний проход.
Паскаль цинично рассмеялся:
— На вашем месте я бы не переживал. Скорее всего, вернется через пару часов — с румяными щечками. Такое случается, если нет строгого отца. Мой вам совет: найдите подходящего парня, пока она не ославилась.
— Моя Милочка — хорошая девочка!
— Не волнуйтесь, я обо всем позабочусь, — кивнул Харшал, хоть сам и испугался — того, что уже сделала сестра, и того, что она еще сделает, если вернется.
— А Мизинчик? — сказала Маджи, вдруг разозлившись на Милочку. — Не могла же она быть замешана в этом!
Вимла отпустила руку Маджи, обиженная ее выпадом.
— Оба исчезновения связаны между собой, — сказал Паскаль и встал, смахнув на пол крошки печенья. — Позвоните в участок, если появится новая информация. Все оставайтесь пока дома. И внимательно следите за детьми.
После его ухода перед парадной дверью повис редкий туман с дождевой взвесью, а в сердца Маджи и Вимлы закрались невысказанные упреки. Многолетняя и прочная дружба дала крошечную трещинку — тоньше воздушных прядок на головке новорожденного.
Бушующий океан
В зале стояла невыносимая тишина.
— Вы останьтесь тут, — сказал Харшал, обувая промокшие чаппалы, — а я вернусь в дом.
— Мы все вернемся, — возразила Вимла и, отпустив руку Маджи, вышла, не проронив больше ни слова.
Чувствуя на себе отчаянные взгляды родни, Маджи сдержала слезы, что муссонными тучами нависли под распухшими веками. Спать никому не хотелось, и облегчение приносила только активность — причем любая, лишь бы хоть чем-то занять мысли.
— Кандж, приготовь халву для пуджи, — наконец велела Маджи, — да еще лепешек. Ночь будет долгой.
Повар Кандж ушел на кухню.
— Парвати, Кунтал, нужно убраться у мальчиков.
— А если призрак все еще там? — спросила Кунтал.
— Пусть только сунется, — грозно сказала Парвати и, схватив Кунтал за руку, устремилась по коридору.
— Я с вами, — крикнула им вслед Савита.
— Убираться? — Парвати удивленно подняла брови.
— Посмотреть на нее, — раздраженно ответила Савита.
— Савита, не надо, — сказала Маджи.
— Я отыщу свою лунную пташечку, — воскликнула Савита, — и никто меня не остановит.
Нимиш встал, чтобы пойти с матерью.
— Нимиш! Оставь ее. Возьми братьев и принесите из гостиной гаддхи. Расстелите их на полу — сегодня мы все можем переночевать здесь.
Затем, глубоко вздохнув, Маджи наморщила переносицу:
— Гулу, утхо.
Тот заторможенно поднялся с циновки, где успел задремать, несмотря на суматоху. Он вдруг очнулся, хотя от потери крови кружилась голова.
— Маджи, пожалуйста, простите меня за все это…
— Признайся, было ведь что-то еще? — с надеждой сказала она. — О чем мы не сказали инспектору?
— Нет, я… поскользнулся, когда закрывал ворота.
— И все?
— Да.
— Ты чего-то недоговариваешь.
— Я больше ничего не помню.
— Ты видел кого-нибудь за воротами? — Маджи подалась вперед. — Мизинчик пропала. Ты понимаешь, насколько это серьезно?
Гулу нахмурился, прикусив кривыми зубами нижнюю губу. «О господи, — он вспомнил замогильный смех, красные губы, — неужели она причинит зло Мизинчику?»
— Понимаешь?
Маджи обожгла Гулу взглядом, и он рывком приподнялся, словно его тело дернули за невидимую нить. Маджи — его благодетельница, она взяла его к себе, подарила новую жизнь. Как ни старайся, солгать ей не удастся.
— Я видел… что-то.
— Говори! — Маджи замахнулась на него тростью.
Снова откинувшись на циновку, Гулу привел подробности: скрип ворот, закутанная фигура на дороге.
— Это была Милочка?
— Вряд ли, хоть я не видел ее лица.
— Откуда тогда ты знаешь, что это была женщина?
— По голосу.
— Что она сказала?
— Она поманила меня. — Гулу вспомнил тонкие руки, мелькнувшую шаль. — Но потом я упал.
— Не морочь мне голову, — загудела Маджи. — Кто она?
Гулу встретился взглядом с хозяйкой. «Если б только увидеть ее наедине, найти раньше всех, все уладить». Обрубок пульсировал, и кровь пропитывала тонкую матерчатую повязку с каждым ударом сердца.
— Умоляю вас, — сказал шофер.
— КТО ОНА?
По щекам Гулу хлынули слезы. Он упал на колени, закрыл руками лицо и произнес имя, которое не слышали в этих стенах уже больше тринадцати лет.
— На волю? — повторила Мизинчик.
Из-за мокрой одежды у нее сморщилась кожа под мышками и там, где резинка трусов стягивала ягодицы. Тонкая хлопчатобумажная пижама промокла насквозь. Но Мизинчик поняла, что дрожит, лишь после того, как они вылетели на сверкающую кривую Марин-драйв. Уличные фонари королевским ожерельем освещали декольте залива. Аравийское море билось о берег, и брызги подлетали на сорок футов вверх.
— Ты о чем?
Милочка промолчала, устремив отсутствующий взгляд прямо перед собой. Костяшки ее пальцев белели на руле.
— Поворачивай! — закричала Мизинчик.
Она ведь знает Милочку почти всю свою жизнь. У этого безумия наверняка есть причина — причина, по которой Милочка не может сказать ей больше. «Она убежала из дома?» Мизинчик не могла отделаться от чувства, что Милочкой завладела какая-то разрушительная сила. Изо всех сил вцепившись в талию подруги, она напряженно всматривалась в мелькавшие мимо ориентиры, по которым она рассчитывала найти дорогу домой.
Они свернули на Чёрчгейт-стрит — широкий проспект с высотными коммерческими зданиями грязно-серого или коричневого цвета и столь же унылыми жилыми квартирами на верхних этажах. Груды мокрого мусора громоздились вдоль тротуаров, вымощенных квадратиками шафрановых кирпичей и блестевших под дождевыми струями. Полуразрушенную стену прикрывали отклеившиеся киноафиши, поверх которых была второпях приляпана реклама похоронного бюро: ОТПРАВЛЯЕМ ПОКОЙНИКОВ КУДА УГОДНО, КАК УГОДНО, КОГДА УГОДНО. Другой плакат предупреждал: «Кладбища переполнены. Водитель, спешишь жить — умрешь на скорости!» Еще один, «Хинди-Чини Бхаи-Бхаи», пропагандировал добрососедские отношения между Индией и Китаем в связи с визитом премьера Чжоу Эньлая[163] в Дели пару месяцев назад.
Дождь лил в переполненный водоотвод, разбрызгивая грязную воду. За черной изогнутой оградой Мизинчик заметила одинокую фигуру мужчины, который быстро шагал в другую сторону, спрятав голову под черным зонтом. Может, окликнуть? Но что это даст?
Милочка дала полный газ, и вскоре они очутились возле фонтана «Флора» — главной бомбейской достопримечательности, названной в честь древнеримской богини изобилия. Оттуда они устремились на юг, обогнув черную каменную статую короля Георга[164], в народе окрещенную «Кала Гхода»[165], мимо Библиотеки сэра Дэвида Сэссуна, где обычно пропадал Нимиш, и «Ритм-Хауса», где, увы, не продавался ни Тони Беннетт, ни Элвис — из-за проблем с авторскими правами[166].
«Триумф» сбавил скорость, влетев на Веллингтон-сёркл и приблизившись к кинотеатру «Ригал», полностью оснащенному кондиционерами. Жирные буквы названия ползли вдоль бетонного карниза. Показывали «Мугхал-э-Азам» — трагическую историю любви принца Салима и прекрасной Анаркали, которую похоронил заживо император Моголов. Анаркали играла знаменитая актриса Мадхубала, чье журнальное фото Мизинчик прятала в своем тиковом ларце вместо портрета матери. На огромном рекламном щите скорбное лицо Мадхубалы проступало на фоне битвы XVI столетия. Глаза актрисы были закрыты, голова запрокинута, губы приоткрыты в невыразимом страдании.
— Мама! — воскликнула Мизинчик.
Сходив на «Мугхал-э-Азам» вместе с подругами, Савита проплакала потом несколько дней. «Судьба бывает очень жестокой, — сокрушалась она на плече у Нимиша. — Разве можно чинить препоны такой большой любви?» Кино имело феноменальный успех, и «Фильмфэйр» даже опубликовал заметку о таксисте, который посмотрел ленту больше сотни раз. «Не понимаю, как можно вкалывать, не жалея сил, чтобы потом выбрасывать деньги на ветер?» — прокомментировал это дядя Джагиндер. Вся семья тогда прыснула над глупостью таксиста…
— Стой! Умоляю, остановись! — закричала Мизинчик, прижавшись к спине Милочки и пытаясь дотянуться до руля.
— Не мешай!
Милочка вырулила на Колаба-козуэй и устремилась прямиком к бомбейской свалке, оставив справа «Эмпресс» — кафе, где не так давно Мизинчик сидела с двоюродными братьями и наблюдала за хиджрами. По левую сторону улицы теснились лавки с контрабандными товарами: крем для бритья «Жиллет» и другие предметы роскоши. Сейчас все магазины были заперты на засов — от грабителей и проливных дождей. Вдалеке, над зябкой Бомбейской бухтой, высились Врата Индии из желтого базальта, возведенные в знак бессрочного британского владычества. Милочка помчалась мимо эспланады — вереницы трехэтажных зданий, жилищ зажиточных парсов, а затем проскочила автобусное депо «БЭСТ» и вылетела на Касроу-Бауг.
Мизинчик лихорадочно размышляла. «Она убежала и прихватила с собой меня. Как только она остановится, я спрыгну». Они пронеслись мимо небольшой бензоколонки и съехали с шоссе в спокойную аллею, обрамленную старыми домами с высокими деревянными потолками. Вдруг Мизинчик вспомнила, что в последнем особняке, «Дар-уль-Кхалил», живет двоюродный брат Маджи, дядя Уддхав, и для нее блеснула надежда. Он вдовец и изредка сдает одну крошечную комнатушку — шесть на восемь футов — матросам из доков. Мизинчик мельком заметила свирепого патана[167], сторожившего здание ночью: длинные ноги торчали из покрывала под деревянной лестницей, где он спал, прячась от ливня.
«Бахэнчод упырь, — кривясь в отвращении, называл дядя Уддхав афганца, что был родом из Кабула. — Когда не ссужает бедных фабричных под двадцать пять процентов в месяц, обменивает у матросов жестянки «Данхилла» «Стэйт экспресс 555» или это дерьмо «яшика»».
«На таких нельзя положиться», — подхватила тогда Маджи.
«Еще и кровожадный в придачу, — добавил дядя Уддхав. — Таскает с собой, сволочь, шестидюймовый тесак».
У Мизинчика душа в пятки ушла, когда они пересекли Вудхаус-роуд и затормозили у рыбацкой общины коли — на берегу прямоугольной бухты, наискось от мыса Нариман. Их захлестнул смрад гниющей рыбы. Мизинчик уткнула нос в ворот пижамы, словно тонкий, насквозь промокший хлопок мог защитить от едкого запаха. Вдалеке у дюн домишки жались друг к другу, укрываясь от яростных океанских ветров. В темноте раскачивалась одинокая кокосовая пальма.
Милочка остановила мотоцикл и, крепко ухватив Мизинчика за руку, стащила ее на землю.
— Пошли, — скомандовала она все тем же странным, скрипучим, так не похожим на ее обычный голос.
— Нет! — крикнула Мизинчик и, оглянувшись на безбрежный бушующий океан, вырвалась. — Никуда я не пойду, пока не скажешь, что происходит!
— Ты дрожишь, — сказала Милочка. — На, возьми мою дупатту.
— Но она же мокрая, — возразила Мизинчик и все же потянулась к изысканному шелку. Пальцы ее коснулись ткани, и от Милочки потекла энергия, загадочный жар и сияние, тут же сломив упрямство Мизинчика.
Милочка шла впереди, с дупаттой на талии, а Мизинчик — сзади, изо всех сил вцепившись в накидку. Она, конечно, страшилась морской стихии, но еще больше боялась остаться одна в темном незнакомом месте. Они миновали неосвещенную лачугу на окраине деревни, обошли кругом все селение и наконец остановились у пристани, где покачивался на волнах ветхий траулер да валялись в песке опрокинутые деревянные каноэ.
Милочка столкнула лодку в пенные воды Аравийского моря, а Мизинчик забралась с другой стороны, не выпуская из рук дупатту, которая лишила ее рассудка и решимости своим сверхъестественным, пронизывающим жаром. «Милочка мне как сестра, — думала девочка. — Она не причинит мне зла. Потом она отвезет меня домой». Ливень усилился, над бурными водами стелился густой туман. Лишь головы Мизинчика и Милочки покачивались на поверхности, словно дельфины, что вынырнули подышать. Со всех сторон разбивались неистовые валы, но маленький клочок воды вокруг каноэ оставался странно спокойным, радушно принимая Милочку, — так мать раскрывает объятия любимому ребенку. Горизонт окрасился слабым румянцем.
Мизинчик заметила рыбака, вышедшего из своего жилища. Она различила его белую набедренную повязку и футболку с темными полосами. Голову покрывала белая ткань. Рыбак вгляделся, приставив ладонь ко лбу, а затем снова скрылся в своей лачуге.
Внезапный порыв ветра сорвал шелковую дупатту с талии Милочки, выхватил ее из пальцев Мизинчика. Накидка зацепилась за корму и растянулась на воде хвостом мифического зверя — золотым и сверкающим. Мизинчик судорожно вздохнула, словно резко проснувшись. Ее вдруг ошеломили ледяные прикосвения мокрой одежды, обжигающие океанские брызги и кромешный ужас положения. «Господи! Как мы здесь оказались? В открытом океане!» Ей внезапно вспомнились вроде бы невинные слова Милочки в Висячих садах. «Она, конечно, утонула, — сказала тогда Милочка о погибшем младенце, — но зато теперь свободна».
— Диди! — завопила Мизинчик. — Плывем обратно!
Но Милочка гребла вдоль прямоугольного заливчика к бухте. Там, над океанской пучиной, посреди воды со всех сторон, обретала она глубокий внутренний покой.
— Мы еще можем вернуться! — кричала Мизинчик.
«Она нас утопит! Мы погибнем!» — билось в ее мозгу. Но кто это плывет на каноэ им навстречу? Неужели сам бог смерти Яма, забирающий души?
— Что случилось? Зачем ты это делаешь? Скажи мне!
Милочка гребла все быстрее и быстрее. Мизинчик вдруг заметила темную струйку, стекавшую по ноге подруги.
— Что это?! Откуда это?
Милочка перестала грести и опустила взгляд. Затем медленно коснулась ноги.
— О боже! — взвизгнула Мизинчик. Ладонь Милочки была в крови. — Тебе нужно в больницу!
Она попыталась вырвать весла из рук Милочки, но та вцепилась в них мертвой хваткой. Какой бы кошмар ни случился с Милочкой, Мизинчик должна открыть ей глаза на то, что она собирается сделать. «Все еще можно исправить!»
Но Милочка неуклонно гребла дальше.
— Диди! Не делай этого! — закричала Мизинчик и, спасая ее и себя, добавила то, что еще могло обнадежить Милочку: — Нимиш любит тебя! Не меня или другую девушку, а только тебя! Понимаешь? Что бы ни случилось сегодня ночью, он женится на тебе! Он любит тебя!
Словно острая стрела страсти, пущенная богом Рамой, слова Мизинчика попали в цель. Ведь именно признание Нимиша впервые отомкнуло сердце Милочки, изумив ее и посулив счастье. И вот снова его имя, обещание его любви сотрясло ее душу, которую заманило в западню что-то страшное, сильное, темное. Нет, не отменить того, что случилось после свидания под тамариндом, но любовь, зажженная Нимишем в ее сердце, еще способна вырвать девушку из лап жестокого, неживого, непреклонного существа. На какой-то миг она застыла в нерешительности, лицо ее смягчилось, глаза прояснились.
— Скажи ему, чтобы пришел ко мне, — сдавленно проговорила она. — Я буду ждать, сколько хватит сил, но вернуться не смогу никогда.
А затем вдруг ее тело стало необычайно прозрачным. Со дна лодки донесся жуткий вой, и волны ударились в ее борта. Мизинчик вцепилась намертво — в любую секунду ее могло вышвырнуть в бурлящий океан. Она кричала, не желая погибать в безжалостной пучине, не желая расставаться с Маджи и Нимишем. Она призвала рыбу Матсью — исполинскую аватару бога Вишну, которая спасла Ману, прародителя новой человеческой расы, во время всемирного потопа, опустошившего землю. «Пошли и мне свою лодку из раковины!»
Вглядываясь в бескрайний океан, она вдруг вспомнила засуху, сделавшую сиротами Парвати и Кунтал. Вспомнила фото их изможденных родителей, газетный лист, бережно завернутый в желто-красную ткань бандхани. «Чтобы помнить, — сказала Парвати в тот уже далекий день в ванной. — Нужно выживать любой ценой».
Взгляд Мизинчика упал на сломанное весло.
— Милочка-дыдм, умоляю, давай вернемся! — взмолилась она, перекрикивая грохот волн.
— Хочешь узнать, кто утопил младенца? — крикнула в ответ Милочка. Ткань облепила ее стройное тело, подчеркнув упругие юные мышцы.
— Нет! Нет! Нет! Нет!
— Все это время я ждала и следила за тобой, — сказала Милочка. — Не бойся. Я отпущу тебя.
Милочка наклонилась, схватила Мизинчика за руку, а другую ладонь прижала к сердцу.
— Нет! — закричала Мизинчик.
Вода бурлила и заливала утлое суденышко, подбрасывая его, как щепку. В тело Мизинчика что-то проникало, смертельно стискивая грудь. Из последних сил она ринулась к веслу и махнула им. С жутким воплем Милочка опрокинулась за борт, и тяжелый рюкзак тут же утянул ее вниз. В лодку ударилась волна, и Мизинчика отшвырнуло к другому борту.
Из темных вод вынырнула рука Милочки, хватая воздух.
Рискуя жизнью, Мизинчик потянулась к ней…
Кубок желания
Маджи сплюнула на пол — такого она себе раньше не позволяла. Но имя айи застряло комком в горле, сжавшемся от бешенства, и набухло ужасом. Маджи невольно вспомнила тот трагический день, как, дозором обходя бунгало, остановилась у двери ванной, где тогда стирали белье. «Ведьма!» — услышала она голос Парвати, и обвинение пронзило ее стрелой бога Рамы. В тот миг Маджи лишь нахмурилась над глупой, непочтительной болтовней прислуги. Но теперь проросли первые зерна сомнения.
— Ты ее видел? — Маджи ухватилась за диванный валик и прижалась к нему животом.
— Да! — Гулу, все еще лежа на полу, сбивчиво пересказал подробности: свет фар, ворота распахиваются сами по себе, встреча. — Она была похожа на духа! На демона из легенды о царе Викрамадитье!
— Демонов не бывает. — Это утверждение прозвучало почти как вопрос: Маджи уже не знала, во что верить, сами основы ее убеждений пошатнулись. Трагедия не давала ей покоя много лет. И вот айя вернулась.
Гулу потупился.
Лицо Маджи вдруг ожесточилось:
— Я не позволю ей отнять у меня внучку.
Ее раздумья прервал резкий автомобильный сигнал во дворе. Оба нетерпеливо взглянули на дверь.
— Джагиндер? — Савита вошла со стаканом теплой воды в руках, неохотно прихлебывая. Волосы у нее растрепались, вид потерянный.
Хоть Савита и злилась на мужа, его нескладная фигура могла бы ее успокоить в эту кошмарную ночь. Несмотря на слезные призывы Савиты, призрак так и не появился в комнате мальчиков, пока там убирались Парвати и Кунтал. «Прошу, приди ко мне, — умоляла она. — Дай мне на тебя взглянуть, обнять. Хоть разок». Ничего — никаких признаков узнавания. «Оставьте ее, — наконец сказала Парвати. — Привидение покажется, когда захочет».
— Нет, мама, — ответил Нимиш, вместе с братьями втаскивая в комнату толстый матрас. — Такси, наверное.
— Ступай, — Маджи показала Гулу на дверь. Она договорилась с Бомбейской больницей. — Там подлечат твой палец.
— Маджи, — Гулу чувствовал, как пульсирует уже вся рука, — я должен остаться. А то вдруг… она вернется?
— Кто? — спросила Савита.
Маджи глянула на невестку и тяжело вздохнула.
— Авни, — наконец ответила она еле слышно.
Савита уронила стакан:
— Она возвратилась?
— Да.
Кунтал открыла рот и чуть было не кинулась к дверям, чтобы убедиться самой. Она помнила последний разговор с Авни — в то утро Кунтал вызвалась искупать младенца. Они даже поссорились. Кунтал помнила злобный, скрипучий голос Авни, напоминавший песчаные пляжи ее молодости.
— Зачем она вернулась? — спросила Савита.
С улицы донесся еще один раздраженный сигнал.
— Иди же, — приказала Маджи, взмахом руки отсылая Гулу.
— Она хочет убить всех моих детей!
Савита уже рыдала, в памяти всплыло, как умело и терпеливо обращалась Авни со всеми тремя мальчиками, особенно с малышом Туфа-ном, хотя его мучительные колики сводили ее с ума. Но потом Савита завела обычай: каждый месяц повязывала на руки мальчиков латунные амулеты, дабы защитить их от влияния Авни. «Если бы другая айя управлялась с мальчиками так же хорошо, как она, — пожаловалась Савита Кунтал, прикрыв дверь своей комнаты, — я взяла бы ее на работу не раздумывая. Вот бы найти такую же простую девчушку, как ты…»
Дхир и Туфан съежились под ватным одеялом. Нимиш обнял мать и подвел ее к стулу:
— Она больше не может нам навредить, мама.
— Она ведьма! — плакала Савита. — Разве ты не знаешь, что ведьмы забирают трупики младенцев? Ведь груднички не различают добро и зло. Она убила мою девочку и заставляет ее творить дурные дела!
— Перестань, мама! — Нимиш прижат к себе мать. — Прошу тебя!
— Все складывается.
— Айя вернулась, а моя дорогая деточка явилась привидением, — причитала Савита.
Ночную тишину вновь прорезал сигнал.
— Ну иди же! — снова распорядилась Маджи.
— Никакая она не ведьма, — тихо сказал Гулу в дверях, а затем скрылся за стеной дождя.
На миг все смолкли: эта злосчастная ночь уже выманила из дома троих. Оставшиеся домочадцы сгрудились, словно боясь тоже исчезнуть.
— Маджи, — наконец заговорил Нимиш, пытаясь скрыть волнение. — Скажи, что сталось с айей?
Маджи стиснула челюсти, не желая ворошить прошлое — тот день, когда утонул младенец.
— Расскажите нам! — подхватила Савита.
— Я прогнала ее.
— Прогнала? — недоверчиво переспросил Нимиш.
— Вы же сказали, что она в тюрьме! — завопила Савита.
— В тот день случилась ужасная беда, — ответила Маджи усталым, бесцветным голосом. — Но не могла же я отправить девушку за решетку.
— И вы сейчас так спокойно об этом говорите? — Савита дерзко наставила на Маджи палец, а затем принялась набирать номер на телефоне. — Если б она сидела в тюрьме, никто бы не забрал Мизинчика.
Удар угодил прямо в цель.
— Положи трубку! — 1олос Маджи дрогнул на последнем слове — единственный признак, что слова Савиты ее задели.
Но та не собиралась сдаваться.
— Инспектора Паскаля, пожалуйста, — произнесла она в трубку.
— Савита! — В бешенстве Маджи попыталась придвинуть к ней свое гигантское тело.
— Передайте ему, когда придет, — невозмутимо продолжила Савита ясным и четким голосом, — что имя злоумышленницы — Авни Чачар. Она родом из рыбацкой деревни Колаба и работала у нас айей тринадцать…
Маджи нажала белую пластмассовую кнопку, вырвала трубку из рук Савиты и так свирепо глянула на невестку, что той осталось только уступить.
— Ему нельзя доверять, — прошипела Маджи и принялась набирать номер жреца.
Когда из-за боли Маджи не могла пойти в храм, она звонила жрецу по прямой линии: маленькое вознаграждение за многолетнее щедрое благочестие.
Пошли длинные гудки. Маджи молча считала: семнадцать, восемнадцать, девятнадцать… Она решила не класть трубку, пока не ответят. Наконец раздался щелчок, и сердитый голос проворчал:
— Пандит-дяш.
Даже разбуженный среди ночи, жрец тотчас узнал низкий голос Маджи. Он обслуживал клиентуру, жившую на Малабарском холме — в самом престижном районе города. О благосостоянии жреца можно было судить по тройным жировым складкам, что свешивались через край дхоти, их сдерживала только священная нить, перетягивавшая грудь. Пандит-дяш негромко выругался, а затем энергично почесал свободной рукой лысину — чтобы кровь прилила к голове и развязался язык.
— Маджи. — Голос в трубке зазвучал слаща-во-приторно. — Саб кунх тхик хай?[168]
— Нет, Пандит-джи. Все очень плохо. Умоляю, приходите.
— Прямо сейчас? — Жрец сверился со своими швейцарскими наручными «фавр-лейба» из нержавейки, подаренными другим богатым клиентом пару лет назад.
«Два часа ночи. Что она о себе возомнила, эта чокнутая, с ее вечными просьбами? Можно подумать, у меня нет клиентов поважнее! Да мне завтра с утра пораньше освящать «мерседес». Нужно быть в форме и хорошо отдохнуть. Я скажу этим Митталам-Фитталам: нет. Решительное нет, нет и нет!» Он возмущенно выпятил раздувшееся пузо.
— Пандит-джи, — напирала Маджи, — вы ведь приедете? Я сделаю очень щедрое приношение.
— Конечно, конечно, — неожиданно для себя сказал Пандит-джи. — Я всегда к услугам моих самых благочестивых семей.
Маджи положила трубку и быстро окинула взглядом свои толстые пальцы, распухшие суставы, пожелтевшие ногти. Она и сама не верила в то, что собиралась сделать. Глянув на Савиту, Маджи замешкалась. Невестка сидела на стуле, приготовившись к наказанию. За долгие годы они нередко обменивались колкостями, но Савита никогда еще столь открыто не дерзила свекрови. Теперь она успокаивала себя тем, что Джагиндера нет дома и он не встанет на сторону матери.
— Помнишь… — начала Маджи, но осеклась.
Савита подняла глаза и прочла на лице Маджи не гнев, а отчаяние.
— Помнишь того тантриста, которого ты вызывала после трагедии?
— Тантриста? — Савита поднесла ладонь к губам, словно сдерживая ругательство. — Но… вы же так рассердились, когда он пришел, что даже не пустили его на порог.
Тогда Маджи не захотела осквернять свой дом черной магией. Но сейчас все изменилось. Сейчас Мизинчик в руках айи, обладающей сверхъестественными способностями. «Мизинчик, Мизинчик, Мизинчик», — мысленно твердила Маджи. Она готова на все, лишь бы вернуть внучку, — даже спуститься в мрачное подземное царство суеверий и бесовщины.
— То было тогда…
— Маджи! Тантрист? Ты уверена? — изумленно спросил Нимиш.
— Парвати знает, как его найти. — Савита поежилась от дурного предчувствия. Долгие годы добивалась она, чтобы Маджи признала законность ее суеверий, но теперь, когда свекровь наконец приняла их, словно обрушились сами основы их мира.
— Парвати! — загудела Маджи, запрокинув голову.
Парвати и Кунтал примчались из комнаты мальчиков с мокрыми тряпками в руках. Следом, словно стряслась новая беда, торопился повар Кандж, готовивший на кухне завтрак.
— Найди мне тантриста.
— Тантриста? — переспросила Парвати, чтобы убедиться, что не ослышалась.
— Да.
Парвати промолчала. Давным-давно она ходила к одному — ее отвел Гулу, когда они с Канджем только поженились и не могли зачать ребенка. «Наступит год, когда ты оставишь всякую надежду. Год, когда дожди польют как из ведра и окончательно смоют прошлое. Лишь тогда ты зачнешь», — сказал тантрист и заставил ее выпить булькающую малиновую жидкость, от которой у нее потом несколько дней шла кровь. С тех пор столько воды утекло, что Парвати посчитала его мошенником. И все же — Парвати пощупала свой живот — у нее задержка уже пять дней. «Не может быть!»
— Найду.
— Приведи сейчас же.
— Я возьму машину. Кандж умеет водить.
Повар обомлел. Он с детства не водил машину. А сейчас его жена хочет, чтобы он отвез ее на задворки Бомбея к этой жуткой твари? Он вспомнил, как Гулу доставил туда Парвати. Кандж умолял ее не пить зелье из козлиной крови и еще чего-то столь же гадкого. Когда у нее потом пошла кровь и она так ослабела, что целый месяц была прикована к постели, Кандж, потрясая кухонным ножом, пригрозил выпотрошить тантриста, словно рыбину. Но он так боялся возвращаться в узкие проулки, полные мерзости и отчаяния, что предпочел остаться за зелеными воротами, в роскошном и безопасном бунгало.
— Пар-ва-ти… — врастяжку проговорил Кандж, желая напомнить, что сотворил с ней этот тантрист.
Но она как ни в чем не бывало откинула косу на спину и пошла за зонтом. Вернувшись, Парвати загнала Кунтал в угол.
— Пообещай мне, — прошептала она, схватив сестру за плечи, — что бы ни случилось, ты ни в коем случае не выйдешь из бунгало.
— Она там, — сказала Кунтал, тяжело дыша. — Она вернулась!
— Не смей выходить!
— Маджи, — Кандж попытался ее уговорить, — не лучше ли пригласить Пандит-джи?
— Он тоже придет. А сейчас мне нужно помолиться.
Кунтал помогла Маджи подняться и проводила ее в комнату для пуджи. Кандж принес халву, свежую воду и листья тулси.
А затем они с Парвати отправились на поиски тантриста в трущобы Дхарави.
Извинившись, Кунтал ушла в парадную гостиную, расположенную за столовой.
Когда они с Парвати впервые появились в бунгало, Маджи смогла поселить девочек лишь в этой гостиной. Кладовка и кухня не годились, а оба гаража во дворе уже были заняты: в одном стояла машина, а в другом жили Гулу и Кандж. Те же общественные условности, что угнетали сестер, внезапно раскрыли перед ними двери самой роскошной комнаты в доме, куда строго воспрещалось входить другим детям, — комнаты, которой пользовались так редко, что обе служанки считали ее своей.
Но, выйдя за Канджа, Парвати переехала в гараж, который Маджи превратила в жилое помещение с туалетом во дворе. При этом Парвати все равно пришлось приноравливаться, и она регулярно жаловалась. «Махарани Кунтал, — язвила она, — надеюсь, вам сладко спалось в ваших царских покоях, пока ваша бедная сестрица не смыкала глаз на скрипучей койке, а ее муж так громко храпел, что даже уличные псы не могли уснуть».
Изысканную комнату украшала зеленая и золоченая мебель с обильными парчовыми вышивками. Гигантские валики под стать мебели прислонялись к дальней стене, где на полу была туго натянута чистая белая простыня. Чуть дальше три покрытые ковром ступени вели к алькову с темными тиковыми стульями и низким столиком. Альков был великолепен: от пола до потолка расписан замысловатыми сценами с сапфировыми павлинами, янтарными слонами, мудрецами в изумрудных одеяниях и рубиновыми цветами жасмина на богатом серебристом фоне. В каждую панель были вставлены цветные слюдяные стекла с мелкой и частой резьбой, выполненной алмазным наконечником; они отсвечивали багрянцем.
Когда Кунтал стояла под величественным сводчатым потолком, вся в рассеянных отблесках, казалось, будто она во дворце. Здесь же, рядом с низким столиком, она каждую ночь расстилала матрас перед сном. Свои скудные пожитки — пару хлопчатобумажных сари, выброшенных за ненадобностью Савитой, серебряные украшения да игрушечный кухонный набор — Кунтал предусмотрительно запихивала в самый нижний ящик резного деревянного шкафчика.
Иногда по вечерам, если Кунтал не валилась от усталости на матрас и не засыпала без задних ног, она садилась на тиковый стул или откидывалась на плюшевый валик, и ее обволакивала темнота гостиной. Вытянув руку в браслетах, Кунтал и впрямь воображала себя махарани, слушающей музыкальный концерт: ситары, таблы и шэнаи[169] протяжно играли на заднем плане, а прекрасный вассал подносил манговый шербет в золотом инкрустированном кубке. «Приведите танцовщиц», — приказывала она, сверкнув брильянтовыми перстнями на пальцах. Эта неизменная фантазия была единственной отдушиной в ее четко очерченной жизни. Поэтому Кунтал даже в голову не приходило выйти за ворота бунгало — в страшный мир, напоминавший о тех днях, когда они с Парвати были беженками.
Но сегодня Кунтал не предавалась никаким фантазиям. Пока семья в зале ждала Пандит-джи и тантриста, она заперлась в гостиной, и впервые за долгие годы на нее нахлынули мучительные воспоминания об Авни.
В тот утро, когда погиб младенец, Парвати проснулась в ярости на Авни.
— Она ведьма! Она встала между нами! — возмущалась сестра, с удвоенной силой выбивая белье. — Раньше ты мне все рассказывала, а теперь что-то скрываешь. Признайся!
Кунтал невольно вспомнила жесткие волосы Авни, которые накрывали ей лицо шалью по утрам.
Вдруг заметив, что сестра застенчиво склонила лицо, Парвати затараторила:
— Она была с тобой? Ты была с ней?
Кунтал в изумлении покачала головой:
— Нет-нет-нет! Просто мне раньше было так одиноко. А с ней стало хорошо. Что здесь такого?
Парвати уставилась на нее — глаза вспыхнули ненавистью. Молчание затянулось. Парвати подобрала крошечный бурый обмылок, которым они стирали одежду, и буркнула:
— Схожу в кладовку за новым бруском.
После внезапного исчезновения Авни Кунтал безутешно горевала у себя в гостиной — за стеклянными дверьми с вычурной резьбой. Теперь же, едва запершись, она достала миниатюрный кухонный набор — единственный подарок Авни — и так сильно прижала к глазам уменьшенный тан-дур, что в них даже запекло.
Однако она не унималась до тех пор, пока не-называемое, невыразимое чувство, которое Авни зажгла в ее душе, не выгорело дотла.
В крошечной комнатке для пуджи даже без кондиционера всегда было свежо и прохладно, словно окно открывалось прямо на небеса. Маджи сидела на деревянной скамейке перед алтарем, уронив голову на руки в полном изнеможении, и ей больше всего на свете хотелось лечь и поспать. Лишь в этой клетушке могла она не следить за своей мимикой и расслабить мышцы.
В остальных комнатах она была верховной властью, здесь же — смиренной просительницей. Этот переход Маджи совершала ежедневно и с легкостью, ведь домашние заботы стали колесницей Джаггернаута, что медленно растаптывала остатки ее здоровья. Комната для пуджи была ее святилищем — единственным местом, которое она не беспокоила во время утренних обходов. Теперь, вдали от семейства, исчезновение Мизинчика обрушилось на нее всей тяжестью, страшной болью сжимая грудь. Внучка была где-то там — замерзшая и напуганная. Глядя на алтарь перед собой, Маджи не допускала даже мысли, что Мизинчик мертва.
Серебряные фигурки бога Кришны с флейтой у губ и его возлюбленной Радхи чопорно стояли на резных серебряных качелях. Маджи взяла их, сняла шелковые наряды — золотистую лунги с Кришны и золотистое сари с Радхи — и окунула божеств в серебряную вазу с водой, где плавали три ароматных листика тулси. Маджи медленно омыла и вновь облачила богов, сосредоточившись на этом сакральном действе, а затем поместила их обратно на шелковую подушечку качелей. Обмакнув безымянный палец в чашечку с красной пастой, она поставила метки на лбах Кришны и Радхи. То же самое она проделала с цветными изображениями других богов в рамках: украсила тилаками Ганешу, Раму, Ситу, Лакшману, Ханумана[170], Шиву и Дургу — богиню-воительницу, восседающую верхом на тигре и особенно чуткую к верующим.
В углу алтаря, на красной вышитой ткани, стояли две стеклянные банки. В одной — ватные шарики, а в другой — гхи. В желтом, похожем на воск масле утонула ложка. Маджи схватила один шарик и скрутила из нитки фитилек. Она вставила его по центру вогнутой серебряной лампы и прижала к выемке у края. Зачерпнув ложкой масло, Маджи взяла спичку и подожгла фитиль. В мерцающем сиянии божества заплясали. Из подставки торчало несколько палочек благовоний, развернутых павлиньим хвостом, и крошечные колечки дыма разносили аромат сандала. Маджи позвонила в серебряный колокольчик, привлекая внимание богов. Затем, схватив длинную ручку лампы правой рукой, а левую подставив под низ, она стала двигать сосуд кругами, рисуя в воздухе санскритскую букву Ом и распевая молитву: «Ом Джайе Джагдиш Харэ… Милость твоя прогоняет зло от молящихся…» Эта молитва неизменно приносила ей покой и утешение.
Затем Маджи расколола кокос и принесла его в жертву. Зачерпнув ладонью воду для омовения Кришны и Радхи, Маджи выпила ее, а оставшиеся капли стряхнула себе на голову — как божественное благословение. Она вновь протянула ладонь и положила в нее горстку пра-сада: золотистый изюм, миндаль и халву. Все дожевав, сделала несколько движений ладонями, подгоняя к лицу жар от лампы, затем прижала пальцы к глазам — ритуал был окончен. Но Маджи продолжала молча сидеть перед алтарем.
— О всемилостивый Господь, — наконец заговорила она. — Я знаю, что прошлого не воротишь. Но почему именно сейчас? Почему забрали Мизинчика? Если в этом повинна я, умоляю, сжалься над старухой, сидящей перед тобою.
По обветренному лицу потекли слезы, капая на белое сари. Она опустила ладони с обеих сторон серебряных качелей и уставилась на Радху и Кришну. Их взгляды были все так же суровы, багряные тилаки на лбах рассекали серебряные лица кровоточащими ранами.
— Возьми все, что захочешь, даже отними у меня жизнь, — взмолилась Маджи, — но только прошу, верни Мизинчика целой и невредимой.
Пандит-джи приехал в личной храмовой машине — роскошной «шевроле импала» с широкими крыльями, которую один верующий, что зарабатывал на жизнь киноафишами, выкрасил в шафрановый цвет. Этот верующий также нарисовал сзади бога Ганешу, полагая, что это изображение заставит других водителей-индусов сохранять почтительную дистанцию. Однако таланты художника значительно превосходили его проницательность, и портрет Пшеши получился чересчур реалистичным: огромный живот наползал на стреловидные задние крылья, а слоновий хобот завивался вокруг запасного колеса с хромированным ободом, установленного сзади. Поэтому с полдюжины шоферов ежедневно норовили врезаться в машину, словно принося неплановые жертвы богу.
Помощник Пандит-джи, молодой красавчик с густой копной волос, втащил в зал жреческий инвентарь: железный кунд[171] для священного огня, плоские деревянные палочки, стальную вазу с маслом гхи, камфарные шарики и самагри для пуджи — ароматическую смесь из семян лотоса, меда, сахара, куркумы, ярко-красного порошка синдур[172], а также сухих цветочных лепестков и специй. Мальчик положил на пол толстую вишневую подушку. Пандит-джи шлепнулся на нее и, скрестив ноги в позе лотоса, энергично закачался взад-вперед, чтобы ягодицы раздвинулись на всю ширину подушки. Едва помощник установил кунд с дровами и камфарой, жрец закрыл глаза и задумался над тем, что волновало его всю дорогу: зачем понадобилось совершать среди ночи этот хаван! И сколько ему заплатят за вызов на дом?
Он быстро осушил стакан кипяченого буйволового молока, подслащенного большим куском нерафинированного сахара с мускусным привкусом.
— Эй, — окликнул он мальчика, отрыгнув, — все готово?
— Да, Пандит-джи.
Жрец нехотя открыл глаза и увидел Маджи с семейством, что расселось вокруг железного кун-да на белых простынях. Гораздо сильнее, чем это зрелище, воодушевило его тхали с кокосами, бананами и медом, стоявшее рядом. Из железного сосуда вырвался огонек и повалил дым.
— Ну, и что же у нас произошло? — спросил жрец своим высоким голосом, воздев очи горе, словно уже знал ответ.
— Похитили Мизинчика, — запинаясь, ответила Маджи.
— И Милочку, — добавил Нимиш.
— Это все айя, которая служила у нас много лет назад, — пояснила Савита. — Она ведьма!
— Ого, — безучастно отреагировал жрец. — Куда только катится Бомбей! Все эти невежды считают, что шантажом можно выбиться в люди.
— Шантаж? — переспросил Нимиш и почему-то успокоился. «Ну конечно, это просто шантаж, — рассудил он про себя, — айя только на это и способна».
— Тут еще кое-что, — скрепя сердце сказала Маджи.
— Да?
— Призрак.
— Призрак? — переспросил жрец надтреснутым голосом и нервно заерзал, теребя священный шнур на груди, словно лишь он мог его защитить.
— Ко мне вернулась моя доченька! — Савита крепко обхватила руками грудь, откуда по-прежнему сочилось молоко.
— Прогоните ее! — пискнул Туфан, в отчаянии сжимая джутовый пистолет.
— Оставьте ее здесь! — Савита влепила Туфа-ну оплеуху.
— Я выскажу необходимые просьбы, но на все воля Божья, — сказал Пандит-джи, решив, что семейство Митталов разом сошло вдруг с ума, окончательно и бесповоротно.
Такое иногда случается. Внешне благополучные семьи разваливались от многолетних болезненных процессов, а затем обращались к нему за волшебным лекарством. Эти семейные тайны он прятал в своем животе — вместительном, как у Будды, глотая каждое лакомство, отрыгивая и наслаждаясь вновь его вкусом. Ведь любой секрет был сдобрен неоплатным долгом и приправлен деньгами и подарками, дабы жрец держал язык за зубами.
Пандит-джи поправил священную нить на жирном брюхе и запел, подливая масло гхи в огонь, грубо обрывая лепестки и без разбора швыряя их туда же.
— Сваха![173] — произнес он в конце фразы и величественно воздел раскрытую ладонь к небесам.
Словно по команде, все члены семейства бросили в огонь по горстке сухих цветочных лепестков и камфарной самагри, пламя затрещало и разгорелось.
Пандит-джи больше часа бубнил мантры, изредка зевая и почесывая подмышки. Он мысленно вернулся в детство, когда его звали просто Чоту Моту — «толстячок», а отец совершал точно такие же ритуалы. Левое плечо отца было трижды обмотано белой ниткой, а на лбу, руках и груди красовались полосы, нарисованные белым пеплом, — символы «дважды рожденного»[174]. Затем Пандит-джи с удовольствием сравнил груди Маджи и Савиты, прибавив очки Маджи за громадные размеры, но под конец выбрал все же пухлые и упругие Савитины. Жрец представил, как запускает ладонь в ложбинку, натирает соски красным рассыпчатым синдуром, а затем учтиво трубит в каждую грудь на прощанье.
— Сваха, — произнес он вновь.
Дхир и Туфан заснули, привалившись головами к дивану. Маджи заволновалась, как бы тантрист не явился еще до ухода Пандит-джи, и дала знак Кунтал, чтобы та принесла завтрак, приготовленный Канджем. Заметив беспокойство Маджи, Пандит-джи резко прервал свои молитвы и благословил пищу, взмахнув рукой над тхали вермишели, сваренной с миндалем в молоке. Отказавшись от приборов, жрец запихивал лапшу пригоршнями в рот, покачиваясь от удовольствия.
Маджи тайком подала знак помощнику Пандит-джи, что пора упаковывать инвентарь.
— К чему такая спешка? — спросил жрец. Ему хотелось еще посидеть перед кундом, в окружении своих верных слуг — принадлежностей для хавана.
По окончании трапезы Маджи сунула в руку Пандит-джи толстый красный конверт. Жрец сначала отпихнул его от себя, точно скверну, но потом проверил его толщину. Маджи расщедрилась. Он удовлетворенно рыгнул.
— Ваше благочестие всегда угодно богам.
— А как же Мизинчик? — спросила Маджи, полагая, что одна лишь ее набожность вернет внучку целой и невредимой.
— Все в руках Божьих.
— А призрак? — встряла Савита.
— Призрак-шмизрак, — ответил жрец, отмахнувшись, как от надоедливой мухи. — Я же вам сказал: куда катится Бомбей!
С этими словами Пандит-дяш плюхнулся в шафрановую «импалу» и умчался восвояси.
Трущобы и миазмы
Парвати и Кандж ехали по страшной Махим-Сион-роуд — приблизительной границе верхней части треугольного района Дхарави, крупнейших бомбейских трущоб. Этот участок замусоренной дороги люди обычно преодолевали в переполненных одноэтажных автобусах. Люди согласны были ждать битый час или вообще объезжать опасную дорогу на поезде, опасаясь ходить по ней пешком, передвигаться на мотоцикле, мотороллере или даже автомобиле.
Перед Западной железнодорожной веткой, обрамлявшей прибрежную сторону Дхарави, Кандж затормозил и остановился у Махимского вокзала.
— Я поворачиваю обратно, — сказал он и вцепился в руль, словно собираясь резко тронуться с места. — Нас тут прибьют.
— Здесь живут целые лакхи[175] народа, и никто их не убивает.
— Мы чужие, Парвати. Это не наш дом.
— Но мы обязаны найти тантриста.
— Почему это мы должны рисковать из-за них?
— Потому что Маджи взяла меня, когда никто другой не брал.
— Ну и что с того? — зашипел Кандж. — Ты до сих пор обычная служанка. Малейший промах — и она избавится от тебя так же, как от Авни.
Впереди был Махимский разъезд, ведущий мимо железнодорожных путей к главной улице Дхарави — ухабистой тропе, которую проложили жители трущоб, завалив камнями болотистую жижу. Сейчас дорога превратилась в вязкую топь, провонявшую мочой и испражнениями. Но это еще чепуха по сравнению со смрадом кожевенного завода, что приютился за вокзалом и пропитывал воздух едким запахом серы и гниющего мяса. Путь усеивали призрачные шарики шерсти, заметные лишь в свете фонаря Парвати.
Впереди простирались трухцобы — компактное скопление лачуг из рифленого железа с бамбуковыми циновками вместо стен. Каждая хижина защищалась брезентом от муссонных дождей. В поселке не было электричества, и Парвати с Канджем окунулись в кромешную тьму, если не считать тусклого света в жилищах. Хибарки строились как попало, спереди из них торчали голые джутовые веревки. У одной лачуги, рядом с опрокинутым ведром и выцветшей рекламой моторного масла «Бритиш петролеум», валялся раздутый мешок с надписью «53-й градус». На второй этаж вела лестница с кривыми ступенями, опасно установленная на стальных прутьях и упиравшаяся одной стороной в кирпичную стенку со свисающими проводами. Один провод приспособили в качестве бельевой веревки, на нем висели забытые желтые шортики. На крышу второго этажа, покрытую синим рваным брезентом, забросили резиновую шину — авось пригодится.
— Мы живем припеваючи: в лучшем районе города, едим досыта, у нас есть крыша над головой и собственный туалет, — сказала Парвати. — И ты хочешь всего этого лишиться, просто отказав Маджи?
— А ты, надо думать, хочешь, чтобы эти гунды[176] насадили тебя на вертел, как сикх-кебаб?
— Вон там, — Парвати показала на низкий забор вокруг старинного креста. — Пошли туда.
— Хатао![177]
К ним приблизилась компания мужчин, прикрывавшихся шерстяными шалями и пластиковыми мешками. Все были одеты в свободные спортивные штаны, рубашки и курили биди «Шиваджи». Один явно страдал слоновостью: нога у него сильно распухла, кожа стала на вид шагреневой, а ступня вообще потеряла форму.
— Что вы тут забыли?
— Хари Бхаи, — резко ответила Парвати, а Кандж взглянул на кинжал, мелькнувший в руках главаря. «Для шинковки не годится, — решил он, похолодев, — а вот кишки выпустить — в самый раз».
Коренастый главарь, с жестоким взглядом и белыми пятнами застарелого витилиго на лице, сделал шаг назад. При упоминании Хари Бхаи у него мороз побежал по спине.
— А какие у вас с ним дела?
— Скажи ему, что нас прислал Гулу с Виктории.
Мужчина с витилиго выковырял кусок жареного лука из зубов и сплюнул на землю, словно пытаясь напугать гостей своей кошмарной гигиеной.
— Мы скоро вернемся.
Они оставили дрожащих Парвати и Канджа у сломанной раскладушки. Издали за ними присматривал человек-слон, водрузив на кирпич распухший ком складчатой плоти, в который превратилась его ступня.
— Это и есть твой грандиозный план? — прошептал Кандж, присев для удобства на корточки. — В машине ты все твердила: «Положись на меня, положись на меня», и вот нас со всех сторон окружают уголовники. Что ты на это скажешь?
— Хари Бхаи и Гулу — друзья детства, — тихо ответила Парвати, украдкой вытерев лоб краем сари. — Они вместе чистили обувь на вокзале Виктория. Много лет назад он помог Гулу найти тантриста. Разве ты не помнишь?
— Я помню лишь то мерзкое пойло, которое он состряпал и заставил тебя выпить, чхи!
Хари Бхаи и Гулу действительно были старыми приятелями, но Хари Бхаи появился здесь еще раньше. Он был потомком коли, населявших Дхарави, когда это были еще не разрастающиеся трущобы, а рыбацкий поселок на берегу реки Митхи и ее притока Махим, впадающих в Аравийское море. Из семи детей в семье Хари Бхаи был младшим, и потому его не заставляли работать на дамбе, где в прилив заманивали в ловушки крабов и моллюсков, а в отлив ловили рыбу сетями. Со временем реку и приток сильно загрязнил кожевенный завод и другие промышленные предприятия, что возникли на территории Дхарави, и рыба стала отдавать керосином. Из-за непрерывной государственной мелиорации болотистые земли вдоль участка Махим-Баидра стали непригодными для жилья, и под конец море отступило, лишив целый поселок исконного промысла.
Хари Бхаи — тогда еще просто Хари — целыми днями бродил без присмотра по железнодорожным путям, пока не нашел подходящую работу на вокзале Виктория. Он сошелся с другими беспризорниками, в том числе с Гулу, и начал чистить обувь под наставничеством Большого Дяди. Когда Большого Дядю убил его конкурент Красный Зуб, Гулу пригорюнился и убежал, а Хари с легкостью присягнул на верность новому хозяину и даже стал правой рукой Красного Зуба. Впоследствии Хари убил Красного Зуба из-за денег и тоже ударился в бега, но скрывался не от правосудия, а от людей Красного Зуба, поклявшихся ему отомстить. Трущобы Дхарави привлекли Хари как идеальное укрытие — то был непроходимый лабиринт из хибар, с плотностью населения пятнадцать тысяч человек на квадратный акр. Так Хари вернулся в свой родной зопадпатти[178] — район Коливада с его храмом Ганеши Мандира и двухсотлетним святилищем Кхамба Дэо, — дабы изменить свою судьбу к лучшему.
— Пошли.
Люди Хари Бхаи вернулись, настроенные куда гостеприимнее.
— Куда вы нас ведете? — отважилась спросить Парвати.
— Никаких вопросов, — предупредил главарь, потрогав обесцвеченное пятнышко на подбородке, словно это приносило удачу. — Бхаия не любит лишних вопросов.
Их повели мимо ветхих лачуг, по дороге, затопленной нечистотами и дождевой водой. Растрепанная женщина с большим кольцом в носу сидела на корточках и что-то бормотала, среди ночи начищая золой котел. Когда она наклонилась, из темного сари выпала обвислая грудь.
Парвати и Кандж шагали дальше. Тропа слегка расширялась, дома мало-помалу улучшались, а вонь общественных туалетов ослабевала. Супруги проходили сейчас участок низких и тесных строений, каждое состояло из одиннадцати комнат, обращенных к дороге. Настоящие черепичные кровли, бетонные ступени крыльца и небольшие открытые водостоки. На одном здании красовалась нарисованная от руки вывеска «Лидж-джат Папад» — белоснежная женская рука, украшенная двумя нефритовыми браслетами, держит цветок лотоса.
— Те самые вафли?! — изумленно воскликнул Кандж, хоть и трепетал от страха. — Тут — в Дхарави?
Мужчины рассмеялись:
— Жить ты здесь не живешь, зато со стола нашего жрешь.
Кандж возмущенно зыркнул на них.
— Вот-вот, — гордо кивнул один мужчина, с густейшими усами. — Жена моя заправляет местной фирмой у нас дома — там, где вывеска. Бизнес пока малехонек — готовим для вас, людей, папады. Только в прошлом годе начали, ан уже и в барышах.
— Да она огребает деньжищ похлеще, чем он! — подколол приятеля другой мужик, в безрукавке, открывавшей огромные бицепсы.
— Вдвоем мы даже смогли снять настоящий дом, яр, — отмахнулся от него Усач.
— Но теперь-то ты даже пальцем ее не трогаешь, бхаи! — съязвил Безрукавка, грозно растопырив ладонь над головой.
— Это моя жена, и я один над нею хозяин, — понемногу заводясь, ответил Усач, дабы двое незнакомцев не усомнились в его мужском достоинстве.
— Ладно, ладно, — примирительно сказал главарь, стараясь избежать стычки. — Хари Бхаи говорит, что катать папады — хорошая работа для наших жен и сестер.
— Моя жена, — продолжил Усач, гордо выпятив грудь после одобрения Хари Бхаи, — катает по три кило пападов каждое утро. Еще затемно ходит в Бандру за жидким тестом.
— А наш брат каждую ночь наведывается в Бандру со своим жидким грузом, — в сторону заметил Безрукавка.
Другие мужики заржали.
Они как раз добрались до внушительной двухэтажки напротив огороженного креста. Дом принадлежал христианской семье, которая неофициально управляла общиной Коливада на северо-западе Дхарави. В их-то жилище Хари Бхаи и устроил свою общественную приемную.
Парвати и Канджа провели в главную комнату, где попивал чай Хари Бхаи — красивый, с волевым подбородком, зализанными назад волосами и в защитных очках, хотя в помещении было темно.
— Проходите, проходите, — пригласил он, щелкнув пальцами слуге, чтобы принес еще чая. — Так вы друзья Гулу?
— Да, — в один голос ответили Парвати и Кандж, продолжая стоять.
— Он мне как брат родной, — успокоил Хари. — Садитесь, садитесь.
Они сели.
— Чем могу вам помочь?
— Нам нужен Тантрист Баба[179].
Хари Бхаи улыбнулся и, опустив очки, подался вперед, чтобы лучше разглядеть гостей. От века и до густой брови пролегал уродливый шрам.
На долю секунды Канджу показалось, что их с Парвати сейчас прикончат. «Я буду умолять, — решил он, — приготовлю им первоклассные алу тикки, лишь бы не убивали».
Но Хари лениво откинулся назад и щелкнул пальцами Усачу:
— Джао, уско булао[180].
Парвати благодарно кивнула. Кандж взял себя в руки, надеясь, что никто не заметил, как его трясет.
Хари Бхаи задержал взгляд на Парвати, одетой в облегающее сари цвета манго.
— Так, значит, сестрица, — проговорил он неторопливо, — тебе нужен тантрист…
Именно благодаря тантристу Хари сумел сказочным образом прийти к власти. С помощью колдуна он получил господство над Коливадой, посрамив даже такого бесчеловечного владельца трущоб, как Вардраджа Мудалиар, чья беспощадная тень ложилась на весь Дхарави, да еще и на 3-й округ бомбейской полиции в придачу. Развивающийся бизнес Хари был связан с единственной древней традицией коли, выжившей после того, как Махим пересох, а община потеряла возможность ловить по старинке рыбу. Хари сам придумал знаменитый лозунг: «Нет океана? Зато есть алкоголь!»
Следуя древним обычаям, бомбейские общины коли всегда перегоняли спирт из различных плодов — джамболанов, гуав, апельсинов, яблок и сладких бурых чику[181], из стеблей которых также добывали молочный латекс для жевательной резинки. Знаменитый «Дхарави Коливада Кантри», что варили в самой Коливаде, был самым крепким из-за особой примеси морской воды. Когда в 1954 году Главный министр штата Бомбей Морар-джи Десаи[182] ввел сухой закон, винокурни коли вынужденно ушли в подполье. Хари обратился к своей общине, обвинив Десаи в том, что он ввел кантрибанди вместо дарубанди[183], запретив отечественный самогон, но в то же время продавая собственный легальный алкоголь в бутылках с надписью: «Иностранный напиток, сделанный в Индии».
Затем предприимчивый Хари прибрал к рукам свободные пространства Дхарави — неосушенные болота, нелегальные свалки — и закапывал там сотни бочонков бродящей сахаристой жидкости. Порой он складывал их в коллекторах соседних кварталов — например, Сиона, где школьники на спор поднимали тяжелые чугунные решетки канализации и заглядывали вниз. После перегонки спиртное хранили в автомобильных камерах, вмещавших до пятнадцати литров. Рабочие без труда носили их на шее и переходили болота вброд, помогая себе руками. Хари обзавелся целым парком огромных американских машин — черных «плимутов», «крайслеров», «доджей», которые развозили его самогон по всему городу. Лучший товар отправлялся в прибрежные адды, в частности к Тетке Рози в Бандру.
Коли считали Хари своим спасителем — неким Робин Гудом, что пренебрегает законом, но соблюдает некие моральные принципы, не участвуя в более сомнительных затеях (например, не добавляет в свой продукт электролит). Приятели прозвали Хари Бхаи — «старший брат», ведь он обеспечил каждого мужчину общины постоянным рабочим местом в своей коммерческой империи и ежемесячным окладом двести рупий. За это люди были беззаветно ему преданы и слепо повиновались, если он просил голосовать за конкретного политика или когда позже они стали пехотинцами Самьюкта Махараштра Самити.
В полутемной комнате, с чашкой чая в руке, Парвати поведала о гибели младенца и внезапном появлении призрака в бунгало. Мужчины мрачно кивали. Заколдованные улочки Дхарави всегда кишели вопящими призраками, мстительными духами и неприкаянными душами.
— Ага, — сказал Хари Бхаи, на удивление тронутый рассказом. — Тантрист Баба поможет.
Тантрист
Тантрист как раз медитировал, когда за ним пришел человек от Хари Бхаи. Рассвирепев, колдун велел своему любимцу, извращенному духу по имени Фрути, той же ночью наведаться к Усачу. Больше всего призраку нравилось незаметно запрыгивать в развязанную лунги и так сильно выкручивать причиндалы несчастной жертвы, что в них уже не поступала кровь.
У тантриста и Хари были непростые отношения, скрепленные нерушимой клятвой, но в конце концов ослабленные различными подходами к жизни. Тем не менее оба соблюдали торжественный обет, данный еще в детстве. Тантрист по-прежнему обвязывал запястье Хари защитными амулетами, отпугивая возможных конкурентов и полицию. А Хари заботился о семье тантриста и даже, когда кожевенный завод переехал, через пару лет выбил ему квартиру на верхнем этаже «Брильянтовых апартаментов» — первого высотного дома в Дхарави, что возвышался над станцией Махим. И хотя тантрист всячески открещивался от продажной и преступной банды Хари, он не устоял перед подарком — транзисторным приемником. На досуге тантрист отчаянно пристрастился к государственной радиостанции «Акаашвани», непрерывно транслировавшей самую тоскливую классическую музыку Индостана.
Тантриста и Хари свела судьба. Из-за огромной плотности населения Дхарави был огражден подлинной стеной от соседних районов на концах треугольника. Тантрист вырос близ Центральной железнодорожной ветки, служившей восточной границей трущоб, а Хари прочно обосновался на северо-западной оконечности Дхарави. И если Хари вел свой род от исконных обитателей Бомбея — коли, тантрист происходил из кончикори — общины бродячих фокусников и актеров из Шолапура, славного своим текстилем и расположенного на окраине территории, еще недавно называвшейся штатом Бомбей.
Уникальные способности тантриста впервые проявились в четыре года, когда он вылечил от лихорадки сестру, положив ей ладонь на голову. Весть о чудесном исцелении разнеслась быстро, и с тех пор тантрист целыми днями сидел на койке, помогая всем больным и страждущим, что являлись к его порогу. Но вскоре мальчика заела злоба: ведь это время он бы мог весело провести с друзьями. Поэтому тантрист вдруг стал не исцелять просителей, а, наоборот, насылать на них сравнительно безобидные хвори — понос, импотенцию и сплошное оволосение.
«Держись лучше от соседа подальше, — предостерегал сосед, — а не то будешь бегать в нужник по двенадцать раз на дню и дристать с таким треском, что даже крысы забьются в щели».
«Эх, — говорил другой, — теперь бедняге Дхондье сроду не найти себе жену! Даже дешевые шлюхи с Фолкленд-роуд не вернут ему мужскую силу».
«Гляньте на меня, — жаловался третий, у которого из ушей полезла львиная грива (много лет спустя он занял долгожданное место в Книге рекордов Гиннесса). — А я ведь просто попросил у него хорошее приданое для дочери!»
Родственники тантриста стали настоящими париями, но как родители ни таскали его за уши, сколько бы оплеух ни давали, им не удалось образумить сына. Лишь когда отец пригрозил сняться с насиженного места и снова вернуться к кочевой жизни уличных актеров, тантрист малость образумился и попробовал исцелять вновь.
На год он стал затворником и добросовестно совершал садхану[184] в темные ночные часы, допоздна читал мантры или посещал Матунгское кладбище, дабы научиться укрощать самых могущественных духов. Каждую ночь меж двенадцатью и двумя часами он выкапывал труп, похороненный меньше трех дней назад, рядом с которым еще пребывала душа, и омывал его в тринадцати литрах молока. Когда загрязненное молоко свертывалось при нагревании, он скатывал из подслащенного творога, масла гхи и пшеничной муки шарики и клал их у головы и ступней покойника. Наконец, с помощью особой мантры уговаривал душу вернуться в тело и затем полностью подчинял ее себе.
Днем тантрист отказывался от всякой еды и пил лишь немного лимонада нимбу пани — чтобы не помереть с голоду. Соседи стали вновь подходить к его лачуге, взволнованно следили за его успехами и даже заключали пари на десять пайс: вынесет он этот изнурительный режим или нет? Но тантрист все-таки выжил и вернулся из добровольного изгнания еще сильнее, чем прежде. С тех пор его прозвали Тантристом Бабой из Дхарави.
Пока Хари расширял свою империю за пределами города, заманивая в хмельные сети политиков, полицию и элиту, тантрист в основном обслуживал население самого сердца Бомбея — трущоб.
На рассвете тантрист ступил на переднюю веранду Маджи, но остановился, чтобы сорвать бутон жасмина и насладиться его божественным благоуханием, не смешанным с тошнотворными запахами, которые обычно атаковали его обоняние в Дхарави. Затем, будто не желая расставаться с ароматом, он съел всю веточку целиком.
Маджи и Савита отпрянули от жутковатого человека, с головы до ног посыпанного белой золой и совершенно голого, не считая узкой набедренной повязки и латунных колокольчиков на лодыжках. Спутанные волосы были собраны огромным, слегка покосившимся пучком на макушке. Густая борода доходила до середины груди, украшенной четками из ста восьми ракушек. Тело могучее, глаза горят багровым пламенем. В руках — веер из павлиньих перьев и кнут.
Тантрист прибыл с сыном, который разложил все необходимое для пуджи: рис, творог, сандаловую пасту, масло гхи, ладан и воду для омовения ног тантриста.
— В этом доме нарушен естественный порядок вещей, — возвестил тантрист, когда приготовления завершились. Его голос напоминал низкий, гулкий стон и словно доносился из подземной гробницы. — В вашем доме никогда не воцарится покой, если не восстановить путь, предначертанный природой.
Тантрист вдруг встал, вошел в бунгало и принялся обстукивать стены, энергично махать веером и вопрошать:
— Откуда ты явился?
Домочадцы, чуть поотстав, проследовали за ним из залы в столовую, по восточному коридору, где располагались комнаты Джагиндера и Маджи, и обратно по западному, мимо спальни мальчиков. Тантрист остановился у ванной и мысленно посетовал. Слишком часто отчаявшиеся либо алчные люди вызывали его, дабы кому-то отомстить. В этих случаях он разыгрывал спектакль: щелкал кнутом и душераздирающе вопил. Наконец заставлял дух вещать устами доверчивого человека о том, что он якобы пришел с самого кладбища чинить неприятности. Это зрелище обычно настолько пугало виновного, что тот признавался в краже товаров или любом другом преступлении. Но иногда тантристу приходилось пересоздавать вселенную, восстанавливать естественный порядок, нарушенный по неведению, из-за желания, привязанности или алчности. Тогда-то он и обращался к космическим силам.
Войдя в дом, тантрист тотчас почуял призрака. Его боль, гнев и немые упреки сочились из щелей в кровле и бурлили за плинтусами.
Тантрист шагнул в ванную.
Призрак спустился с потолка, видимый лишь тантристу и Парвати. Девочка уже обрела почти человеческий облик и была сильна как никогда. Она поклялась, что вся семья поплатится за свои злодеяния — за то, что позволила ей умереть.
— Откуда ты явился? — с горячностью повторил тантрист, глядя прямо на нее.
— Где она? — вскрикнула Савита и вздрогнула. — Где?
— Там! — показала Парвати.
Повар Кандж грозно занес над головой сковородку.
Призрак заговорил на тайном языке, который бился в уши тантриста океанскими волнами. С потолка закапало, словно в комнате пошел дождь.
Тантрист запел, взывая к мужской и женской силам вселенной:
— Шива-Шакти, Шива-Шакти…[185]
Он вспотел, по лицу стекали струйки намокшей золы. Призрак подошел к нему — прозрачная серебристая грива неистово развевалась за спиной. Черные трубы, опоясывавшие ванную, затряслись, вода в них хаотично загудела.
Савита вцепилась в своих мальчиков, Маджи тяжело навалилась на плечи Кунтал. Все застыли в коридоре, и сырое белье хлестало их, будто раздуваемое сильным ветром.
Сын тантриста загадочно прошептал:
— Тантрист Баба стремится воссоединить космические противоположности — сознание и энергию. Лишь тогда наступит просветление.
Нимиш раскрыл было рот, чтобы возразить, но Савита быстро ущипнула его за руку.
Призрак закружился вокруг головы тантриста; бестелесные руки двигались медленно, точно шелковая ткань под водой. Тантрист стойко оборонялся, меряясь силами с привидением. В комнате барабанил дождь, голая лампочка бешено раскачивалась. Нагое тело тантриста заиндевело и очень медленно покрывалось льдом.
— Это очень сильный дух, — выдохнул он, отступая. — Она не уйдет.
— Я так и знала! — выпалила Савита. — Она вернулась ко мне!
— Она была здесь всегда, — возразил тантрист, — но проявилась только после астральной наводки.
— Какой еще наводки? — спросила Маджи.
— Какая-то девочка нарушила границу… или право собственности…
— Мизинчик! — ахнула Савита. — Я так и знала!
— В переходном возрасте девочки обладают неосознанными способностями и могут общаться с потусторонним миром…
— С богами или с демонами? — вмешалась Парвати.
— С теми и другими. — Тантрист устремил на нее огненный взор. — Она безвременно ушла из жизни, и потому она в ярости.
— Но что можно сделать? — спросил Нимиш.
Каждый из них страдал после гибели младенца: Савита спустилась во мрак суеверий и страха, Джагиндер ударился в пьянство, да и у самого Нимиша совесть была неспокойна.
— Шива-Шакти, — нараспев произнес тантрист. — Вселенную нужно привести в равновесие. То, что ты дал, будет дано. То, что ты взял, будет взято.
— Но как же моя лунная пташечка? — простонала Савита, в груди у нее вновь проснулась темная боль. — Неужели никак нельзя прекратить ее страдания?
— Есть два способа, — тантрист поднял вверх расправленные ладони. — Позволить ей остаться здесь, заглушить боль ее космической противоположностью. И когда-нибудь она уйдет сама.
— Как духи наших родителей, — шепнула Парвати Кунтал.
— А второй? — спросил Нимиш.
Тантрист опустил одну руку, а на второй сильно растопырил пальцы — символы пяти стихий видимого мира: земли, воды, огня, неба и ветра.
— Невидимки состоят лишь из огня, неба и ветра. Они ищут воду и землю, чтобы жить на свете так же, как мы.
Тантрист помахал большим пальцем:
— То, что однажды ее убило, теперь поддерживает призрака. Он заточен в стенах бунгало. Его жизнь и смерть — снова в ваших руках.
Тантрист впал в медитативный транс.
Представление окончилось.
Без жизни и без наследства
Сквозь тучи пробился лучик утреннего солнца.
Джагиндер взял такси из отеля близ «Азиати-ки» до Дарукханы — песчаного промышленного района, где располагалась его контора. Обычно он приезжал туда лишь поздно утром. К тому времени территория уже кишела рабочими, которые сортировали части судов, разобранных на заводе, а его помощники сновали у конторы, заключали сделки и записывали счета в гроссбухах. Но сегодня в гоудауне[186], где хранились товары, было пугающе тихо. В грязи ржавели два холодильника, большие стальные трубы блестели от дождя, лившего всю ночь.
Джагиндер взобрался по ступенькам на открытое возвышение и вошел в контору В одном ее конце размещалось складское помещение с круглыми валиками под спину и толстыми матами, которые разворачивал на полу служащий компании в начале каждого дня. Открыв дверь склада, Джагиндер выудил один тяжелый мат, разложил его на виниловом полу и покрыл белой простыней.
Обливаясь потом, он выдвинул свой деревянный письменный столик и поставил его, как обычно, у входа, рядом с черным телефоном — его оставалось лишь включить в розетку. Рубиновые гроссбухи лежали аккуратной стопкой в шкафчике. Усевшись «по-турецки» на пол перед столом, Джагиндер раскрыл верхний гроссбух. Обложка внизу покоробилась, тонкие страницы развернулись гармошкой. Он тупо уставился на отчеты, записанные секретным «ландеевским» шрифтом, которым в их семье протоколировали финансовые операции.
Джагиндер неторопливо откупорил чернильницу на горизонтальном бортике наклонного стола и окунул перо в ее темную глубину. Обычно он пользовался импортной ручкой «шэффер», торчавшей из кармана рубашки. Но ручки при себе не было, а искать другую в шкафчиках лень. Джагиндеру захотелось горячего чаи масала, и он посмотрел на часы. Слуга опаздывал уже на пятнадцать минут. «Так вот что здесь творится в мое отсутствие».
Он перевернул пустую страницу, занес над ней перо и неуверенно нарисовал Ганешу — благоприятный символ, который помещал в начале каждого нового отчета или операции. Ничего благого он делать не собирался, но по привычке дорисовал символ и отложил перо. Снаружи послышалось шарканье подошв. Служащий компании в белой майке, хлопчатобумажной лунги и шерстяном платке скакал по ступенькам, громко насвистывая мелодию «Прэм Джоган кэ Сундари Пио Чали»[187] и вращая бедрами, будто могольский принц, к ногам которого падают толпы куртизанок.
— Сахиб! — взвизгнул он, поспешно сложив руки в приветствии и чуть не выронив чашку чая.
— Опаздываешь. — Джагиндер скривился от досады.
— Сахиб-джи, — залопотал служащий, и на его лысине выступили капли пота. — Автобус опоздал… Дорогу развезло от дождей…
— Чаю принеси.
Служитель стремглав побежал искать штатного чаивалу, в подобострастном рвении забыв собственный чай, да и мелодию из фильма.
Джагиндер выглянул во двор. Внизу рабочие уже прибывали в гоудаун и перетаскивали железные обломки с печальным, гулким, ритмичным стуком: тхока-пгхаки. В детстве он часто ходил сюда с отцом, Оманандлалом, доезжая поездом от бунгало до ближайшей станции Риэй-роуд. Самым любимым временем были Дивали[188] и Новый год, когда гуджаратские бизнесмены весело выкрикивали: «Сал Мубарак!»[189] — и Оманандлал предлагал всем гостям стальные подносы с фисташками, миндалем, кешью, стручками кардамона и золотым изюмом.
Джагиндер часами просиживал рядом с отцом, наблюдая, как он проверяет конторские книги, ведет дела, обращается с подчиненными и взаимодействует с клиентами. Джагиндер представлял себя на месте отца, и, что бы тот ни делал, мальчик глубоко сознавал, что когда-нибудь сможет его заменить. Порой Джагиндер оставался до конца рабочего дня и возвращался домой вместе с отцом, который, даже не помыв руки, сбрасывал с плеч сюртук и отдавал сыну тяжелую хлопчатобумажную жилетку с большими карманами спереди, набитыми рупиями. Жилетку запирали в одном из металлических шкафчиков Маджи.
Оманандлал был человеком бесхитростным, всегда элегантно одевался и чисто брился, оставляя лишь аккуратные усики, олицетворявшие честь и мужское достоинство его класса. Он никогда не выходил из себя, не торопился, не отчитывал рабочих и не прогонял с порога бедняков с пустыми руками. Терпеливо выучился читать и писать по-английски, вечно держал под рукой хинди-английский словарь и старательно подписывал чеки, наполняя тушью свой «паркер» с широким пером. Джагиндер всегда мечтал быть похожим на отца, но зенит индийской чести и рыцарства быстро миновал, сменившись новой эпохой бюрократии, насилия и коррупции. Что ему еще оставалось, кроме как идти в ногу со временем?
В непривычном сентиментальном порыве Джагиндер сохранил контору после смерти отца в том же виде, а не осовременил ее, подобно многим своим коллегам, которые установили капитальные стены, письменные столы со стульями и так далее. Сидя «по-турецки» на толстом матрасе перед старым столом, Джагиндер ощущал приятное бремя отцовского наследия. Хотя Нимиш не проявлял никакого интереса к разделке судов, Джагиндер всегда рассчитывал, что после колледжа сын займется этим же ремеслом. Джагиндер представил, как они сидят вместе и он обучает Нимиша азам бизнеса, готовясь уйти на покой.
Затем он подумал, что каждое утро все равно будет заходить в контору пообщаться, а после обеда — гулять по роскошному пляжу Джуху. То, что затевает Маджи, — это надругательство над природой. Как его, Джагиндера, можно обойти? Да еще и ради какого-то мальчишки!
Служащий вернулся с чашкой обжигающего чаи масала и поставил ее на столик возле Джагиндера, а на закуску принес печенье «иарле-джи». Затем он улепетнул в хранилище, вытащил оттуда маты, простыни и валики и подготовил контору к рабочему дню, стараясь не сильно шуметь. Но Джагиндер все равно не мог сосредоточиться. Он написал: «Довожу до всеобщего сведения данное завещание, составленное 14 июня 1960 года г-ном Джагиндером Оманандлалом Митталом…» и отложил перо. Он невольно вспомнил тот первый и единственный раз, когда взял на руки младенца Нимиша. Мальчик был такой крохотный, пушистая головка пыхала жаром, точно печь. «Не урони его! Ай, ты ж ему шею свернешь!» — всполошилась Савита. Джагиндер так испугался и почувствовал себя таким неуклюжим, что больше никогда не брал сына, пока тот уже не встал крепко на ноги. Но даже тогда Нимиш нервно вырывался из больших рук Джагиндера и бросался в нежные объятия матери. «Нет, — подумал Джагиндер, — никогда он меня по-настоящему не любил». А потом взял перо и макнул его в чернила.
В этот самый миг вбежал его помощник Лалу с утренней газетой под мышкой.
— Вы здесь, Джагиндер-длш? — Усы, баки и густые волосы Лалу зализал назад, воротник его полиэстеровой рубашки замаслился. Говорил он на удивление сдержанно.
— Да, важное дело.
— Важное?
Лалу присел на корточки у низкого столика, теребя усы и краем глаза пытаясь расшифровать вычурный «ландеевский» шрифт. Джагиндер резко захлопнул гроссбух.
— Кья хай? — пропищал Лалу. — Что-нибудь еще случилось?
— Еще?!
— Ну, после вчерашнего, — пролепетал Лалу и яростно прикусил торчащим зубом нижнюю губу.
Джагидер качнулся назад, внутри у него боролись стыд и гнев. Что известно Лалу о вчерашнем? За несколько часов столько произошло, что Джагиндер с трудом поспевал за событиями. Все началось с груди Савиты. Затем он уехал к Тетке Рози, а когда вернулся в бунгало, сцепился с Нимишем и матерью. Потом снова уехал. «Амбассадор» поломался, и Джагиндера занесло в «Азиатику».
«Неужели он где-нибудь меня видел?» Джагиндер терпеть не мог помощника. Но отец Лалу всю жизнь работал у Оманандлала секретарем, хотя единственными его достоинствами были знание английского и умение печатать на машинке. Одно время весь бизнес опирался на способность отца Лалу заполнять английские формуляры банков и правительственных контор. Из-за этого Джагиндеру приходилось держать у себя Лалу, хотя он был полным кретином.
— Ты на что намекаешь? — набычился Джагиндер.
В этот момент служащий компании, который подслушивал разговор, подготавливая контору к работе, потихоньку включил в розетку телефон у стола босса. Тот моментально затрезвонил.
— Джагиндер Миттал, — ответил Джагиндер как ни в чем не бывало.
— О! Ваша мать сказала, что вы в конторе, но я уже пару часов не могу до вас дозвониться.
— Кто вы? — В груди поднялась ярость: «Неужели Маджи уже связалась с юристом?»
— Инспектор полиции Паскаль…
— Полиция? Что вам от меня нужно?
— Где вы были прошлой ночью?
— Не ваше собачье дело! — завопил Джагиндер, прекрасно сознавая, что Лалу и служащий внимательно слушают.
— Учитывая последние события, в ваших интересах с нами сотрудничать.
— Последние события — это мое, на хрен, дело, — кричал Джагиндер. — И я не желаю это больше обсуждать. До свидания, младший инспектор! — Он со стуком швырнул трубку, вырвал вилку и оглянулся на подчиненных: — Что случилось, черт вас дери?
Лалу и служащий смотрели на него во все глаза.
Служащий засуетился, отчаянно подыскивая, чем бы заняться. А Лалу просто достал из потной подмышки утреннюю газету и положил на стол перед Джагиндером.
— Наверное, вы уже видели, — мрачно сказал он, втайне злорадствуя, что утер нос начальнику.
— Что видел? — Джагиндер развернул «Фри пресс джорнал».
Лалу ткнул острым и грязным ногтем в заголовок: «Дочери именитых бомбейцев пропали без вести». Дальше в статье говорилось: «Мизинчик Миттал, 13 лет, младшая дочь Джагиндера и Савиты Миттал, исчезла из семейного дома на Ма-лабарском холме примерно в час ночи. Приблизительно в это же время исчезла ее соседка Милочка Лавате, 17 лет, дочь г-жи Вимлы Лавате. Оба случая, видимо, связаны между собой». Ниже в заметке упоминалось о пропаже 500-кубового мотоцикла «триумф» рубинового цвета — единственного на весь Бомбей.
— Это какая-то дурацкая шутка. — Джагиндер ударил тыльной стороной руки по газете, вспомнив разговор студентов в «Азиа-тике».
Изо всех сил пытаясь скрыть волнение (он ведь тоже участвовал в разыгрывавшейся драме, пусть даже косвенно), Лалу переминался с ноги на ногу, будто егозливый ребенок.
— Вызови мне такси, — рявкнул Джагиндер на служащего.
— Я глубоко сочувствую, — серьезно сказал Лалу, хоть эта была бесстыдная ложь.
— Она не моя дочь, — парировал Джагиндер. Тем не менее, сунув газету под мышку, он вышел на грунтовую дорогу и стал с нетерпением ждать такси, чтобы поехать домой.
Помимо газетчиков — в том числе из «Фри пресс джорнал» — к зеленым воротам Маджи стекались родственники и друзья, стремясь первыми высказать соболезнования. Родня съезжалась отовсюду, в одежде приглушенных оттенков — словно уже в трауре, — и тотчас настораживалась, едва Савита признавалась, что во всем виновата бывшая айя.
Гости набивались в бунгало внахлест, будто квадратики барфи[190] в коробку конфет: потные тела липли друг к другу, а вышитые серебром дупатты обвисали от утренней сырости. Всеобщая сутолока не беспокоила только призрака младенца, который, приняв почти уже человеческий облик, теперь регулярно нуждался в отдыхе. Устав от ночной активности, девочка свернулась клубочком на трубах и уснула с пальчиком во рту. Дверь ванной заперли, а джутовые веревки сняли.
Ночью дождь на время перестал, но небо по-прежнему хмурилось. Двери дальней гостиной, где спала Кунтал и которой редко пользовались, наконец-то распахнули для гостей. Сердитые мужчины, вытащенные в это воскресное утро из постели ни свет ни заря, пробирались в душную комнату, убегая от жары, тесноты и собственных сокровенных воспоминаний об айе.
— Она была слишком хороша для своего места, — заметил пожилой мужчина, вспомнив ее приталенные блузки ноли и чарующую золотую вышивку вдоль декольте.
— Таким только проституцией заниматься, — возмущенно сказал двоюродный брат Маджи, дядя Уддхав. Он припомнил, как прислонялся к дверному косяку, подглядев эту беззаботную позу в фильмах с Раджем Капуром, и плотоядно поглядывал на бедра Авни, обтянутые сари. Она же проходила мимо с таким видом, будто он — пустое место.
— А ты откуда о таких вещах знаешь, бхаи? — подколол его другой, грубо хлопнув по спине. —
Пора бы тебе подыскать хорошую жену, чтобы она удовлетворяла все твои потребности.
Другие мужчины, стоя на веранде, украдкой самодовольно поглядывали на обездоленных — ротозеев, нищих да трехногих собак, что столпились по ту сторону закрытых на цепь ворот. Парвати караулила с большим зонтом, энергично замахиваясь им на каждого, кто пытался влезть на ворота и заглянуть во двор.
Соседка Вимла Лавате под шумок привела своего повара, и тот вместе с Канджем кипятил чайники и готовил обед для всей компании. Выйдя ненадолго к гостям, Савита забаррикадировалась у себя в комнате и пыталась остановить молоко, а Кунтал ее успокаивала. Прячась от толпы, Дхир и Туфан постучали к матери и вскоре уснули в ее комнате. Нимиш остался с бабушкой в зале: он регулировал движение и отвечал на вопросы родни, временно оказавшись во главе семьи, — ноша, которую он взвалил на себя непринужденно и со знанием дела. Плюхнувшись на свой трон с чашкой чая, Маджи отметила это с гордостью.
В то утро ей некогда было подумать над словами Пандит-джи или тантриста. Впервые после смерти мужа Маджи отказалась от ежеутреннего обхода. Зато она поневоле стала радушной хозяйкой: принимала от родственников добрые пожелания, не обращая внимания на немые упреки и нехороший блеск в глазах. «Неужели это конец Маджи и крах Митталов?»
Маджи стиснула лоб, пытаясь перебороть нарастающую мигрень. Бунгало раздувалось от народа, набившегося между влажными стенами; каждый выкраивал себе местечко и старался доказать, что он был самым близким другом Мизинчика, а стало быть, больше всех потрясен ее исчезновением. Шарканье ног, тревожный кашель, разговоры вполголоса, звон чашек о блюдца да изредка выпускание газов — весь этот шум нарастал, словно в ожидании какого-то события или в радостном предвкушении. На длинных диванах расселась шеренга женщин, которые перешептывались, крепко прижимая чашки к груди, будто по дому разгуливал вор.
— Похищение — представляете? — сказала одна, в очках с огромной пластмассовой оправой. Кроме очков на ее лице можно было разглядеть лишь ярко накрашенный рот.
— В мои-то времена айи даже пикнуть не смели. Но сейчас больше никто не бьет слуг, — размышляла пожилая, острая на язык тетушка, предаваясь утешительной ностальгии.
— Я поняла, что это за штучка, с первого взгляда. Вы разве не помните, как я отговаривала Маджи, а она и ухом не вела? И вот теперь посмотрите на этот кавардак! — вступила третья, очень деловая дама с шишковатым носом.
— У этой айи было шесть пальцев на левой ноге, — вставила Парвати, принесшая чайник. — Кому чайку?
Дамы на кушетке отодвинулись, резко выдохнув.
— Она ведьма, клянусь вам, — уверяли Большие Очки, смакуя эту пикантную деталь, словно это было понятно с самого начала.
— В мои-то времена такие отродья жили только в деревнях, — закудахтала Ностальгия. — А нынче они запросто вваливаются прямо в дом.
— Маджи надо отправиться в паломничество в Мехндипур — попросить милости у бога Баладжи[191]. Иначе — полный кавардак, — сказала третья и защелкнула ридикюль, будто собралась уходить, хотя втайне надеялась, что драма растянется как минимум на неделю.
— От такой напасти спасет лишь тантрист, клянусь вам, — заявили Большие Очки, надув губы и окинув взглядом комнату, словно там затаилась нечисть.
— Тантрист-мантрист, — передразнила Ностальгия и осторожно надкусила ромбик бэсан барфи[192]. — В мои-то времена вполне хватило бы приличной порки.
Джагиндер шагнул в дом в той же курте, что и накануне, — теперь она, правда, помялась, покрылась комочками высохшей грязи, слегка отдавала табачным дымом и перегаром. Разговоры утихли, и все взгляды устремились к нему: «Гляньте на бедолагу: наверняка, всю ночь искал Мизинчика».
Маджи видела, что Джагиндера окружает сдержанное благоговение. Как легко было все эти годы скрывать его пьянство, разлад с Савитой, неуважение сыновей! Этими и другими тайнами Митталы делились только со слугами, завязывая тугой узел круговой поруки. Маджи взглянула на Нимиша, пытавшегося обуздать ярость, и легко коснулась его руки.
Джагиндер замер, полный обиды на эту надоедливую толпу и на Маджи с Нимишем, явно заключивших союз. Джагиндер выпятил грудь, готовый к безрассудному нападению, готовый на что угодно ради спасения репутации и доброго имени. Но, взглянув на мать, он заметил в ее глазах грусть, увидел проплешинки на висках, трясущиеся руки. И вдруг до него дошло, что мать — старая, измотанная женщина, которая все эти годы старалась быть сильной, в одиночку сплачивая семью. И Джагиндер понял, что где-то в дороге ее подвел. Когда утонула его дочь, он тоже утопил себя — только не в ванной, а в бездонном водовороте слабостей, безответственности и пьянства. По глупости полагая, что семья ничего не заметит.
Но прошлой ночью все изменилось. Хрупкие чувства, связывавшие его и Савиту, в конце концов разрушились. Нимиш сорвал тонкий покров с тайны отца. А Маджи вышвырнула его из дома, возложив заботу о семье на плечи его сына. Джагиндер вспомнил о своей неудавшейся попытке лишить Нимиша наследства, и грудь затопили стыд и сожаление — как тогда у Тетки Рози. Он хотел, чтобы ему дали еще один шанс заслужить их любовь и уважение. Он не представлял жизни вдали от семьи. Ощутив внезапно накатившую слабость, он напрягся, стараясь не подать вида. Стоя перед матерью и сыном, Джагиндер собрался капитулировать, признав наконец ответственность за свои проступки. Но родственники, набившиеся в бунгало, только и ждали момента, чтобы вынести вердикт, — точно в зале суда. Нет, такого унижения ему не вынести. И Джагиндер решил не сдаваться.
— Ты не нашел ее? — наконец спросил кто-то, и по толпе пробежал ропот.
Джагиндер покачал головой.
Маджи медленно протянула руку к сыну. Она заметила нерешительность Джагиндера, его понурый вид. Стоя перед ней, он молил о пощаде. Как никто другой Джагиндер понимал, что Маджи никогда не пожертвует честью семьи, прилюдно его осрамив. Но он все же вернулся, узнав о пропаже Мизинчика. Он вернулся.
— Подойди, бэта, — сказала она. — Мы все извелись.
Джагиндер оцепенел, стараясь скрыть, насколько удивлен нежным голосом матери. Последний раз она так ласково обращалась к нему — бэта — еще до свадьбы. Если бы дом не ломился от свидетелей, Джагиндер бросился бы к ее ногам и заплакал.
Тучи на улице вдруг прорвало со страшным грохотом, дождь забарабанил по крыше, и комната погрузилась в кромешную темень. Включили свет и закрыли окна. Трубы загремели и засвистели. Крепко вцепившись в ридикюли, дамы украдкой озирались. В потолке появилась течь, за ней — вторая и третья. Вода ритмично, зловеще закапала на гостей.
Нимиш поймал взгляд Маджи.
— Парвати, принеси ведра, — приказала Маджи, пытаясь скрыть нарастающий ужас.
В конце коридора послышался металлический лязг.
— А что это там звенит? — спросил один из гостей.
— Схожу проверю, — сказал Нимиш.
— Нет, — отрезала Маджи, — оставайся здесь.
Бунгало затрещало под натиском муссонов. Из коридора хлынула вода.
Раздались крики, гости заторопились к выходу.
— Видно, трубу прорвало, — сказала Маджи, повернувшись в Джагиндеру.
— Чокнуться можно, — раздраженно проворчал Джагиндер, стаскивая носки.
Нимиш протиснулся в темный коридор, шлепая ногами по ледяным лужам.
— Дороги затопило! — воскликнула Парвати, тыча рукой во двор.
Где-то замкнуло проводку, и комната провалилась во тьму. Холод пробирал до костей.
Нимиш остановился во мраке коридора и потянулся пальцами к двери ванной. Медленно выпрямившись, он нащупал засов.
Дверь была отперта.
Она распахнулась, сбив его с ног. Мимо пронесся леденящий сквозняк. В зале кто-то завопил. Свет вспыхнул и тут же снова погас, потом еще и еще — выхватывая из темноты сцены столпотворения. Дамы энергично набрасываются на груду чаппалов, выдергивая из нее свою обувь. Мужчины тщетно ищут разбежавшихся жен. Савита и Кунтал вихрем вылетают из спальни вместе с близняшками. У выхода толчея. В суматохе кто-то хватает женщину за грудь.
Небо распорола молния.
— На улицу! — закричал один из гостей, и вся толпа в панике бросилась по аллее к воротам. — Крыша провалилась!
— Дети! — раздался вопль Маджи.
— О господи! — заголосила Савита.
— Сюда! Сюда! — Джагиндер пробирался против течения к жене.
Но едва последний гость выбежал из бунгало, внезапно все прекратилось.
Маджи стояла в луже дождевой воды и смотрела вверх на невредимый потолок.
Джагиндер расправил курту, мрачным взглядом провожая удирающую родню:
— Кишка тонка! Дождик побрызгал, а они и сдрейфили!
— Всего лишь течь, — сказала Маджи, тяжело дыша.
По здравом размышлении стало ясно, что вода полилась через щель в крыше.
— Ними! — пронзительно позвала сына Савита. — Где Нимиш?
— Я здесь, мама. — Он появился, слегка прихрамывая, заглянул в бледное лицо Савиты. — Дверь была заперта, — впервые солгал он матери. — Все в порядке, я проверил.
Маджи уединилась в тихой комнатке для пуджи, чтобы поразмыслить. После страшной муссонной ночи ее дом, ее убеждения и само ее существо были разгромлены, измочалены. Неизвестно, сколько еще ей удастся сплачивать семью. Теперь вся родня начнет судачить о том, что бунгало ужасно обветшало, и плести небылицы, как их чуть насмерть не задавила рухнувшая крыша. Да еще, как на беду, со дня на день должны приехать великосветские родители Савиты из Гоа, где у них второе жилище на пляже Колва.
Маджи отогнала эти мысли, переключившись на Джагиндера. Эта кошмарная ночь наконец-то образумила ее сына. Маджи задумалась над загадочными словами тантриста: «То, что ты дал, будет дано. То, что ты взял, будет взято». Она ведь умоляла богов вернуть Мизинчика. «Берите, что хотите», — так просила она. И минувшая ночь — словно чаша весов, отягощенная потерями. Возможно, теперь, после молитв Пандит-джи и обряда тантриста, удастся склонить весы в другую сторону. Разумеется, покаянное возвращение Джагиндера — хороший знак. Смежив глаза, Маджи послала богам благодарную улыбку.
Но тотчас вспомнила, что призрак никуда не делся, он все еще здесь, в бунгало. «То, что однажды ее убило, теперь поддерживает призрака». Маджи беспокойно заерзала перед алтарем и открыла глаза. Судьба призрака — в ее руках. Хоть он и обрел силу, Маджи сильнее. У нее есть решающее оружие.
— Вода, — вслух сказала она.
Младенец утонул в ведре с водой. И теперь Маджи поняла, что сможет уничтожить призрак, лишив его этой стихии.
Рыбацкая деревушка
Мизинчик открыла глаза. Она лежала на раскладушке, накрытая грубым одеялом. В висках стучало, тело горело, хотя кончики пальцев были синие.
— Маджи? — испуганно позвала она. Кольнуло в боку.
Тотчас появилась женщина. Присела рядом на корточки. На предплечье — татуировка. Зеленое хлопчатобумажное сари, продетое между ног, выцветшая бирюзовая блузка. Волосы собраны сзади в пучок, украшены жасминовым венком. На груди крупное серебряное ожерелье. Лицо темное, как шоколад, с глубокими морщинами, словно от тяжелой жизни. Женщина была не старая, но уставшая. Она осторожно влила Мизинчику в рот ложку воды и сменила холодный компресс у нее на лбу.
— Милочка?
Женщина покачала головой:
— Нет. Ты можешь называть меня тетей Джа-нибаи.
— А Милочка-диди? Она тоже здесь?
— Увы, только ты, — сказала Джанибаи. — Она была с тобой?
— Нет, — солгала Мизинчик, только сейчас осознав необычную обстановку.
— Отдохни пока, — промолвила Джанибаи, встала и выглянула за дверь.
Мизинчик услышала снаружи голоса, говорившие на диалекте, который она не понимала, но узнала благодаря походам на Кроуфордский рынок, — это было рыбацкое наречие конкани. Моложавый мужчина в дхоти, завязанной узлом между крепкими, мускулистыми ногами, и в полосатой футболке вошел в лачугу. Они с Джанибаи обменялись раздраженными фразами, все время показывая то на Мизинчика, то на какой-то невидимый предмет, находившийся за пальмовыми стенками хижины. Мизинчик посмотрела в открытую дверь и увидела прямоугольник золотого песка, сиявший в лучах утреннего солнца. Несколько смуглых рожиц заглянули внутрь, возбужденно тараторя. Лицо у Мизинчика саднило, горло пересохло, дышалось тяжело. Она закрыла глаза, и ее наконец одолел сон.
Ребячий щебет внезапно смолк, и в лачугу ступил дородный детина; через руку перекинут блестящий черный макинтош, штаны заправлены в черные резиновые сапоги.
— Джанибаи Чачар?
Джанибаи кивнула.
— Инспектор полиции Паскаль. Я ищу вашу дочь, Авни Чачар. — Он не спрашивал, а требовал. Из тканой кобуры на бедре торчал «смит и вессон» 38 калибра.
Джанибаи резко отшатнулась и покачала головой.
— Нет? Что значит «нет»?
Рыбак шагнул вперед:
— Ее дочери здесь нет, сэр.
— Где же она? — Паскаль нахмурился.
— Она умерла тринадцать лет назад, сэр.
— А ты кто?
— Ее племянник, сэр, — он показал на Джа-нибаи.
Инспектор минуту помолчал. Снаружи детишки снова закричали. По песку мчался худой, лысеющий мужчина в шортах хаки и топи-пилотке такого же цвета. У хижины он остановился, робко постучал и замер по стойке «смирно». В дверном проеме снова возникли три рожицы, внимательно наблюдая за происходящим.
— А, все ясно, — сказал Паскаль с глубочайшим презрением, — помощник младшего инспектора полиции Бамбаркар спешит на помощь.
— Да, сэр, инспектор Паскаль, сэр. — Бамбаркар незаметно ухватился одной рукой за дверную раму, чтобы его случайно не сдуло порывом муссона.
Паскаль повернулся к Джанибаи:
— Вашу дочь видели вчера ночью на Мала-барском холме.
— Да как такое может быть, сэр? — недоверчиво спросил племянник.
Инспектор смерил его взором, отточенным до блеска за годы службы в полиции, и этот взгляд тотчас напоминал собеседнику, что его могут выпороть в любую секунду. Словно ио команде, п.м.и. Бамбаркар достал длинную бамбуковую палку и, прислонившись к двери, начал постукивать ею по ладони.
— Факты — вещь упрямая, — неспешно ответил Паскаль.
Джанибаи скрестила руки, не испугавшись скрытой угрозы.
— Вы не видели моей дочери, я в этом уверена.
— И какие доказательства? — потребовал Паскаль.
— Она умерла у меня на глазах.
— Как?
— Бросилась под электричку на станции Мас-джид.
— Самоубийство?
— Она была не в себе, — ответила Джани-баи. — Ничего не соображала, твердила что-то о повитухе и жертве. Сари на ней промокло, на губах запеклась красная корка.
— А что вы там делали? — спросил Паскаль. — Ведь рыбные рынки находятся в Кхар-Данде, Ситилайте, Дадаре и Кроуфорде.
— Я всегда торговала на вокзале, — ответила Джанибаи. Считая, что вокзал Виктория построен на развалинах древнего святилища Экуиры, Джанибаи ходила туда не только продавать рыбу, но и поклоняться богине-покровительнице.
— Очень подозрительно, — буркнул Паскаль и осмотрел комнатушку. Глаза его скользнули по горе корзин, ждавших починки, и вспыхнули, наткнувшись на сковородку с рыбой, жаренной в арахисовом масле с помидорами, луком и кала масала[193], тарелку риса с карри и горячую лепешку.
Паскаль перевел взгляд на койку, где под покрывалами съежилось маленькое тельце. Вскрикнув от удивления, инспектор выронил плащ и отдернул одеяло.
— Это же пропавшая девочка! — прорычал он, обернувшись к Джанибаи и ее племяннику. — Точь-в-точь как на фотографии!
Веки Мизинчика затрепетали, и она открыла глаза.
— Мы не знаем, как ее звать, — сказал племянник. — Я нашел ее рано утром в море, она лежала в лодке.
— В океане? — переспросил Паскаль. — В сезон муссонов?
— Не знаю, как она там оказалась, сэр, — ответил племянник, скрыв, что почти наверняка видел в каноэ двух человек, но, когда подплыл, лодка опрокинулась. — На рассвете, еще затемно, я заметил, как волны швыряют лодку. В ней была девочка, без сознания.
— Очень складно, можешь продать как сюжет киношникам, — великодушно произнес Паскаль, погладив рукоятку «смита и вессона». — А теперь я расскажу тебе, что произошло на самом деле. Твоя двоюродная сестра Авни заплатила соседке Мизинчика, чтобы та ее похитила. Авни планировала прятать ее здесь, пока Митталы не заплатят крупную сумму денег. Знаем мы вашего брата.
— Крупную сумму? — изумилась Джанибаи. — С какой это стати?
— Я же сказал вам, сэр, что не знаю, кто эта девочка, — настаивал племянник. — И ни разу до этого ее не видел.
— Ее зовут Мизинчик Миттал, и она исчезла вчера поздно ночью из дома Джагиндера Миттала, владельца компании «Судоразделочный завод Миттала» с Малабарского холма, — сказал инспектор, вне себя от ярости и восторга.
Джанибаи потрясенно молчала. Она знала это имя — так звали хозяина дочери.
— Ага! — Паскаль ткнул в нее толстым пальцем. — Значит, ты все-таки солгала! Признавайся, что еще было в лодке или рядом с ней?
Повисла долгая пауза. Паскаль мрачно ждал. Бамбаркар глядел на него исподлобья. С улицы несся детский гомон.
— Либо вы сотрудничаете, либо я сам обыщу жилище.
— Принеси, тетя, — обратился племянник к Джанибаи на диалекте.
Та неохотно достала из угла небольшой газетный сверток. Внутри лежала влажная, изорванная золотистая дупатта, расшитая узором из ниспадающей изумрудной листвы. С краю — ярлык «Прелестной моды», роскошного магазина на Колаба-козуэй.
— Ага, так вы у нее еще и ду патту слямзили? — рявкнул Паскаль.
Опомнившись и подобрав плащ, он приказал Бамбаркару отнести Мизинчика в джип. Офицер поднял девочку с раскладушки, его ноги, тонкие, как спички, задрожали.
— Я отвезу ее в больницу. — Паскаль уже примерял роль благодетеля. — Ее семья очень обрадуется, что я спас малышку. Но через пару часов я вернусь. А Бамбаркар останется здесь и будет поджидать вашу дочь Авни. Либо она придет сюда, либо вы оба завтра вечером окажетесь за решеткой.
— Я все сделаю как надо, — пообещал Бамбаркар. Он тоже уже предвкушал, как, оставшись единственным представителем власти, будет важно постукивать своей бамбуковой латхи[194]. Его потное лицо раскраснелось от удовольствия.
Тут закашляла проснувшаяся Мизинчик.
Паскаль, не мешкая, приступил к допросу:
— Назови мне, девочка, свои имя и фамилию.
Мизинчик смотрела безучастно.
— Ладно, я знаю, кто ты. — Он глубоко вздохнул и самодовольно выпятил грудь, затем приподнял подбородок Мизинчика. — Расскажи-ка мне, что произошло прошлой ночью?
Мизинчика бросало то в жар, то в холод, но она все равно не хотела говорить с этим грубым полицейским, которому инстинктивно не доверяла. Внезапно взгляд ее наткнулся на знакомую дупатту, которую Паскаль держал под мышкой.
— Отдайте мне ее! — прошептала девочка.
— Разве она твоя? — вопросил Паскаль, взмахнув накидкой. — Или, может, Милочки Лавате?
Мизинчик не смогла сдержать удивления: «Что им еще известно?»
— Она увезла тебя из дому, так ведь? — Паскаль быстро глянул на Бамбаркара, словно говоря: «Смотри, придурок, видишь, как я одним махом раскрываю оба дела?»
Помощник младшего инспектора изобразил восхищение.
— Говори, где она? — спросил Паскаль. — Нутром чую, что Милочка и Авни тоже вчера были вместе.
Мизинчик стиснула губы, пытаясь совладать с чувствами.
— Начни с того, что случилось с Милочкой, когда вы обе добрались до Колабы.
«Зачем Милочка-диди хотела меня утопить?» — вертелось в голове Мизинчика, пока неясные события прошлой ночи развертывались перед ее глазами. С ослепительной ясностью она вспомнила жуткий Милочкин голос, сокрушительный жар в груди, словно что-то вселялось в ее тело, и роковой удар весла.
— Послушай, девочка, расскажи мне, что произошло с Милочкой, а не то я посажу твою Маджи в тюрьму.
— Вы не имеете права!
Паскаль рассмеялся:
— Еще как имею. Я могу сделать все, что захочу. Только представь, как твоя жирная бабуля томится в переполненной камере, в компании норов и даку — бандитов и уголовников.
«Я не отдам ему Маджи. Ни за что на свете».
— ГОВОРИ ЖЕ!
Для острастки Бамбаркар хорошенько встряхнул девочку.
Мизинчик плюнула ему в лицо. «Я не допущу, чтобы Маджи посадили из-за меня в тюрьму. Я сама во всем виновата, это я подружилась с призраком и… Милочка…»
Она спрятала лидо в ладонях, но слова ее прозвучали четко:
— Я ее убила.
План обезвоживания
Доктор М. М. Айер завтракал в больничной столовой луковым омлетом, когда из реанимации примчался мальчик с блокнотом. За трапезой доктора наблюдал поставщик продуктов, высматривая признаки гастрономического удовлетворения. Мальчик протянул блокнот. Там было написано: «Принят ребенок с высокой температурой», а ниже пояснялось: «Семья Джагиндера Миттала».
Врач расписался и поставил время: 9 утра. Мальчик ушел. Обычно доктор выжидал не менее получаса, прежде чем явиться в палату: закусывал омлет идли[195] или даже выходил во двор перекурить. Но сегодня в палате его нетерпеливо поджидала Маджи или, как минимум, Джагиндер, так что доктор Айер, отодвинув тарелку, схватил свой белый халат и направился в педиатрическое отделение.
Он не забыл надеть халат перед входом, дабы не придрался этот цербер, главный врач Бобби Бансал, который мог запросто оштрафовать на двадцать пять рупий. Накануне вечером он застукал одного бедолагу, курившего в хирургическом отделении, и мигом вышвырнул из больницы, отказавшись принять от его семьи подношение и восстановить беднягу в должности. Доктор Айер задержался перед дверью, зачесал назад волосы, поправил на шее стетоскоп, погладил неврологический молоточек и блокнот в одном кармане, достал ручку из другого.
Мизинчика уже доставили в отделение, на тележке со скрипучими колесиками.
— Ваша пациентка, доктор сахиб, — сказала старшая медсестра, христианка из Кералы по имени Мэри. На ней была белая форма и белоснежная шапочка — в отличие от младших сестер в бело-голубых шапочках. Темные волосы аккуратно собраны пучком на затылке. Мэри была не замужем и жила в общежитии для медсестер за больницей, куда не пускали мужчин — ни приятелей, ни врачей, ни даже родственников.
Мизинчик лежала в дальнем конце зеленой палаты с единственным зарешеченным окном, где возбужденно жужжали целые стаи жирных мух, привлеченных запахом мочи и дезинфицирующего средства. Ленивый вентилятор на потолке сонно перегонял микробов с одной койки на другую и обратно. Мэри поставила перед койкой Мизинчика грязную матерчатую ширму.
— Так-так, — сказал доктор Айер, изучая историю болезни. Повышенная температура, пульс учащенный, давление в норме. О стуле и моче пока никаких записей. На отдельной странице — дополнительные сведения, в частности, о зеленоватых выделениях при кашле.
— Пневмония, — объявил доктор и, записав диагноз в истории болезни, передал листок сестре Мэри, которая повесила его на спинку кровати. — Начинайте колоть ей пенициллин.
— Да, доктор-сахиб.
Айер удивленно отодвинул ширму и огляделся, словно что-то потерял:
— А где же родственники?
— Ее привезла полиция, — громко прошептала Мэри.
— Полиция? — Доктор Айер озадачился. — При каких обстоятельствах?
— Неизвестно.
— Семье сообщили?
— Да, доктор-джи.
Доктор замешкался. Ему хотелось дождаться родственников Мизинчика, и он стал прослушивать сердце и легкие пациентки, надеясь, что девочка проснется. Осмотрев еще нескольких молодых пациентов, он уселся за стол медсестры, где врачи обычно делали записи после обходов.
Вновь появился мальчик с блокнотом: доктора вызывали к начальству.
— Инспектор Паскаль? Меня? — Его прошиб пот. — Мэри, сообщи мне, как только прибудут Митталы.
И, недоуменно покачивая головой, доктор удалился, с Маджи и Нимишем он разминулся на каких-то пару минут.
— Где моя Мизинчик?
Медсестра Мэри показала на палату.
Слезы, сдерживаемые всю ночь, хлынули из глаз Маджи, стоило ей переступить порог и приблизиться к кровати внучки.
— Бэти, — тихо прошептала она, сжимая ладонь Мизинчика.
Мизинчик открыла глаза, горевшие лихорадочным блеском. Маджи благодарила богов за благополучное возвращение внучки и молила даровать девочке выздоровление.
— Инспектор Паскаль сказал нам, что нашел тебя в Колабе, — заговорил Нимиш. — Это правда?
— Ей нужно отдохнуть, — резко перебила Маджи.
— Ее дупатта, — прошептала Мизинчик, потянув Маджи за сари, — забери ее.
— Ее дупатта? — с тревогой переспросил Нимиш. — Где Милочка?
— Молчи, — приказала Маджи, озираясь. — Нас могут услышать.
В палату бодрым шагом вошел доктор Айер, за ним следовал Паскаль.
— У нее тяжелая форма пневмонии.
— Пневмония? — перепугалась Маджи.
— Придется пока оставить ее здесь, — сказал доктор.
— Надолго?
— Она под домашним арестом, — встрял Паскаль.
— Извините, инспектор, — холодно сказал доктор Айер, зная, что в стенах больницы он вправе командовать даже инспектором полиции, — ребенок очень болен. О каком аресте может идти речь?
Маджи шагнула к инспектору, загородив от него Мизинчика.
— Что за чушь вы несете? Нимиш, сходи-ка за чаем.
Нимиш помедлил, но под пристальным взглядом Маджи неохотно вышел из палаты.
— Доктор-длш, оставьте нас на минутку, — обратилась Маджи к врачу.
— Итак, инспектор, — произнесла она, — не хотите ли вы сказать, что моя внучка виновна в том, что случилось вчера ночью?
— Мне очень жаль, — ответил Паскаль, — но сегодня утром она призналась в убийстве Милочки Лавате.
Джагиндер сидел дома на диване и беспокойно просматривал газеты. Дхир и Туфан спали в зале. Савита заперлась в спальне и не вышла, даже когда зазвонил телефон и мальчики радостно закричали, что Мизинчик нашлась. «А как же моя дочь?» — подумала она, развязывая одежду, которая туго стягивала грудь. Когда Савита наконец уснула после ухода тантриста, ей снились очень странные сны. Она лежала голая на покрывале и напевала колыбельную: «Соджа бэби, соджа, лал палат пэр соджа». Засыпай, усни, малышка, на красной кроватке, мама с папой уже идут.
Потом к ней потянулась девочка, влезла на грудь, взяла сосок в рот и не опускала до тех пор, пока не осушила. Во сне Савита пыталась удержать ее, но груди превратились в длинные водосточные трубы, а младенец сосал их с другой стороны. «Мама с тобой!» — крикнула Савита, стараясь дотянуться до ребенка. Она проснулась измученная, соски потрескались и воспалились, груди снова разбухли от молока.
«Если я умру, — думала она, — все эти страдания останутся позади, а я воссоединюсь с моей малышкой». На минуту она размечталась, как будет преследовать с того света свекровь и мужа, как ее мстительный дух бросит им вызов, опрокидывая валики на троне Маджи и прячась в бутылках «Роял салют». Но потом Савита вспомнила о сыновьях, о долгожданном обеде с женой мото-роллерного магната, о своих украшениях… Как от всего этого отказаться?
Пришла Кунтал с тарелкой еды.
— Вам нужно поесть и попить, — умоляла она, пытаясь засунуть Савите в рот кусок хлеба, намазанный маслом.
Савита расплакалась, положив щеку на раскрытую страницу новейшего романа, который Кунтал заботливо принесла из местной библиотеки.
— Почему она не приходит ко мне? Почему я ее не вижу?
Кунтал погладила густые волосы Савиты, нежно вытерла ей слезы.
В дверь постучали. Савита села в постели и высморкалась.
Осторожно вошел Джагиндер, жестом спровадив Кунтал.
— Мизинчик идет на поправку. Тебе тоже скоро получшает.
— Получшает? — с тихой угрозой повторила Савита. Она принялась разрывать петельки на намокшей блузке, пока не обнажились груди, по-прежнему сочившиеся белой влагой. Она сжала их в руках. — Уж им-то лучше не стало!
Джагиндер отвернулся, покраснев.
— Противно на меня смотреть?
— Савита, умоляю.
— Умоляешь? О чем? — Она откинулась на подушки. — Уйди, просто уйди.
— Прости…
— Ты хоть знаешь, что произошло? — Савита глубоко вдохнула. Торчащие соски укоризненно смотрели на бельевую веревку. — Призрак!
— Призрак?
— Наша дочка!
— Малютка Чакори? — Джагиндер был в шоке. — Тебе померещилось. Нужно хорошенько отдохнуть.
Он подошел к кровати и попробовал запахнуть блузку.
Савита злобно оттолкнула его руки:
— Иди спроси у своей мамаши, если мне не веришь. Она сама вызвала прошлой ночью тантриста. Все эти годы она прекрасно знала, что айя утопила Чакори намеренно, и скрывала это. А теперь эта ведьмища вернулась, чтобы убить наших сыновей. Дхир чуть не погиб вчера ночью!
— Что за ахинею ты несешь? — заорал Джагиндер, и в груди у него поднялся страх, стискивая горло. «Боже! Боже!»
— Уходи! — Савита швырнула в него романом. — Оставь меня в покое!
Джагиндер сжал и разжал кулаки, потом развернулся и хлопнул дверью. «Амбассадор» уже укатил — Гулу повез на нем Маджи и Нимиша в больницу. Но черный «мерседес» стоял в гараже. Джагиндер резко открыл багажник и достал спрятанную там бутылку «Блю лэйбл». Он заливал виски в глотку, пока не закашлялся. Потом хватил бутылкой о стену, осыпав осколками скудную обстановку под рекламой «вишневого цвета». Затем взял разбитую бутылку и с хладнокровной решимостью вспорол себе руку. Но даже обжигающая боль не могла сравниться с душевной раной.
— Полная чушь, — сказала Маджи, хоть и ощутила всю тяжесть этих слов: «убийство Милочки Лавате».
— Видимо, мисс Лавате увела Мизинчика, перед тем как вы позвонили мне вчера ночью. Они проследовали прямиком в Колабу. Возможно, там находилось третье лицо — некто с транспортным средством. По моему мнению, там они встретились с вашей бывшей айей. Авни Чачар. Как я уже говорил вам по телефону, я обнаружил Мизинчика в доме Джанибаи Чачар в Колабе. Полагаю, мисс Лавате пыталась сбежать с парнем и использовала Мизинчика, дабы замести следы. Авни впуталась в это из-за денег. Разумеется, я говорю о вымогательстве.
Маджи настолько потрясла гипотеза инспектора, что на минуту она онемела.
— Я не ослышалась, господин инспектор? Я знаю Милочку с пеленок. Она никого и пальцем не тронет, тем более — Мизинчика.
А про себя подумала: «Авни? Неужто она вернулась?»
— Я просто сопоставляю факты.
— И что же это за факты?
— Лачуга Джанибаи Чачар. Признание Мизинчика.
— Признание Мизинчика? — взорвалась Маджи. — Так вот, значит, как вы работаете? Допрашиваете тяжелобольного ребенка? Верите словам, сказанным в бреду? Лучше бы поискали Милочку!
— Я разослал людей по всему Бомбею. Если мисс Лавате жива, она и ее… любовник, — он выдержал паузу перед позорным словом, — наверняка попытаются уехать из города.
— А при чем здесь Авни Чачар?
— Наверное, она сильно расстроилась, потеряв работу, и решила отомстить.
Маджи отшатнулась:
— Я требую вычеркнуть имя моей внучки из материалов дела. Если вы хоть чем-ни-будь ей навредите, будете иметь дело со мной. Надеюсь, вы меня понимаете, инспектор Паскаль?
Паскаль стиснул зубы. Он понимал, что у Маджи есть влиятельные знакомые в деловых кругах и правительстве и она способна создать ему проблемы, если он привлечет ее внучку к суду. Но инспектор и сам не поверил признанию Мизинчика, как не поверит и любой судья с мозгами. Мизинчик явно что-то скрывала.
— Но ваша внучка замешана в этом деле.
— А я хочу, чтобы не была замешана, — отчеканила Маджи железным голосом — точь-в-точь как та сталь, которой ее семья торговала из поколения в поколение. — Вы нашли ее больной, но невредимой и отвезли в больницу. Это ваша новая легенда. Я готова на все.
Паскаль медленно приподнял брови. Это вопрос? Или утверждение?
— На все. И ни слова семье Милочки.
— По рукам.
— После обеда я пришлю к вам сына за ее дупаттой.
Паскаль удивился.
— Конечно, вам за это заплатят, причем хорошо, — сказала Маджи.
— Ну, тогда у Чёрчгейт-стэйшн. — Инспектор смиренно вздохнул. — Там есть ресторан «Азиа-тика». В пять часов.
Как только Паскаль ушел, явился Нимиш с чаем:
— Почему Мизинчик под арестом?
— Для ее же блага, бэта, — ответила Маджи. — Айя еще на свободе.
Она не сказала, что лучше оставить Мизинчика в больнице, пока они не разберутся с призраком младенца.
— А Милочка? Ее нашли?
— Нет, бэта. Еще нет. — Маджи попыталась скрыть смущение и грусть.
Весь разговор Мизинчик пролежала с закрытыми глазами, притворяясь спящей, но жадно ловила каждое слово, ложь и недомолвки. Девочка была безмерно благодарна Маджи за то, что она вырвала ее из лап Паскаля, но не понимала, почему бабка пожертвовала Милочкой. Теперь вся надежда на Нимиша. «Он найдет Милочку. Найдет, если она жива. Ему нужно доискаться правды». Мизинчик открыла глаза:
— Нимиш…
— Ты проснулась? — Маджи нежно сжала ее ладонь. — Ни с кем тут не разговаривай. Если этот Паскаль опять начнет тебя расспрашивать, притворись, что спишь. Никому ни слова.
— Но Милочка…
— Больше ни звука! — скомандовала Маджи. — Здесь опасно разговаривать — мало ли кто может подслушать.
Нимиш оглянулся на Мизинчика, словно обещая: «Я вернусь».
Взгляд у него был решительный — любящая душа мучительно обнажилась.
Мизинчик рвалась обратно в бунгало, к Ними-шу, пока не поздно. «Скажи ему, чтобы пришел ко мне, — сказала Милочка в лодке. — Я буду ждать, сколько хватит сил, но вернуться не смогу никогда». Собравшись с мужеством, Мизинчик села в постели. Надо выбраться из больницы. Если Нимиш не придет сегодня ночью, она сама найдет выход.
Дома Маджи тотчас удалилась в комнату для пуджи, где предалась безудержному горю. Мизинчик нашлась, и богов щедро отблагодарили, но Милочки до сих пор нет, и возможно даже, она мертва. «Неужели она сбежала, да еще и — прости господи — с парнем? А Мизинчика попросила ее покрывать?»
Маджи решила, что расспрашивать Мизинчика в больнице слишком рискованно и нужно подождать, пока внучку привезут в бунгало. Сидя в святилище, Маджи горевала по своей подруге Вимле. Прошлого не воротишь, сокрушалась она. Бедная милая Вимла, снова доведется ей испытать ту же боль — страшную всеохватную пустоту внутри.
«Погибнуть или пропасть без вести — что хуже?» — спрашивала себя Маджи.
Если Милочка и впрямь сбежала, она нанесла непоправимый урон семейной репутации. А вдруг Паскаль прав? Вдруг в этом замешана Авни? Что, если ей удалось подговорить Милочку, а та пала случайной жертвой? Едва сдерживая слезы, Маджи умоляла святую троицу — Брахму, Вишну и Шиву — каким-нибудь чудом вернуть Милочку живой.
«Хорошо, что я сторговалась с этим Паскалем: семейная репутация — превыше всего», — подумала она, вытирая глаза концом паллу. Что бы ни случилось с Милочкой, нет никакого смысла приплетать сюда еще и Мизинчика. От этого одни неприятности.
Приведя себя в порядок, Маджи позвала Джагиндера, который в гнетущей тишине метался по зале:
— Надо поговорить.
Закрыв за собой дверь, Джагиндер остановился в нерешительности, спрятав окровавленную руку за спину. Они долго смотрели друг на друга, словно говоря: «Нам вдвоем эту кашу расхлебывать».
— По-моему, для Савиты это слишком большой стресс, — начал Джагиндер. — Кажется, разум ей отказывает. Ведь ее прабабка была того? Ты мне рассказывала, что она тоже разговаривала с привидениями. Это передается по наследству?
— Твоя жена сильнее, чем ты думаешь, — возразила Маджи. — И умнее. Тебе есть чему у нее поучиться.
— Ну да! — Джагиндер хохотнул. — Так тебе умник потребовался? Я не позволю поставить Нимиша во главе фирмы. Или я лишу его, на хрен, наследства. Ха!
— Так вот что ты замыслил? — Маджи ничуть не смутилась. — А я-то думала, тебя больше волнует благополучие семьи. Разве ты не помнишь слова отца на смертном одре?
Джагиндер помнил. «Сынок, — сказал Ома-нандлал, — судоразделка — не просто бизнес. Это твой священный долг, дхарма твоей жизни. У твоей матери прямая телефонная линия с Богом — используй ее на полную».
Отец тогда взглянул на Маджи, будто хотел попросить ее тотчас же позвонить в небесную канцелярию и вселить его старую душу в новое тело — тело министра из Партии Конгресca[196], а возможно, и кинозвезды типа Кумара «Юбилея» или закадрового певца Кундан Лал Сайгала[197]. Ни с того ни с сего он вдруг замурлыкал колыбельную из популярного фильма 1940-х «Зиндаги»: «Спи, принцесса, усни. И пусть тебе приснятся сладкие сны. В них ты увидишь свою любовь. Лети в Рутнагар, тебя там девы обступят. Царь украсит тебя цветочной гирляндой».
Он все пел и пел. Темные глаза Маджи блеснули, когда взгляд мужа окончательно затуманился. А Джагиндеру так и не хватило смелости сказать отцу, что их телефонная линия доходит не до богов, а в лучшем случае до храма Валкешвар вдоль по улице…
— Он сказал, что это мой долг, моя дхарма, — ответил Джагиндер.
Маджи решила разыграть карту «благополучие семьи».
«Черт, черт, черт», — подумал Джагиндер и быстро сменил тактику.
— Незачем разрушать семью, которую я сплачивала всю свою жизнь, — устало продолжила Маджи. — В делах нынче требуется расторопность. К сожалению, Нимиш не таков. Туфан, пожалуй, похож на тебя, но он еще слишком молод.
У Джагиндера поднялось настроение:
— Туфан?
— И хватит уже пьянствовать. Я больше не буду закрывать на это глаза, ты понял?
— Да.
— Пока я жива, я останусь главой семьи, понятно?
— Да.
— А теперь слушай внимательно. Ты должен встретиться с этим инспектором Паскалем в ресторане «Азиатика». У Чёрчгейт, в пять часов.
— Инспектором Паскалем?!
— Он согласился не упоминать Мизинчика и замять это дело в прессе — в обмен на кое-какую… — Маджи потерла большим и указательным пальцем.
— Что?! Ты хочешь втянуть меня в аферу?
Маджи подняла брови:
— Можно подумать, что ты всегда строго следуешь закону. Никому это не повредит. Паскаль даст тебе сверток. Принесешь его прямо ко мне в комнату, понял? Возьми деньги в шкафчике.
Джагиндер помедлил. В руке пульсировала боль, на тонкой рубашке запеклась кровь из раны.
— Что в свертке?
— Это не твое дело.
Джагиндер поискал ответа на лице матери, но так и не нашел.
— Достойный человек должен сделать все возможное для защиты своей семьи, — прибавила Маджи и посмотрела на раненую руку сына.
Снова этот чертов «семейный» козырь. Выбора у Джагиндера не оставалось.
Маджи заняла свое место в зале на украшенном возвышении и призвала домочадцев. Джагиндер сел и принялся вытирать пот со лба. Мальчики пришли, дожевывая картофельные лепешки с начинкой. Савита томно проследовала к софе, где и свернулась калачиком, смежив веки. Парвати и Кандж явились с холодным зеленым шербетом для взрослых и йогуртами ласси для мальчиков.
Гулу разместился на полу, стреляя глазами по сторонам. После исчезновения Мизинчика он ощущал неодолимую потребность найти Авни. А теперь, когда Мизинчик нашлась, он не сомневался, что Авни прячется где-то поблизости. Утром он решил во что бы то ни стало ее отыскать. Друзья детства — Хари Бхаи из Дхарави, Бамбар-кар из полиции и Яш из Каматхипуры — с радостью ему помогут.
— Тьма опустилась над нашим домом, — начала Маджи, беспокойно заерзав. — Все началось вчера ночью. Дхир чуть не задохнулся. Мизинчика похитили…
— Милочка пропала, — добавил Нимиш.
Туфан стиснул бедра, надеясь, что его недержание не попадет в этот список. Утром он снова оплошал.
— Я помолилась и получила ответ.
Савита открыла один глаз.
— Четыре ночи в доме не должно быть ни капли воды.
Джагиндер не знал, чем вызвано решение Маджи, но ее план «полного обезвоживания» настолько не укладывался в голове, что он даже фыркнул:
— Сейчас ведь период муссонов, черт бы его побрал.
— Я знаю, — ответила Маджи, сощурившись. — Но нам нужно избавиться от призрака.
— Призрака? — Джагиндер громко выпустил газы, словно его укололи булавкой.
Туфан сорвался с места.
— Теперь-то ты мне веришь? — неожиданно выпалила Савита.
— «То, что однажды убило младенца, теперь поддерживает призрака», — припомнил Нимиш загадочные слова тантриста.
— Но зачем нам от него избавляться? — спросил Дхир, с полным ртом картошки.
— Тантрист предложил нам еще один выход, — сказала Савита, выпрямляясь.
— «Заглушить боль ее космической противоположностью, — вновь процитировал Нимиш. — И когда-нибудь она уйдет сама».
Все с недоумением посмотрели на него.
— Любовь, — пояснил Нимиш, — это космическая противоположность боли.
— Так давайте ее просто полюбим! — воскликнула Савита, благодарно сжав руку сына.
Джагиндер расхохотался.
— Это приличный индуистский дом, — сказала Маджи.
— Приличный? — Настал черед смеяться Савите.
— Вам всем нужно ее полюбить, — подхватила Парвати со своего места на полу, — лишь тогда она согласится уйти.
— Нет уж, только без меня, — заявил Туфан.
— Ну пожалуйста, — сказал Дхир. — Почему бы нам не попробовать?
— «Почему, почему»! — Джагиндер резко вскочил с дивана и шлепнул сына по голове. — Да потому что ты чуть не погиб, дурачок несчастный!
— Посмотрите, сколько уже неприятностей от вашего привидения, — сказала Маджи. — Если мы сейчас отступим, оно возьмет верх! И что тогда?
— Это всего-навсего младенчик! — в отчаянии вскрикнула Савита. — Ее никто не воспитывал! Я научу ее, как себя вести!
— Совсем рехнулась? — Джагиндер свирепо глянул на жену. — Не ешь чеснока — хорошо, твое дело. Каждое утро ставишь пацанам за ушами чертовы метки — ладно. Развешиваешь над кроватью куркуму — бог с тобой. Но всему же есть предел!
— Это дело решенное, — объявила Маджи. — И я не потерплю твоих дерзостей, Савита.
Невестка униженно закусила губу. Низменное стремление зрело в глубине ее груди, откуда по-прежнему безудержно лилось густое белое молоко. «Если через четыре дня, — молча поклялась она, уставившись на свекровь, — ты отнимешь у меня дочь, я отберу у тебя бунгало».
Маджи простерла руку с зажатыми в ней черными шнурками:
— Тантрист дал мне их, чтобы мы обвязали и высушили каждый кран в доме.
— Как же я буду мыться? — крикнул Туфан.
— А я? — подхватил целый хор голосов.
— «Мыться»! — раздраженно передразнила Маджи. — Еще засветло все краны будут закручены на четыре дня.
— Зачем нам всем так мучиться? — Джагиндер шагнул к телефону. — Я зарезервирую номера в «Тадже» на весь срок.
— Стой! — приказала Маджи. — Тантрист сказал, что все, кто был здесь, когда утонул младенец, должны засвидетельствовать кончину призрака.
— Мне придется пропустить уроки? — спросил Нимиш, думая о том, что надо вернуться в больницу к Мизинчику. Она последней видела Милочку. Она знает, что с ней случилось. Он нутром чуял, что Мизинчик знает.
— Никто не выйдет отсюда четыре дня, — ответила Маджи, ткнув тростью в каждого. — НИКТО.
Все громко выдохнули, задумавшись над тем, что подразумевал этот запрет.
— Парвати, белье придется каждое утро отправлять в стирку. Кандж, а тебе нужно оборудовать временную кухню в вашем жилище на задах.
— А призрак туда не доберется?
— Пошевели мозгами! — накинулась Парвати на мужа. — Он же не выходит из бунгало. Тантрист Баба сам в этом удостоверился.
— Гулу, съезди на рынок за основными продуктами. Кандж даст тебе список.
Шофер кивнул, молча поблагодарив своего бо-га-покровителя Ганешу, устраняющего все препятствия. Эта поездка позволит ему вырваться и наконец-то найти Авни.
— Кунтал, Нимиш, Дхир, Туфан, — продолжала Маджи, — малейшие капельки воды с потолка немедля вытирать. И вообще никаких жидкостей в доме. Вы поняли, что это значит? Нам всем придется ходить в туалет для прислуги на заднем дворе.
Тут Савита чуть не упала в обморок.
— Лучше уж помереть!
— У тебя нет выбора. Приспособишься, — сказала Маджи.
— А Мизинчик? — спросил Дхир.
— Она останется в больнице.
— Что?! — Савита заплакала, не в силах вынести такой несправедливости. — С ней там будут вовсю нянчиться, а мы тут живи, как беспризорники?
— Вспомни, ее здесь не было, когда утонул младенец.
— Ну ладно, — сказал Джагиндер с наигранной беззаботностью, — я пошел!
— Пошел? — удивилась Савита. — А ты-то куда собрался?
— Надо кой-чего уладить в конторе перед нашим заключением, — солгал Джагиндер; ирония была непреднамеренной.
— Я поеду с папой. — Нимишу требовалось выбраться из дома.
Джагиндер только фыркнул.
Нимиш повернулся к Гулу:
— Тогда я с тобой.
Гулу вытаращил глаза. Будь он проклят, если Нимиш разрушит его план побега.
Маджи шагнула вперед, догадавшись, что у Нимиша на уме.
— Ты останешься здесь, молодой человек. Когда все уладится, тогда мы поговорим с Мизинчиком.
— Но ведь она же была вчера ночью с Милочкой!
— Нет, — солгала Маджи, как и было условлено. — Инспектор Паскаль нашел ее одну-оди-нешеньку и прямиком отвез в больницу. К Милочке она никакого отношения не имеет.
Нимиш понурил голову. «Я должен выбраться отсюда сегодня же», — подумал он.
Маджи повернулась к Джагиндеру и погрозила пальцем:
— Только вернись засветло. На закате ворота запрут на цепь.
— Не беспокойся, — пообещал Джагиндер, направляясь к двери, — вернусь.
Заметив прямоугольную выпуклость в кармане его плаща, Нимиш отвернулся, и на миг не поверив, что отец возвратится.
Хрустальные флакончики аттаров
Гулу и Джагиндер выехали из бунгало одновременно, но на разных машинах и в различном настроении. В черном «мерседесе» Джагиндер сжался, точно лев перед прыжком. А Гулу в «амбассадоре» освежал в памяти свою мальчишескую решимость на вокзале Виктория, прижимая к груди забинтованную руку. Не сговариваясь, оба направились к главному полицейскому управлению, но Джагиндер просто проехал мимо, обдумывая предстоящее, а Гулу вошел внутрь, надеясь на удачу.
Джагиндер добрался первым и замедлил ход напротив высокой каменной арки и викторианских колонн, поддерживавших второй этаж. Все здание обветшало. Толстые каменные стены, скрепленные известью, заплесневели, на красной покатой крыше не хватало как минимум половины черепиц, а грязные окна бесстыдно прятались за треснувшими и покоробленными деревянными планками. Слева от строения рядами стояли металлические цилиндры, захваченные во время облав на нелегальные винокуренные заводы и брошенные здесь лишь для того, чтобы произвести впечатление на приезжих старших офицеров.
Справа — стоянка с множеством конфискованных машин. Развалюхи, которые слишком накладно было требовать обратно через суд, попросту сгнивали. Другие, возможно попавшие в аварию со смертельным исходом, владельцы оставляли здесь, не желая прикасаться к вещи, принесшей панавти — «неудачу». Эти-то машины в конце концов продавались надежному перекупщику, что регулярно скупал в участке невостребованные товары, ворованные либо изъятые, и неплохие барыши оседали в карманах старших офицеров.
Джагиндер минуту помедлил, взглянув на табличку — белые буквы на синей доске, — что грохотала при каждом порыве ветра. В случае успеха, думал Джагиндер, он снова добьется расположения Маджи. Но если что-то не заладится, остается лишь гадать, чем кончится для него игра в кошки-мышки с инспектором. Встряхнув плечами, чтобы прогнать нарастающий страх, Джагиндер фыркнул. «Только представь, чтобы Нимиша попросили обтяпать дельце с инспектором полиции!» У него прибавилось уверенности, он нажал на газ и помчался к Чёрчгейт-стэйшн. Джагиндеру хотелось прибыть на встречу в «Азиатику» заблаговременно.
Приехав в участок, Гулу какое-то время посидел снаружи, на одной из деревянных скамей, расставленных вдоль веранды, и стал поглядывать на людей, дожидавшихся приема у инспектора. Женщина в бледно-зеленом сари оплакивала погибшего ребенка, колотя кулаком себя в грудь. Другие смотрели на нее безучастно, Гулу прошиб страх — подзабытое детское чувство уязвимости, когда он жил на улице и его вечно во всем подозревали. Тогда он не раз натыкался на полицейских, но Большой Дядя брал все проблемы на себя. Разъезжая по улицам Бомбея, Гулу по-прежнему сталкивался с полицией, но это были обычно скромные констебли, не смевшие придраться к человеку за баранкой внушительного «амбассадора».
Гулу встал, обошел причитавшую женщину, распахнул дверь и шагнул в здание цвета блеклой морской волны, что сотрясалось от телефонных звонков, топота и клацанья пишмашинок. Никто не обращал внимания на дикие крики из подсобки, где допрашивали подозреваемого. Тесный, но на удивление чистый вестибюль ломился от секретарей и офицеров, сидевших за разными столами. Участковый инспектор восседал в дальнем углу, за широким столом, застеленным бязевой скатертью. Перед ним, понурив голову, стоял оборванец, хотя рядом были свободны два деревянных стула. Справа — обезьянник, забитый мелким жульем, — все мужчины. Подросток-карманник сидел на скамейке прямо за обезьянником, не спуская глаз с блестящих часов участкового и представляя, как ловко их стибрит. Древняя старуха, зажав сари между ног и орудуя джхару с короткой ручкой, безжалостно сметала все на своем пути. Быстрыми круговыми взмахами метлы она выгребала из-под офицерских столов мусор, хлам, бесхозные чаппалы и складывала все это на мокрой земле за дверью.
Ввели женщину, причитавшую на веранде. Она бухнулась на колени и залепетала о том, что вчера ночью ее ребенка переехал пьяный подросток на импортной машине. Несовершеннолетний водитель угрюмо стоял пообок, а его богатый отец мял пачку рупий — залог за освобождение.
— Очень жаль, — мрачно сказал офицер обезумевшей женщине, пересчитывая купюры, — но закон есть закон.
— Простите, сэр! — воскликнула женщина. — Какой такой закон позволяет пьяницам давить детей и уходить безнаказанными?
— Очень старый, еще 1858 года, — авторитетно заявил полицейский, словно давность лет отчасти компенсировала его несправедливость. Он забыл добавить, что изначально эта статья должна была защищать британцев на конных экипажах, если они вдруг нечаянно переедут полуголых уличных ребятишек. Британцы давно уже не правили этой страной, а закон обслуживал зажиточных бомбейцев.
Женщина с криком бросилась к офицерскому столу, но ее перехватили два констебля, вооруженные латхи, и, оттащив к двери, вышвырнули наружу. Офицер досчитал деньги, смачивая большой палец красноватой слюной, чтобы разделить свеженькие банкноты.
Взгляд Гулу упал на шаткую деревянную лестницу, что вела к сырому коридору с грязными стенами. Наползающие друг на друга объявления, старые и выгоревшие, мозолили глаза с лестничной площадки, где узкое окошко, единственное не забранное ставнями, впускало прямоугольник яркого света. Лестница изгибалась прямо над Тулу, и вдоль нее тянулось несколько труб, выкрашенных в тошнотворно-оливковый цвет. Гулу прошел мимо ступенек к тощему, хмурому человеку, что сгорбился над грудой бумаг за столом у серой стены. Человек был в бежевой форме и, судя по погонам, имел звание помощника младшего инспектора полиции. Верхний кончик его карандаша злобно колол воздух. Лысина блестела от масла и пота. За спиной его стоял металлический шкафчик, а на стене висел график с розовыми и серыми кривыми — помесячная статистика преступлений. На деревянном крючке — брезентовая хозяйственная сумка, которую обыскивала довольно жирная крыса.
Этот-то человек Тулу и требовался.
— П. м. и. Бамбаркар! — воскликнул он, щелкнув каблуками и в шутку отдав честь забинтованной рукой.
— Да? — раздраженно буркнул Бамбаркар. Его карандаш завис в воздухе.
— Это же я, бхаи, Тулу.
Карандаш крутанулся в руке Бамбаркара. П. м. и. поднял глаза:
— Тулу с вокзала? С Виктории?
— Что, бхаи, не признаешь старых корешей? — весело сказал Гулу, подражая жестам чистильщика обуви.
— Все эти годы, — тихо проговорил Бамбаркар, — я думал, что Красный Зуб с тобой разделался.
— А я жив, как видишь.
— Вижу.
— Я вычислил всю нашу компанию. Ты — в полиции. Яш — на Фолкленд-роуд. А Хари Бхаи — в Дхарави.
— Яш — сутенер! — захихикал Бамбаркар. — А ты?
— Первоклассный водила, — подмигнул Гулу.
— Легальная работа. — Бамбаркар куснул карандаш. — Я и не сомневался.
— Слушай, брат, — спокойно сказал Гулу, присаживаясь, — нужна твоя помощь.
— Слушаю.
— Семья, на которую я работаю… их дочка Мизинчик Миттал…
— Ты работаешь на Митталов? — поразился Бамбаркар. — Так это ж мое дело!
— Да? Ну, тогда ты сможешь мне рассказать, что же случилось с айей.
— Авни Чачар? Мы не знаем. Ее мать твердит, что она умерла. Покончила с собой. Но никаких доказательств нет.
— Я видел ее!
— Видел? — Бамбаркар подался вперед. — Уверен на сто и один процент?
Гулу порылся в памяти. Прошло время, и он уже сомневался, что женщина, которую он видел за воротами, действительно была Авни. Возможно, он просто нафантазировал. Гулу покачал головой.
— Понимаешь, — продолжал Бамбаркар, понизив голос, — меня заставили переписать рапорт, чтобы спасти репутацию Мизинчика Миттал. Другая девчонка, Милочка, наверное, сбежала с каким-то парнем. А что касается Авни, вечером инспектор пошлет своих гундов прощупать ее семью. Надо их расколоть.
— Мне нужно увидеть мать Авни, бхаи. Прошу тебя, скажи, где она живет.
Бамбаркар покрутил карандаш и встряхнул стопку бумаг с переписанным протоколом. Выдавать такую информацию — против полицейских правил. Но Гулу — старый друг, и он работает водителем в очень богатой семье. Если оказать ему услугу, возможно, она окупится. Бамбаркар — большой спец по обналичке оказанных услуг. Это стало его своеобразным хобби: брать на учет всех, кто ему чем-нибудь обязан, и на всю катушку этим пользоваться — вплоть до бесплатного чая, который утром наливал чаивала, или бессрочного доступа к промежности симпатичной молодой соседки. О да, неоплаченные услуги равносильны власти — пьянящей, пробирающей до спинного мозга. Перебрав груду на столе, Бамбаркар тайком передал Гулу листок.
На просушку у земли была всего пара часов, а уже после полудня набежала муссонная мгла. Едва небо потемнело, а тени удлинились, тучи наконец прорвало с ужасным грохотом, и на заболоченный город обрушился страшный ливень, загоняя людей в укрытия и заслоняя дневной свет.
Стемнело быстро. Семейство Миттал, помывшись и насытившись ранним ужином, собралось в зале и нервно наблюдало, как углы комнат погружаются во мрак. Савита заперлась в спальне и ждала последнего момента, когда еще можно опорожнить мочевой пузырь в европейском туалете, пока Парвати не обвязала трубу черной веревочкой, чтобы сделать ее бесполезной.
Не желая встречаться с родителями во время пани-хатао, или «обезвоживания», Савита позвонила им после их возвращения из Гоа и сказала, что приедет в гости на следующих выходных. «Да ты хоть понимаешь, с кем мы провели отпуск? — рассердилась мать. — С Бипином и Мону! На прошлых выходных их принимал премьер-министр — сам мистер Неру! А теперь ты мне говоришь, что твоя Мизинчик нашлась и нам можно не приезжать?»
Савита ответила просто: «Мизинчик — не моя».
— Мама, пошли, — тихо позвал Нимиш из-за двери.
— Иду.
Сидя у трюмо, Савита любовалась своей богатой коллекцией индийских аттаров: крутила хрустальные флакончики в руках, подносила их к свету, наклоняла так и сяк, восхищаясь то ослепительным блеском, то ровными гранями. Вынув пробку, она поднесла флакончик к носу. Сандаловый аромат выдохся, а жидкость стала неприглядной, желтовато-бурой. Савита вспомнила, что получила этот подарок наутро после свадьбы. Джагиндер повез ее обедать на Колаба-козуэй. Савита чопорно сидела на переднем сиденье, а Джагиндер переключал передачи и, положив ладонь ей на ногу, впервые дотронулся до жены. Она хихикнула над этим ласковым жестом. Затем, уже после обеда, Джагиндер преподнес ей хрустальный флакончик в шелковом мешочке. «Мой любимый аромат, — мурлыкнул он. — Хочу, чтобы ты сегодня им пахла».
Савита осторожно поставила флакончик на место — первое в ряду бесценных воспоминаний, возможностей, кирпичиков ее «самой первосортной и самой первоклассной жизни», выстроившихся на трюмо. Она пробегала глазами флакончики, бегло их касаясь, и ароматы окутывали ее чарами ностальгии. Медовый месяц проплыл облачком розового масла — запаха любви. Позже ее верным союзником стал возбуждающий амбровый аттар, который превращал Джагиндера в сексуального зверя. Когда Савита забеременела Нимишем, Маджи подарила ей мускусный митти аттар[198] из священной земли у реки Ганг, способствующий переселению душ. А когда погибла ее дочь, Кунтал усердно втирала шамана аттар в недвижное тело Савиты для ее духовной защиты. Савита дотрагивалась по очереди до каждого хрустального пузырька: гул хина аттар[199] — для равновесия, чампа-ка — для очищения, агаровая древесина — для медитации, белый лотос — для просветления. Наконец, ее любимый, шафрановый аттар, воплощение Лакшми — богини богатства и процветания, чей аромат словно отливал золотом.
Она переборола желание наполнить каждый флакончик водой, дабы сорвать планы Маджи и удержать при себе свою призрачную дочь.
— Где ты? — прошептала она, озираясь. — Приди ко мне, чтобы я тебя спасла.
Но все было тщетно.
— Мама, — вновь постучал в дверь Нимиш. — Тебе что-нибудь нужно?
«Дорогой Ними, — подумала Савита, — мой любимый сынок».
— Ничего, бэта, можешь идти.
Савита неподвижно сидела перед трюмо, обдумывая, чем для нее чревато неповиновение мужу и свекрови. Кем бы она была, не стань миссис Миттал, прелестной женой мистера Джагиндера Миттала, владельца «Судоразделочного завода Миттала»? Да как ей вообще взбрело в голову перечить Маджи? Невзирая на мольбы Савиты, дочь к ней так и не вернулась — даже не показала своего личика, но зато открылась перед Мизинчиком и Парвати. «Выбрать из всех мою недостойную племянницу и служанку!» Савиту охватил приступ ревности.
— Значит, тебе нужна не я? Да? — воскликнула Савита и, не успев опомниться, принялась швырять аттары один за другим, разбивая хрустальные флакончики о стену. Комнату затопила удушливая волна смеси ароматов, и Савита едва успела добежать до ванной, где ее вырвало.
— Что там творится? — закричала Маджи из зала, когда первый флакончик стукнулся в стену.
— Мама! — Нимиш помчался к ванной. — С тобой все в порядке?
Перепуганные близнецы бросились следом, заскребли по двери липкими пальцами.
— Прочь! — зашипела Савита. — Оставьте меня в покое!
Она вытерла лицо, почистила зубы, а затем помочилась, с грустным хныканьем оглядывая чистую комнатку и словно оплакивая грядущую четырехдневную неряшливость. Теперь она задумалась, какой была бы ее жизнь, прими она одно из тех брачных предложений, что поступили к ней до Джагиндера. Ее родители серьезно присматривались к мальчику с отличной стартовой площадкой: его отец пользовался большим влиянием в Партии Конгресса. Мать Савиты вся трепетала от волнения. Но, тайком подсмотрев за этим кандидатом на светском приеме, Савита наотрез отказалась: «Коротышка!»
«Ну и что с того? — возразила мать и рассказала ей историю о пятой аватаре Вишну: — Вамана вообще был карликом, а обошел вселенную в два шага!»[200]
Поднявшись и завязав пояс трусов, она попыталась вспомнить, что же такое в Джагиндере заставило ее сказать «да». На фотографии он был светлокожий и симпатичный, но сердце у нее не екнуло. Его стартовая площадка тоже не впечатляла. Савита согласилась просто потому, что не было явных причин для отказа. И вот прошло много лет, она благополучно родила троих сыновей и обеспечила продолжение рода Митталов еще на одно поколение. Но теперь она отрекается от дочери, поскольку иначе придется заплатить слишком высокую цену. Савита дернула цепочку и проводила печальным взглядом последнюю капельку воды в доме.
Призрак резко проснулся в ванной. Обычно короткий сон освежал, и девочка впитывала остатки влаги. Но в тот вечер ей почему-то страшно хотелось спать и пить. Привидение скользнуло по трубе, стремясь утолить жажду, но, как ни странно, цилиндр оказался сухим вдоль всей длины. Призрак втиснулся в кран и приземлился в синее пластмассовое ведро. Это полностью вымотало девочку. Она пробыла в бунгало тринадцать лет, уживаясь с другими его обитателями благодаря странным ритуалам — запертая дверь, вытесненные воспоминания. И тут вдруг Мизинчик!
Мизинчик отперла дверь, обнаружила привидение, а затем снова и снова решительно возвращалась в ванную. Призрак окреп в ее присутствии, напитался ее рассказами и смог в результате раскрыть тайну своей гибели. Но когда наступил этот момент, Мизинчик убежала, не желая верить. Обидевшись и разозлившись, привидение решило отомстить. С того момента весь дом закружился в опустошительном вихре.
Призраку хотелось, чтобы семья страдала, хотелось власти, которую могли дать лишь муссоны. Девочка собиралась нанести удар в самое сердце клана Митталов.
Она поклялась убить Маджи.
В зале Маджи сказала Нимишу:
— Солнце уже зашло, запри ворота на цепь.
— А папа? — в один голос воскликнули близнецы.
— И Гулу, — добавила Парвати. — Оба еще не пришли.
— Запри ворота, — приказала Маджи. Тонкая линия ее губ не дрогнула, и лишь морщины в уголках рта стали глубже.
— Он не вернулся! — вскрикнула Савита, подавив желание выругаться и завопить: «Лживая, трусливая, мерзкая сволочь!»
Туфан разревелся. Нимиш обул сапоги и вышел в сумрак. Открыл ворота и выглянул на дорогу. «Это мой шанс, — подумал он, — решиться, найти Мизинчика и узнать правду». Бунгало за спиной хватало его когтями, душило страданиями своих обитателей. Ненастье ударило по лицу, забрызгав очки. Нимиш шагнул на улицу. Впереди манила пустая дорога. Розовые, зеленые, синие ворота, освещенные мигающими желтыми фонарями, были на ночь крепко-накрепко заперты. Ему так многого хотелось от жизни, а приходится торчать в бунгало, точно в ловушке, дабы оправдать туго скроенные ожидания семейства.
Нимиш вышел на середину дороги и воздел руки к небу. Он запрокинул лицо, чтобы дождь смыл обязательства, позволил вырваться из семейного круга и свободно пойти по улице. «Никогда не откладывай того, что считаешь правильным, — говорил один персонаж Э.М. Форстера. — Индия в такой беде лишь потому, что мы всегда откладываем дела». Эта застрявшая в голове строчка из «Путешествия в Индию» и подстегнула его в ту ненастную ночь.
«Я должен найти Милочку!» — решил Нимиш.
Он цеплялся за воспоминания: их свидание под тамариндом, шелковистое прикосновение ее дупатты к его щеке. Он не сможет четыре дня просидеть в бунгало сложа руки, ведь глупо надеяться, что бомбейская полиция отыщет Милочку.
С главной дороги донесся шум мотора. К нему приближались накрененные фары знакомой машины. Поняв, что в следующую минуту его задавят, Нимиш успел подумать лишь об одном: «Без меня она умрет».
«Мерседес» резко затормозил.
— Нимиш! Нимиш! — Джагиндер поспешно опустил окно. — Какого хера ты делаешь посреди дороги?
— А ты сам-то что здесь делаешь? — крикнул Нимиш, напрягшись всем телом и словно приготовившись к удару.
— Я кой-чего улаживал, — ответил Джагиндер, прикрывая лицо от дождя. — Думал, что опаздываю.
— Ты уже опоздал! Я ухожу!
— Уходишь? Куда?
— Милочка так и не нашлась.
— Арэ, герой, — сказал Джагиндер, выпрыгнув из машины. — И как ты собрался ее искать, а?
Нимиш опустил голову, дабы скрыть душевные страдания.
— Ну, рассуди здраво, — Джагиндер обнял сына за плечи. — Инспектор Паскаль — один из лучших в Бомбее. А ты ничего не смыслишь в сыске.
Нимиш почувствовал издевку в словах отца, который вновь указывал на его неполноценность. «Никогда не откладывай того, что считаешь правильным». Он стряхнул с плеча отцовскую руку.
— Я ухожу! — крикнул он и ринулся прочь.
— Нимиш! — Джагиндер рванулся за сыном. — Стой! Не глупи!
Нимиш побежал быстрее. Перед ним раскрывались возможности — неведомые, головокружительные.
— Ними! — завопила Савита из аллеи. — Бэта, вернись! Вернись!
«Без меня она умрет», — вновь подумал Нимиш и с ужасом осознал, что речь шла вовсе не о Милочке, как он предполагал, а о матери. Его решимость ослабла. Он непроизвольно замедлил шаг. Джагиндер подбежал к нему сзади и схватил сильными руками.
— Отпусти! — Нимиш отбивался, молотя отца кулаком в грудь. — Отпусти меня!
Савита нагнала их, бросилась к сыну, прижала его к себе.
— Только ты меня и любишь, — прошептала она ему в шею, — только ты. — А потом холодно мужу: — Ты вернулся?
— А разве я не обещал?
— Пошли, бэта, — сказала Савита, увлекая Нимиша в аллею. Джагиндер крепко держал его за руку с другой стороны.
Нимишу больше ничего не оставалось. Сдерживая слезы стыда, он смотрел, как Джагиндер запирает ворота на цепь и бунгало сжимает их всех в своих безжалостных тисках.
В окна педиатрического отделения Бомбейской больницы хлестал ливень, убаюкивая одних детей и пугая других; первые впадали в оцепенение, вторые заходились в горьком плаче. Мизинчик металась в лихорадочном бреду. Она очнулась посреди ночи — лицо все в капельках влаги. Похоже, распахнулось зарешеченное окно рядом с ее койкой. Промозглая сырость забралась под одеяло. Мизинчик откинула его. «Сейчас же, — подумала она, — я должна уйти сейчас же».
Мизинчик верила, что есть еще выход — маленькая надежда, и вспоминала, как когда-то считала привидение сестрой — своей двоюродной. Тогда, в тесном коридоре у ванной, между ними зародилась любовь, они вместе переступили границы и побороли страх. Но тогда же Мизинчик не захотела принять бесплотное создание, испугалась правды о том, что произошло много лет назад. И призрак отдалился от нее. Теперь, после страшного исчезновения Милочки, Мизинчик была готова на все, лишь бы узнать правду.
За окном мимоза выгибалась под ветром, ветви ее скребли по черной решетке, сорванные листья залетали в палату. Небо разорвала молния, и Мизинчику померещилось, будто что-то висит на дереве, но она засомневалась: луну заслоняли тучи. Светила только лампочка, торчавшая из столба за ее койкой. Мизинчик наклонилась обуться, и тут же на нее навалилась усталость.
Ветки хлестали по окну, словно пытаясь дотянуться и схватить ее.
Мизинчик оглядела палату, убедилась, что остальные дети крепко спят, и шагнула к раскрытому окну. Она выглянула наружу и ощутила что-то до боли знакомое — темное, пугающее присутствие. Голос прошептал: «Иди ко мне». Глубокий и скрипучий, такой ни с чем не спутаешь. Решетка отвалилась, дерево поманило. «Мне нужно бежать, — сказала себе Мизинчик. — Нужно добраться до призрака, пока не поздно. А еще я должна найти Нимиша».
Она протиснулась в оконный ироем, пригляделась к темноте внизу и прыгнула.
Священные книги и секс
Гулу ехал на Фолкленд-роуд, расположенную в квартале красных фонарей Каматхипура, к северу от вокзала Виктория. Он хотел найти Чинни, зная, что лишь она способна успокоить его в таком состоянии. Вдоль темной дороги выстроились ветхие деревянные здания, выкрашенные в зеленый или синий цвет и покрытые толстым слоем копоти, ржавчины и мочи. На первых этажах открытые окна были забраны решетками с замками, из этих клеток прохожих зазывали дешевые шлюхи, задирая ядовито-розовые сари и показывая голые ляжки. На верхних этажах окна были со ставнями, и над каждым висел красный китайский фонарик с приклеенным номером лицензии. Девицы соблазнительно высовывались, заплетая друг дружке в волосы жасмин. На этой улице ютились также развалюхи-гостиницы. Их хозяева продавали на парадных лестницах прохладительные напитки, а в особых комнатках на задах — нелегальный сельский самогон.
Проезжая часть была запружена такси, приблудными козами, водоносами, чаивалами, бездомными уличными проститутками, вынужденными брать койки напрокат, и предприимчивыми торговцами: один, например, продавал серенькую микстуру в пузырьке, суля посетителям борделей прилив недюжинной мужской силы. Паанвалы сидели у тележек, предлагая чара-ки-голиян — шарики из гашиша и опиума, иногда со щепоткой кокаина, а также смеси безобиднее: афродизиак «сломай кровать» или пааны, завернутые в толстые влажные листья. Мужчины сидели на корточках перед публичными домами и играли в карты, спуская те гроши, что сегодня заработали. Другие стояли в очереди перед кинотеатром «Пила-Хаус», на месте которого сто лет назад находился театр парсов, пришедший затем в упадок. Зрителей привлекала афиша с длинноногой голливудской блондинкой, лежащей на диване, хотя выходящая толпа была явно разочарована обширными купюрами, что сделал Индийский комитет по цензуре. На улицу волнами выплескивалась музыка из кинофильмов, а хиджры извивались всем телом, заманивая гомосексуалистов в свой специальный бордель.
Из двери дома 24 по Фолкленд-роуд, в котором жила Чинни, воняло мусором, гнившим по углам, стаи мух поднимались и опускались над ним, словно по команде. В канавах плавала блевотина, лестница была усыпана окурками. По склизкой воде плыли «французские письма» — прозрачные суденышки, уносившие человеческое семя в небытие. Краска давно слезла со стен, и дерево внизу затрухлявело от мочи, слюны и спермы. Целая банда крыс юркнула в открытую канализационную трубу, оставив свои предательские «крестики» на мужчине, валявшемся посреди лестничной клетки. Закаленная улицей проститутка лет пятнадцати стояла на пороге и курила биди, заведя руку за спину и выпятив грудь в туго натянутой блузке.
Гулу кивнул хорошо знакомому личику и поднялся по узкой лестнице на третий этаж, где Чинни проводила почти всю свою жизнь: с шести вечера до часу ночи — на службе, в остальное же время мучительно выщипывая, отбеливая и намазывая жгучими кремами неприглядные волосы на теле, особенно ниже пояса. Лишь когда Чинни становилась безволосой, а стало быть, чистой, она имела право обслуживать клиентов — мужчин с неимоверно колючей щетиной, у которых изо рта разило протухшей бараниной.
Лестница на третий этаж вела в невероятно узкий коридор, соединенный с полутемной комнаткой, откуда несло развратом.
— Ай баи, — обратился Гулу к чрезвычайно разжиревшей даме, которая жевала паан, развалившись на низкой тахте с яркой обивкой. — Открой.
Дама бегло изучила Гулу в тусклом свете, не решаясь открыть створчатые железные воротца.
— Это же я, Гулу, — сказал он, разозлившись на непривычный досмотр. Гулу приходил сюда каждый вторник, воротца распахивались, и его принимали, как родного.
— Ого, — подзадорила дама, — что ж ты сразу не сказал? Не узнала твоего лица. Какой-то ты весь перепуганный. Сегодня ведь не вторник?
За спиной у нее на поблескивающей горчичной стене горела лампочка. С потолка на линолеумный пол свисали тяжелые вельветовые портьеры. Шкафчик в дальнем конце комнаты украшала латунная статуэтка Лакшми, богини процветания и богатства. На приставном столике стояли сосуд для пуджи с зажженной свечой и стальная посудина с малиновым порошком. Дама только что благословила свой персонал — как и всегда перед началом работы. Две из шести девушек, обе в блузках с низким вырезом, сидели рядом с ней на видавшей виды тахте, обитой зеленым кожзаменителем; в ожидании клиентов одна массировала хозяйке спину, а другая — ступни. Еще одна, сидя на корточках, протирала грязной тряпкой пол. Три другие, в том числе Чинни, уже работали в дальних спаленках, разделенных деревянными переборками высотой шесть футов.
— Чаивала булао, — приказала хозяйка одной из девиц. Та свесилась с балкона и позвала разносчика чая, не забыв пофлиртовать с потенциальным клиентом.
В ожидании чаивалы Гулу сидел на шатком стуле, прислушиваясь к тихим стонам и пронзительному смеху, что наслаивались на более резкие звуки, доносившиеся с улицы. Он потрогал Бхагавад-гиту, засунутую в карман жилета. Гулу был неграмотный, но Чинни окончила начальную школу, и после секса она зачитывала ему вслух отрывки из священной книги.
Разносчик пришел и тут же ушел. Гулу неторопливо попивал чай, пока девицы его дразнили.
— Почему все время Чинни? — игриво спросила одна. — Мы ведь тоже сладенькие, как сахарок.
Гулу улыбнулся и покачал головой. Обе темнокожие девушки были девадаси[201] из карнатакских деревень. Родители пожертвовали их в местные храмы — то ли из поклонения богине Йелламе[202], то ли из-за нужды в деньгах, а затем их продали в бомбейский бордель.
Тут появился юноша в белой рубашке, свежей и накрахмаленной, брюках из шерсти и терилена с идеальными стрелками, с кожаным поясом «зодиак» (уже расстегнутым) и в начищенных черных туфлях «бата» — типичный наряд мальчиков из приличных семей и студентов-медиков.
Гулу незаметно расправил свою рубашку — темную, чтобы можно было носить несколько дней, не стирая.
Орлиный взор хозяйки оценивающе остановился на молодой проститутке.
— Иди помойся, — велела она, а затем нажала на кнопку, и над койкой Чинни настойчиво прозвенел звонок. — Что-то сегодня толстяк чересчур увлекся, — недовольно сказала она. Уголки ее рта всегда были опущены.
Вскоре из комнаты вышел клиент, впопыхах завязывая дхоти на дряблом брюхе, и поскорее выскочил в дверь, пока хозяйка не потребовала доплату. Чинни вышла следом, концом паллу вытирая с лица слюну.
— Ты? — удивилась она, увидев Гулу. Никогда он не приходил к ней в рабочие дни.
Гулу кивнул.
— Ого! — воскликнула она, заметив перевязанную руку. — Что стряслось-то?
Да ничего страшного. Небольшая авария.
Чинни пожала плечами и вернулась в свою спаленку, Гулу последовал за ней. Обычно он платил тридцать рупий и снимал Чинни на весь вечер. Но сейчас от нее пахло потом другого мужчины, и ему вдруг стало мерзко до тошноты.
Вокруг сомкнулись грязно-зеленые стены, выцветшее покрывало с цветочным узором было теплым и влажным на ощупь.
— Сходи подмойся. — Гулу отправил ее в подсобку, где находилась общая уборная — вонючий сортир, кран с холодной водой и бетонный водосток. Каждый вечер в воде растворяли фиолетовые кристаллы перманганата калия — для дезинфекции после секса, а в более концентрированных дозах — для выкидыша. Хотя младенцы в борделях — обычное дело, проституткам от них одни неприятности. Женщине с Фолкленд-роуд вовсе не нужно быть красавицей и даже не нужно обладать всеми конечностями. Молодость и девичья упругость — вот самые желанные и необходимые качества.
— Что, — насмешливо сказала Чинни, — не знал, что я шлюха?
Но она все же помылась, переоделась в свежее сари и вернулась с веточкой жасмина в волосах. Гулу расслабился и полез ей за пазуху — помять аппетитные сиськи.
Прежде Чинни была женой скромного банковского служащего, жила с ним в однокомнатном чавле в Байкулле. Но после безвременной кончины мужа ее продали в публичный дом, отняв грудничка. Сначала Чинни хотела покончить с собой. Но хозяйка, поднаторевшая в воспитании девиц, приковала ее к койке за лодыжки и велела неотрывно за ней следить. «Тоскуешь по сыночку, на? — спросила она Чинни через пару недель, сдвинув выщипанные брови с притворным сочувствием. — Слушай, будь умницей, и я устрою тебе встречу с ним, как только погасишь половину долга».
Наивная Чинни согласилась и за одну ану отправила родителям письмо с просьбой о деньгах. Его напечатал писарь, который сидел у Главпочтамта под загаженным голубями брезентовым навесом, с почерневшей жестянкой сургуча, керосиновой лампой и спичками. Чинни могла бы написать письмо и сама, но ей понадобился обратный адрес писаря. «Намаете, Амма и Баба, — продиктовала она мужчине в войлочной шапке, который очень медленно стучал на ажурном «ремингтоне», после каждой буквы поправляя свои полукруглые очки и внимательно проверяя напечатанное. — Муж умер, пожалуйста, пришлите денег. Скоро приеду с ребенком». Подписалась она: «С любовью, ваша дочь Чинта», назвавшись своим настоящим именем, а не тем прозвищем, что получила в борделе: Чинни — «Сахарок». Родители так и не ответили.
Пока Гулу работал чистильщиком обуви на вокзале Виктория, он часто наведывался к шлюхам-непалкам. Этих девушек, как правило, выкрадывали из дома — только их он и мог себе позволить. Но, устроившись к Маджи, Гулу охотно с ними распрощался и поднялся на ступеньку выше — к проституткам из низов среднего класса. Он мечтал когда-нибудь попробовать евразийских шлюх из самых дорогих борделей — закрытых заведений близ главной улицы, которыми заправляли франкоговорящие хозяйки, но ему вечно не хватало то ли денег, то ли храбрости. Чинни он приглядел в первое же свое появление на Фолкленд-роуд — заметил в окне, пока другая девица заплетала ей волосы. Чинни вовсе не была такой уж красавицей и, когда он брел мимо, задрав голову и изучая товар, даже плюнула в него красноватым сгустком.
Когда он вошел к ней впервые, Чинни не скинула с себя одежду, как проститутки, к которым он привык. Те сразу оголяли груди и предлагали сдавить их, точно гуавы на рынке. Гулу просто опрокинул ее на спину и сделал свои дела. Секс с Чинни был медленный, предсказуемый, почти скучный. Но Гулу провел детство в нищете, жил на улице, а потом на вокзале и никогда не знал, где утолит голод, поэтому он наслаждался ее отстраненностью и даже той неохотой, с какой Чинни ему отдавалась.
Теперь, спустя столько лет, уже замаячил ее закат: на Фолкленд-роуд он настигал с пугающей быстротой. Ей исполнилось двадцать восемь, и у нее часто подскакивала температура. Гулу знал, что большинство проституток не доживают до тридцати из-за грязи, насилия, болезней и недоедания. Гулу продолжал ходить к Чинни не ради удовольствия, а скорее из настоятельной потребности снимать напряжение. Тем временем другие девицы дразнили Чинни за ее беспощадную злобу: «Эй, Чинни, тебя зовут сахарком, но у твоих мужиков горечь во рту». Но с Гулу она все же умеряла свой гнев. Он был самым верным и самым давним ее клиентом, их отношения почти напоминали супружеские. После секса они нередко ходили в популярную местную забегаловку, где съедали на двоих миску свиных ножек, тушенных с перцем чили.
— Ты же обычно приходишь по вторникам, — сказала Чинни, задернув грязную простыню на двери, и они остались вдвоем в ее спаленке, где помещалась лишь кровать, на которой они и сидели.
Гулу сцепил руки на коленях, не глядя на Чинни и не касаясь ее.
— Расскажи, что с твоей рукой, на!
— Из-за меня погиб человек, — наконец сказал Гулу.
Среди завсегдатаев борделя попадались бандиты, наемные убийцы и прочие уголовники, так что Чинни не особо встревожилась. Но она удивилась, что в подобном деле замешан Гулу. Она знала, что он прилежно соблюдает законы, веря, что это убережет его от неприятностей, ведь когда еще чистильщиком обуви он их нарушил, пришлось удариться в бега. Насколько Чинни знала, теперь единственный порок Гулу — это она.
— Ты больше не работаешь водителем?
— Нет, — ответил Гулу, и у него нестерпимо защемило в груди при воспоминании о скромном жилище на задах бунгало, запасном дхоти, висевшем на бельевой веревке, рекламе «вишневого цвета» на стене и высушенной календуле под матрасом. — С завтрашнего дня. — Он рассказал о девушке, в которую был когда-то влюблен. — Я поехал в Колабу, чтобы найти мать Авни — Джанибаи. Нужно было выяснить, не вернулась ли Авни в Бомбей. Я поехал вопреки запрету Маджи.
— И что?
— И она рассказала мне о том, что случилось однажды утром тринадцать лет назад, как только закончился сезон муссонов… В праздник кокосов в день полнолуния… Она пошла торговать на вокзал Виктория, но слегка опоздала. Она увидела Авни, стоявшую возле путей, и направилась к ней. Тогда-то Авни и прыгнула.
— Под поезд?
Гулу повесил голову.
— Все эти годы я надеялся, что она вернется. Мне было невдомек, что она погибла. Если б я знал, что она удумала, никогда бы ее не отпустил.
На миг он представил себе это нелепое зрелище на большом экране, но изменил концовку, чтобы смягчить свою вину. В новой версии фильма Гулу оказывался в последний момент на перроне и под драматическое крещендо вырывал Авни из железных лап смерти.
— Ты любил ее?
— Да.
— А она тебя?
Гулу молчал. Он никогда не думал об этом раньше. Авни жила в доме, а он снаружи, и они очень мало общались. На самом деле, не считая пары слов, которыми они обменялись по дороге на вокзал, он вообще никогда с ней не разговаривал.
— Она не любила тебя, — отмахнулась Чинни. — Иначе не наложила бы на себя руки. Она бы попросила тебя забрать ее, уйти с работы, вместе куда-нибудь уехать.
Гулу опешил. В своих фантазиях он никогда этого не учитывал.
— Она выбрала смерть, потому что потеряла надежду, — сказала Чинни. знавшая, что именно дурацкая надежда помешала ей покончить с собой и на все эти годы приковала ее к борделю.
Она видела, как другие девушки откупались, принимая по пятнадцать мужиков каждую ночь, даже во время месячных, и подмешивали свою менструальную кровь в еду, которой потчевали самых выгодных клиентов, стараясь их приворожить. Но Чинни обслуживала не больше трехчетырех за ночь: многих отпугивала ее жгучая неприязнь. За все годы она так и не скопила достаточно денег. А пару недель назад в этот самый бордель явился ее сын — в залоснившейся рубашке, заправленной в штаны, с по-девичьи узкой талией и с прыщиками на юношеском лице. После этой последней, самой горькой обиды надеяться уже было не на что.
Чинни потрогала нож, спрятанный под матрасом. Она жаждала мщения.
— Нет, — повторила Чинни почти радостно. — Она не любила тебя.
— Заткнись! — прорычал Гулу. Резким толчком он опрокинул ее и выместил свою ярость, вину и утрату у нее между ног.
Затем, как обычно, он швырнул ей свою потрепанную «Бхагавад-гиту».
Не глядя на него, Чинни расправила на ногах нижнюю юбку и раскрыла книгу.
— «Совершенное блаженство воцаряется лишь в умиротворенной груди, в бесстрастной душе, очищенной от обид…» — начала она, но потом запустила книгой ему в голову.
— Ты что?
— Уходи, — сказала Чинни, глаза у нее сверкали.
— Послушай…
— Уходи! Не хочу тебя больше видеть. Никогда.
— Но как же ты справишься без…
— Без тебя? — фыркнула она. — Думаешь, все эти годы я ни в чем себе не отказывала? Да половина моего заработка уходит мадам 1&нга Баи, на квартиру и еду тоже немало, а ведь нужно еще платить взятки бахэнчод полиции. Ты платишь мне ровно столько, чтобы не помереть с голоду, но этого никогда не хватит, чтобы выйти на волю.
Гулу отвернулся.
— Ты обещал когда-нибудь меня забрать, — напомнила Чинни. — Но все это время ты любил Авни. Умерла-то она, но призраком для тебя стала я.
— Нет-нет, — стал уверять Гулу. — В этот раз все по-другому. Я больше не смогу вернуться на Малабарский холм. Я увезу тебя отсюда. Обещаю.
Чинни ему не поверила, но позволила обнять себя, предавшись иллюзии. Гулу зарылся лицом в ее волосы, пахнувшие жасминовым венком, который помялся во время их близости. Непросто будет оторваться от повара Канджа, Парвати с Кунтал и даже от его хозяев. Малабарский холм был его домом — даже в большей степени, чем многолюдные трущобы детства или вокзал Виктория, где прошли юношеские годы. Малабарский холм вновь поманил его, когда Чинни заговорила о квартире, которую они снимут в северо-восточном пригороде Бомбея.
— Новенькая посуда, приличная ванная, — перечисляла она, — и тишина всю ночь, чтоб ни одна собака не гавкнула под окнами до самого утра.
Гулу кивнул:
— Да-да, всё-всё.
Но сам он думал о том, что совершил в роковой день много лет назад, когда темнота поглотила солнце, небо почернело и светилась лишь тонкая лучина луны. Глубокий и неослабный стыд вынудил его заглушить это воспоминание, забыть о том, что желание способно привести в столь мрачное место. С тех пор он цеплялся за идиотскую надежду, что Авни однажды вернется. Но теперь, когда Гулу узнал, что она мертва, стыд сменился гневом — и тошнотворным страхом. Воспоминание тринадцатилетней давности маячило вдалеке отравленным кинжалом.
— Что еще? — разозлилась Чинни. — Ты меня даже не слушаешь!
Гулу невольно вздрогнул.
— Расскажи мне.
— Давным-давно, в день смерти Авни, я кое-что увидел, — сказал Гулу. — Все эти годы я хранил секрет.
— Что?! — Глаза у Чинни загорелись. — Ты знаешь какую-то грязную-прегрязную тайну своего босса-сахиба? Или что-нибудь о других слугах?
Гулу опустил голову, пытаясь скрыть навернувшиеся вдруг слезы.
— Ты плачешь? — удивилась Чинни. — Ну, тогда не рассказывай мне свой бесценный секрет, на? Попроси у них лучше денег за молчание.
— Шантаж?
— Это наш единственный шанс, — настаивала Чинни, повернувшись и глядя ему прямо в лицо. — Еще чуть-чуть денежек от твоего босса-сахиба или других слуг — вот что нам нужно, чтобы свить наше новое гнездышко. Если это касается мистера Босса, ты бы мог попросить целый лак: с!
— Нет-нет-нет, — воскликнул Гулу, почувствовав соль на губах. — Ты не понимаешь.
В душу хлынули непрошеные воспоминания: зловещая тишина грузового отсека на вокзале Виктория, потрескивание костра, пахнущего смертью, промозглый бриз, обдувающий потную кожу.
— А что тут понимать? — Вскрикнула она, ударив его по лицу. — Ты возомнил себя крутым киношным героем, а сам даже мухи не обидишь.
Гулу оттолкнул ее шершавыми руками, и лицо его посуровело.
— Разве твоя хозяйка тебя не вышвырнула? — язвительно рассмеялась Чинни. — Теперь у тебя никого не осталось, кроме меня.
Гулу трясло.
— Иди, — приказала Чинни, выхватив из тайника девятидюймовый нож. — Мне плевать, что там у тебя за секретик. Иди и принеси деньги. А не то я покончу с собой.
— Что?!
— Покончу с собой, — медленнее повторила Чинни, прижимая острый кончик клинка к сердцу. — И клянусь, что мой призрак будет преследовать тебя до самой смерти.
Заметив, как на ее груди проступает пугающая алая полоска. Гулу поспешно схватил свою Бхага-вад-гиту и выбежал, поражаясь, как неудачно для него выстроились в тот день звезды. Он не остановил Авни — так неужели теперь отвернется от Чинни? Как он сможет жить, взяв на душу еще один грех?
Гулу встал посреди грязной Фолкленд-роуд, наблюдая, как девушка в клетке расстегивает первую петельку тесной блузки, и слышал вой безутешных призраков Каматхипуры. Если он выдаст свою постыдную тайну, то не только угодит за решетку, но и наверняка развалит семью Миттал, и тогда роскошное бунгало Маджи разрушится до основания.
Фантасмагория тумана
В ту первую ночь Маджи заперлась в комнате для пуджи, а мальчики носились по дому с тряпками в руках, досуха вытирая остатки влаги. Туфан еще никогда в жизни так не веселился: он набрасывался на воду с напором своего любимого кушстивалы[203] Дары Сингха — настоящего индийского чемпиона мира по борьбе[204].
— Декхо![205] — радостно вопил Туфан, перескакивая с одной тахты на другую и осушая лужицу полотенцем, привязанным к груди. — Еще одна готова!
— Чем тут гордиться, дурачок? — осведомился Джагиндер, выглянув из-за газеты. — Ты что, хочешь стать дерьмовым бханги и драить с утра до ночи туалеты?
— Я — Дара Сингх! — заявил Туфан.
— Он каждое утро пьет молоко с медом и ест толченый миндаль на завтрак, — встрял в разговор Дхир, выучивший диету знаменитого борца наизусть.
Все мокрые тряпки сложили на задах, прямо у жилья Парвати и Канджа. Мальчики дрожали там под зонтами, когда пили кипяченое буйволиное молоко и выстраивались в очередь перед нужником — зловонной коробкой с двумя остроконечными керамическими подставками для ног над глубокой ямой и капризным краном, что капал в пластмассовую чашку.
Савита вышла из сортира в полуобмороке, зажимая нос белым платочком. Идя к дому, вне себя от нового унижения, она наконец-то продумала план захвата власти. Бросив на землю платок, на котором сама же вышила перед свадьбой изящно переплетенные инициалы — свои и Джагиндера, Савита смотрела, как ткань впитывает бурую воду. «Она хочет остаться чистенькой, — подумала Савита о Маджи, — но ее тоже можно замарать».
Савита заметила Канджа, который сидел сгорбившись у своего гаража и курил. Он следил за ней и быстро опустил глаза, едва Савита поймала его взгляд. Но она смутилась еще больше повара, решив, что тот прочитал у нее на лице мятежные замыслы. Оба уставились на испачканный платок. Наконец Кандж с ворчанием встал и достал платок из лужи.
— Выбрось, — велела Савита, а затем скрылась в доме, где заперлась у себя в спальне. Из шкафчика она достала бутылку «Роял салют» — единственную, что проглядели во время «зачистки» бунгало. Савита и сама не знала, почему тогда ухватилась за нее, но теперь, откупорив, поняла, что хотела раскрыть секреты этого сосуда, выяснить, чем же так одержим муж.
Савита поднесла горлышко к губам, смочила их, вдохнула пары, а затем, осмелев, сделала глоток.
Алкоголь обжег рот и горло, потом обдал огнем живот. «Так вот в чем ее сила». Савита еще немного отпила, и в ней проснулись невысказанные желания. Ей надоело быть невесткой — чужой даже теперь. Ей хотелось восседать на царском троне вместо Маджи, отдавая команды и принимая гостей.
Ведь это она, Савита, предупредила семью о потусторонней силе, тогда как Маджи объясняла все душевным расстройством. «А теперь поглядите на нее, — в ярости думала Савита. — Слушается во всем тантриста, словно полоумная». Не будет большой натяжкой, если предположить, что свекровь окончательно сбрендила: распустила слухи среди прислуги, а затем, чуть осторожнее, — среди ее детей и мужа. Но раз уж мощная хватка Маджи ослабла, Савита рискнет добиться абсолютной власти.
Она выпила еще пару колпачков и спрятала бутылку виски обратно в шкафчик. Савита поняла, что сначала нужно заручиться поддержкой Джагиндера. В первые годы их брака он всегда становился на сторону Савиты во время конфликтов с Маджи. Но мало-помалу, когда их отношения дали трещину, Джагиндер начал угождать матери, будто вновь стал ее маленьким сыночком, и все настолько перепуталось, что они не замечали недостатков друг друга. «Надо отбить Джаг-ги», — решила Савита, вспомнив те четыре дня в начале муссонов, когда они снова сошлись. Она соблазнила его, и он не поехал к Тетке Рози. Чувствуя непривычное покалывание алкоголя в затылке и внезапный прилив смелости в груди, Савита собрала все свое мужество перед следующим шагом. Она переборет отвращение и отдастся мужу. Пробудит его, чтобы он больше никогда не стремился к материнскому одобрению. Она его присвоит.
Савита легла на кровать и натянула на себя тонкую хлопчатобумажную простыню. Голова приятно кружилась. Савита вспомнила, что для стабильности в доме ей не хватает лишь одного. Она подумала о Нимише, своем первом и любимом сыне. Он всегда был тихим, задумчивым ребенком, рылся в книгах и не причинял никаких хлопот. Именно он, а вовсе не Джагиндер заботился о ней, когда утонул ребенок. Нимиш вытирал ей слезы своими ручонками и приятным голоском читал рассказы. Хотя ему тогда было всего четыре, он взял на себя заботу о Савите, на время забыв о своих личных потребностях, желаниях и мечтах.
«Без Ними мне не жить».
Хотя Савита любила и младших сыновей, она считала их никчемными и неспособными руководить семейным бизнесом. Дхир вечно нюхал ее духи, как девчонка, и крутился близ кухни, словно это ему нужно было научиться готовить, дабы затем ублажать свою будущую супругу. Савиту выводила из себя его изнеженность и большие глаза навыкате, которые таращились над пухлыми щеками, требуя ее внимания. Она не сомневалась, что, руководи Дхир «Судоразделочным заводом Миттала», его бы что ни день облапошивал Лалу, да и вся честная компания. А вот Туфан наверняка сумел бы застращать подхалимов и лизоблюдов, мухами кружившихся вокруг Джагиндера. Туфан был хитрым даже в детстве и использовал прислугу в своих целях. Но Савита все же побаивалась, что ее младшенький будет принимать необдуманные, опрометчивые решения и промотает семейное состояние.
«Да-да, наше будущее целиком зависит от Нимиша».
Она вспомнила безумный взгляд Нимиша, когда он выбежал из бунгало в ночь, крича что-то о Милочке. «Милочка?» С ошеломляющей ясностью Савита внезапно осознала, что семнадцатилетняя девчонка посягнула на чувства Нимиша, и ее внезапно обуял страх, что она потеряла сына навсегда. Благожелательность к старинным соседям вмиг испарилась. «Бесстыжая! Мотается посреди ночи бог знает к кому, да еще и развращает моего невинного мальчика!»
И все же больше всего Савита опасалась, что Нимиш покинет бунгало насовсем. Ему всегда хотелось завершить образование в Англии, поступить в Оксфорд, ведь для него все бомбейские университеты — не в счет. Савита знала: если сын уедет, он уже никогда не вернется домой. «Будет валяться с постели с этими наглыми белыми девками, примет христианство и начнет есть рыбу с картошкой!» Она отдышалась и поняла: самое главное — чтобы старшенький пустил корни в Бомбее, привязался к дому еще на одно поколение. Конечно, Нимишу всего семнадцать, но уже пора. Надо женить его при первой же возможности.
Савита понимала, что не так-то просто будет добиться его согласия в этом вопросе, особенно теперь, когда на горизонте появилась Милочка. Придется заманить его в ловушку. К счастью, Савита точно знала, как это сделать.
Наконец-то составив план действий, Савита провалилась в приятный, гулкий сон и проспала остаток ночи, не отпирая дверь. Джагиндер с мальчиками ночевали в зале, устроившись на толстых матрасах. Парвати и Кандж, дежурившие первую половину ночи, рыскали по дому с запасом полотенец. Маджи осталась в комнате для пуджи и в конце концов от изнеможения так и заснула на алтаре. А призрак младенца бродил поблизости, еще не догадываясь о том, что его решили уничтожить, и терпеливо ждал, когда же выйдет могущественная глава семейства Миттал.
Пока в темных коридорах Бомбейской больницы угрюмый педиатр наслаждался ночной тишиной и бойкой нянечкой по имени Налини, Мизинчик выпала из окна в мерцающую фантасмагорию тумана, в темное вневременное пространство.
Шептал и стонал ветер, в вышине колыхались пальмы. Безлюдный берег, изгибаясь, скрывался из виду. Целое небо черных грозовых туч держало в заложницах луну. Океанский прибой облеплял ступни жгучей солью. Мизинчик сбросила сандалии и зашагала по песку босиком. Ярдах в пятидесяти длинные деревянные каноэ с лютыми красными очами, нарисованными на бортах, раскачивались на ветру, наблюдая за ней, точно демоны, угодившие в джутовый невод.
Ледяной ветер пронизывал насквозь тонкую хлопчатобумажную пижаму, опоясывая лодыжки свинцовыми грузилами. У ветхого причала опасно кренился ажурный от прорех траулер, подпрыгивая и скрипя от каждой волны. В воздухе разливался жуткий смрад рыбьих внутренностей и гниющих плодов джамболана.
«Я что, спрыгнула? — Мизинчик пыталась сориентироваться. — Где я?»
Несмотря на эти вопросы, мелькавшие в голове, она твердо знала, что не спит и видит кошмарную явь. Откуда-то слышался скрипучий голос — тот самый, что исходил из горла Милочки, когда она увезла Мизинчика с Малабарского холма.
«Другого выхода нет. Я должна пойти на этот голос», — решила Мизинчик.
Зеленые ворота бунгало все утро были крепко заперты на цепь, и сквозь них могла просочиться разве что утренняя газета. В маленькой заметке «Индиан экспресс» говорилось: «Дочь мистера и миссис Миттал, владельцев «Судоразделочного завода Миттала», вчера вечером была благополучно возвращена домой бесстрашным инспектором бомбейской полиции Паскалем. Девочку обнаружили одну на улице и доставили в больницу, где поставили диагноз: пневмония в тяжелой форме». В отдельной статье указывалось, что Милочка по-прежнему не найдена. Арестован подозреваемый — студент колледжа св. Ксавье по имени Инеш Леле. Материал завершался внушительным послужным списком инспектора Паскаля.
Джагиндер уставился на снимок парня, которого видел один-единственный раз в «Азиатике» на Чёрчгейт-стрит, и его кольнула совесть. Зря он назвал Паскалю имя этого пацана. Поначалу беседа не клеилась: инспектор говорил холодно и враждебно, словно допрашивая подозреваемого. «Передайте дело своей племянницы в суд, и оно будет там пылиться даже после смерти ваших детей, — сказал Паскаль, когда Джагиндер попробовал снизить сумму взятки. — В судах и так уже скопилось два крора[206] нераскрытых дел. Если хотите добиться справедливости, придется обратиться либо к нам, либо к уголовникам. Выбирайте».
Сердце у Джагиндера заколотилось, и салунные двери приватного кабинета придвинулись, словно он сидел в камере напротив тюремщика. На секунду он даже подумал, не заявить ли на инспектора в Отдел по борьбе с коррупцией, и затрепетал при мысли, что Паскаля возьмут с поличным. Но если задействовать тамошних ищеек, они лишь притянут нежелательное внимание к семье. Паскаль выругался и встал, собираясь уйти. Тогда Джагиндер быстро толкнул через стол пачку рупий и назвал имя Инеша.
«Глупый мальчишка», — подумал Джагиндер, представив, как Инеш и Милочка сидят за столиком в «Азиатике», застеленным газетами: паренек декламирует беспомощные любовные вирши, а девушка скромно попивает чай. У Джагиндера не укладывалось в голове, как этот невинный, безнадежно влюбленный парень мог надругаться над Милочкой. Но без этого подозреваемого тень пала бы на Мизинчика, да и на всю их семью. Джагиндер сделал вывод, что Паскаль — из тех амбициозных кретинов, что метят на главный пост комиссара полиции. Он мог уничтожить Джагиндера и его семейство, не моргнув глазом. У него даже есть свой человек в газете, как предположил Джагиндер, присмотревшись к фамилии автора статьи. Его наверняка специально наняли для того, чтобы он представлял Паскаля в глазах бомбейской публики подлинной знаменитостью. «Нет, — подумал Джагиндер, — все-таки правильно я поступил».
Он раздраженно сложил газету, сунул ее под мышку, и ему захотелось чашку горячего чаи масала. Но чай разливали теперь по часам. Джагиндер поплелся в дальний гараж, где Маджи устраивала кормежку строго по расписанию. В девять утра — чай, в десять — завтрак. Обед в час, потом в четыре — чай, в семь — ужин, а в девять — снова чай. В промежутках никаких закусок, прохладительных напитков и даже воды. Словом, никакой «самодеятельности».
— Кандж! Кандж! — раздраженно позвал Джагиндер с черного крыльца, энергично расчесывая волосы на груди. — Я хочу чая.
— Сейчас только полдевятого, сахиб, — весьма почтительно отозвался из гаража Кандж, и обнаженная Парвати куснула его за ухо. — Очень сожалею, сахиб, так Маджи велела.
Джагиндер выругался:
— И за что мне это блядское наказание?
Даже сейчас Джагиндер с трудом верил в рассказы Маджи о призраках и прочей ерунде. «В маразм она, что ли, впала?» Но вчера ночью все же произошел один инцидент: груди Савиты. Джагиндер вспомнил, как в горло хлынуло густое молоко, он тогда чуть не захлебнулся и поклялся быть паинькой все четыре адских дня. Это такое испытание — ну как принцессу Ситу испытывали на верность огнем в Рамаяне. Под конец Джагин-деру захотелось очиститься от прошлых прегрешений нынешними страданиями. Поэтому он устроился на ступеньках и без интереса читал о мире за зелеными воротами, то и дело яростно поглядывая на гараж Канджа и Парвати, откуда доносился заливистый смех.
Без четверти девять Кандж наконец-то показался, лениво завязывая лунги, и, довольно улыбнувшись Джагиндеру, поставил чайник на плиту. Остальные домочадцы тоже неторопливо просыпались. Но едва Кандж ровно в девять крикнул: «Чай!» — все члены семейства вылетели наружу, пихаясь локтями, как при штурме переполненного автобуса.
— Хуже, чем в столовке! — фыркнул Джагиндер и взмахом руки смел с дороги Туфана.
— Стыд и позор, — простонала Савита. — Мои сыновья думают лишь о себе.
Вняв упреку, Нимиш выхватил первую дымящуюся чашку прямо из-под носа Джагиндера и протянул матери.
Джагиндер посуровел. Разве не его обязаны обслуживать первым? Но, тотчас устыдившись своего эгоизма и вспомнив о только что принятом решении, промолчал. Наверное, Нимиш его тоже проверяет. Джагиндер даже ощутил легкий азарт: если воспринимать все, что раздражает его в семье, как проверку на прочность, будет легче переносить лишения.
— Возьми, дорогой. — Савита протянула чашку мужу. — Ты же как-никак глава семейства.
Обрадованный этой неожиданной почтительностью и довольный тем, что мать ничего не слышала, Джагиндер расправил плечи и принял дымящуюся чашку. Савита улыбнулась.
На заднюю веранду, прихрамывая, вышла Маджи. Ночь она провела плохо, с трудом примостившись в тесной комнатке для пуджи. Впрочем, там, под недреманным присмотром богов, она чувствовала себя спокойно. Просыпаясь, разминала затекшую ногу, звякала крошечным серебряным колокольчиком и быстро бормотала молитвы. Боги непременно вознаградят ее за это благочестие.
Савита посмотрела в изнуренное лицо свекрови и участливо спросила:
— Может, вам лучше отдохнуть, Маджи? Вы как выжатый лимон.
— Нет, я не устала.
— Ними, подойди ко мне, — поманила Савита сына. — Почитай мамочке свою книжку, чтобы хоть как-то скоротать день.
Трое сыновей, телохранителями окружив мать, проводили ее обратно в дом, где она торопливо нарисовала им за ушами черные точки, а затем продержала детей взаперти до самого завтрака, который подали в десять.
Сидя на подоконнике, призрак с любопытством наблюдал за новым распорядком в семье. За исключением Савиты и Маджи, все спали теперь в гостиной и завтракали не в столовой, а во дворе. В ванных, туалетах и раковинах не осталось ни капли, а из кухни и кладовки убрали все жидкости. Даже грудь Савиты начала высыхать. Сила, обретенная призраком с начала муссонов, убывала без воды.
Эта внезапная слабость напугала привидение. Оно пристально следило за тем, как повар Кандж подает во дворе завтрак, опуская стальную чашку в большой кувшин с водой. Призрак впился взглядом в прозрачную жидкость, переливавшуюся всеми цветами радуги. Мало-помалу он решился выйти наружу. Правда, днем призрак был слабее всего. Малейшая дымка над головой придала бы ему сил. Но в то утро на небе, как назло, не было ни облачка. Привидение знало, что без воды до вечера не протянет. Отбросив сомнения, оно медленно поплыло к открытой двери — навстречу своему спасению.
Ощутив нестерпимую, обжигающую боль, призрак в панике отскочил. Он еще раз попробовал переступить порог, но снова наткнулся на раскаленную стену Привидение протяжно, судорожно завыло, серебристая грива коконом обвилась вокруг фигуры. В этот самый миг призрак заметил у порога тонкую полоску пепла, которая змеилась понизу стены, через равные промежутки поднимаясь к окнам и снова спускаясь. Младенец обошел все бунгало, следуя за полоской пепла, и вновь очутился у черного входа. Внезапно он все понял. Черная магия. Маджи колдовством заперла его в обезвоженном доме.
Из широко раскрытых, бессонных глаз капнула слезинка, засеребрившись, точно лунное озерцо, словно безжалостный блеск меча.
Девочку принесли в жертву.
Призраки побережья
Из больницы позвонили сразу же после завтрака, и словно бог Индра поразил Маджи своей молнией[207]. «Как ее могли забрать? — закричала она в трубку дрожащей сестре Налини. — Вы разве не дежурили? Разве на окнах не было решеток?» На все вопросы сестра ответила утвердительно, и Маджи не сомневалась, что это дело рук Авни. Похоже, их бывшая айя, виновная в гибели одной внучки, теперь задумала уничтожить и вторую.
Выйдя на берег, где со всех сторон несся злобный призрачный шепот. Мизинчик тяжело двинулась к воде. Мокрые водоросли хватали ее за ступни, замедляя ход.
В песке гнили сотни кокосов. Некоторые были расколоты, и мякотью их лакомились остроклювые птицы. Другие — еще целые и волосистые. Мизинчик наклонилась за одним, и кокос оказался на диво теплым, даже горячим, словно внутри тлел огонь. Она прижала его к груди, и жар растекся по телу.
В кокосе хранилось воспоминание о далеком дне, вернее, утре, когда родилась Авни и отец увидел ее впервые. Прилив, волнующий подъем сети, растянутой уловом, восход солнца над океаном — ничто не могло сравниться с творением его чресл.
«Глянь, — сказала слепая повитуха, показав на лишний пальчик на ноге младенца. — Это дурной знак».
Он опустил шершавую ладонь на шелковистую головку ребенка и решил сделать все, только бы пророчество не сбылось.
Мать Авни, еще дрожавшая от послеродовых схваток, окликнула его. «Не ходи сегодня, — взмолилась она, стыдясь признаться, что море у нее внутри пролилось и ее новорожденная дочь осквернила богиню океана. — Богиня была недовольна: я не домолилась».
Но отец Авни, положившись на древнее поверье о том, что рыбаку в море ничего не угрожает, пока его жена хранит целомудрие, улыбнулся и сказал: «Сегодня боги наградили нас ребенком. Значит, море тоже будет щедрым».
Затем он взял с собой кокос, дабы поднести его могучему богу моря Варуне[208].
Утреннее небо нахмурилось, ветер усилился.
«Шторм! Шторм!» — закричала повитуха, тыча в небеса.
Мучительно тянулись часы, пока наконец не настал час, когда каноэ возвращались к причалу из камня и дерева. Женщины вышли в дождь и радостно захлопали в ладоши, заметив, как лодки пытаются пристать к берегу, борясь с огромными волнами. Рыбаки выпрыгнули на песок, и женщины нетерпеливо потребовали первый улов в этом сезоне: лещ, лангусты, саранга, сурумаи и коламби — с больших лодок; моллюски, креветки и мандери — с каноэ. Женщины перебирали улов прямо на причале, возбужденно болтая и не обращая внимания на дождь, хлеставший в лицо.
Мать Авни до самой ночи стояла на берегу одна, вглядываясь в горизонт и высматривая мужа. По возвращении домой она встретила слепую повитуху. Та раззявила потемневший от табака рот, будто ей не терпелось сообщить новость.
«Девочка проклята, — сказала она, отдавая Авни. — После первой же крови ей не след здесь оставаться».
«Умоляю…»
«Едва хлынет кровь, она должна уйти! — Повитуха выхаркнула на песок вязкий комок. — Иначе навлечет на нас беду».
Понурив голову, мать Авни безропотно приняла приговор, вынесенный ее дочери. В глубине души мать понимала, что он справедлив.
Мизинчик присела и аккуратно положила гниющий кокос на песок, где он затерялся среди сотен других. Краем глаза она уловила зеленый проблеск вдалеке — единственный незрелый кокос на пустынном пляже, и ее вдруг потянуло к нему. Едва Мизинчик прижала кокос к груди, в памяти всплыли события вчерашнего дня, словно увиденные с тамаринда.
Открывается окно, и оттуда вылезает Милочка. Дупатта развевается золотым ореолом, губы подведены красной помадой.
Из пролома в стене появляется Нимиш. Его белая курта насквозь промокла от ливня, в темноте он похож на призрака.
Они встречаются под тамариндом. Ветви скорбно качаются под дождем.
Они стоят, прижавшись головами.
Затем — поцелуй.
Землю сотрясает гром, словно бог Индра едет по небу на своей царской колеснице, опустошая землю могучими ударами молний.
Под порывом ветра вытягивается ветка. Она ласкает мшистыми овальными листьями покрасневшую щеку Милочки и внезапно рассекает острым концом светлую кожу девушки.
Темный дух незаметно стекает со зловещего дерева вместе с дождем. Увлажнив лицо Милочки, он пробирается под ее нежные скулы, сквозь мочки ушей с золотыми эмалевыми сережками, а затем спускается ниже и ниже, пытаясь просочиться ей в сердце.
Вдруг Милочка туго стягивает дупатту на плечах и мчится прочь от дерева, от Нимиша, от дымной черноты, заполняющей горло.
За окном бунгало прячется третий — ее брат Харшал. Его некрасивое лицо искажено яростью.
Милочка залезает обратно к себе в комнату и собирается с мужеством, чтобы выполнить свой план — бросить Нимиша и сбежать.
Неожиданно чьи-то пальцы впиваются ей в горло, опрокидывают ее на кровать.
Руки хватают за груди.
В рот проникает чей-то язык.
Она отбивается.
В ярости оттого, что она подарила свою любовь другому, охваченный похотью Харшал разрывает ее шальвар.
Темный дух парит в воздухе и готовится.
Вставший член Харшала пронзает сестру.
Девственная плева порвана.
Из хлынувшей крови — нечистой крови — темный дул: черпает силу для своих действий.
Милочка перестает брыкаться.
Наконец, сдавленно вскрикнув, она отдается всем своим роскошным, желанным, прекрасным телом.
Но только не брату, а дочери рыбака — отверженной.
Она отдается Авни.
Уронив кокос вместе с хранящимися в нем воспоминаниями, Мизинчик упала в песок и зашлась судорожным кашлем. Наконец-то нашлось объяснение словам Милочки, ее безумному взгляду, окровавленной ноге, сверхъестественным способностям. Мизинчик почувствовала незнакомые, мучительные спазмы в животе, боль в спине.
В море, на разваливающемся траулере, мерцал огонек. Мизинчик вскочила и. увязая в песке, побежала туда.
«Я верю, — зачем-то повторила она кредо Одинокого рейнджера, — что рано или поздно… где-нибудь… как-нибудь… мы расплатимся за то, что взяли».
Да, что-то, без сомнения, взяли. Жизнь младенца. Возможно, жизнь Милочки.
И вот сейчас, пока она бежала на жутковатый отблеск фонаря, а океан плевался брызгами ей в лицо, Мизинчик понимала, что час расплаты настал.
Бунгало превратилось в плавильный тигель, сосуд, нагретый до температуры кипения страхами его обитателей, их напряженной близостью и стремлением выловить скверну, замеченную в священном вареве.
Наконец-то догадавшись, что его хотят засушить, призрак рыскал по дому в поисках воды и впитывал ее своими крошечными ладошками или густой светящейся гривой. Снова зарядили муссоны — злобные и обильные, будто матушка-природа пыталась вызволить свою родню. Дождь хлестал в окна, вода капала с потолков и собиралась лужицами на полу.
Ходить во временную столовую на задах стало опасно, и членам семьи приходилось выбираться по одному, чтобы поесть размокших овощей и выпить остывшего чая. Аппетит пропал у всех, кроме Дхира. Нужник переполнился. От тел разило несвежим потом. Воздух портили кишечные газы — едкие, отравляющие. Туфана по-прежнему подводил мочевой пузырь: мальчик писался в штаны в самый неподходящий момент и всякий раз зарабатывал звонкий шлепок от Джагиндера, уверенного, что сын делает это нарочно, лишь бы не ходить в зловонный сортир.
Савита редко выходила из комнаты — ни на кухню, ни в уборную. Кунтал тайком приносила ей воду и немного роти, а кувшин с нечистотами выливала в нужник. Тем временем Савита оттачивала свою стратегию, гадала, как подорвать авторитет Маджи, вернуть преданность Джагиндера и женить Нимиша.
В тот день она достала свои свадебные драгоценности, чтобы отобрать парочку для будущей невестки. «Какое приятное занятие», — размышляла она, с наслаждением перебирая сверкающую коллекцию и прикидывая, сколько та стоит, — сколько стоит сама Савита. На миг она представила, как вдвоем с дочерью они сортировали бы каменья. Малышка Чакори умоляла бы: «Мамочка, я хочу этот. Отложи его для моего приданого, ну пожалуйста». А Савита усмехалась бы: «Ну конечно же, моя лунная пташечка, для меня ты дороже любой невестки».
— Ой! — Вошедшая в комнату Кунтал испуганно отвела глаза от драгоценностей.
— Иди-ка взгляни, — беззаботно засмеялась Савита. — Тут нечего стыдиться.
Кунтал нерешительно приблизилась, взор ее притянули изысканный неотшлифованный алмаз и бирманское рубиновое ожерелье.
— Все это будет mi к чему, если план Маджи не сработает, — сказала Савита, осторожно подбирая слова. — Кстати, в последнее время она неважно выглядит.
— Маджи неважно выглядит?
Савита щелкнула языком:
— Столько всего странного творится. Тут и самый крепкий не выдержит. Скажи, какое ожерелье тебе больше нравится? Я подарю его тебе на свадьбу.
— Нет-нет! — Кунтал изумленно отшатнулась. Савита и раньше давала безумные обещания, связанные с замужеством Кунтал, хотя его вероятность слабела с каждым днем.
— Не говори Маджи, что мы все за нее волнуемся, — прибавила Савита, — а то она разозлится.
Кунтал кивнула. Она так свято верила во всесилие Маджи, что мысль о возможной немощи хозяйки ей даже в голову не приходила.
— Подойди-ка поближе, — поманила Савита. — Давай примерим это ожерелье.
Она украсила смуглую шею Кунтал, и рубин качнулся над ложбинкой груди. Кунтал застенчиво прикрыла лицо паллу. На минуту обе онемели. Потом Савита всплеснула руками:
— Вылитая невеста!
Кунтал украдкой взглянула в зеркало: «Неужели она и впрямь подарила бы это мне?» И тут же вспомнилась Авни: «Неужели она вернулась за мной?»
— Теперь ступай, — сказала Савита, снимая ожерелье. — Позови сюда Джагиндер-сахиба, а потом спроси у Маджи, не нужно ли ей чего.
Кунтал неохотно удалилась. Она любила ухаживать за Савитой, облачать ее стройное, благоухающее тело в шелковые сари, а после убирать с трюмо раскрытые тюбики помады или опрокинутые коробочки с краской для век, в восхищении касаясь каждого предмета. Но ухаживать за Маджи — будто таскать выброшенного на берег кита. Из-за ее габаритов усложнялось даже самое простое, — например, намылить обвисшие складки, до которых Маджи уже не могла дотянуться, или натянуть серовато-белое сари на необъятные бедра. И все это время, особенно когда Кунтал ее массировала, Маджи почти не разговаривала — разве что отдавала команды.
«Тьфу ты!» — мысленно фыркнула Кунтал. А ведь если Маджи захворает, у нее останется еще меньше времени на все остальное. Одиночество Кунтал скрашивала не только болтливость Савиты, но и кое-что другое — неосязаемое и невыразимое. Последние пару дней, когда она снимала с Савиты испачканную дупатту, взгляд падал на ее пухлые, влажные груди. Кунтал не делилась своими мыслями ни с кем — даже с Парвати, которая часто корчилась в заболоченной дальней аллее от приступов тошноты.
Джагиндер нерешительно постучал в дверь спальни, прикидывая, в каком настроении застанет жену. Только за последнюю неделю она сменила больше аватар, чем бог Вишну за всю историю вселенной. Джагиндер еще справлялся с ее инкарнацией «раненая пташка», когда в глазах стояли слезы и она лишь вздрагивала от его грубостей. Также он был искренне рад Савите, соблазнявшей его в постели несколько ночей подряд. Однако от недавних перевоплощений жены ему просто хотелось лезть в петлю. Например, еще вчера ночью сварливая баба послала его к чертовой матери, а уже сегодня утром любящая жена уступила ему чашку чаю.
Джагиндера не прельщали подобные игры, он и так из последних сил боролся со своей пагубной привычкой. От саднящей жажды разболелась голова, дрожали пальцы. Густой туман в голове мешал соображать. Помяв напряженно пульсирующую шею, Джагиндер приоткрыл дверь.
— Савита?
— Входи, дорогой.
Жена лежала на кровати, в окружении раскиданных драгоценностей. Такое буйство сверкающих красок в аскетичной комнате ошеломляло.
— Что все это значит?
Савита поманила его:
— А поздороваться?
Джагиндер хрустнул шеей, спиной и всеми костяшками, а затем уселся на край кровати, прикоснувшись к серебряному покрытию каркаса. Когда-то эта мебель его возбуждала. На ее бесцветном фоне Савита выделялась ярким пятном. Однако недавно Джагиндер понял, что сам выглядит совсем иначе: в своих одноцветных куртах и штанах он полностью сливается с кроватью.
Савита припала к его широкой спине:
— Я волнуюсь за Ними.
— Да на хрен о нем волноваться? — огрызнулся Джагиндер. — Нормальный парень с нормальными потребностями.
— А что это за баловство с Милочкой?
— Ему хочется быть героем, вот и все.
— Больше ничего?
Джагиндер прищелкнул языком:
— Лично я бы волновался, если б он, наоборот, не западал на такую красотку.
Савита посерьезнела:
— Вот именно. Поэтому нужно его поскорее женить на хорошенькой пенджабской девочке.
— Женить? Да ты же сама вечно твердишь, что ему надо учиться.
— Согласна. — Савита принялась массировать плечи Джагиндера. — Но учиться-то он сможет и дальше, а жена его остепенит.
— Но… но…
— Никаких «но», — перебила Савита. — Маджи и так еле справляется с хозяйством, а тут еще все эти ужасные события последних дней. Неужели ты не понимаешь, что невестка — это наше спасение?
Джагиндер вспомнил, как после их свадьбы Савиту впервые внесли в дом из машины, украшенной гирляндами календул. Всю аллею и весь дом усеивали лепестки роз. Она была так прекрасна, так застенчива, так безупречна, когда рассыпала на счастье пригоршню риса у порога, взмахнув унизанной браслетами ножкой и тем самым предрекая, что принесет в семью процветание. Тогда ему нестерпимо захотелось молодую жену, которая была воплощением всех его юношеских грез. «Пусть Нимиш еще потомится», — подумал Джагиндер, завидуя сыну из-за того, что он скоро испытает такой же восторг.
— Он еще слишком молод, — возразил он, чувствуя, как теплые пальцы Савиты разминают плечи. — Лучше б ему на пару лет подрасти, чтоб он мог вылепить жену по своему вкусу.
— Но у меня уже есть на примете идеальная девушка. Жаль, если ее перехватит кто-то другой, — сказала Савита. — Ты ее знаешь. Джухи Кханделвал.
— Дочка Фалгуна?
— Она самая, — взволнованно подтвердила Савита. — Ей тоже семнадцать, и она красавица. А еще скромница — даже в колледж ходить не желает. По слухам, из нее можно вылепить что угодно.
Джагиндер припомнил, как один раз ходил к Фалгуну на обед, когда Савита отправила мальчиков на каникулы к своим родителям в Гоа. Джухи была еще маленькая, лет двенадцати, но даже тогда лицо ее поражало красотой. В городе почти все поголовно были кареглазые, так что изумрудные глаза Джухи накрепко врезались в память. «И вот теперь, — подумал он, — она может стать моей невесткой».
— Давай поговорим об этом, когда все придет в норму.
— В норму? А вдруг план Маджи провалится?
— Не провалится. Тантрист ведь сказал: четыре дня. — Джагиндер напрягся.
— Он еще сказал, что мы должны оставаться здесь — все, кто тут был, когда погиб наш ребеночек.
— Ну и что?
— А то, что Гулу здесь нет. И той мерзкой айи тоже.
Джагиндер снова хрустнул костяшками.
— А вдруг наша девочка жива? — размечталась Савита. — Что тогда? Может, она перебьет всех вас за то, что хотели от нее избавиться?
— Ты в своем уме? Думаешь, мы сможем обуздать призрака, если он решил здесь остаться? Черта с два! Он еще больше обнаглеет и под конец перебьет всех нас — тебя в том числе.
— Ох, Джагги, — Савита решила сменить тактику, — тебе не надоела эта безводная пустыня? Все эти унижения перед слугами?
— Нужно довести дело до конца, — ответил Джагиндер без прежней уверенности: голова у него разболелась еще сильнее. — Чего бы это ни стоило. Иначе покажем свою слабость.
— Пожалуйста, Джагги, — взмолилась Савита, разминая пальцами его шею. — Позволь мне навести справки о Джухи?
— Ладно, ладно, — уступил Джагиндер, отмахнувшись.
Савита благодарно его стиснула:
— Она идеально подойдет Нимишу. У меня чутье!
— Только, прошу, не увлекайся. Сначала надо спросить Маджи.
— У нее сейчас столько хлопот, — сказала Савита. — Разве ты не заметил, как она вымоталась?
Джагиндер застыл, не желая ни уступать жене, ни предавать мать. Его пальцы снова задрожали. Тело ломило от усталости. Он сцепил руки, чтобы напрячь мышцы. «Сейчас бы добрый глоток виски!» В памяти всплыл манящий образ, но Джагиндер не знал, что единственную бутылку Савита спрятала за тонкой стенкой металлического шкафчика. «Всего лишь глоточек».
— Ты должен уговорить ее меньше суетиться и больше отдыхать, — продолжала Савита. — Мы и сами справимся.
— Все равно ее нужно спросить, — устало настаивал Джагиндер.
— Хай! Хай! — запричитала Савита. — Тебе все хиханьки-хаханьки. Лучше покажи, какой бриллиантовый комплект мы подарим невестке при помолвке?
Джагиндер машинально глянул на кровать и ткнул в самый ближний.
— О господи! — взвизгнула Савита. — Как тебе вообще в голову взбрело выбрать такой простенький?! Они же решат, что мы нищие!
Джагиндер выдавил улыбку, а Савита еще раз его стиснула.
— Ох, Джагги, — заворковала она. — Ними будет так счастлив.
Джагиндер выпрямился и рассеянно поскреб грудь, припомнив недавний выпад Нимиша. Савита права, неохотно признал он, мальчишке просто нужна жена. В его возрасте Джагиндер страшно стеснялся и большую часть своего личного времени усердно восстанавливал гормональное равновесие. «Да, Нимишу нужна жена для снятия напряжения». Как только Джухи войдет в их дом, Нимиш постепенно откажется от своих безумных планов учебы за границей и романтических бредней о Милочке. Семейная жизнь его остепенит, как и следовало бы ожидать. «Может, через годик я даже стану дада-джи. — От этой мысли сразу перехотелось пить. — Подумать только! Я — дед!»
Но затем Джагиндер задумался над предостережением Савиты: «А вдруг план Маджи провалится?» Он готов был пережить четыре дня страданий, веря, что сразу после этого наступит спасение. Теперь же он впервые допустил мысль, что злобный дух может надолго заманить их в этот ад, как в ловушку. «Если мамаша подкачает, — поклялся Джагиндер, — я продам это бунгало к чертям собачьим».
Савита блаженно заснула в окружении своих драгоценностей. Во сне к ней снова явилась дочь и сосала грудь так, словно проголодалась до смерти. «Пей, пей», — тихо шептала Савита дочери, и нежная кожа на младенческом личике становилась прозрачно-розовой, а крошечные капельки пота выступали полукругом под глазками, что стыдливо прятались за густыми ресницами. Но затем сон вдруг обратился кошмаром. Младенец поднял ввалившиеся глаза, хватая ртом воздух. В ужасе Савита поняла, что ее вероломные груди опять высохли.
Ее ребеночек умирал.
После обеда Нимиш бродил из угла в угол по своей комнате, названивал в полицейский участок или распахивал боковую дверь, едва начинался дождь, чтобы взглянуть на тамаринд, поблескивавший за стеной во дворе Лавате.
— Милочка, Милочка, Милочка, — повторял он, как молитву, — вернись ко мне.
Затем столь же пылко взывал он к Мизинчику, все больше тревожась за ее безопасность. «Неужели ее и впрямь снова похитили?» Потом в голову полезли мысли пострашнее: «А вдруг Милочка собиралась сбежать? Вдруг она действительно встречалась с другим парнем? Вдруг ее обещание под тамариндом было всего-навсего обманом?»
Нимиш со всего размаху захлопнул дверь. Она недовольно заскрипела, и в памяти внезапно всплыл забытый эпизод, вызвав приступ острой боли. Тогда ему было всего четыре года, и он спал в кроватке, пока его не разбудил скрежет этой же двери. Он вспомнил, как услыхал шаги в коридоре и решил, что это Маджи, которая обычно убаюкивала его своими утренними обходами. Но в то утро Нимиш почему-то не заснул. Он услышал обрывки мелодии, потом низкий голос отца. Затем снова шаги, теперь уже быстрые, и другие, не столь отчетливые звуки.
Испугавшись, хоть и не понимая толком чего, Нимиш перекинул ноги через край кровати и решил позвать Авни или Кунтал. Казалось, прошла целая вечность. Он осторожно слез с матраса и, выглянув из-за двери, заметил, как бабушка выводит айю из ванной и провожает ее до входной двери. «Что случилось?» Нимиш неслышно потопал в уборную. Подойдя к латунному ведру, он увидел сестренку — с синюшным личиком, завернутую в полотенце и камнем лежавшую на Деревянном табурете.
«Проснись! — упрашивал он ее, и волоски по всему телу вставали дыбом от страха. — Проснись! Пожалуйста!» Но сестренка не шевелилась. Нимиш услышал, как закрылась входная дверь, помчался обратно в кровать и спрятался с головой иод одеялом. Сердце бешено колотилось — он боялся, что его застукают. Он лежал, сдерживая слезы, даже когда проснулся и захныкал годовалый братишка. Нимиш надеялся, что увиденное сотрется из памяти, если только не двигаться…
К горлу подступил комок. «Столько потерь». Когда погибла сестренка, он не спал и находился всего в двух шагах, в соседней комнате. «Если б я только вылез из постели чуть раньше, я мог бы ее спасти, и не было бы никакой трагедии».
Он привалился к стене, наконец-то осознав груз вины, который носил с собой все эти годы. «Вот почему я всегда так заботился о маме, — потому что я ее подвел». Злость на отца тоже зародилась в тот же день. Ведь именно отец потребовал молочную смесь и запустил адскую колесницу Джаггернаута. Затем Джагиндер пристрастился к спиртному и упивался жалостью к самому себе, вместо того чтобы наладить эмоциональную обстановку в семье. После гибели ребенка все развалилось. Но даже этого оказалось мало. Теперь сестренка вернулась в виде призрака, чтобы мстить дальше. Разве навсегда разлучить Нимиша с Милочкой — не лучший способ с ним расквитаться?
Нимиш сполз по стенке и рухнул на пол.
— Прошу тебя, — взмолился он, обращаясь к неосязаемому потустороннему миру, хотя еще пару дней назад даже вообразить этого не мог. —
Тогда мне было всего четыре года. Пожалуйста, не забирай Милочку.
За дверью призрак, забившийся в ванную, открыл глаза.
«Воды», — прошептала девочка старшему брату, и ее прозрачные волосы вздулись чистым, стерильным облаком.
«Воды».
Траулер и правда
Парвати потрогала живот, благоговея перед новой жизнью, которая, согласно древним Ведам, должна была в ближайшие дни обрести душу, а затем, на седьмом месяце беременности, — сознание.
— Пакорочка ты моя. — Повар Кандж ласково назвал будущего ребенка жареным шариком из нутовой муки.
— Столько лет не было детей, — заговорила Парвати, сглаживая острые углы. — А к следующим муссонам она уже будет с нами. Ты можешь в это поверить?
— Она? — обиделся Кандж и сплюнул, вытащив изо рта веточку ншла, которой чистил зубы. — Родится мальчик.
— Почему ты так уверен?
— Ребенок у тебя в животе — как тесто, на! Добавишь сахара — и получатся сладкие пури, годные лишь для завтрака или на закуску. Но если добавить соли, получишь роти — основу жизни. В моем семени — только соленые-пресо-леные мальчики.
Парвати рассмеялась. Лишь они с Канджем сохраняли в эти дни чувство юмора — их взбодрила беременность и невероятные перемены в бунгало, из-за которых Митталы стали чуть ли не бездомными. Еще вчера утром Джагиндер выпрашивал у них чашку чая.
— Я буду горевать, когда призрак уйдет, — с тоской сказал Кандж. — В жизни так не веселился!
— Ого! — воскликнула Парвати. — Не злорадствуй! У тебя самого стряпня стала такой водянистой, что хоть в стаканах подавай.
— А чего ты хотела, если приходится готовить под дождем?
— Нечего расстраиваться. Завтра вечером привидение исчезнет и все опять вернется в норму.
— Ну ладно, — продолжал Кандж. — Призрак уйдет, а как же айя?
Парвати тревожно заерзала.
— Она ведь тоже неспроста вернулась.
— Пусть только приблизится к нашей семье — убью ее!
— С чего бы это? Зачем ей нам-то вредить?
— Незачем. — Парвати отвернулась. — Иди, скоро уже утренний чай подавать, так что лучше ступай.
Хрустнув суставами, он перемахнул через кровать и встал. «Чего-то она недоговаривает», — подумал Кандж, поправляя дхоти на костлявых ногах, и вновь почувствовал, что никогда не сумеет проникнуть в заветный уголок ее души. У жены были от него и другие секреты — мрачные тайны детства в Бенгалии. Женившись на Парвати, он с этим смирился. Но закрывать глаза на новые утаивания было труднее, и это отравляло его любовь.
Все три года, что Авни прислуживала в доме, Парвати без конца жаловалась на нее, доходя в своей агрессивной неприязни почти до паранойи, так что в свободное время Кандж сидел в кладовке и перебирал банки с чечевицей — лишь бы не слышать гневных тирад жены. Сестринские чувства Парвати к Кунтал тоже не выдержали испытания, и отношения их натянулись так, что дело могло дойти и до полного разрыва. Поэтому, когда утонул ребенок и Авни вышвырнули из дома, Кандж не огорчился и не опечалился, а даже обрадовался.
Он рассеянно высыпал в кастрюлю с молоком чайные листья, измельчил пять стручков кардамона, чтобы вбросить их потом, и встал под импровизированным навесом, который почти не защищал его и стряпню от дождя. В голову пришла тревожная мысль: «Знает ли Авни о беременности Парвати?» Торговцы, родня и друзья постоянно сновали туда-сюда, и нетрудно представить, что мстительная Авни все эти годы следила за домом, расплачиваясь с кем-то за информацию. «Подкупить можно любого», — подумал Кандж, подозревая всех и каждого, кто успел побывать в бунгало, с тех пор как Парвати начало тошнить по утрам.
Например, Харшал, сын тетушки Вимлы, — он из тех мерзавцев, которым нравится причинять людям горе. А этот болван Гулу, выругался про себя Кандж. Да ради Авни он сам себе ногу переедет. Или тот прыщавый молочник, что приезжает через каждые два дня на корпоративном фургоне с запечатанными бутылками молочной фермы «Аари»? До открытия государственной фермы пару лет назад он пыхтел на своем велосипеде с двумя алюминиевыми бидонами разбавленного молока, что раскачивались на ржавом руле. «Растак твою сестру, — возмутился Кандж. — И он еще требует полную цену! Пусть только объявится — зажарю на сковороде, как луковую бхаджи!»
К тому моменту, когда чай нагрелся, покрывшись тонкой пленкой масла, Кандж уже не сомневался, что Авни знает о беременности Парвати. Иначе зачем бы она возвратилась именно сейчас? Он понятия не имел, что там произошло между Парвати и Авни перед увольнением последней, но что-то наверняка случилось — причем настолько страшное, что даже спустя все эти годы Авни жаждала мщения. «И жена знает об этом», — решил Кандж и крякнул. Только этим и объяснялось ее утреннее поведение.
— Бас! — решительно воскликнул Кандж, как только закипевшее молоко хлынуло через край кастрюли.
Хватит, ему надоели все эти секреты Парвати. Может, он и безграмотный повар, однако не дурак. До вечера он выяснит все-все о прошлом своей жены.
За утренним чаем уже выстроилась очередь. Кандж почтительно протянул Джагиндеру первый высокий стакан, но сам покосился на ту, что скромно стояла в самом конце. Смешав соль и сахар в нужной пропорции, он уговорит Кунтал рассказать ему правду.
Нарастающий хаос, похоже, не коснулся лишь четырнадцатилетнего Дхира. Он неприкаянно курсировал по дому надувным спасательным плотом и выуживал из давно забытых тайничков шоколадные плитки.
— Вот, — он рискнул войти в заброшенный коридор у ванной и положил в ведро тонкую пачку датского шоколада, — это тебе.
Призрак сдвинулся со своего места на трубах и подозрительно посмотрел на шоколад. Хотя последние пару дней муссоны ярились все больше, привидение очень ослабло. Власть Маджи была вездесущей, смертоносной. Младенец в отчаянии глянул на Дхира, что сидел под стенкой и, запихивая в рот подтаявшие плитки, жадно глотал непрожеванные куски. У призрака больше не хватало сил на то, чтобы ему показаться: тело уже теряло форму, словно исходный процесс его проявления обратился вспять. Пряди серебристых волос осыпались с головы и плавали в воздухе, приставая к стенам комнаты вьющимися волокнами лунного света. Одна прядь упала Дхиру на колени. Вытерев руки о штаны, он отважился дотронуться до нее, и его тотчас пронзила глубокая печаль.
— Когда Мизинчик впервые рассказала мне о тебе, — Дхир расплакался, упомянув имя кузины, — я не поверил ей.
Он искоса глянул на потолок, но не увидел ничего, кроме куска отставшей штукатурки.
— Я не помню тебя, — продолжил он. — Когда ты умерла, мне был всего год. И вот ты вернулась, но я тебя не вижу.
Дхир вздохнул. Он тоже чувствовал себя невидимым последние пару дней, когда все были настолько поглощены своим горем, что перестали его замечать.
Вчера Дхир наблюдал, как Нимиш плакал, привалившись к стене дома, а сегодня слышал, как повар Кандж громко и сердито шептался с Кунтал в запертой гостиной. Никто не следил за тем, чтобы Дхир поел или оделся, он был словно сам по себе. На него обратили внимание, лишь когда мать на время вышла из своей комнаты и приказала всем помыться. «Маджи заставила нас жить, как беспризорники, — заорала она, зная, что свекровь не слышит за надежными стенами комнаты для пуджи, — но я не потерплю, чтобы от вас воняло, как от них!»
В следующий миг их раздели до нижнего белья и загнали за брезентовый занавес, прицепленный к гаражу Гулу и придававший ему сходство с теми лачугами, что повсюду встречались на улицах Бомбея. Каждому выдали по ведру холодной воды и велели вымыться с головы до пят. Савита пошла лишь на одну уступку: лично следила за мытьем Джагиндера, стоя под зонтом со свежей кур/поы-пижамой, и распорядилась, чтобы для него нагрели воду.
Дхир вздрогнул, припомнив, как на спину полилась холодная вода. После купания им пришлось стоять на улице, пока вытертые полотенцем волосы полностью не высохли. Даже изрядный слой жира не спас Дхира от озноба. Но никто над ним не сжалился, ведь каждый был поглощен своими горестями.
Туфан стоял возле нужника, дрожа под зонтом.
Нимиш тоже погрузился в свой внутренний мир: его глаза потускнели за очками, пока он читал «Историю молодой индусской жены из Бомбея, принадлежащей к высшей касте»[209], даже не прогоняя Дхира, который заглядывал через плечо, пытаясь привлечь внимание матери.
— «…Чье счастливое царствование в дорогой моей отчизне, — Дхир как можно громче зачитал посвящение королеве Виктории, — озаряет радостью семейную жизнь множества индусских женщин».
Савита фыркнула:
— Что за чушь ты сегодня читаешь, Нимиш? Можно подумать, эта мясоедка-ференги[210] хоть что-нибудь смыслит в нас, индусах.
Нимиш захлопнул книгу и невидящим взглядом уставился на соседский тамаринд.
«А как же я?» — с молчаливой мольбой Дхир посмотрел на мать, но она его даже не заметила.
При этом воспоминании по его щекам покатились обильные слезы. Пусть оплеуха — все было бы лучше этого полнейшего невнимания. Прислонившись к стенке ванной, он попробовал намотать на палец прядь призрачных волос, но она растворилась в воздухе. Уж теперь, на третью-то ночь, дела должны улучшиться. «И впрямь, — подумал он, — кое-что улучшилось». Мать больше не стягивала дупатту на груди, отец перестал беспричинно раздавать затрещины, а стряпня повара Канджа даже загустела. Но Мизинчик так и не нашлась. И с каждым днем шансы становились все призрачнее.
— Ну пожалуйста, — попросил он привидение, — только ты можешь спасти Мизинчика. У тебя же есть сила.
Дхир всегда слушался старших — уж такой был у него характер. Но на кону стояла жизнь двоюродной сестры.
— Пообещай, что спасешь Мизинчика, — сказал он. — Пообещай мне, Кимосаби, и я не дам тебе умереть.
Словно в подтверждение своих слов, он полез в ведро и открыл коробку датского шоколада, стащенную из запирающегося родительского шкафчика. Плитки с жидким спиртовым наполнителем соблазнительно блеснули.
Измученная Маджи вышла из комнаты для пуджи и позвонила жрецу. Она глубоко вздохнула и, запинаясь, продолжила молитвы: колесо дхармы еще не докрутилось до конца. Хотя она всегда вела благочестивую жизнь, боги ревниво удерживали судьбу дома в своих многочисленных руках: в одной — перламутровую раковину, в другой — диск золотого огня, в третьей — участь призрака, а в четвертой — долю Мизинчика.
Мизинчик доковыляла по пустынному берегу до причала. Развалюху-траулер швырял завывающий шторм. Мерцающий свет, который Мизинчик заметила ранее, исчез. Она поднялась на борт, и пальцы на ногах поджались, едва коснувшись заплесневелой, трухлявой палубы. Девочку обступил сумрак. Траулер накренился, и Мизинчик раскинула руки, чтобы сохранить равновесие. Она сделала еще шаг. Судно подбросило порывом ветра. Прогнивший остов стонал, его швыряло из стороны в сторону в траурном ритме. Где-то вдали, сквозь грохот океана, Мизинчик услышала отчетливый плеск. Она сделала еще один шаг.
Потом в ноздри ударил запах — жуткий смрад гниющей рыбы.
Мизинчик согнулась пополам в приступе рвоты.
Из темноты донесся голос:
— Мой отец выжил, съев перебродивший плод джамболана.
Хотя напасть была столь велика, что расплющила бы и слона.
Тучи расступились. В проблеске лунного света Мизинчик увидела фигуру в сари, которая стояла на корме и один за другим бросала в море кокосы. Один подкатился к Мизинчику. Она наклонилась за ним, и ее вновь окутало странное тепло.
Еще одно воспоминание:
Поезд прибывает, освещая пути головным прожектором Пассажиры кидаются вперед, толпятся в нескольких дюймах от края платформы.
Звучит незнакомый голос: «Есть один способ, но для этого нужна исключительная жертва. Ты должна быть сильной и стойкой».
А потом — прыжок. Пути словно поднялись навстречу падающей Авни.
Поезд летит пулей — твердый, металлический, скорый вестник смерти.
Мгновенно хлынула кровь, оборванный вопль, затем — пустота: останки распались на составные части.
Волосы, плоть, кровь, кости.
Мизинчик уронила кокос. Он упал на землю с отвратительным грохотом.
— Это было мое жертвоприношение. — 1Ъ-лос был близко, совсем близко.
Мизинчик открыла глаза.
Авни стояла прямо перед ней: сари охватывало ее тело, точно пламя, затеняя лицо. Она была босая, ступни в пыли и грязи, а единственное украшение — серебряное колечко на пальце ноги. Руки мускулистые, с татуировкой — священной меткой, позволяющей вступить в обиталище Господа. «Годхун али ки чоруни? — спросят ее у небесных врат. — Есть ли на тебе метка 1осподня, или ты прокралась тайком?» На поясе у нее висела острая серповидная койта.
— Мне пришлось отдать жизнь, дабы обрести некие способности. А потом я ждала тринадцать лет, прикованная к платформе, у которой погибла, — прошипел скрипучий голос. — Но там я была не одна, а с другими эфемерными душами из мира иного.
Судно сильно качнулось. Мизинчик попятилась.
— Я сроднилась с ними, ведь границы плоти больше не мешали нашему слиянию, — продолжала Авни, — но у меня было лишь одно истинное желание.
Ее взгляд упал на расколотый кокос, валявшийся на палубе.
— Я бросаю их в море, — призналась она, показав на другие кокосы, что катались по корме, точно мраморные шары. — Чтобы забыть навсегда.
Затем, швырнув еще один кокос за борт, она снова повернулась к Мизинчику.
— Был один мальчик, разносчик чая по кличке Псих. Я вселилась в него в тот самый день, когда умерла. А потом стало проще: наркоман, сумасшедший, бедняк — любой человек с ослабленной защитой.
— Но зачем?
Авни захохотала: словно беспощадный ветер взвыл над пустынным океаном.
— Я тренировалась, чтобы пробраться в бунгало, когда придет срок. Мне нужно было вселиться в тело того, кто живет в бунгало, чтобы туда впустили мой дух.
Мизинчик отступила на шаг, сердце бешено заколотилось.
— Так, значит, это ты была в лодке! Это ты вселилась в Милочку!
— Я черпаю силу из нечистой менструальной крови. Я так долго прождала на тамаринде. Твоя Маджи уже старая, у нее больше не бывает кровотечений. Парвати беременна. Ты — еще девочка. А Кунтал… Я никогда ее не оскверню. Оставалась только одна Савита. Поэтому я все ждала и ждала ее месячных, ждала, когда она выйдет из бунгало. А потом к дереву подошла Милочка. И она была так прекрасна, так чиста, с таким открытым сердцем. Мне захотелось ее — пусть ненадолго. Но у нее тогда не было месячных, и пришлось найти другой способ.
— Ты взяла ее, но хотела меня! — воскликнула Мизинчик и закрыла рукой рот.
— Ты сама выита и приблизилась ко мне на улице. Но ты сильная. Я не смогла в тебя вселиться — даже в каноэ, когда пыталась тебя ослабить. Пришлось подождать и заманить тебя сюда.
Мизинчик вновь ощутила незнакомые спазмы и боль в спине. В грудях заныло. Потом между ног потекла тонкая струйка.
Нужно было бежать — бежать, пока не поздно, пока Авни не учуяла.
Она отступила еще на шаг, потом еще.
— Где Милочка? — закричала она. — Говори! Она здесь? Она жива?
Мизинчик окинула безумным взглядом траулер, причал, берег, простершийся в бесконечность.
Авни усмехнулась:
— Она обрела свободу. Этого у нее не отнять.
Затем она достала из сари кокос — не высохший, как остальные, а незрелый, гладкий, зеленый.
— Ты пришла не за ней, а за этим.
— За кокосом?
— За правдой.
— Нет! — выкрикнула Мизинчик. Еще шаг назад. И еще.
— Ты должна его выпить.
— Нет! Оставь меня в покое, оставь в покое мою семью!
— Я не уйду. Никогда не уйду. Если не ты, то Савита. Или Парвати, после того как родит.
Мизинчик засомневалась. Она уже раз отвернулась от правды — там, в ванной с призраком. Ее решение привело к катастрофе. «Если б я только осталась, послушала, поверила, с призраком все было бы хорошо. И с Милочкой тоже».
Она не смогла отвернуться во второй раз, хотя ей так сильно хотелось.
Она знала, что с древнейших времен кокосы подносили богам — эти орехи в твердой скорлупе символизировали человеческий череп, вместилище эго. Расколоть его у ног богини, выпить молоко или съесть мякоть — значит отказаться от своего «я», стать добровольным сосудом всеобъемлющей божественной Истины.
Она выхватила кокос из рук Авни и закрыла глаза. Авни вонзила в него койту и поднесла орех к губам Мизинчика.
Молоко потекло в горло.
Мизинчик упала на колени, изо рта пошла пена, на губах заклокотал вопль.
Авни добилась своего.
Наконец-то она заполучила Мизинчика.
Серебряный сосуд для пуджи
Худощавая фигура несмело приблизилась к зеленым воротам, скрытым за лозами бугенвиллей. Человек протянул руку к воротам, но потом отдернул ее и поднял глаза к небу. В то утро дождь едва накрапывал.
Сонные обитатели бунгало услышали глухие шлепки ладони о ворота. Они подождали, пока шум стихнет, растворившись среди прочих звуков, оглашавших утренний воздух. Но шлепки стали настойчивее. Послышался оклик. Парвати вышла на разведку.
— Кто там? — устало спросила Маджи, пробудившись от дремоты на своем троне.
— Гулу.
— Прогони его.
— Он хочет поговорить с вами.
— Не о чем нам говорить.
— Он должен что-то сказать о том дне, когда погиб ребенок.
Маджи замерла, качнулись лишь ее двойные подбородки. Затем она медленно выпрямилась, взяла трость и побрела к воротам, накрепко закрыв за собой дверь.
— Я не приходил несколько ночей, — начал Гулу, заглядывая между железными штырями, торчавшими сверху из ворот, — потому что должен был найти Авни. Я хотел узнать, точно ли это она возвратилась через столько лет.
— Это тебя не касается!
— Я сходил к ее матери, — продолжал Гулу, и плечи его вздымались от эмоций. — Она мне все рассказала.
— Это не твое дело!
— Она умерла! — Гулу широко раскрыл рот при этих страшных словах. — Тринадцать лет назад она бросилась под поезд в тот самый день, когда вы ее прогнали.
Маджи услышала за спиной вздох Парвати.
— Если даже она умерла, меня это не касается!
— Вы ее выгнали!
В бешенстве Маджи отперла замок и, бросив цепь на дорожку, крикнула, чтобы он вошел. Она стояла всего в дюйме от него, и его тщедушную фигурку всколыхнула ярость, бурлившая в ее необъятном теле. Он непроизвольно спрятал раненую руку под мышкой.
— А что мне оставалось делать? — выпалила Маджи, понимая, что вся семья стоит на веранде, внимательно прислушиваясь к разговору. — Оставить ее здесь после того, что случилось? Я могла бы отправить ее за решетку или избить до полусмерти, но вместо этого велела тебе отвезти ее на вокзал и даже дала ей денег на новую жизнь. Единственное мое условие: она должна была уехать из Бомбея и никогда больше не возвращаться.
— Она не виновата в том, что случилось! — Заливаясь слезами, Гулу словно по приказу Чинни отпускал на волю слова, скрытые глубоко внутри. Что произойдет, если он раскроет свой страшный секрет — расскажет о том, что сделал после гибели ребенка и Авни?
— Запомни, Гулу, — в ярости сказала Маджи, наставив на него палец и едва не угодив в глаз. — Когда я тебя взяла, ты был обычным беспризорником. Я дала тебе еду, кров, работу — вторую жизнь. Авни я тоже дала второй шанс. Это она не захотела им воспользоваться. Запомни это. А теперь — джао\ Вон из моего дома!
Гулу отшатнулся, словно от пощечины. Что он о себе возомнил, чтобы так перечить Маджи? Если бы Чинни это видела, то жестоко бы над ним рассмеялась. «Бахэнчод придурок! — плюнула бы она ему в лицо. — Перед бабой спасовал!» Маджи действительно дала ему второй шанс после жизни в трущобах, где он родился. Какой прок рассказывать ей теперь, спустя столько лет? Угрозы, вертевшиеся на языке, полностью развеялись.
— Пожалуйста, простите меня, — зашептал он.
Маджи фыркнула.
— У меня больше ничего не осталось, — сказал Гулу, ссутулившись, и грудь его обреченно ввалилась. «Неужели Чинни и впрямь покончит с собой?»
Маджи устремила взор в туманное небо. Остальные домочадцы стояли на веранде и напряженно ждали ее вердикта. Неожиданно Савита шагнула вперед и вступилась за Гулу:
— В наши дни непросто найти хорошего шофера.
— Да-да, — подхватил Джагиндер, почувствовав, что сейчас решается, быть ли ему хозяином в доме. — Он ведь у нас с самого, на хрен, Детства.
После такой поддержки Гулу лишь люто возненавидел Джагиндера.
— Пожалуйстапожалуйстапожалуйста, — хором вторили с веранды близнецы.
Парвати, Кунтал и Кандж помалкивали: им в очередной раз напомнили о зыбкости их собственного положения, о том, что они живут в бунгало на Малабарском холме только из милости — как работники, а не полноправные обитатели.
— Убирайся отсюда, — велела Маджи, — и никогда не возвращайся.
Гулу едва не грохнулся оземь.
— Если увижу тебя снова, вызову полицию, — пригрозила Маджи и развернулась к веранде, где в изумленном молчании застыли домочадцы, не смея оспорить ее решение.
— Подожди! — окликнул Нимиш, когда Гулу повернулся к воротам. — Есть какие-нибудь новости о Мил… о дочери тети Вимлы?
Гулу покачал головой.
И ворота вновь заперли на засов.
На закате четвертого дня Митталы опять услышали глухой стук в ворота.
— Ну все, — сказала Маджи, потянувшись за тростью, — я сама его поколочу. Пошли, Нимиш, пошли со мной.
Но, сняв цепь с ворот, она увидела перед собой не Гулу, а Мизинчика. Та была в мокрой, грязной пижаме, лицо в корочке от кокосового молока. Дрожа всем телом, девочка осела на землю. На один блаженный миг Маджи онемела и бухнулась рядом с ней. Даже не подумав о бабке, Нимиш торопливо подхватил Мизинчика и отнес в ее комнату, где положил на кровать и закрыл дверь.
— Скажи мне быстро, пока все не пришли, где Милочка? — прошептал он.
Мизинчик невидяще смотрела на него.
— Пожалуйста, — упрашивал он, гладя ее по волосам. — Ну пожалуйста.
От его прикосновения она засмеялась — зашлась в хохоте, колючем, неприятном. Дернула Нимиша к себе, подставляя груди под его руки, впиваясь губами в его рот.
Нимиш отбивался, но не мог вырваться из ее нечеловеческих объятий. Широко раздвинув ноги, она сжала ими его бедра.
Открывшая дверь Кунтал застыла на пороге и зажала рот ладонью.
Мизинчик обратила на нее безумный взгляд и оттолкнула Нимиша. Растопырив пальцы, она потянулась к Кунтал.
— Господи! — вскрикнул Нимиш, пятясь в угол комнаты и тяжело дыша. — ГЪсподи!
Кунтал шагнула вперед.
Мизинчик приподнялась на кровати, качнулась.
Из глаз Кунтал хлынули слезы. Она протянула к Мизинчику руку.
В комнату влетела Парвати, но тут же окаменела.
— Уходи! — завопила она. — Кунтал!
Кунтал уронила руку.
Подоспевшая наконец Маджи попыталась отпихнуть Парвати с дороги:
— Мизинчик!
— Она бесноватая! — завизжала Парвати, хватая Маджи. — Кунтал, уходи!
Мизинчик уставилась на них запавшими глазами, внутри у нее что-то глухо урчало.
— Нет! — произнесла Кунтал. — Я останусь с ней.
— Нет! — Парвати инстинктивно обхватила свой живот. В груди у нее клокотала застарелая ненависть. — Посмотри ей в глаза — я их уже где-то видела!
— Нет! — подхватила Маджи. — Нет!
— Оставь меня! — Кунтал оттолкнула сестру.
— Врач ее не спасет! — надрывалась Парвати. — И ваши молитвы тоже! Поможет только один человек!
Маджи встретила злобный, леденящий взгляд внучки.
— Уходите, — прошептала она, пятясь из комнаты, — позовите тантриста.
Кунтал захлопнула дверь прямо у сестры перед носом и заперла ее.
— Нет! — кричала Парвати, молотя в дверь. — НЕТ! НЕТ! НЕТ!
Кунтал стояла, прижавшись спиной к двери, тяжелые удары Парвати отдавались в позвоночнике.
— Что ты наделала? — прошептала она той, что лежала на кровати, — дерзкому духу, вселившемуся в Мизинчика.
В глазах девочки полыхнуло отчаяние.
— Так нельзя, — прошептала Кунтал, кусая губы. — Так нельзя ко мне возвращаться.
Девочка вытянула руки, в горле у нее заклокотало.
С лицом, полным скорби, Кунтал села на кровать рядом с ней. Она размотала паллу на талии, языком увлажнила его конец и нежно прижала к лицу девочки, смазывая ей лоб и губы.
— Что тут сказать, если тебе нужна целая жизнь, — произнесла Кунтал, узнавая в глазах девочки взгляд любимой, — ты ведь пришла проститься?
В дверь барабанили не переставая, скрежетала дверная ручка.
Кунтал перевела дыхание и продолжила:
— Мне так жаль…
Бгаза моргнули — глаза Авни.
— …но ты должна оставить этого ребенка. — Кунтал заплакала. — Нельзя причинять ей вред. Умоляю.
Она положила голову на сердце девочки и закрыла глаза. Если бы только можно было остановить время, чтобы эти бесценные секунды длились вечно…
— Ну вот я и здесь с тобой, — еле слышно прошептала она.
Добавить было нечего.
На посыпанной пеплом груди тантриста раскачивались четки, на лодыжках звенели колокольчики. Он сел «по-турецки» на простыне, постеленной в центральной комнате бунгало.
Не произнеся ни слова, тантрист погрузился в глубокую медитацию. Спина его оставалась прямой, позвоночник утонул меж тугими мышцами. Ровную линию нарушали только взъерошенные волосы на голове. Сын тантриста зажег небольшую лампу и палочки с благовониями, расставил их перед статуэтками Ханумана, бога Рамы, богини Ситы и бога Шивы. Фигурки перенесли из комнаты для пуджи в зал, дабы соорудить тут временный алтарь. Затем сын достал стальной сосуд с киноварью и куркумой — эти цвета обычно отгоняют злых духов — и положил нитку похожего оттенка у алтаря. Распаковали стеклянные сосуды с маслом гхи и асафетидой, которую насыпали по периметру простыни. Тантрист затянул бхаджан — религиозное песнопение — и зазвонил в латунный колокольчик.
— И это все? — с явным разочарованием спросил Туфан.
— Помолчи, — шикнула Савита, шлепнув его рукой по голове.
Но тут за воротами послышал гудок.
— Пандит-джи! — воскликнула Маджи, вспомнив, что позвала его накануне.
Нимиш помчался открывать ворота перед шафрановой «импалой» жреца.
В смятении Маджи чуть было не крикнула Нимишу, чтобы спровадил его под любым предлогом — лишь бы жрец не увидел тантриста в ее доме, но затем поняла, что позора уже не избежать. Пандит-джи вальяжно вошел в дом под огромным зонтом, не замочив под проливным дождем даже пучок волос на затылке.
— Прошу вас, — приветствовал его у дверей Джагиндер. — Садитесь.
— Что все это значит? — вопросил Пандит-джи, увидев тантриста, сидевшего по центру комнаты в окружении божеств.
— Пандит-джи, — Маджи устало сложила ладони в намаете, — Мизинчик тяжело больна.
— И поэтому вы оскорбляете наших богов черной магией? — Голая грудь Пандит-джи затряслась от негодования.
Ого, вот это секрет! Черная магия! Как же им теперь придется унижаться, только бы он держал язык за зубами!
— Нам нужны вы оба.
— Оба?! — вспыхнул жрец. — Я общаюсь с Богом. А чем занимается он? Заклинает злых духов?
— Я низвожу Бога в человеческое тело, — парировал тантрист, подняв на жреца глаза, обведенные алым. — Общение с Богом и обладание Богом дополняют друг друга, Пандит-джиг. Вам наверняка говорили об этом, когда вы в детстве заучивали наизусть свои санскритские шлоки.
Жрец поднял одну из подведенных бровей, стараясь подыскать в своем неповоротливом мозгу подходящую реакцию. Он мог в гневе выбежать из дома, и Маджи пришлось бы задабривать его дорогими подарками, — возможно даже, вон тем новомодным холодильником, который он поставит в храмовой подсобке и будет хранить там холодный лаймовый шербет, чтобы освежаться между молебнами. Или, может, лучше остаться и осадить этого грязного, язвительного садху, который вздумал вывести его на чистую воду? Наконец решившись, Пандит-сЬ/ш поправил шелковое дхоти и плюхнулся на свою молитвенную циновку.
— Приведите девочку, — нетерпеливо приказал тантрист, показав перед собой.
— Да, — громко сказал Пандит-длш своим тонким голоском. — Приведите девочку.
Побледневший Нимиш встал и застыл в нерешительности.
— Охренеть, — пробурчал Джагиндер и тоже поднялся.
Жрец быстро принялся открывать банки с маслом гхи, с его выпяченного живота обильно закапал пот.
Джагиндер внес Мизинчика в комнату. Кунтал держала ее за руку, а Парвати ухватилась за Кунтал. Джагиндер положил девочку на простыню.
Тяжелые веки тантриста приподнялись.
— Уйдите, — рявкнул он. — А вы, — ткнул он в Маджи, — вы подойдите.
— В чем же состоит ее недуг? — поинтересовался жрец. Он уже успел проголодаться, хоть и съел по пути три самосы.
— Она не разговаривает, — ответила Маджи. — Гляньте, вся взмокла.
— Ныне она в руках Господа, — произнес Пандит-джи, увиливая от всякой ответственности за судьбу девочки. Он вылил целую банку масла в железный кунд и чиркнул о пол спичкой.
Тантрист провел рукой по телу Мизинчика и негромко затянул гортанный слог ма. Звук постепенно усиливался, все больше напоминая вой. пока не перерос в ужасающий крик.
Пандит-джи нервно поддерживал мерцающий огонь, торопливо бормотал молитвы и шарил в мешочке с самагри для пуджи. Но глаза его помимо воли косились на тантриста. Домочадцы замерли чуть в стороне, сердца их взволнованно застучали. Маджи переводила взгляд со жреца на тантриста и обратно, будто не зная, кому из них довериться. Туфан спрятал лицо за паллу Савиты.
На улице лил дождь и грохотал гром.
Тантрист запел снова, на этот раз еще быстрее, заглушая не менее истовые молитвы жреца. Маджи неожиданно закачалась взад-вперед, словно пытаясь угнаться за их бешеным ритмом.
Язык священного пламени вдруг вырвался из железного кунда и опалил густой клок волос над пупком Пандит-джи. Жрец взвизгнул и приложил к животу промасленную тряпку.
Тантрист зачерпнул из сумки черного пепла и нарисовал линию вокруг шеи Мизинчика, дабы запереть дух в ее теле на время допроса. Затем тантрист произнес мантру, выдыхая заклинание прямо в лицо Мизинчику.
Она открыла глаза, и тело ее затряслось.
— Боло! — скомандовал тантрист, глаза его засверкали, а густая спутанная борода свирепо затряслась. — Сучх боло! Скажи правду!
Мизинчик начала извиваться на полу и кричать, будто на нее кто-то напал.
Пандит-джи учащенно задышал — его грудь ходила ходуном, точно у перепуганной пташки.
— Кунтал, — насилу прошептала побледневшая Савита. — Уведи мальчиков.
Кунтал кивнула, но Нимиш, Дхир и Туфан не сдвинулись с места, завороженные представлением, что разворачивалось перед ними.
— Кали Мата ки джай, Шанкар Бхагван ки джай. Да победит богиня Кали! Да победит бог Шива! — распевал тантрист низким, глухим голосом, многократно отражавшимся от стен.
— Ки джай, — эхом отозвался Пандит-джи, повторяя знакомые слова.
Что-то схватило Маджи за горло — непредсказуемый страх, все более настойчивый, стиснул ее. В ушах звучал нечеловеческий стон, словно духи кружили над головой, исторгая древние рыдания.
— Боло! — выкрикнул тантрист. — Чего ты хочешь?
Губы Мизинчика шевельнулись, и утробный, скрипучий голос, совсем не похожий на голос Девочки, ответил:
— Обладать!
— Зачем ты вошел в тело этой девочки? Она тебя не звала!
— Она! Она! — укоризненно завыл голос.
— Кто ты?
— Авни.
Савита вскрикнула и загородила детей.
— Ты не получишь их, ведьма! Ты забрала мою дочь, разрушила мою жизнь! Тебе этого мало? Мало?
Трясущейся рукой Джагиндер обхватил Савиту, а другую сжал в кулак, изготовившись ударить этот странно знакомый голос, спасти свою семью. Айя вернулась. Ослушалась и вернулась. Он внезапно постиг смысл колеса дхармы во всей его беспощадности.
Кунтал плакала, закрыв руками лицо. Кандж, отодвинув жену за спину, угрожающе выставил скалку. Парвати держалась за живот, перебарывая рвотный позыв.
— Прогоните ее! — яростно потребовала Маджи. — У нее нет права находиться в этом доме! Прогоните ее!
Она прикоснулась к четкам, словно к оружию, и губы ее зашевелились в молчаливой молитве к богам и богиням о милостивой защите. Снаружи стемнело, и в доме легли длинные тени. Дождь барабанил по крыше, в окна и двери, словно требуя, чтобы его впустили.
Тантрист долго смотрел на Маджи, потом закрыл глаза. Комната задрожала от потусторонней вибрации, будто на ситаре щипнули неверную струну и затем усилили звук. Туфан заткнул руками уши. Нимиш поправил очки, в ужасе наблюдая за Мизинчиком. Джагиндер яростно почесал волосы на груди и крепко прижал к себе Савиту. Пандит-&«ш оставил священный огонь и простерся перед идолами, оттопырив необъятный зад.
Тантрист продолжал смотреть на Маджи, его тяжелые веки были почти опущены, виднелись лишь белки глаз.
— Прогоните ее! — повторила Маджи.
Тантрист вытер пепел с шеи Мизинчика и повязал на хрупком запястье девочки витую красно-желтую нить маули.
— Уходи! — велел он. — Кали Мата ки джай! Шанкар Бхагван ки джай! Вишну Бхагван ки джай!
— Славься, Господи! — всхлипнул Пандит-джи.
Тело Мизинчика извивалось, руки непроизвольно жестикулировали. Глаза девочки закатились, из приоткрытого рта безудержно сыпались нечленораздельные звуки. Внезапно она резко села, продолжая трястись всем телом, глаза ее окинули комнату, задержались на перепуганных домочадцах. Темные круги под глазами придавали ей демонический вид. В упор уставясь на Парвати, девочка метнулась к той, что была ближе всех, к Маджи, вцепилась ей в горло.
Нимиш прыгнул вперед, чтобы оттащить Мизинчика.
— Уходи! — заорал тантрист, вскочив на ноги. Он резко щелкнул по полу кнутом. — Ты хочешь невозможного! Твое насилие запятнало тебя, но то, что можно отдать, будет отдано. А теперь УХОДИ, оставь это невинное дитя!
Мизинчик затихла и рухнула на руки Нимиша, глаза ее вновь закатились. Она тихо простонала и умолкла. Маджи, тяжело дыша, держалась за горло, Джагиндер помог матери лечь на кушетку.
Пандит-джи неуверенно отодвинулся, сел и вытер лицо промасленной тряпкой.
Тантрист стоял расставив ноги, с него градом лил пот. Волосы его растрепались и свисали теперь толстыми канатами. Кнут он держал высоко, готовый снова ударить, если понадобится. Тантрист посмотрел сверху на Мизинчика, внимательно разглядывая налившимися кровью глазами ее тело. Затем неторопливо обратил взгляд к потолку и опустил кнут.
— Она очень слаба, — наконец произнес тантрист. — Этой ночью умрет.
— Нет! — выкрикнула Маджи и зарыдала. — Нет! Нет! Нет!
Дхир и Туфан заплакали.
— Девочка-призрак, — тантрист ткнул в угол коридора, где висел крошечный комочек, похожий на высохшего паучка, — в полночь умрет она.
Пандит-джи запрокинул бледное лицо и впал в беспамятство.
Мизинчика осторожно уложили в постель Маджи. До полуночи оставалась лишь пара часов — до конца четвертого дня, когда маленький призрак навсегда будет изгнан, а душа младенца возвратится в мир иной, дабы одиноко прокладывать путь сквозь серые волны неведомого к новому рождению.
Оглушенное привидение свернулось клубочком в пластмассовом ведре рядом с разломанной шоколадкой. Оно досуха высосало спиртовой наполнитель, но так и не утолило жажду и теперь ждало смерти. «Услышь меня», — прошептала девочка, то были первые и единственные слова, сорвавшиеся с ее уст. Непоседливым серебристым волоконцем опустились они на тончайшие крылышки мотылька, порхавшего в столовой, мотылек покружил у тусклой лампочки, а затем двинулся дальше по темному коридору и сел на ухо Мизинчика. Там мотылек взмахнул крошечными крыльями, чуть-чуть потревожив воздух, и лишь самые легкие, тонкие прядки возле щек Мизинчика слегка приподнялись в ответ. Но этого хватило, чтобы Мизинчик дернула рукой, отгоняя мотылька, и проснулась. Хватило, чтобы услышать то ли мольбу, то ли предупреждение, прозвеневшее в ночной тиши.
Она взглянула на гору, которой была ее бабка, чье каменное лицо смягчилось во сне, рот чуть приоткрылся. Мизинчик коснулась щеки Маджи, ощутила исходящее от нее тепло. Затем беззвучно вылезла из постели и поползла по коридору, точно умирающая в пустыне. Выбившись из сил, она положила голову на прохладный пол, отдышалась, а затем двинулась дальше, пока не добралась до ванной.
Там она подтянулась и заглянула в ведро. Призрак младенца открыл глаза и посмотрел вверх, он словно тонул в воздухе. Девочка почти облысела, ее сияющие волосы выпали и усеяли ванную — осталась лишь парочка самых стойких прядей, которые тускло светились, точно погибающие светлячки.
— Не умирай, — прошептала Мизинчик.
Но призрак лишь смотрел на нее пустыми, жаждущими воды глазами.
Пошатываясь, Мизинчик встала на ноги.
Она повернула кран, но оттуда не пролилось ни капли. Она дотащилась до раковины в коридоре, потом — до кухни. Мизинчик поразилась, озадачилась и страшно устала. Она упала на колени. Подумав немного, Мизинчик собралась с силами и прокралась в восточный коридор. Тихо, опасливо открыла дверь.
Когда она вернулась в ванную, уже наступила полночь.
— Призрак?
На сей раз привидение не шелохнулось: оно превратилось в бесформенную массу — виднелись только два крошечных кулачка да зажмуренные глазки.
Мизинчик с трудом держала в руках серебряную урну с тремя священными листьями ту леи и святой водой, в которой еще утром резвились бог Кришна и его супруга Радха. Бог Кришна — воплощение Хранителя Вишну, охраняющего жизнь и вселенную.
— Не умирай, — вновь попросила Мизинчик. Она вылила в ведро всю воду, освященную богами, и в полном изнеможении уронила сосуд. Опустив руку в жидкость, коснулась пальчиков призрака.
А потом сама свернулась калачиком у ведра и уснула.
Жестокая кара
На следующее утро Мизинчик проснулась в зале. Солнечные лучи плясали у нее на лице, а тонкие занавески трепетали под дуновениями ветерка. События вчерашнего вечера медленно оживали в памяти, точно с ветки жасмина опадали лепестки. Авни ушла. Кашель прекратился. Мизинчик снова была дома. Последние лепестки, самые неприглядные, сорвало внезапным порывом. Она видела, как они слабо розовеют и кружатся вдали — не дотянуться. А потом и они исчезли. Мизинчик не помнила о своем похищении после того, как влезла к Милочке на «триумф». Истины, прежде вертевшиеся в голове, испарились.
Она села, удивившись собственной силе — будто вновь пересекла пропасть между живыми и мертвыми и вернулась в мир живых. Внезапно Мизинчик запаниковала. Она бросилась в коридор у ванной и обнаружила опрокинутое ведро под деревянным табуретом. Серебряная урна из комнаты для пуджи валялась в дальнем углу, куда закатилась прошлой ночью.
— Дитя! — позвала Мизинчик. — Ты где?
Она открутила кран, и желтоватая вода брызнула на пол. Мизинчик наблюдала, как вода заливает ступни. Свет в груди померк. Что-то здесь не так.
— Хай, хай, — ласково сказала Кунтал. — Глупышка, ты же затопишь все бунгало!
Подняв глаза, Мизинчик увидела, как Кунтал приподняла край сари и прошла на цыпочках по воде, чтобы закрутить кран.
— Тебе нельзя купаться, пока жар не спадет, — протараторила Кунтал, но в ее обычно веселом голосе сквозило напряжение.
— Что случилось? — спросила Мизинчик, подразумевая «Она умерла?».
— Тебе надо в постель, — сказала Кунтал, выпроваживая ее из ванной. — Чтобы сил поднабраться.
Перед тем как Кунтал закрыла дверь ванной, ее взгляд остановился на сосуде для пуджи. Служанка слегка нахмурилась.
— Где призрак? — спросила Мизинчик. — Ночью он был здесь.
Кунтал вернулась в ванную и подобрала сосуд. На краю засох одинокий листик тулси. Никаких сомнений, что это за сосуд и что в нем было.
— Так, значит, это ты, — тихо сказала она.
— Тут нигде не было ни капли воды. И она умирала.
Кунтал кивнула.
В коридоре послышались шаги. Кунтал поспешно спрятала сосуд под паллу и вытолкнула Мизинчика из ванной, а затем направилась в комнату для пуджи, чтобы тайком поставить утварь на место.
— Ты уже проснулась? — спросил Дхир. Курта болталась на нем, а волосы на голове стояли сальным колтуном.
— Ага.
— Повар Кандж приготовил на завтрак первоклассные пури, — доложил Дхир без привычного восторга.
— Призрак — где он?
Дхир покачал головой и растер ее ладонями.
— Я нашел тебя вчера ночью и перенес на диван.
— Вчера ночью? А почему ты не спал? — удивилась Мизинчик.
— Папа ворвался в комнату и заорал. Всех нас перебудил. Он забрал с собой Нимиша, — ответил Дхир, его широкая грудь вздымалась от волнения.
— Что стряслось? Рассказывай!
— Маджи…
— Маджи? — Мизинчик кинулась в зал. На троне — никого. Савита сидела на диване и пила чаи масала — на удивление жизнерадостная.
— Маджи! Где Маджи?
— Бэти, — Савита поманила ее к себе, — мы думаем, что, наверное, с ней случился удар.
— Раньше ты говорила не так. — Туфан вскочил в комнату, вытирая со щеки масло.
Савита напряглась:
— Ступай и доешь свой завтрак, Туфан. Мизинчик, бэти, ночью она закричала от боли. Мы с твоим дядей прибежали.
— Что случилось?
— Дядя и Нимиш отвезли ее в больницу, но… — Савита отвернулась. — Маджи уже не такая крепкая, как раньше.
— Да она крепче любого из вас! — крикнула Мизинчик.
— Но она же очень-очень старая, — возразил Туфан.
Мизинчик с такой силой оттолкнула Туфана, что он рухнул навзничь, стукнувшись головой о стул.
— Бесстыжая! — Савита вскочила, но Мизинчик уже мчалась по коридору.
— Хочешь знать, что сказала мама вчера ночью? — закричал Туфан ей вдогонку. — Она сказала, что это призрак убил Маджи!
Мизинчик влетела в комнату Маджи и захлопнула дверь. По щекам катились слезы.
Следом, осторожно постучав, вошел Дхир.
— Уйди!
— Туфан не врет, — пробормотал Дхир. — Вчера ночью папа прибежал к нам в комнату. Ему нужна была помощь Нимиша. Мы все кинулись в комнату Маджи. Она тряслась и размахивала руками, как будто на нее что-то навалилось.
— Призрак?
— Наверно.
— Откуда ты знаешь? Ты же никогда его не видел?
— Маджи с кем-то разговаривала, — настаивал Дхир. — Я слышал, как она просила прощения.
— За что?
— Она хотела избавиться от призрака. Для этого и отключили воду на четыре дня.
Наступила пауза — Мизинчик переваривала информацию. Дхир плюхнулся на кровать и залепетал:
— Мы все думали, что привидение умирает. Я подкладывал в ванную шоколадки. Это я виноват.
— Призраки шоколада не едят.
— Я знаю, — сказал Дхир, ковыряя пухлым пальцем пуговицу на животе. — Но в том был папин тоник.
— Ей нужна была вода.
— Я просто хотел помочь.
Они надолго замолчали.
— Я тоже, — тоненьким голоском сказала Мизинчик, поняв, что совершила нечто чудовищное.
— Ты тоже? Но ты же была в больнице.
— Вчера ночью я дала ей воды, — призналась Мизинчик, — из комнаты для пуджи.
Мизинчик задумалась над тем, что произошло, когда она вылила воду из урны в ведро: слияние мира потустороннего и божественного — мощный союз, который продлился лишь краткий миг. Но этого хватило, чтобы восстановить здоровье Мизинчика и, возможно, погубить Маджи.
— Я считала ее своей подружкой, — сказала Мизинчик.
— Так оно и было, — вдруг понял Дхир. Привидение сдержало свое обещание и вернуло Мизинчику жизнь. Он осторожно пододвинулся к двоюродной сестре и неуклюже обхватил ее пухлой рукой, забыв о том, что дверь не заперта и что они обнимаются впервые в жизни.
Савита позвонила Пандит-джи, которому помощник как раз ловко разминал мясистые ступни. Прошлой ночью жрец плохо спал: память о событиях, разыгравшихся в бунгало, преследовала его в темных комнатах. Пытаясь заглушить страхи, он побрел в храмовое святилище, но стальные идолы так напугали жреца, глумливо тыча в него огромными руками и ногами, что пришлось со всех ног драпать в спальню. «И это награда за мой каторжный труд? Чтобы всякие тантристы оскверняли меня своей черной магией?» — негодовал Пандит-джи.
— Когда вы сможете прийти? — спросила Савита, объяснив положение.
Откинувшись в постели, жрец потеребил свои наручные «фавр-лейба», ободряя себя словами, выгравированными на обратной стороне корпуса: «Антимагнитные. Водонепроницаемые. Противоударные». Пандит-джи казалось, что Маджи его предала, оставила в дураках. Ее нынешнее плачевное состояние доказывает, что она пала жертвой темных сил вселенной. Ему не хотелось иметь никаких дел с ней, ее семьей и домом, кишащим демонами и прочей нежитью, — и будь проклят новенький холодильник «Электролюкс»!
— Я весь день очень-очень сильно занят.
— Но вы нужны моей свекрови, — возразила Савита и пообещала: — Я сделаю самое щедрое пожертвование.
Глаза Пандит-джи забегали. Ничто на свете, даже обещание крупной суммы, не заставит его вернуться в этот богооставленный дом с привидениями.
— Я расколю для нее кокос — здесь, в храме, — предложил он и, взяв с серебряного подноса ладду, повесил трубку.
— Идиот, — буркнула Савита, слушая короткие гудки.
Задетая тем, что не обладает над жрецом такой же властью, как Маджи, она осторожно положила трубку, а затем позвонила матери в Гоа. Совсем скоро обширный круг друзей и родни проведает о состоянии Маджи и вновь наводнит дом. На сей раз Савита будет сидеть на почетном месте в зале, принимая соболезнования гостей и единолично режиссируя действо. Столько всего нужно распланировать: от еды до подходящего сари — что-нибудь, возможно, светло-розового оттенка, вселяющего надежду. Все ждут, что в отсутствие Маджи тон задаст Савита. Она ощутила приятную дрожь в спине. Наконец-то, наконец-то бунгало в ее полном распоряжении!
За зелеными воротами Гулу бродил под ливнем, яростно пыхая папиросой и кляня себя за то, что дал слабину. Ну да, размышлял он, это боги наказывают его за мягкотелость. Не потому ли погибла Авни? И не потому ли он сам сейчас рыскал у бунгало, точно бездомная дворняга? Гулу топнул и выругался вполголоса. Еще чистильщиком обуви он не спасовал перед Красным Зубом, а теперь его унизили аж три бабы — одна старая и жирная, вторая шлюха, а третья покойница. От стыда он харкнул в ворота вязким сгустком слюны.
— Не запылился, значит? — недовольно прокудахтала Парвати, открывая ворота и предлагая завтрак из роти и зеленых бобов.
Гулу на миг уставился на нее. От злости и недосыпа на лице у него залегли резкие, некрасивые морщины. Всю ночь он бродил по мокрым улицам Бомбея, уныло поглядывая на каждый проезжавший мимо «амбассадор».
— Мой плакат с «вишневым цветом»… — Гулу с благодарностью принял завтрак.
— За ним, что ль, вернулся?
Гулу вспомнил про календулу, засушенную в газете и спрятанную под койкой.
— Не верю, что она меня вышвырнула, — сказал он в надежде, что Парвати, возможно, замолвит за него словечко. Из всей прислуги Маджи прислушивалась только к ней.
— Ты один не остался в доме, — подбоченилась Парвати. — Я бы тоже не пустила тебя обратно.
— Так на чьей же ты стороне?
— Я думаю головой, а не задницей, придурок. А вы, мужики, все одинаковые, у каждого два лингама — один в штанах, второй в голове. Причем один тупее другого. Ты, идиот, отпустил тогда Авни, а теперь, через тринадцать лет, гоняешься за ее духом. Ты профукал свое будущее. И ради кого? Ради мертвой девчонки?
— Я же не знал, что она мертва, — сказал Гулу. — Все эти годы я ждал, что она вернется.
— Куда?
— Ко мне.
Парвати прыснула со смеху.
— Уж поверь мне, яр, ты был не в ее вкусе.
Гулу бросило в краску.
— Уходи лучше, — сказала она, оглянувшись через плечо, — пока никто не прознал, что ты возвратился.
Гулу взял завтрак и, присев на корточки у ворот, жадно запустил пятерню в карри из зеленых бобов. Он быстро, почти не смакуя, заглатывал еду, к которой привык за долгие годы. Роти заполнили желудок, согрели и немного утешили. Вздыхая, он громко отрыгнул и закурил. Глубоко затянувшись, вспомнил, как тихий перст судьбы привел его когда-то в дом Маджи.
За руль Гулу впервые сел в пятнадцать и лавировал по городским улицам, словно бог Кришна, выехавший на поле брани в огненной колеснице. Сражаясь с демонами, преграждавшими путь, он безжалостно сигналил неповоротливым телегам, запряженным волами, подрезал проносившиеся со свистом мотороллеры, на которых с риском для жизни громоздились целые семьи, и обгонял автобусы, ну а велосипедисты разлетались перед ним в стороны, точно переполошенные куры. Гулу представлял себя воином, глумяпцшся над теми, кто жмет на свои сигналы или тормоза, и металлическая броня «амбассадора» служила надежным щитом от горемык, запрудивших дорогу.
Но вот спустя столько лет он снова оказался на улице. «Как так получилось?» — спрашивал он себя.
Ответ повисел немного в воздухе, плавая в клубах дыма, прежде чем Гулу отважился его признать.
Авни.
Вечно все сводилось к ней. Как у цикла кармы, у Авни не было ни начала, ни конца. Она пребывала повсюду.
Он ее бросил, хотя и мог помешать ее гибели. Но это теперь в прошлом. Он задумался над любимым стихом из Бхагавад-гиты: «Пусть движут тобою правильные дела, а не плоды, из них проистекающие». Тогда, в роковой тень трагедии, он нарушил это священное правило.
Гулу снова сплюнул. Он не позволит, чтобы его вышвырнули после всего, что он сделал для этой семьи. Проклиная себя за стыд и клятвы верности Митталам, Гулу наконец решился. Он откроет то, что увидел тринадцать лет назад. Выполнит просьбу Чинни. Шантаж.
Он мысленно взвесил все варианты и остановил свой выбор на Джагиндере. Именно с ним-то и можно играть в такие игры, если только решиться в лоб предъявить обвинение. «Красный Зуб, Красный Зуб», — повторял он, словно мантру. Джагиндер — полный нуль по сравнению с врагом его юности. И если все пойдет по плану, успокаивал себя Гулу, можно будет начать все сызнова уже на собственных условиях. Например, он купит квартиру в пригороде и даже собственное такси. Предел мечтаний.
Скрипя зубами, Гулу шнырял у ворот и еле сдерживался, чтобы не ворваться в дом и не пойти прямо к хозяину. Он постучал в ворота раскрытой ладонью, и вскоре появилась Парвати.
— Где Джагиндер-сахиб?
— Уехал рано утром.
— Анчха? — Гулу с трудом скрыл разочарование. Выехать из дома раньше десяти — это так не похоже на Джагиндера.
— Что тебе надо от него?
— Срочное дело.
— Ну значит, придется отложить.
— Очень срочное.
Парвати пожала плечами.
— Если нужно, я войду в дом.
— Арэ, герой, — сказала Парвати, — за каким лядом?
Гулу потупился:
— Четыре дня уже кончились.
— Да.
— Призрак ушел?
— Да.
— Случилось что-то еще? — спросил Гулу, заметив подпухшие глаза Парвати и румянец у нее на щеках. — С Мизинчиком все в порядке?
Парвати кивнула:
— Вчера приходил Тантрист Баба. Это была Авни. В нее вселилась Авни.
Гулу всмотрелся в глаза Парвати — нет ли в них сомнения.
— Где Авни сейчас?
— Ушла, — сказала Парвати. — Покамест.
— Думаешь, она еще вернется?
— Думаю, что вчера ночью она напала на Маджи.
— Маджи?
— Она в больнице. Мы ждем звонка от Джагиндера, — вздохнула Парвати.
— Тебе нужно уходить из бунгало.
— Куда ж мне податься, чтоб она не нашла меня?
— Или меня.
— До тебя ведь она уже добралась? — сказала Парвати. — Покалечила твою рабочую руку, разве не так?
— Ты уязвимей.
— Я не боюсь ее. — Етаза Парвати вспыхнули гневом. — И не позволю ей навредить моему ребенку.
В бунгало наконец-то зазвонил телефон. Трубку сняла Савита, остальные столпились вокруг.
— Да-да, — сказала она, запыхавшись.
Маджи выжила.
— Тромбоз сосудов головного мозга, — важно объявила Савита, повесив трубку.
— С ней все будет хорошо? — спросила Мизинчик.
— Рано еще утверждать, — ответила Савита с видом опытного доктора. — Она не разговаривает.
— Не разговаривает?
Савита приподняла выщипанную бровь и погладила Мизинчика по голове:
— Не волнуйся. Мы обеспечим ей самый лучший уход, твой дядя уже нанял круглосуточную сиделку.
— Ей это не понравится, — запротестовала Мизинчик, рассердившись, что Маджи теперь во власти Савиты. — Ей нравится, чтобы массажировала Кунтал!
Лицо Савиты посуровело.
— Укладывай вещи, дорогая, — прошипела она, скривив губы в улыбке. — Догадайся, куда я тебя отправляю? В интернат.
Возвращение айи
Лежа в постели, Джагиндер вытянул руки и ноги, и позвоночник приятно хрустнул.
— Надо бы договориться о дополнительной помощи, — сказал он Савите, сидевшей рядом; паллу ее бледно-розового сари касалось его щеки.
— Да, — согласилась Савита. — Малишвала[211] заступит с завтрашнего дня. Но Маджи теперь нужен круглосуточный уход.
— А как же Кунтал?
— Кунтал мне самой пригодится, — ответила Савита, гладя Джагиндера по щеке. — Она точно знает, где что лежит. Не могу же я начинать с новенькой — на меня и так свалилось столько ответственности.
— Ну конечно, — согласился Джагиндер, теряя голову от прикосновений Савиты.
Невзирая на похмелье, заточение в стенах бунгало и удар, случившийся с матерью, чувствовал он себя прекрасно. И в самом деле, ему давно уже не было так хорошо. Семья повернулась к нему лицом, теперь он ее глава и опора, а самое важное — Маджи отныне не сможет отобрать у него руководство «Судоразделкой». Он мысленно пообещал себе, что уж на сей-то раз не подведет Савиту, будет управлять предприятием под стать отцу и станет гордостью семьи. Недавний блеск в глазах жены умерил в нем жажду алкоголя, хотя поздно ночью его все еще преследовали манящие образы адды Тетки Рози.
— Джагги? — вдруг сказала Савита, сунув краешек сари в рот. — Думаешь, наша малютка Чакори уже свободна?
— Она уже может перевоплотиться — так ведь тантрист сказал?
— Она была с нами все эти годы. — Савита поежилась.
— Но ты же не могла ее отпустить, — сказал Джагиндер и, притянув Савиту к себе, добавил: — Да и я тебя не отпущу.
Савита с улыбкой упала в его косматые объятия, мечтая, молясь о том, чтобы их нежные чувства на сей раз оказались прочными. «Я победила!» — думала она, гоня страшную мысль: а вдруг ее грозная свекровь ненароком поправится?
В день, когда Мажи хватил удар, Савита первым делом решила снова взять на работу Гулу. Савита высмотрела, как он прячется за зелеными воротами, дожидаясь, когда Парвати незаметно вынесет завтрак. Прогнав его, Маджи сглупила и лишь посеяла обиду среди прислуги. «В наше время так трудно найти хорошего шофера!» Но важнее всего то, что, вернув Гулу в семью, Савита заслужит молчаливую благодарность остальных слуг — не за Гулу, а за себя самих. «Наилучшее начало для нового правления!»
Внезапно ее жизнерадостное настроение омрачила ужасная мысль. Савита села и отпихнула Джагиндера.
— Что такое?
— Думаешь, айя и вправду ушла?
— Разве тантрист ее не изгнал?
— А вдруг она вернется?
— Не вернется, — Джагиндер притянул Сави-ту обратно. — Больше ведь незачем.
— Ну да, незачем. — Савите очень хотелось, чтобы слова мужа уняли панический трепет в груди. — Может, пусть мальчики пока поночуют у нас в комнате? Ну, знаешь, временно?
— Ни в коем случае, — твердо сказал Джагиндер. — Я хочу быть с тобой. И только с тобой.
Маджи привезли на следующей неделе на «скорой». Джагиндер битый час препирался с санитарами, как лучше внести мать в дом. Наконец, когда он пообещал еще по пять рупий чаевых каждому, находчивые медики привязали ее ремнем к стулу и дотащили до спальни, чуть не надорвавшись от непомерного груза.
Маджи уложили на кровать, подперев ее толстое тело валиками. Правая рука была прижата к боку и согнута в локте, правая половина лица осунулась, в уголке губ скапливалась слюна. Как только все ушли, Мизинчик закрыла дверь и свернулась калачиком рядом с бабкой.
Маджи неловко подняла руку и положила ее на лицо внучке. Мизинчик отвернулась, не в силах признаться в том, что не давало ей покоя: Савита отправляет ее в интернат. С поразительной расторопностью Савита позвонила куда надо, предложила щедрую взятку и застолбила место, хотя школьный год уже начался.
Мизинчик не могла даже попросить Нимиша заступиться. Отныне он стал неуловим, пропускал уроки и целыми днями искал Милочку на извилистых улочках Колабы, показывая прохожим ее черно-белое фото, которое когда-то прятал под табличкой «Идеальный мальчик». Добираясь домой поздно вечером, измотанный и убитый горем, он тянулся теперь не за Экерли или Арнольдом, а за позабытыми изданиями Рабиндраната Тагора и Мулка Раджа Ананда[212].
Нимиш допоздна читал «Неприкасаемого» Ананда: «Он не знал, что делать, куда идти. Его подавляла их нищета, мучительные утренние воспоминания. Спрыгнув с дерева, он немного постоял под ним, понурив голову, словно усталый, сломленный человек. Потом в ушах у него зазвучали последние слова из речи Махатмы: «Да придаст Господь вам сил для окончательного спасения души»».
Аккуратно закрывая книгу и проваливаясь в сон, Нимиш подумал, что вся английская литература вместе взятая для него теперь не стоит одной-единственной полки хорошей индийской библиотеки.
Мизинчик вдыхала бабкин запах — такой знакомый, такой уютный. Все эти годы она нуждалась в любви Маджи, в ее мощном, магическом присутствии и безраздельной заботе.
Мизинчик стремилась быть незаменимой, выбить для себя законное место, стать «своей». Но удар, постигший Маджи, выявил истинное положение вещей: Мизинчик не важна, от нее можно избавиться, ее легко устранить, и бунгало — лишь временное пристанище, а вовсе не место, которое она могла бы назвать своим домом. Мизинчик представляла себе разные пугающие сценарии, например, ее выдадут замуж или прогонят, но ей никогда не приходило в голову, что бабка может заболеть или умереть. Маджи была фундаментом бунгало — баньяном, который беспрестанно разрастался, пуская корни глубоко в землю, осеняя и защищая своей раскидистой кроной всю семью. Но теперь Мизинчик поняла, что все это время в широкой тени баньяна Джагиндер и Савита просто выжидали своего часа.
Маджи моргнула и закрыла глаза, тяжело опустив ладонь на щеку Мизинчика.
Мизинчик пыталась совладать с горем, разом оплакивая все свои утраты. «Как ни крути, — думала она, хотя воспоминание о похищении, к счастью, изгладилось, — это я во всем виновата». Она ведь подружилась с призраком. Уехала с Милочкой на мотоцикле, после чего подруга пропала. И именно она, Мизинчик, дала привидению воды в ту ночь, когда Маджи забрали в больницу.
— Это все из-за меня, — прошептала она бабке.
Но Маджи ничего не ответила, не шелохнулась и даже не подняла веки. Изнуренная переездом из больницы, бабка спала.
Мизинчик встала и вынула из лакированного тикового ларца фото своей матери, точнее, рекламный снимок актрисы Мадхубалы. Девочка прижала его к сердцу. В тиковом ларце теперь осталась лишь прямоугольная темень. Пустота.
Следующее утро выдалось крайне суматошным. Когда Маджи проснулась и в ярости выгнала костлявую малишвалу из своей комнаты, уже почти подошло время для отъезда Мизинчика. Маджи с превеликим трудом встала, опираясь на Нимиша, и похромала в зал. Парализованная правая нога не сгибалась, ступня скрючилась, так что ковылять можно было, лишь вывернув ее наружу. Наконец усевшись — правда, не на трон, а на низкий диванчик, — Маджи схватила левой рукой трость и тупо наблюдала, как из комнаты выносили чемоданы Мизинчика и ставили их у входной двери.
— А вы тем временем поправитесь, — сказала Савита очень громко, словно Маджи оглохла.
— Но ты же сказала, что она уезжает навсегда, — встрял Туфан.
Савита испепелила его взглядом.
— Ну вот, милая, — произнес Джагиндер, подыскивая подходящие слова, когда Мизинчик наконец вышла в зал. Волосы ей заплели в длинную косу, изящно уложив кольцом на затылке. — Это самое… — Он запнулся, чувствуя, что предает покойную сестру, и, плюхнувшись на диван, с благодарностью принял джал джиру — освежающий напиток с лаймом, мятой и каменной солью.
Гулу вошел за чемоданами и застыл, увидев на диване Маджи, которая смотрела на него немигающим взглядом.
— Только не тяни резину, — приказал Джагиндер, громко прихлебывая. — Надо поскорее с этим покончить.
Гулу понурил голову и, беря сумки здоровой рукой, начал ловко вытаскивать их в открытую дверь.
Кунтал появилась со стаканом горячего чаи масала и поднесла его к губам Маджи. Та покачала головой и с такой силой отпихнула стакан, что он выскользнул из рук Кунтал и разбился.
— Тьфу ты! — Савита отчитала служанку. — Теперь с ней надо поосторожней. Ее ведь мышцы не слушаются.
Кунтал кивнула и, встав на колени, подмела осколки. В воздухе запахло кардамоном.
— Ну, прощайтесь, — буркнул Джагиндер, обращаясь к мальчикам.
Мизинчик огляделась. К ней неловко подошли близнецы. Туфан неохотно подарил ей комикс про Одинокого рейнджера — копию того, что уже был в его коллекции. А Дхир, разревевшись, сунул ей в руку свою любимую шоколадку «кэдберри».
Во взгляде Нимиша читалась уйма невысказанных вопросов о той ночи, когда исчезла Милочка. Он почему-то был уверен, что одна лишь Мизинчик способна пролить свет на эти события, если только удастся разворошить ее воспоминания. Он уже расспрашивал ее, но она лишь покачала головой. «Я ничего не помню, Нимиш-бхаия. Она посадила меня на мотоцикл, а потом — провал в памяти».
— Если что-нибудь вспомнишь… — тихо сказал Нимиш; в руках у него, как ни странно, не было привычной книги.
Мизинчик кивнула:
— Я обязательно напишу тебе.
Она скользнула взглядом по его нежным губам, почему-то зная, какие они на вкус.
Савита заторопилась.
— Ты всегда можешь приезжать в гости на каникулы, — великодушно пригласила она.
Мизинчик припала к ногам Маджи, прижалась лицом к ее сари, пахнувшему пролитым чаем.
— Маджи, — прошептала она, задыхаясь от волнения, и осколок стекла врезался ей в колено. — Я хочу остаться. Просто скажи им. Они тебя послушают.
Маджи смотрела на Мизинчика ничего не выражающим взглядом, руки ее не шевелились. Из последних сил бабка отвернулась, не пожелав благословить внучку.
— Джао, — произнесла она еле слышно, еле разборчиво. — Иди.
Гулу глянул в зеркало заднего вида и с болью отметил, какое безжизненное у Мизинчика лицо. Он невольно вспомнил, как Маджи привезла ее в дом еще хилым младенцем.
Едва девочка подросла, он стал регулярно отвозить ее по утрам в школу, а после полудня приезжал снова с дымящимся обедом. Больше всего Гулу любил забирать ее после занятий, когда Мизинчик прыгала на пружинистое сиденье и упрашивала: «Гулу, расскажи, как ты украл целую стаю птиц с Кроуфордского рынка, чтобы прокормить семью». В ответ он травил несусветные байки, которые просто завораживали Мизинчика, и ощущал себя почти что звездой экрана. На время этих поездок Гулу из Угодливого Шофера превращался в Бесстрашного Героя, рисковавшего здоровьем и жизнью ради своей нуждающейся семьи.
Но в последние месяцы у Мизинчика не оставалось времени на его байки, и Гулу приходилось довольствоваться лишь ее портфелем; истории вхолостую крутились у него в голове, не находя выхода. Так он лишился своих ежедневных побегов в воображаемый мир.
— Мизинчик-диды, — робко сказал Гулу, — я когда-нибудь рассказывал тебе, как выискивал в груде мусора кусочки металла, чтобы сдать их на лом в Дхарави? Это было в период муссонов, когда холера пулей разносилась по трущобам. Хай Рам! Моя младшая сестричка тяжело заболела, чуть не померла. Мать пошла в храм с моей сестренкой, что свернулась вялым комочком у нее на руках, и отдала пуджари[213] наши последние пять рупий. Но его молитвы не помогли. Богиня Лакшми не сжалилась над нами, и моей сестрице еще больше похужало: все время понос да рвота. Я отчаялся найти деньги на соли от обезвоживания. Я когда-нибудь тебе рассказывал… — Он запнулся, смущенный своей попыткой исправить настоящее, заглушить боль подзабытой историей.
Мизинчик не отозвалась.
У Гулу екнуло сердце.
— Как Маджи? Я слышал, что она больше не разговаривает.
«Разговаривает», — подумала Мизинчик, вспомнив жестокое слово Маджи: «Джао — иди». Она, не отвечая, почесала царапину на колене, на ткани уже проступило круглое пятнышко крови.
Гулу изо всех сил проявлял участие. Трагедия Маджи стала его спасением, шансом остаться у Митталов, сохранить работу и жить, как прежде, не прибегая к угрозам и не открывая свой позорный секрет. Еще неизвестно, что сделал бы Джа-гиндер, расскажи он ему обо всем. Мог бы отправить Гулу за решетку, избить, даже изуродовать и оставить подыхать на улице.
Гулу вспомнил отца своего друга Хари, который раз отсидел пару месяцев в тюрьме «Артур-роуд». После освобождения отец заехал на вокзал повидаться с Хари, ребра торчали из худющего тела, покрытого омерзительными кровоподтеками и гноящимися ранами. «Никогда не давайся в руки бахэнчод полиции, — наставлял он Хари, весь подавленный, с потухшим взглядом. — Лучше уж покончить с собой».
«Каким же я был дураком, — выругался про себя Гулу. — Я скорей бы сдох, чем раскрыл свой секрет».
Изувеченная рука запульсировала, кровь застучала в рубце. Гулу поморщился, зажав кисть иод мышкой. Но давление нарастало, боль поднималась все выше, до самой грудной клетки. Он лавировал в уличном потоке, как вдруг на краткий, едва уловимый миг увидел молодую женщину в ослепительном ореоле огненно-красного сари, которая бросилась ему под колеса. «Амбассадор» свернул на встречную, чуть не врезавшись в автобус.
— О нет! — выдохнула Мизинчик.
— Женщина бросилась под колеса! — крикнул Гулу, и сердце глухо застучало в груди, как только он осознал, что это была Авни. Фантомная боль в отрубленном пальце усилилась настолько, что Гулу чуть не потерял сознание.
Мизинчик прижалась лицом к окну. Фигура в сари мелькнула в лучах солнца и вновь устремилась им навстречу, точно ураган. Видение подняло лицо, паллу соскользнуло с головы. Мизинчик проехалась носом по стеклу. «Она никогда не оставит нас». Внезапно увидев лицо женщины, она вспомнила все: как выпила кокосовый эликсир и как внутри заклокотала Авни.
— Господи! ГЪсподи! — причитал Гулу, со скрежетом переключая передачи и бешено вращая руль здоровой рукой. «Она хочет убить нас!» Пот катился градом у него по лицу, затекая в глаза, мешая обзору. — Господи! Боже!
— Ты ее не обгонишь! — крикнула Мизинчик, перелезая на переднее сиденье. — Она никогда не оставит нас. Никогда. Пока…
Гулу дал по газам и вырвался вперед, словно мчался в ад.
— Скажи, Гулу! Ты должен сказать, чтобы спастись! — Мизинчик знала, что он пытался скрыть, — она выпила это в ту страшную ночь.
Оно все еще внутри, поняла девочка, нужно только внимательно вслушаться.
Проклятие вампира
Авни и Гулу встретились еще один, последний раз, после того как он оставил ее на вокзале в тот роковой день. Гулу вернулся, бродил по платформам и звал ее. Вдруг навстречу выскочил разносчик чая, мальчик по кличке Псих, с чесоткой на ногах; раны гноились, хоть он и посыпал их белым бензилбензоатом.
— Эй, ты, — окликнул он Гулу, — она послала меня за тобой.
— Я никого не встречаю.
— Как же! — усмехнулся разносчик. — Она знала, что ты вернешься. И она тебя ждет.
Предчувствуя недоброе, Гулу пошел за мальчиком — мимо вокзала, на заброшенный задний двор, где на запасных путях ржавели товарные вагоны. Перед тем как залезть в один из них, он замешкался и со страхом всмотрелся в пустынный пейзаж. Когда Гулу еще был чистильщиком обуви, его друга Бамбаркара зверски изнасиловали в таком вот пустом товарняке.
— Где она?
— Здесь. — Мальчик подбоченился одной рукой, а другой аккуратно поставил на землю сосуд с чаем и легко запрыгнул в поезд. В темном пустом вагоне эхом отдавался приглушенный шепот.
— Где? — выкрикнул Гулу. — Я не вижу ее!
— Я здесь, — откликнулся из гулкой темноты приятно-скрипучий, призрачный голос.
Гулу протянул ладонь и в предвкушении пошел на звук. Она шагнула навстречу, тонкие руки обняли его, а нежные, пахнущие кардамоном губы поцеловали в рот.
— Уйди от них, — прошептала она и, проведя рукой по его груди, остановилась на талии. Штаны его упали. — Уйди от них ради меня. — Губы сомкнулись на его набухшей шишке.
Он скорчился и застонал, напрягшись от острого вожделения.
— Прости, — взмолился он, — я не могу просто так уйти. Куда мы подадимся, как выживем? Прости…
Внезапно она исчезла, и он стал хватать руками темноту, ощупывая зловонный воздух.
— Сходи на кладбище у моря, — приказала она — голос ее сделался холодным и далеким. — Посмотри на младенца… Лишь тогда ты поймешь…
Гулу рухнул на пол, задыхаясь.
— Она погибла не из-за меня…
Он цеплялся за голос, припадая к металлической обшивке.
— Это не было случайностью… Найди амулет, который повязали на шею младенца при рождении… Он должен был защищать его от злых духов, но не защитил от кое-чего пострашнее… Он отвалился еще до того, как девочку похоронили… Найди его… И найди ее…
Эти нашептанные приказания накатывались волнами, эхом отражаясь от стен и искажаясь. Гулу слепо кинулся на голос.
Сзади раздались душераздирающие крики разносчика чая.
— Авни! — позвал Гулу.
Мертвая тишина.
Вдруг его схватила потная рука.
— Пошли, — потребовал мальчик.
— Где ты был все это время? — спросил Гулу, встряхнув его. — Куда она делась?
— Пошли. Ты должен поступить, как она велела. — Разносчик спрыгнул на рельсы и жадно припал к чашке с кардамоновым чаем.
— Говори! — Мизинчик трясла Гулу за плечо, пока он мчался, как безумный, словно убегая от духа Авни, от жгучей боли в пальце, в руке, в груди. — Ты ведь сходил на кладбище?
— Ты знаешь? — изумился он, и «амбассадор» еще быстрее рванул вперед.
— Ты выкопал младенца!
— Нет, нет, нет!
— Да! Я знаю, что выкопал!
— Я не могу! — закричал Гулу, но лицо выдавало его поражение.
«Амбассадор» сворачивал то на одну полосу, то на другую, вслед им сигналили, взвизгивали тормоза.
— Ну как же ты не понимаешь? — молила Мизинчик. — Ты никогда не освободишься, пока не скажешь! Скажи — или она убьет тебя! Убьет меня — нас всех!
Секрет, который Гулу хранил целых тринадцать лет, жег ему язык, просясь на волю.
— Конец твоей истории! — заорала Мизинчик, и ослепительный ореол Авни опустился на них, точно смерч, будто закрученный спиралью вестник смерти. — ГЬвори! Сейчас же!
Мизинчик закрыла глаза, и на нее обрушилась стихия.
Все началось с песни — не древней, а той, где пересказывается древняя история. Она заканчивалась в Лахоре, приводя обратно в Пенджаб, на родину Мизинчика, к гробнице с надписью: «Если бы я мог узреть лик любимой хоть раз, то благодарил бы Господа до самого дня Воскресения». Гробницу построил безнадежно влюбленный принц, которому суждено было стать Джахангиром — Завоевателем Мира. Он полюбил танцовщицу, столь прекрасную, что ее прозвали в честь изысканного цветка граната — Анаркали. Любовь их была обречена: девушку похоронили заживо. Но эту историю увековечили на большом экране, в фильме «Мугхал-э-Азам». Гулу пропел строчку из заглавной песни «Раз я люблю, чего же мне страшиться?», и «амбассадор» вместе с пассажирами нырнул в водоворот правды.
В развилке древнего священного фикуса сидели две черные вороны и каркали друг на друга, словно ссорясь между собой, их крылья поблескивали в слабых лучах лунного света. Дерево без красных цветов и мясистых плодов росло за высокой стеной, и его тонкие ветки свисали сверху, маня к себе. Гулу стоял перед входом на индуистское кладбище и вспоминал мрачную историю царя Викрамадитьи, который нес труп вампира целых четыре мили до шамшана[214] — места погребения на речном берегу, дабы избавиться от древнего родового проклятья. Вступив на шамшан в ту безлунную, ненастную ночь, царь увидел жуткое зрелище: волков, чья шерсть горела голубоватым пламенем, и огромных медведей, что раскапывали своими лапищами недавно похороненных. Злобные духи ползали по земле в красноватой мгле, толстые черные змеи шипели, раскачиваясь на голых ветвях, а гномы плясали над погребальными кострами. Грозный йог Шанта-Шил сидел посреди всего этого разгула, испачканный кровью и натертый пеплом, призывая Кали, богиню смерти.
От леденящей истории царя Викрамадитьи Гулу застыл перед воротами кладбища. Он еще раз глотнул самопального дару, прихваченного с собой. Он редко употреблял спиртное, с тех пор как поступил на службу к Маджи, и оно сразу ударило в голову, придав решимости. От страха мурашки побежали по спине, едва он проскользнул в открытые ворота, вспоминая слова Авни: «Посмотри на младенца. Лишь тогда ты поймешь».
Движимый любовью или безумием, но больше всего на свете желая вернуть Авни, Гулу сделал еще шаг и в страхе уставился на оскверненную землю. Огороженная стеной территория площадью два акра была покрыта черным щебнем, и битые камни торчали из многочисленных щелей. Из-за дождя замкнуло проводку, и флуоресцентные лампы, обычно освещавшие участок, мокли в кромешной темноте. Двое «неприкасаемых» бродили вокруг навесов крематория, где лежали покойники; рядом с каждым — по четыреста килограммов дров. Смрад от трупов, принесенных скорбящими сыновьями и братьями и кремированных в тот же день, уже наполнял воздух беспросветной тоской.
Сразу же за маленькими крематориями на дальнем конце кладбища Гулу высмотрел небольшой клочок рыхлой земли, где хоронили детей и младенцев, завернутых в плетеные бамбуковые циновки. Площадка была окружена или, точнее, огорожена зарослями деревьев, чьи зеленеющие ветви заслоняли лунный свет, пробивавшийся сквозь тучи. Пытаясь отговорить себя от задуманного, Гулу пробормотал стих из Бхагавад-гиты: «Всякий раз, когда сердце твое обезумеет и вырвется из-под узды, осади его и верни в руки своей души».
Но, произнеся эти слова, он понял, что ему не хватает сил. Его заворожила другая строчка — куда более убедительная и старая как мир: «Раз я люблю, чего же мне страшиться?» Он обошел кладбище по периметру, прижимаясь спиной к стене и не сводя глаз с двух мускулистых «неприкасаемых», которые сидели на корточках у погребальных костров и помешивали раскаленные уголья, чтобы останки сгорели дотла. Пылающие костры уже успели превратиться в мерцающие груды пепла и костей, что отбрасывали неверные отблески на темные лица. Гулу слышал, как «неприкасаемые» тихо переговариваются, изредка покашливая.
Он скользнул мимо бетонных лавок, где родственники умерших сидели до самого заката и смотрели на погребальные костры, и мимо кранов, где они потом мыли руки и лицо. Спрятавшись за деревьями, Гулу подождал, пока «неприкасаемые» отвернутся, и пробрался в дальний конец кладбища, сердце его буквально выскакивало из груди. Там не было ни могильных плит, ни каких-либо указателей, где покоятся мертвые младенцы. Сама земля настолько пропиталась смертью, что нельзя было распознать свежую могилу. Гулу упал на колени и принялся рыться в грязи. Когда он уже почти отчаялся, вымазав руки в липкой, вонючей земле, пальцы его вдруг нащупали крошечный амулет из золотистых и черных бусин.
Едва он вонзил в землю мотыгу, над головой вздрогнул священный фикус. Гулу замер, решив, что на ветке сидит призрак и наблюдает за ним. Могучий фикус, или дерево бодхи, под которым принц Сиддхартха достиг просветления и стал Буддой, считается также обиталищем призраков, упырей и злых духов, чье присутствие выдают дрожащие листья. Гулу вспомнил, как Большой Дядя предостерегал от карликовых вириков[215] с огненно-красной шкурой и острыми зубами, которые висят над тем, кто скоро умрет, и без конца лихорадочно тараторят. «Я слышал их всю ночь, — сказал Большой Дядя испуганной стайке чистильщиков обуви незадолго до смерти. — Они перевозят души грешников через реку Вайтарани[216] и бросают их в кромешную тьму». Может, вирики ждали теперь на дереве самого Гулу? Волосы у него на затылке встали дыбом, а соленый бриз, долетев с Аравийского моря до кладбища, слизал пот со спины Гулу, будто сама богиня Кали провела по нему окровавленным языком.
Гулу снова упал на колени, услышав какофонию воя и лая. Над головой прогремел гром, бродячие псы зарычали и заскреблись по ту сторону стены. Он был уверен, что Кали, живущая в местах кремации с целой стаей мифических шакалих, следит за ним, выжидая, чтобы убить и напиться его крови. «Неприкасаемые» прервали беседу и посмотрели в его сторону. Гулу в ужасе застыл. Но мысль об Авни наполнила его грудь пульсирующим теплом, и мотыга снова вонзилась в землю.
Он вспомнил отца, всю жизнь толкавшего тачки. Как-то зимней ночью на него напал дух му-миаи — это невидимое существо схватило его сзади длинными, тонкими, как у скелета, пальцами и запустило в ребра свои загнутые когти. На следующее утро отца нашли мертвым на перекрестке Чёрчгейт-стрит и Эспланейд-роуд: голова лежала под водой в фонтане Флоры, а туловище разорвал на части какой-то потусторонний хищник.
Гулу наткнулся на что-то шершавое. В темноте он различил плетеную структуру бамбуковой циновки, в которую закутали младенца. Развернув циновку и взяв в руки крошечный комочек, он отшатнулся от смрада. Затем, сдерживая рыдания, дрожащими пальцами развязал хлопчатобумажную кхади[217] и бросил ее на землю.
Младенец был все еще прекрасен: густые волосы на головке, черные ресницы. Кулачки крепко сжались, а из животика торчала гниющая пуповина. «Что я наделал! Господи, что же я наделал!» Но затем, вспомнив приказ Авни, Гулу сжал челюсти и раздвинул закоченевшие ножки.
— О боже, нет!
Гулу уронил младенца и в шоке отпрянул.
Он сразу понял, почему Авни пришлось уйти.
И почему сам он должен остаться.
Ведь хоть она и подала ему зыбкую надежду, Гулу никогда не удастся восстановить доброе имя Авни. Даже на смертном одре он не расскажет, что любимое дитя, лунная пташка всего семейства была… хиджрой. Ни женщина, ни мужчина, а что-то среднее — у этого ребенка не было ни законного места, ни законного будущего в доме Митталов.
Тогда Гулу заплакал, прячась в дрожащих зарослях фикусов, и слезы струились по его щекам, капая на обнаженное тельце, оскверненное при жизни и оскверненное после смерти. Теперь он всегда будет носить с собой это бремя, эту загадочную историю, драму, достойную экранизации, в которой он сыграл главную роль, — правда, не славную, как мечтал, а, наоборот, позорную.
Авни сказала правду. Смерть ребенка не была случайностью.
Сидя в накренившемся «амбассадоре», Мизинчик закрыла глаза и явственно представила заключительную сцену. Маджи, с решимостью бога Шивы и с любовью его божественной супруги Шакти. подносит руку к лицу младенца и топит его в ведре. А затем, восстановив этим постыдным поступком космическое равновесие, продолжает свой обход, направляясь в зал — это разбитое сердце бунгало.
Опаляющая жертва
Открыв глаза, Мизинчик поняла, что сидит в поезде, сжимая в руках портфель. Она всегда знала. «Я вкусила эту правду, проглотила ее. И старалась удержать внутри».
Сквозь непроглядный туман возмущения бабкиным поступком пробилось сострадание, и Мизинчик встала:
— Нет, я не поеду.
— Но… но… ты же им не нужна, — нервно сказал Гулу в окно.
Колеса поезда со скрипом покатились.
— Мой дом здесь! — воскликнула Мизинчик. Она всегда надеялась, что Маджи выделит ей место в бунгало. Но теперь поняла, что должна потребовать его сама.
Поезд тронулся. Мизинчик скрылась в окне, вмиг очутилась у открытой двери и стала выбрасывать свои чемоданы на перрон.
— Они разозлятся на меня! — крикнул Гулу, уворачиваясь от летящего багажа. — Ты должна уехать!
— Я остаюсь!
Ржавые колеса уже со скрежетом набирали ход, но Мизинчик спрыгнула.
Поезд мелькнул расплывчатой грудой кренящегося металла и исчез.
В наступившей тишине Мизинчик услышала стук собственного сердца. «Боже, что я наделала? Как я поднимусь обратно по ступеням веранды? Что скажут Нимиш и Дхир, когда меня увидят? А Маджи? Маджи!»
Гулу молча собрал разбросанные чемоданы и уставился на Мизинчика вытаращенными, перепуганными глазами.
Мизинчик попыталась сделать шаг, но застыла как вкопанная. В ушах звучал последний шепот призрака: «Услышь меня».
На глаза навернулись слезы, и Мизинчик разрыдалась, оплакивая судьбу младенца, родившегося хиджрой. Она встречала хиджров всю жизнь — их загадочные фигуры, как тогда в кафе «Эм-пресс», оскорбляли естественный порядок вещей. Принадлежи они хоть к высшей, хоть к низшей касте, им все равно суждено стать отверженными, и несчастным не приходится рассчитывать на людское снисхождение.
Мизинчик глубоко вздохнула и вздрогнула, припомнив, что сама участвовала в этой злосчастной эпопее.
Ведь и она отворачивалась от правды — от мира возможного. Поддалась притягательному соблазну сплоченности.
Мизинчик украдкой потрогала журнальный снимок матери, прикрепленный к краю ду патты.
А потом, вытерев слезы, вздернула подбородок:
— Домой, Гулу, отвези меня домой.
Эпилог
Каждое утро Мизинчик вставала пораньше и помогала бабке обойти бунгало, наматывая по пять, а то и по десять кругов, после чего Маджи удалялась на молитву в комнату для пуджи. Со временем Маджи несколько окрепла и даже заговорила, но никогда не пыталась снова встать во главе семейства. Большую часть времени она проводила в своей темной спальне или в комнате для пуджи — вдали от пульсирующего сердца бунгало. Савита приказала разобрать богато украшенный трон Маджи и вынести его из зала, а сама принимала гостей, сидя на золоченом диване с толстой обивкой, привезенном из Европы.
Изредка заходила соседка Вимла Лавате — через главные ворота, как и подобает гостям, а не через тайный проход на заднем дворе, который по недосмотру вскоре зарос кустами и вьющимися лозами. Обе женщины, сломленные трагедией, уже не беседовали, как в былые времена. Для Маджи это было слишком тяжело, а Вимле просто нечего было сказать. Они молча утешали друг дружку своим присутствием да усердно пили чай, оставляя на дне фарфоровых чашек сахарный осадок.
Мизинчик продолжала ухаживать за бабкой почти так же, как раньше: писала письма, присматривала за комнатой для пуджи, передавала указания прислуге. Но по какому-то негласному уговору она занимала теперь более важное положение. Вернувшись в тот день в бунгало и решив побороться за собственную судьбу, она заявила о своих правах на законное место в доме Митталов. А потом долгими днями и ночами поражалась, как животворящие руки Маджи, принесшие ей самой столько радости и любви, могли причинить такие страдания.
Инспектор Паскаль так и не разрешил загадку исчезновения Милочки Лавате, и эта единственная, вопиющая неудача никогда не давала ему покоя. Однажды ему показалось, что Милочка идет глухой ночью по Колаба-козуэй и останавливается перед «Прелестной модой», словно о чем-то вспомнив.
— Мисс Лавате! — окликнул он и бросился к ней. — Мисс Милочка Лавате!
Но не успел он пересечь улицу, как видение испарилось. Еще пару недель он получал рапорты от коллег из Мадраса и Пондичерри, которые тоже якобы видели девушку на побережье.
Возможно, им это не померещилось. Ведь той жуткой ночью в Аравийском море, когда она нырнула в студеную, бездонную пучину, Милочка получила от Авни неожиданный дар: способность постижения своей судьбы. Истинной судьбы — быть свободной.
Поскольку Милочка так и не нашлась, газеты без устали писали о ее загадочном исчезновении, и этот случай вошел в анналы истории города. Заподозрили, что она сбежала с Инешем, владельцем рубинового 500-кубового «триумфа», который пропал в ту же ночь, что и Милочка.
Инеша застращали, наложили взыскание, но в конце концов отпустили в обмен на непомерную взятку, которую выложили обезумевшие родители. Правда, со своим любимым мотоциклом он распрощался навсегда.
Харшал Лавате считал, что сестра сбежала назло ему, из-за его навязчивых приставаний. Он понапрасну разбазарил кучу семейных денег на частного детектива, который тратил весь свой гонорар на дорогих европейских шлюх в Камат-хипуре — недалеко от того места, где одна стареющая проститутка покончила с собой, убив перед этим своего юного сына и его дядю девятидюймовым ножом рампури.
Наконец, после многомесячных поисков и внезапного пересыхания денежного потока, детектив представил Харшалу папку со своими находками. В детальном отчете он упоминал «Сутры Ману», или Первые Законы Человечества, объясняя исчезновение Милочки пятым типом брака — исач-хавиваха. «При этом способе, — писал он, — жених соблазняет девушку талисманами и черной магией и женится на ней без согласия родителей. По моему мнению, в ту страшную ночь ее соблазнил не кто иной, как сам дьявол».
Харшал сжег отчет — скорее из страха, чем от ярости. В ту ночь, когда он изнасиловал Милочку, она нанесла ему рану, и у него до сих пор болело где-то глубоко в кишках. Харшал проник в сестру всего лишь раз — один-единственный. Но потом она каким-то чудом высвободилась, повалила его на живот и пронзила сзади. Он так и не понял чем, а лишь почувствовал, как кольнуло внутри и как лопнула кожа, — невыносимая боль! С тех пор у него кровоточила прямая кишка и он жестоко мучился при каждом испражнении. «Уж точно в нее кто-то вселился, — в ужасе решил Харшал. — Какая-то отъявленная нечисть».
Долгими вечерами Вимла перебирала брачные предложения Милочки, сложенные в вишневой сумке, дотошно отслеживая, кого из кавалеров уже окрутили, а кто еще свободен. От месяца к месяцу число подходящих холостяков сокращалось, а вместе с тем угасала и надежда, что дочь когда-нибудь вернется. В глубине души Вимла верила, что Милочка жива, поскольку обнаружила пропажу золотых украшений, которые приберегла для дочкиного приданого. Одна лишь Милочка знала, где они спрятаны. И понимать, что ее побег был преднамеренным, было больнее всего.
Тамаринд выкорчевали, распилили на бревна и увезли — Вимла расплатилась за работу двумя великолепными сари. На его месте посадили манговое дерево, но оно не принялось, впрочем, так же, как ним и гуава. В конце концов этот клочок земли так и остался странным островком увядания, вкрапленным посреди сочной райской зелени Малабарского холма.
Милочкину золотистую дупатту, которую Джагиндер забрал у инспектора Паскаля, заперли и забыли в одном из стальных шкафчиков Маджи, где она и лежала, пока Нимиш не переселился в комнату бабки после женитьбы на Джухи Кханделвал. Одним холодным утром уходящей зимы, когда Джухи открывала китайские шкафчики Маджи, чтобы заменить ее белые вдовьи сари, уже траченные молью, на свои яркие свадебные, она вдруг обнаружила дупатту, изящно вышитую изумрудными лепестками и странно пахнувшую морем. Накидка показалась ей старой, тяжелой, словно в ткань вплелось что-то живое.
— Странно, нй? — Джухи протянула ее Нимишу, как раз читавшему «Встречу с судьбой» Джа-вахарлала Неру.
— «Наступает один из редчайших моментов в истории, — процитировал Нимиш эпохальную речь. — Момент, в который душа нации, долго пребывавшей под гнетом, наконец обретает свой истинный голос».
Джухи всмотрелась в лицо мужа, отраженное в зеркале трюмо. Тяжелый импортный гарнитур из тика достался ей в приданое, там еще были шкаф, комод и кровать того же дерева.
— Нашла среди старых сари Маджи. — Она сделала еще одну попытку, решительно тряхнув перед ним дупаттой. — Это ее?
Нимиш уловил металлическую вспышку в небольшом овальном зеркале: миллионы сверкающих лепестков плыли в море золота, в пучине которого тонула крохотная пташка. Яростная боль стиснула ему грудь, клинком врезавшись в сердце, и в памяти всплыла картина: Милочка стоит под тамариндом, прячась от ливня, и эта самая дупат-та ниспадает на ее бронзовую кожу, пухлые груди, атласный лоб, прижимающийся к его лбу.
— Не знаю, — ответил Нимиш, и книга выскользнула у него из рук на пол. — Да, наверно, бабкина.
Но Джухи заметила на его щеках мальчишеский румянец — ту же краску стыда, какой он заливался в их первые брачные ночи. Мельком взглянув на него изумрудными глазами, она бросила дупатту на кучу старых сари, хоть ее и кольнуло сомнение.
— Попрошу Кунтал унести их, ведь на Маджи они уже не налезут, — сказала она и, связав все в узел, решительно вышла из комнаты.
Нимиш сел на кровать и уставился на мешок с одеждой, борясь со страстным желанием достать осколок прошлого и хотя бы на миг прижаться к нему щекой…
…В отчаянии пролетело несколько месяцев, о Милочке не было ни слуху ни духу, и тогда мать втайне договорилась о встрече с Джухи и ее семьей. Сидя напротив Джухи в ресторане и багровея от злости, Нимиш понимал, что угодил в ловушку, ведь если парень встречается с девушкой лицом к лицу, это равносильно помолвке. Как потенциальный жених он имел право отказаться, но отвергнуть девушку — значит погубить ее репутацию, а Нимиш не мог нанести подобное оскорбление. Савита знала, что для ее старшего сына девичья честь превыше собственных желаний, и использовала это против него. Поэтому свадьба состоялась. Всеми силами Нимиш старался избавиться от прошлого во имя будущего — ради своей молодой жены, которую искренне боготворил. Но глубокой ночью, когда они сплетались в любовных объятиях, он видел перед собой лицо Милочки. Всегда только ее…
Нимиш подавил непреодолимое желание развязать узелок и навсегда избавиться от того свидания под тамариндом, от воспоминания столь драгоценного и столь божественного, что перехватывало дыхание. Нимиш даже порой задумывался: а было ли все это на самом деле?
— Джухи, — наконец позвал он жену натянутым голосом, вставая и поспешно вытирая слезы на глазах. — Джухи, мне надо в университет.
Затем, нежно дотронувшись до узелка с платьями, словно это была шелковистая щека самой Милочки, он вышел из комнаты.
— Ними, — крикнула вдогонку Савита, царственно восседая за обеденным столом рядом с тарелкой золотистых пирожных. — Иди завтракать.
— Я приготовила тебе чай, как ты любишь, — тихо добавила Джухи, протягивая чашку.
Но Нимиш покачал головой и вышел из бунгало. Он попросил Гулу отвезти его на трамвайную остановку «Дхоби-Талао»: если ехать оттуда до «Кингс-Сёркл» и обратно, можно читать больше двух часов подряд.
Савита свирепо глянула на Джухи, пытаясь скрыть отчаяние и беспомощность. За месяцы, прошедшие после свадьбы, Нимиш отгородился от матери, его нежные чувства к ней заметно остыли, но при этом он всегда оставался послушным сыном. Всякий раз, когда Нимиш отворачивался, Савита понимала, что хоть она и завладела бунгало, но утратила нечто гораздо более ценное.
Джагиндер, в конце концов смирился со своей ролью в гибели ребенка. В тот день, когда родилась его дочь, Маджи пришла к нему и рассказала всю правду. Но он не захотел смотреть, не хотел верить, что у него родился такой урод.
«Что можно сделать?» — спросил он, прощаясь с мечтами о дочери: уже не будет ни свадьбы, ни приданого, ни внуков, ни нормальной жизни.
«Ее заберут хиджры. Мы можем скрывать это лишь временно. Ведь закон над ними не властен», — ответила Маджи.
«Нет! — поперхнулся он. — Лучше уж ей не жить вовсе».
Глаза их встретились, наполнившись беспредельной грустью и бессилием. Маджи прижала младенца к груди и вдохнула сладкий, молочный аромат его кожи. Она не видела иного выхода, иных возможностей.
Маджи вспомнила вдовую подругу детства.
«Этот ребенок не должен познать страданий — неумолимой жестокости мира», — сказала она, дожидаясь его согласия.
Джагиндера охватила тоска.
Он должен спасти ребенка от участи, которая хуже смерти.
И он кивнул.
Золотистую дупатту вынесли из дома вместе со старыми юбками Маджи, навсегда вычеркнув из их жизни. Шелковое воплощение Милочкиной судьбы, широкий прямоугольник ткани, хранивший затхлую память о любимой девушке, был слишком опасен для хрупкого сердца Джухи и слишком болезнен для разбитого сердца Нимиша.
Поэтому он исчез.
Исчез вместе с миллионами других историй, которые будоражат темную, бездонную, обнаженную душу Бомбея.
В марте, когда ласковая бомбейская зима окончательно уступила настырному летнему зною, Парвати родила. Из ее тела со следами трудной биографии колониализма, голода, сиротства, изнасилования, рабства — появился на свет ребенок: девочка с густыми волосами и кожей кофейного цвета, точь-в-точь как у матери. Парвати назвала дочку Аша — «надежда».
В первые дни жизни младенец беспрестанно кричал во сне, его крошечное личико морщилось от боли, а глазки никак не могли выжать слез.
Савита отправила Гулу за импортной микстурой от колик — знаменитым «вудвордсом».
— Это она прошлое вспоминает, — успокоила Парвати побелевшего Канджа, который дежурил с кастрюлей свежей укропной воды от вздутия. — Пусть попрощается с ним и облегчит душу.
Она засунула под матрас, где лежал младенец, железный ключ, чтобы помочь ему вступить в новую жизнь, наконец-то спрятав под замок страдания прошлой.
Через четыре дня ребенок, как по волшебству, успокоился, начал весело сосать грудь Парвати и спать глубоким, безмятежным сном. Иногда Кунтал вносила его на одеяле в зал, а сама прибиралась, и Аша осматривала комнату, словно хорошо ее знала.
Однако младенец не хотел идти к Маджи и визжал, даже если его просто к ней подносили.
— Пугается запаха старости, — рассудила Кунтал.
— Болезни, — поправил Кандж.
— Смерти, — подытожила Парвати.
Призрак младенца так и не вернулся в бунгало. Изредка Мизинчик обращалась к нему в ванной, молясь, чтобы его мятежная душа наконец обрела покой.
Но после первых муссонов, едва благоуханное лето с мурлыканьем задремало, Парвати его увидела.
И Мизинчик тоже.
На краткий, почти неуловимый миг,
Когда тяжелые тучи впустили в свое горнее жилище благодатный лунный свет,
А небосклон заголубел новым началом,
Волосы малютки Аши блеснули серебром.
Словарь индийских слов и фраз, составленный переводчиком
Аватара — нисхождение бога из духовного мира в более низкие сферы бытия. Обычно ассоциируется с Вишну и его десятью основными аватарами, наиболее популярными из которых являются Кришна и Рама.
Адда — питейное заведение, место встречи и общения, обычно — студенческой молодежи.
Аджваин — ажгон, айован душистый, или индийский тмин (лат. Trachyspermum ammi), однолетнее пряное растение семейства зонтичных.
Айя — няня.
Алмари — стенной шкаф.
Алу тикка — северо-индийская закуска из вареного картофеля и различных специй.
Ана — денежная единица, равная 1/16 рупии, 4 пайсам или 12 паям. После введения в 1957 г. десятичной системы обычно не используется.
Апсары — в индуистской мифологии небесные девы, духи облаков или воды.
Арэ — возглас, выражающий удивление, нетерпение или гнев.
Аттар — эфирное масло.
Аччха — хорошо, прекрасно; ладно.
Ашрам — обитель мудрецов и отшельников в Древней Индии. В современном индуизме термином ашрам часто обозначают духовную или религиозную общину, куда человек приходит для медитации, молитвы, совершения ритуала и духовного обновления.
Аюрведа — традиционная система ведической медицины, названная по имени одной из священных книг.
Баба — дед; отец; достопочтенный (уважительное обращение).
Бабу — служащий, секретарь.
Балучари — красочные сари из Бенгалии, длиной пять ярдов, обычно ярко-красные, пурпурные или насыщенносиние. Украшены орнаментами, с прекрасными цветами по краям. Конец сари — паллу — украшен сценами из жизни королевского двора, путешествий, наездниками и паланкинами.
Бандуквала — оружейник.
Бандхани — тип окрашивания тканей в штатах Раджастхан и Гуджарат.
Барфи — сладкое блюдо, которое варят из сгущенного молока, орехов и сахара до полного загустения.
Бас — хватит, довольно.
Бахэпчод — грубое ругательство (букв. «… твою сестру»).
Биди — маленькие табачные самокрутки, завернутые в листья коромандельского черного дерева и перевязанные цветной ниткой.
Бинди — знак замужней женщины, цветная точка, которую индианки рисуют в центре лба, так называемый «третий глаз». Также известен как тилака. В состав краски, которой ставится бинди, входит яд кобры.
Бран маска — сухая булочка с маслом.
Брахман — член высшей парны (касты) индуистского общества. Аналог европейского духовенства.
Бринджол — баклажан.
Булао — позови.
Бхабхи — невестка.
Бхаджан — религиозное песнопение в традиции бхакти.
Бхаджи (букв, овощи) — луковая и овощная похлебка.
Бхаи — брат.
Бхаия — братик (ласковое обращение к старшему брату).
Бхакри — грубая круглая пресная лепешка.
Бханги — член низшей касты метельщиков и мусорщиков.
Бхут — дух, демон, призрак.
Бхэлпури — воздушный рис с картофелем и острым тамариндовым соусом.
Бэсан барфи — сладкая выпечка из гороховой муки.
Бэта — сын.
Бэти — дочь; девочка.
Бэшарам — бесстыжая.
Вала — суффикс, обозначающий деятеля или намерение к действию.
Вирика — маленький вампир с острыми окровавленными зубами. Появляется в огненно-красном мареве и издает неприятные гортанные звуки.
Гарам масала — индийская приправа средней степени остроты.
Гора — белый, белокожий, бледнолицый.
Гул хина аттар — эфирное масло из хны.
Гуида — бандит, уголовник.
Гап-шапп — болтовня.
Гхаты — ступени, ведущие к воде (в частности, к водам Ганга). Используются в мирских или религиозных целях. На кремационных гхатах сжигают тела усопших, чей прах затем смывается водой.
Гхи — очищенное топленое масло.
Гхода — лошадь.
Дадагири — вышибала.
Дада — дед по отцовской линии.
Даку — грабитель, разбойник.
Дал — мелкий горох, ечевица, чечевичная похлебка.
Дарваза — ворота, дверь.
Дарзи — портной.
Дару — вино; водка; спиртное.
Дарубанди — «сухой закон».
Девадаси («божьи рабыни») — баядерки; профессиональные танцовщицы и куртизанки при храмах.
Декхо — взгляд; смотри!
Джаду тона — черная магия, чары, колдовство.
Джал джира — лимонад с тмином, мятой и солью.
Джалеби — десерт из муки майда, жаренный на масле гхи и пропитанный сиропом.
Джамболан — плодовое дерево семейства миртовых, со съедобными плодами (лат. Syzygium cumini).
Джао! — Прочь! Иди!
Джи — почтенный, многоуважаемый (ставится после имени, титула, звания).
Джхару — веник, метла, щетка.
Дивали — праздник огней в честь богини Лакшми в месяце катчк — октябрь — ноябрь (по лунному календарю).
Диди — сестра.
Дня — глиняная лампа с фитилем, смоченным в масле гхи.
Дупатта — длинный широкий шарф, которым прикрывают голову или плечи.
Дхал — традиционный пряный суп-пюре из разваренных бобовых.
Дхарма — индийский философский или религиозный термин, которым обозначают моральный долг, обязанности человека или, в более общем значении, путь благочестия.
Дхоби(вала) — прачка.
Дхолак — деревянный барабан бочкообразной формы с двумя мембранами разного диаметра.
Дхоти — традиционный вид мужской одежды: прямоугольная полоса ткани длиной 2–5 м, которой оборачивают нога и бедра, а конец пропускают между ног.
Зопадпатти — район хибар, бараков, или чавлов.
Идли — пряное округлое печенье из черной чечевицы н риса, приготовленное на пару.
Имли — тамаринд, или индийский финик (лат. Tamarind us indica).
Каджал — краска для век и ресниц.
Кала — черный.
Кала масала — «черная» смесь специй.
Кантрибанди — запрещение отечественных спиртных напитков.
Канун — закон.
Карма — материальная деятельность человека и ее последствия. Лежит в основе причинно-следственного ряда, называемого сансарой (круговорот рождения и смерти).
Карэла сабзи — горькая тыква-горлянка в кокосовом молоке.
Каун — кто.
Койта — серп.
Крор — 10 000 000.
Кунд — ямка в земле или сосуд для жертвенного огня.
Курта — традиционная свободная рубашка до колен, которую носят мужчины и женщины.
Кхади — домотканая грубая ткань, изготавливаемая из хлопка, шерсти или шелка.
Кхари — пряное печенье.
Кхичиди — блюдо из риса и чечевицы дхал.
Кушсти — вид традиционной индийской борьбы.
Кушстивала — борец кушсти.
Кью? — Как, почему, зачем?
Кья? — Что?
Кья хуа? — Что случилось?
Ладду — десерт в виде шариков из муки, молока и сахара.
Лакх — сто тысяч; «тьма», куча. уйма.
Ласси — напиток, приготовленный из йогурта, воды или молока и специй.
Латхи — индийская боевая трость длиной ок. 2,5 м, с металлическим наконечником. Используется, в частности, полицией для разгона толпы.
Лингам — фаллический символ и детородный орган бога Шивы.
Лота — небольшой сферический сосуд для воды из латуни, меди или пластмассы.
Лунги — набедренная повязка. В отличие от дхоти, имеет форму юбки.
Малишвала — массажистка.
Мандала — сакральный символ, используемый при медитациях, обычно имеет форму круга.
Мадхави — мирт.
Мантра — в индуизме и буддизме священный гимн на санскрите, требующий точного воспроизведения звуков.
Масала — смесь специй.
Мирчи — перец.
Митти аттар — один из старейших аюрведических ароматов: «запеченная земля».
Митхаи — сахарные лакомства; общее название индийских кондитерских изделий.
Мумиаи — бомбейское обозначение полтергейста.
Мунг дал — лущеные бобы му иг, маш, или фасоль золотистая (лат. Vigna radiata).
На? — Не так ли, не правда ли?
Намаете — распространенное индийское приветствие, обычно сопровождается легким поклоном и складыванием ладоней перед грудью.
Нариял — кокос.
Наусагар — нашатырь.
Нахи — нет.
Ним — азадирахта индийская (лат. Azadirachia indica), вечнозеленое дерево семейства мелиевых. В Индии известно как «деревенская аптека» и «средство от всех болезней».
Нимбу пани — лимонад.
Паан — плод арековой пальмы, завернутый в лист бетеля, который жуют для очистки рта и освежения дыхания.
Паанвала — торговец пааном.
Пади-ликхи — образованная (букв, умеющая читать-писать).
Пайса — медная монета, 1/100 рупии; до 1950 г. — 1/64 рупии.
Пакваан — печенье, лепешка (жаренная в масле). Пакка — 1) подлинный; 2) высший, первоклассный, идеальный.
Пакора — закуска из цыпленка, лука, баклажанов, картофеля, шпината, цветной капусты, помидоров или чили, зажаренных в тесте.
Паланг — кровать, койка.
Паллу — свободный конец сари, который на улице женщины обычно накидывают на голову, как шаль. Панавти — неудача; невезение.
Пани — вода.
Папдит — почетное звание ученого брахмана, а также знатока классической индийской литературы на санскрите.
Паиир — самый распространенный мягкий сыр из свернувшегося при нагревании молока, с добавлением лимонного сока или других кислот.
Панкха — вентилятор.
Папады — тонкие хрустящие вафли из чечевицы, нута, черного горошка или рисовой муки.
Паратха — пресная лепешка, испеченная из пшеничной муки на сковороде тава.
Пила — желтый.
Прасад — пища или любой другой элемент, в ходе религиозного обряда предлагаемый Богу, а затем распространяемый среди верующих как духовное и священное вещество, как символ божественной благодати.
Пуджа — религиозный обряд: молитва и выражение почтения Богу (или богам).
Пуджари — жрец, совершающий пуджу.
Пури — пресный хлеб, который обычно подают на завтрак или как легкую закуску.
Пурнима — день полнолуния.
Пхулчаки — бледноклювый цветонос (лат. Dicaeum erythrorhynchos), птичка размером ок. 8 см.
Раддивала — старьевщик, торговец подержанными вещами.
Радж — власть, владычество; царство, королевство.
Раджаи — одеяло.
Ракша-бандхан — день празднования уз любви между братом и сестрой, когда они повязывают друг другу браслет из ниток.
Ракшасы — в индуистской мифологии племя злых ночных демонов, поедающих плоть (что является строжайшим табу в индуизме).
Расмалай — десерт из шариков сыра панир в густых топленых сливках (малай).
Ратнавали — ожерелье из драгоценных камней.
Роти — пресная лепешка из пшеничной муки атта.
Саб кучх — всё.
Сабзи — овощи.
Садхана — духовная практика, которая способствует сосредоточению сознания и осознанию Бога. Используется, в частности, в сатана-йоге.
Садху — аскет или йог, полностью посвятивший себя достижению освобождения путем медитации и познания Бога.
Салам! — Привет!
Салли — жареная картофельная соломка.
Самагри — смесь из трав, семян, специй и лепестков, используемая в религиозных обрядах.
Самбар — жаркое из тамаринда, мунг дала, чечевицы и овощей.
Самоса — треугольный пирожок с картошкой или мясом.
Саршапа — белая горчица.
Сахиб — господин.
Сваха — санскритское восклицание, используемое в некоторых ведических молитвах и, как правило, обозначающее конец текста.
Сикх-кебаб — пакистанское блюдо: мясные котлеты, зажаренные в тандуре и подаваемые с чатни и мятным соусом.
Сингдана — арахис.
Синдур — красная краска, которой женщины красят пробор.
Суно — слушай.
Супари — орех арековой пальмы.
Су-су — моча; писька.
Тандулияка — амарант, или щирица (лат. Amaranthus).
Тандур — печь-жаровня для приготовления мясных блюд.
Тантра (тантризм) — совокупность эзотерических практик и методов, опирающихся на ведические тексты. В основе тантризма лежит попытка самореализации человека через определенные религиозные ритуалы, основанные на взаимоотношениях и единении бога Шивы и богини Шакти. Тантризм также принято рассматривать как неортодоксальную ветвь индуизма, связанную с черной магией и колдовством.
Тилака — священный знак, который наносят глиной, пеплом, сандаловой пастой или другим веществом на лоб и другие части тела.
Тонга — легкая конная повозка.
Тулси — базилик.
Туфан — тайфун, цунами.
Тхали — тарелка, блюдо.
Тхик (тхик-тхак) — хорошо, правильно, верно, точно.
Урад — черный горошек, или черная сочевица (лат. Vigna mungo).
Уско — его.
Утхо! — Вставай(те)!
Фалсай — пакистанский прохладительный напиток из ежевики, сахара и соли.
Фалуде — традиционный иранский десерт: нити пищевого крахмала, замороженные с розовой водой, лаймовым соком, а также иногда с молотыми фисташками.
Ференги — презрительное прозвище иностранцев.
Фат-а-фат — вмиг, мгновенно.
Хаван — жертвоприношение.
Хай, хай-хай — Увы, ох, ах (выражает печаль, боль, страдание).
Хай! — О! Ого! (удивление)
Ханди — глубокая кухонная утварь с узким горлышком.
Харидра — куркума (лат. Curcuma longa).
Хатао! — Пошел (пошли) вон!
Хатхи — слон.
Хиджры — одна из каст неприкасаемых, в которую входят представители «третьего пола»: гермафродиты, кастраты и евнухи, трансвеститы и транссексуалы, бисексуалы и гомосексуалы. Физически это мужчины, которые одеваются и ведут себя как женщины, называясь женскими именами.
Чавал — рис.
Чавла — общежитие, барак или квартира с общей кухней и туалетом.
Чаивала — разносчик чая.
Чаи масала — чай со специями.
Чакха — оскорбительное прозвище хиджров.
Чакра — многозначное слово: колесо, диск (оружие — символ Вишну), молния, вихрь. Символ дхармы. Чакра изображена на флаге Индии.
Чало! — Пошли! Давай(те)!
Чалта — ловкий, хитрый, пронырливый.
Чампака — растение семейства магнолиевых.
Чанна — мелкий турецкий горошек.
Чанна джор гарам — холодная острая закуска на основе бобовых со специями.
Чанта — оплеуха.
Чаппалы — сандалии, обычно кожаные.
Чатни — традиционные индийские приправы, оттеняющие вкус основного блюда.
Чевда — смесь пряных сухих ингредиентов, которая может включать в себя жареную чечевицу, арахис, лапшу из нутовой муки, кукурузу, растительное масло, воздушный рис и жареный лук.
Чхи! — Тьфу!
Чикки — сладость наподобие козинаки.
Чику — саподилла, масляное дерево, ахра (лат. Munikara zapota), вечнозеленое плодовое дерево семейства сапотовых.
Чини — китайцы.
Чоле — блюдо из нута и специй.
Ноли — короткая блузка.
Чор — вор, разбойник.
Шалмали — капоковый бомбакс, или хлопковое дерево (лат. Bombax ceiba).
Шальвар камиз — самый распространенный вид азиатской одежды, состоящий из верхнего платья-рубашки (камиз), широких шаровар (шальвар) или же узких брюк (чу-ридхар), а также широкой накидки (дупатта, или унна).
Шамана аттар — эфирное масло из мускуса и хны.
Шамияна — полотняный навес, тент; палатка.
Шамшан — погребальный помост из деревянных брусьев, на котором сжигают умерших.
Шлока — древнеиндийский санскритский эпический стихотворный размер, состоящий из 32 слогов. Представляет собой двустишие со строками по 16 слогов, каждая из которых состоит, в свою очередь, из двух полустрок по 8 слогов.
Яр — друг, товарищ.