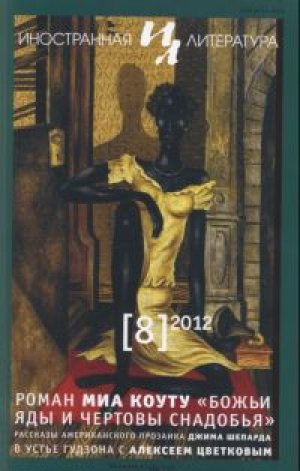
Андрей Шарый, Ольга Подколзина. Московский глобус. Фрагменты книги
Сердце Родины
Главная чешская государственная крепость — Град — устроена на высоком холме на левом берегу Влтавы таким образом, что ее башни, стены и шпили заметны с множества улиц и перекрестков разных, порой далеких друг от друга, кварталов. Пражский Град прекрасно виден и из Вышеграда, и из Риегеровых садов, и с влтавского острова Штванице, и с холма Витков, и с горы Петршин, и с речного пляжа «Желтые купальни». Из-за того что где-то на горизонте маячит огромный замковый комплекс, многое в городской планировке кажется неслучайным. Взять, скажем, центральный проспект третьего пражского района, Жижкова (он на другой от Града стороне долины Влтавы): столетия назад эту улицу, похоже, намеренно сориентировали, чтобы нацелить прямо на древнюю крепость. Реальная архитектурная магистраль продолжена воздушной линией — она упирается в собор Святого Вита, за шиворот которому летними вечерами падает багровое чешское солнце. Мы не раз совершали предзакатные прогулки по этой улице, носящей имя писателя Ярослава Сейферта (когда-то проспект короля Карла IV, а в другие времена — проспект всесоюзного старосты Михаила Калинина), вдоль трамвайной линии, навстречу парящему в воздухе храму. У неведомого планировщика было тонкое чувство пропорции, сумел же он точно вымерить, выстроить почти что совершенную городскую перспективу!
Но по небу до церкви все равно не добраться. Земная дорога в храм идет из Жижкова не напрямую. С Виноградского холма шагаем через Вацлавскую и Староместскую площади к Карлову мосту, а оттуда по кварталам Малой Страны наверх — либо по старой замковой лестнице, либо по людной и шумной Нерудовой улице. Это большое, по пражским меркам, — часа на полтора — путешествие, помимо прочего, поучительно еще и тем, что демонстрирует блеск и нищету общественного строя, построенного в Чехии за минувшие после «бархатной революции» годы. Ученые когда-нибудь назовут его туристическим капитализмом — нет у пражского парадного жизненного уклада более верного наименования. Чудесные образчики разных архитектурных стилей вы разглядываете, вдыхая запахи поджаренных на прогорклом масле сосисок; прелестную тишину мощенных брусчаткой переулков нарушает гогот накачавшихся дешевым пивом подростковых компаний; да и само это пиво с каждым новым сезоном все дороже, все с большей степенью вероятности разбавленное, жидковатое, недолитое. Нечему удивляться: Прага ежегодно принимает почти десять миллионов иностранных туристов (вдвое меньше Парижа и почти в пять раз больше, чем вся Россия) и с каждого, что своего, что чужого, аккуратно взимает оброк. Для гостя это оброк не только финансовый, вроде переплаты жуликоватому таксисту или официанту, но и, с позволения сказать, духовный, в форме обязательного поклонения Граду. Тащиться наверх приходится всем без исключения, иначе зачем вообще сюда приезжать?
Присутствие Града в пражской жизни есть фактор в высшей мере зримый. Эта крепость представляет собой не столько духовный оплот нации, сколько объединительный символ Праги. Еще столетие назад столица австро-венгерской земли Богемии была не единым городом, но содружеством даже не нескольких, а многих городков, местечек и деревень. Этим и объясняется то обстоятельство, что за первую после крушения империи Габсбургов пятилетку население Праги формально выросло более чем втрое — с 220 до 670 тысяч человек: сложили всех вместе с бывшими пригородами да пересчитали по-новому. Очевидно, сложение вышло чуть-чуть насильственным, поскольку до сих пор для коренных пражан важным остается локальный патриотизм. Многие наши здешние друзья предпочитают считать, что родились и живут не просто в Праге, а в конкретном ее районе — в Либени, Просеке, Збраславе, Радотине, Высочанах. В народной пивной «Планета Жижков», стены которой расписаны здравицами в адрес вымышленной Свободной республики Жижков, эта концепция принадлежности своему двору и своему кварталу, а не только своей державе находит законченное воплощение. И без того небольшая страна, Чехия словно специально дробит себя на мелкие детали, тщательно прописывает подробности, старательно подчеркивает особенности. Приезжему эти детали и особенности, заслоненные Большой Прагой, так просто не увидать — но в Панкраце, Карлине, Баррандове, Лготке верят: они существуют.
У пражских чехов, понятно, нет стойкой привычки регулярно наведываться в Град, свое они отходили со времен школьных экскурсий. Только изредка, когда администрация крепости позволяет свободный доступ в рабочие президентские покои и в Испанский зал, где по торжественным случаям заседает парламент, или устраивает просмотр обычно закрытого для широкой публики собрания королевских регалий, в Граде слышна чешская речь, хотя в основном это родители переговариваются с детьми или бабушки учат внуков жить. В такие особые дни гражданам интересно забесплатно проверить, в каких условиях служит народу избранная и назначенная этим народом власть. Но обычно с рассвета понедельника до полуночи воскресенья, круглый год, за вычетом рождественских праздников да нечасто случающихся в Праге суперважных межгосударственных переговоров, грозная крепость над тихой рекой — заповедник вольного выпаса тысяч туристов из десятков стран, разноязыких толп отпускников и гурьбы разноплеменных зевак, охочих до впечатлений.
Интересно, а нас-то что снова и снова тянет в Град, ведь не любовь же к чужим святым камням?
Ответ мы неожиданно получили в Москве, наведавшись в Кремль, куда в советском детстве, как помнится сейчас, приходили со взрослым выражением на лицах и с трепетом в сердцах. Это теперь, когда появилась и уже давно реализована возможность сравнивать явления и понятия по всей географической карте Европы, понятно: Кремль встроен в Москву по-другому, совсем не так, как в Прагу встроен Град. Три десятилетия назад соединение Кремля и городской среды казалось нам безошибочным, единственно возможным, о способе этого соединения, естественно, и не думали. А теперь выясняется: по достоинству, во всем великолепии кремлевские стены и башни можно как следует оценить только с Красной площади, с Софийской набережной да еще с двух мостов, Большого Каменного и Большого Москворецкого.
Но и этого вполне достаточно для желающих постичь идеологию русского государственного величия, да и Красной площади, пожалуй, найдется в мире немного равных. Эта главная площадь России, без сомнения, воспринимается как часть кремлевского комплекса, пусть она и расположена вне крепостных стен. Точно такой же принадлежностью Града кажется приделанная к его парадному двору с юго-запада Градчанская площадь, совсем не помпезная, милая, тоже мощенная брусчаткой и тоже слегка горбатая. Жаль все-таки, что построенный на холме со срытой макушкой Кремль не парит в московском небе, как иногда — если глядеть вечером с Сейфертовой улицы или ночью со Славянского острова — парит в пражском небе Град. Хотя именно Кремль, а не Град сравнивают с Небесным Иерусалимом, с Боровицкого холма (145 метров) даже Воланду не удалось бы целиком увидеть панораму великого города — разве что его небольшую часть, Замоскворечье. Увидеть с Градчан всю Прагу может каждый, и не поднимаясь на колокольню собора Святого Вита. Туристический сайт Кремля, правда, предлагает интересующимся виртуальное развлечение «вид на звезды и башни с крыши» — здания Сената, храма Христа Спасителя, Дома на набережной. Но это забава вот именно что виртуальная: по-пробуй-ка на эти крыши залезть, кто позволит?
Да и в Кремль тоже попробуй — из-за сложной контрольной системы — войди; видать, чистого трепета под сводами Троицкой и Боровицкой нам уже не испытать. Причин много, и есть среди них одна прозаическая: в Кремле самоценность отечественной истории не дополняется, а забивается, как ковер пылью, повсеместной административной строгостью. Кремль от неуместного туристического любопытства надежно охраняют десятки контролеров, милиционеров-полицейских внутреннего и наружного патрулирования и немалое число характерно стриженных мужчин в штатском, с повязками на рукавах или без таковых. Детские воспоминания о Кремле неминуемо путаются со взрослыми впечатлениями. Этот Кремль был всегда, и эти охранники — в кителях и пиджаках, в фуражках и с прическами полубокс — тоже были всегда. И всегда, наверное, будут.
Размышлять об этом устраиваемся на прохладном камне лавочек у не существующего уже памятника Ленину в Тайницком сквере, разглядываем геометрический порядок Кремля. Глазеем на калибр самой большой в мире Царь-пушки, которая ни разу не стреляла, и на литье самого большого в мире Царь-колокола, который никогда не звонил. Не шуметь. Не курить. Не сорить.
Зимой-летом-осенью Пражский Град открыт для бесплатного свободного посещения с пяти часов утра до полуночи. Когда похолоднее, этот временной интервал немного сокращается, но, поскольку зимой и солнце садится пораньше, все шансы побродить по огромной замковой территории при свете фонарей и почти в одиночестве сохраняются. С этой крепостью ты почти на равных, потому что общаешься с ней без посредников и контролеров, без соглядатаев и охранников. Град к любому посетителю относится без подозрительности, не демонстрирует, кто тут главный, не давит державностью, не требует постного выражения лица.
У трех ворот в пражскую крепость — проходи в любые без очередей, билетов и металлодетекторов — в семафорного вида будочках с утра до вечера торчит по паре часовых. Они умело сохраняют серьезность, даже когда рядом пристраиваются позировать чирикающие воробьями японские школьницы. В часы пик отдежурившие положенное постовые мерным (но не прусским печатным) шагом отправляются в казарму прямо по людной тропе; разводящий постукивает по брусчатке прикладом карабина, если туристы перекрывают дорогу. Президенту и его аппарату это столпотворение, по-видимому, не мешает, или они вынуждены (наверняка по неясным для обитателей Кремля причинам) мириться с посторонним вмешательством, как с капризами погоды. Если глава Чешского государства выполняет конституционные обязанности на территории республики, парадный штандарт вывешен над крышей его канцелярии. Когда начальник в отъезде, знамя приспускают, но на свободном ритме жизни музейного комплекса присутствие или отсутствие пана президента не сказывается. Этот цветной флаг с лозунгом-цитатой из письма проповедника Яна Гуса одному из своих сподвижников Pravda vítězí («Правда побеждает») — единственный признак текущей политической жизни на весь Град. Гуляй с утра до ночи по сердцу чешской родины. Никто тебе не помешает. Смешное государство. Маленькая страна.
В Пражском Граде можно легко пообедать, плотно поужинать, на ходу выпить кружку пива, посидеть часок за бокалом вина или чашкой кофе — в непосредственной близости от святых реликвий, в любом на выбор из полудюжины предприятий общественного питания. Здесь кажется очевидным: туристы приезжают, чтобы отдохнуть и потратить деньги, а не для того чтобы услышать вежливый отказ и узнать о запрете. В Кремле это очевидным не считают. Комбинат питания «Кремлевский» пока смог оборудовать для обычных посетителей только одну пищеточку — с лотка продают маленькие кексы и колу со спрайтом. Скудость ассортимента продавцы объясняют строгостью санитарных норм: на воздухе рыба-колбаса портится, а хранить продукты в холоде не позволяет мощность электрогенератора.
В углу пражской крепости, у Златой улички, выясняется, что при всей серьезности государственного замысла Град все-таки не очень серьезное место. Рядом с башней Далиборка, где, как гласит легенда, коротал срок заточения, играя на скрипке, рыцарь Далибор, установлено произведение актуального искусства: обнаженный человек на четвереньках, придавленный огромным черепом. Постичь философский смысл скульптуры мешает начищенная до блеска (очевидно, туристы постарались) мошонка этого бронзового атлета. За углом направо, у Музея кукол, расположены Выставочный зал и Центр художественной фотографии, где нередко устраивают не менее новаторские арт-экспозиции.
…Первая в Праге христианская церковь, храм Девы Марии, появилась в славянском поселении на холме над рекой в конце IX века при князе Борживое из династии Пршемысловичей. По склонам Градчанского холма тогда, говорят историки, лепилось всего несколько десятков домиков из бревен и глины. Дело отца продолжил княжич по имени Спытигнев, построивший рядом с церковью каменные палаты и обнесший их кольцом укреплений. Этот Спытигнев, не давший древним венграм и древним полякам покорить древних чехов, как считается, и заложил примерно в 900 году ставшую знаменитой крепость (hrad, собственно, и означает «крепость»). Через два десятилетия папа римский Бенедикт VII дал разрешение организовать в Граде женский бенедиктинский монастырь.
Историческое возвышение Москвы над своими соседями началось на два-три столетия позже. Московская и пражская крепости долго были тезками, слово «кремль» на Руси вошло в употребление с XIV века. Как раз в этом столетии князь Дмитрий Донской приказал сменить деревянные линии укреплений Кремля каменными, а потом в союзе с татарами и литвинами пошел воевать других татар (союзниками которых были другие русские и другие литвины) на Куликово поле. В ту пору каменотес Матье из Арраса, а после его смерти Петр Парлерж из Кёльна принялись возводить в Пражском Граде громадный храм, куда потом поместили главные чешские религиозные святыни — мощи святых Вита, Войтеха и Вацлава.
Большое архитектурное и мировоззренческое преображение Кремля произошло в конце XV века. Растоптавший, как нам известно из учебников и летописей, ордынскую басму Иван III (первый московский князь, назвавшийся «царем всея Руси») пригласил для перестройки своей резиденции итальянцев Пьетро Антонио Солари, Марко Руффо, Антонио Джиларди и Алоизио да Карезано. Константинополь к тому времени уже был покорен султаном Мехмедом II, и Великое княжество Московское превращалось в центр православного мира. Византийские представления о пышности московские итальянцы (получившие у русских вместе с французами одну фамилию на всех — Фрязин, «выходец из Фряжской земли») соединили с традициями Кватроченто, надставив облицованные красным кирпичом белокаменные кремлевские стены зубцами-мерло-нами. Ордынская угроза от Москвы отступала. Историк Николай Костомаров, считавший, что именно татарское иго вызвало становление единодержавия и его укрепление в России, так подвел черту под этим историческим периодом: «В рабстве Русь нашла свое единство, до которого не додумалась в период псковской и новгородской свободы».
Град по-над Влтавой — другой символ, он символизирует попытки прочесть историю как процесс формирования гражданской общности, для удобства и устройства жизни которой существует государство. В новое время Праге не суждено было даже в шутку помыслить себя центром великой державы, этому городу почти всегда выпадали скромные европейские амбиции. Только два правителя Священной Римской империи — Карл IV и Рудольф II, каждый на три десятилетия — превращали Прагу (и, как следствие, Пражский Град) в оплот своей власти. В XVI столетии, окончательно утвердившись в Богемии, Габсбурги привнесли в пражскую готическую крепость атмосферу Ренессанса, потом, усилиями много строивших в Праге итальянцев, — влияние барокко, а двумя веками позже, при Марии Терезии, громадный замковый ансамбль сложился окончательно, в стиле модного тогда классицизма.
В летописях и Града, и Кремля содержится долгий перечень светских и военных побед и поражений. Москва, еще белокаменной девой, в 1382 году была отдана на поругание недавнему союзнику Дмитрия Ивановича Донского хану Тохтамышу, через двести с лишним лет — полякам, еще двумя веками позже — Наполеону. В Праге неприятели хозяйничали чаще: очень давно — и шведы, и испанцы, и баварцы, и пруссаки; относительно недавно — немцы и, как принято считать в современной чешской историографии, после вторжения 1968 года русские, советские, оккупанты. Град определенно несет на себе Габсбургскую печать: австрийская королевская династия почти четыре столетия чувствовала себя на землях короны святого Вацлава дома. Обустраивать Прагу на свой лад чехи принялись, только провозгласив после окончания Первой мировой войны новую, совместную со словаками независимость. Это, впрочем, не означает, что Град на протяжении веков не был чешской крепостью: история столь причудливо сталкивает народы, так прихотливо наделяет их своеобразным, специфическим для каждой эпохи чувством родины, так искусно смешивает традиции и языки, что — особенно столетия спустя — «свое» часто неотделимо от «чужого» и в архитектурном, и в политическом, и в лингвистическом, и в этническом смыслах. Бесспорно другое: по крайней мере, с градостроительной точки зрения, ниспосланные Кремлю и Граду испытания оказались не напрасными. Обе крепости числятся в Книге рекордов Гиннесса: Пражский Град — как самый просторный в мире исторический замковый комплекс (площадью почти 8 гектаров); Московский Кремль — как крупнейшая по протяженности стен (2235 метров) замкнутая система фортификационных сооружений.
Статус главного города своего государства и Москва, и Прага вернули себе почти одновременно, в 1918 году. Первые десятилетия XX века в архитектурной судьбе этих городов отозвались очень по-разному. Идеология власти и в Чехословакии, и в Советском Союзе подверглась коренному пересмотру — с той существенной разницей, что новые хозяева Града были людьми того же цивилизационного круга, что и старые. Поэтому пражскую крепость, превратившуюся из центра провинциальной администрации в штаб президентской власти, бережно и с любовью достраивали, а в Кремле, где воцарилась советская державная мощь, многое уничтожали, а большую часть оставшегося радикально изменили. В 1929 году, к тысячелетней годовщине смерти святого Вацлава, наконец-то (не прошло и шести веков) чехи завершили возведение посвященного ему и двум другим святым В. величественного собора. Пышный западный фасад храма с восьмидесятиметровыми башнями в неоготическом стиле проектировал в последние габсбургские десятилетия Йозеф Мокер, по его чертежам и заканчивали стройку уже в республиканский период. А общей реконструкцией Града руководил бывший соотечественник чехов и словаков, словенский архитектор Иоже Плечник.
Новации Плечника — его проект модернизации выиграл специальный конкурс — в то время у поборников старины вызывали споры, зато теперь они вызывают всеобщее восхищение. В современной Чехии Плечника принято считать предтечей архитектора Йо Минг Пэя, который полвека спустя построил во дворе Лувра знаменитую стеклянную пирамиду; якобы это тот же случай, когда новая эстетика выгодно подчеркивает достоинства старой. В любом случае умение Плечника, чуть подправив и по-своему подчеркнув детали, придать сложному замковому ансамблю гармонию единого стиля, никем из специалистов под сомнение не ставится. Внутренние дворы Града словенский мастер придумал вымостить серой плиткой так, чтобы, где надо, прикрыть, а где надо, обнажить исторические наслоения; вечным дежурным у главного храма он поставил элегантный и не портящий общего архитектурного пейзажа монолит-леденец из гранита в память о жертвах Первой мировой. Любопытно, что некоторые объекты Града очень долго оставались частной собственностью. Пряничные домики на Златой уличке, в которых веками селились ремесленники и мелкие торговцы, государство выкупило у владельцев только к концу 1950-х годов.
Чехословацким коммунистам не пришло в голову возвести посередине древнего комплекса что-нибудь вроде Военной школы им. ВЦИК или Дворца съездов, уничтожив при этом исторические здания. Как и сто, как и триста лет назад, в Граде все в наличии: четыре крепостные башни, четыре храма Божьих (Святых В., В. и В., Святого Георгия, Святого Креста и Всех Святых), один бывший, закрытый в 1782 году монастырь, а также три огромных дворца, два пышных (Старый и Новый королевские) и еще один поскромнее, некогда он принадлежал дворянскому роду Лобковицей. Московский историк Петр Паламарчук в книге «Сорок сороков» приводит такую трагическую статистику: из 54 сооружений, сто лет назад находившихся внутри периметра кремлевских стен (считая отдельно каждую теремную церковь и все фрагменты комплекса Большого Кремлевского дворца), к концу XX века уничтожили 28. К 1917 году в Кремле существовал 31 храм с 51 престолом. Разрушили, взорвали 17 церквей с 25 престолами, в их числе древнейшие — церковь Рождества Иоанна Предтечи на Бору и собор Спаса Преображения на Бору; женский Вознесенский и мужской Чудов монастыри. «Более всего претит мне смехотворный трепет, с каким свершается… осквернение святыни: предметом неподдельной гордости служит тот факт, что старинный памятник не только сровняют с землей, но похоронят заживо в дворцовой ограде. Вот таким образом примиряют здесь официальный культ прошлого с пристрастием к комфорту… Что не смог сделать враг, то совершается теперь», — Адольф де Кюстин написал это задолго до большевистского переустройства Кремля в книге «Россия в 1839 году[1]». Маркиз, увы, верно разглядел русскую историческую перспективу.
Самый масштабный кремлевский строительный проект советской эпохи — возведенный в начале 1960-х годов по инициативе первого секретаря ЦК КПСС Никиты Хрущева и под руководством архитектора Михаила Посохина Дворец съездов. Гигантское здание сооружали на месте старой Оружейной палаты и Синодального корпуса Патриаршего дворца. КДС пришлось дважды перепроектировать уже по ходу строительства, чтобы увеличить до шести тысяч число посадочных мест и снабдить крупнейшим в мире банкетным залом, в пику китайским товарищам, с которыми СССР тогда соревновался по части помпезных архитектурных замыслов. Возросший объем здания решили спрятать под землю и в результате нарушили гидрологическую систему Боровицкого холма. Началось разрушение подземных свай и фундаментов Патриаршего и Потешного дворцов, грунтовые воды подтекли под Оружейную палату и здание Арсенала, под Троицкую и Боровицкую башни. Стоимость работ по нейтрализации этих проблем, как подсчитали эксперты, составила к 1980-м годам около 500 миллионов рублей. Строительство самого Дворца съездов, облицованного белым уральским мрамором и золотистым анодированным алюминием, по официальным данным, обошлось в шесть раз дешевле. Теперь интернет-сайт Кремля признается честно: «Оценивая сооружение, необходимо отметить, что его крупный нерасчлененный объем диссонирует в ансамбле».
В Праге с историей архитектуры обошлись деликатнее, чем в Москве, еще и потому, что чехи никогда не ставили перед собой глобальных задач, городу это не по рангу. Главным церемониальным центром Града уже пять столетий остается устроенный для коронаций и турниров сводчатый Владиславский зал в Старом королевском дворце — размерами с закуток кремлевского банкет-холла, всего-то 62 на 16 метров. В зал (в свое время одно из самых больших в Европе сводчатых помещений) и теперь ведет широкая и пологая «лестница всадников», по которой облаченные к бою рыцари в тяжелых доспехах поднимались к ристалищу прямо на скакунах. В Граде, кстати, испокон веков хоронили только в соборах, да и то лишь королей, астрономов и архиепископов; в крепостные стены останки героев и вождей не замуровывали. Некрополь для коммунистических лидеров в Праге, правда, имелся, но его хотя бы догадались разместить на отдельном от главной городской крепости холме, перепрофилировав под эти цели построенный перед войной Национальный пантеон рядом с Жижковом.
По части пышности Граду, конечно, не меряться с Кремлем. Пражская «оружейная палата» ничтожно мала: все драгоценные королевские регалии — меч, крест времен Карла IV, корона святого Вацлава, жезл, держава, а также мантия и епитрахиль — хранятся в небольшой комнатке в подполе кафедрального собора за дверью под семью замками, ключи от которых розданы на хранение семи высшим чиновникам страны. Местный Царь-колокол, названный именем святого Зикмунда, хоть и отлит мастером Томашем Ярошем из Брно почти на две сотни лет раньше моторинского, да легче его в десяток раз. Зато Зикмунд функционален: во вполне рабочем состоянии он красуется в пролете второго этажа Главной башни собора Святого Вита. По легенде, любая неисправность Зикмунда грозит чешским землям катастрофой. В очередной раз эта неприятная сказка сделалась былью уже на нашей памяти, в 2002 году: незадолго до разрушительных наводнений, поднявших уровень воды во Влтаве почти на девять метров, у колокола вдруг вывалился язык.
И в Кремле, и в Граде взору открыто многое, но еще больше спрятано, сфальсифицировано, приукрашено, прикрыто. Здания наслаиваются друг на друга, врастают в землю, меняют названия, характер, облик.
Главные крепости всех стран строятся долго и мучительно, им мешают перевороты, пожары, эпидемии холеры и чумы, бессмысленные и беспощадные революции и бунты, дураки-правители. Из всех исторических передряг каждый град и любой кремль выходят со своими представлениями о державном достоинстве.
Пути сообщения
Просторный музыкальный и выпивальный клуб-паб «Szimpla» в бывшем еврейском квартале Будапешта, на улице, носящей имя классика венгерской литературы Ференца Казинци, — ясная метафора мегаполиса, большого города в большом, но хрупком и неделимом мире. Здесь дым — и воображаемый, и реальный (сигарет, трубок, кальянов, иногда «косяков») — стоит коромыслом от заката и почти до рассвета. На одну стену полуразрушенного и — с умыслом и бережно — не восстановленного клубного здания, соединившего шарм городской развалины, заброшенного заводского цеха и вычурно оборудованного лофта, умельцы из числа актуальных художников проецируют светящийся клубок, орбитальную видеосъемку ночного освещения земного шара.
В космосе клубного бара «Szimpla» предлагается двадцать два сорта местного фруктового бренди — палинки. Да, мир един, понимаем мы, опрокинув уже по которой стопке, и город Будапешт — один из многих пророков нашей общей цивилизации, современный, динамичный, молодой и потому привлекательный.
Человеку свойственно стремиться к преодолению пространства, к сокращению дистанции между городами или планетами. Век или полтора назад, когда такого яркого электрического света земной шар еще не источал, передним краем, как сегодня космос, была железная дорога. Паровой локомотив, пульмановский вагон, шатун и колесо, крыло семафора являли собой знаки моды, будущего прогресса. Смыслом жизни и тогда было движение, и в ту пору старательно прокладывали колею. С Южного вокзала Будапешта экспресс компании «Дунай — Сава — Адрия» ежевечерне увозил в Венецию молодоженов, на склоне австро-венгерской эпохи считалось элегантным проводить одну из первых брачных ночей в купе поезда с голубыми занавесями на окне. С Восточного вокзала, самого большого в городе, отправлялись в императорскую столицу, Вену: чиновники — с докладами, царедворцы — с отчетами, прожектеры — с начинаниями, молодые поэты, ученые, офицеры — с мечтами о поприще и славе. На Западный вокзал прибывали сыны разных провинций: галицийские евреи в фетровых шляпах, словацкие крестьяне в кожушках из овчины, богемские коммивояжеры, матросы адриатических портов, хитроглазые трансильванские купцы, мастеровые-русины из Унгвара и Мункача, сербские ремесленники из Бачки и Баната. Их всех (ну, почти всех) поражали, подавляли блеск, широта, мощь Будапешта.
Венгрия, столетие назад еще не ослабленная катастрофически неудачными для своей государственности мировыми войнами, была вдвое обширнее, чем сейчас. В последнюю треть XIX столетия, как понятно теперь с вековой дистанции, Будапешт пережил самую яркую свою пору. Административно возникшая в 1873 году из придунайских городков Буды, Пешта и Обуды мадьярская столица за считаные десятилетия превратилась в шестую по численности населения европейскую метрополию. Трансформация Австрийской империи в Австро-Венгрию, непростой австро-венгерский компромисс, закрепивший за венграми и старые вольности, и новые права, сообщили и городу, и стране невероятный импульс развития. С помпой отмечая в 1896 году тысячелетие пришествия на берега Дуная мадьярских племен, венгерская столица позволила себе сразу две архитектурные 96-метровые вертикали, и сейчас господствующие над пештским пейзажем. К небу вознеслись тогда крест над куполом собора Святого Иштвана, здешнего короля-крестителя, и шпиль парламентского здания, восхитившего современников роскошью, сложностью, дерзостью идеи. Самым главным, самым высоким для города оказалась симметрия историзма, национальная мечта об идеальном государстве, построенном вопреки чуждому национальному, политическому, языковому окружению.
Все остальное для Будапешта тогда (да кое в чем и теперь) — понятия привходящие: и стандарт прогресса, и буржуазный порыв, и даже поклон Господу. Это, впрочем, не означало, что Венгрия не следовала передовому европейскому примеру, не торопилась за первой западной модой. Храмами индустриальной эпохи, как и по всей Европе, в Будапеште стали железнодорожные вокзалы. Самые просторные общественные здания того времени, они — циклопическими размерами светлых пассажирских залов, уходящими в бесконечность стрелами перронов, деловитыми свистками локомотивов — утверждали религию прагматизма, разума, рациональности. Кассовые окна стали алтарями вокзалов; их псалтырем стало расписание движения поездов; их святыми стали скульптурные аллегории отраслей знаний и наук в вестибюлях и на фронтонах; их служителями и кардиналами стали машинисты в промасленных фартуках и кондукторы в фуражках с красными околышами. Искусствоведы утверждают, что для эстетики архитектурного модернизма строительство вокзальных зданий оказалось ключевой и едва ли не самой плодотворной творческой идеей. Масштаб проектов — и в Будапеште, и в Москве, и повсюду — легко приходил в соответствие с величием замысла: создать объекты, равные грандиозному вызову технической революции. Интересно, что полтора века спустя спираль истории завершила виток: вокзалы, как и в своем паровозном детстве, ныне превратились в многофункциональные комплексы. Под железнодорожными сводами кутюрье Жан-Поль Готье теперь с таким же щегольством показывает парижские коллекции, с каким тогда Иоганн Штраус веселил благородную публику венскими вальсами. Разница, пожалуй, в том, что сегодня вокзалы не хуже дворцов и замков приспособились служить постоянными выставочными пространствами. Музей современности в Берлине — это бывший Гамбургский вокзал; парижский М’О — это бывший д’Орсе, кстати, первый в мире электрифицированный вокзал; бывшая железнодорожная станция Роландсек на дальнем западе Германии, где когда-то встретил свою мучительную любовь Гийом Аполлинер, — это музей франко-немецкого художника и скульптора Ханса Арпа. Вторая, посмертная судьба вокзалов подтверждает: они были и остаются парадными, пышными, во всех отношениях имперскими зданиями.
Монархии Габсбургов и Романовых, почти в равной степени многонациональные и одинаково континентальные государства, в XIX веке были вполне сопоставимы и по уровню экономического развития. Игрушечная по нынешним представлениям 26-километровая (если быть точнее, 26 километров 300 метров) Царскосельская железная дорога вступила в строй в 1837 году, руководил ее строительством австрийский инженер и предприниматель Франц Герстнер. В том же году прокладку своей первой транснациональной железнодорожной ветки с паровой тягой завершили Габсбурги: это была магистраль посерьезнее — от Вены до Кракова.
В середине XIX века протяженность австрийских и венгерских железных дорог составляла почти две тысячи километров. Сообщение между российскими столицами наладили в 1851 году. Вопреки распространенному мнению Петербург-Московская (Николаевская) трасса не была первой магистральной железной дорогой империи Романовых. Тремя годами ранее провели транспортную линию между Варшавой, административным центром тогдашней самой западной российской провинции, Царства Польского, и Веной. Но, конечно, дорога из Петербурга в Москву была и во многом остается для России главной. Считается, что в необходимости ее строительства императора Николая I убедил инженер Павел Мельников, автор новаторского для своего времени учебного пособия «О железных дорогах» и будущий министр путей сообщения. Мельников и царя убеждал, и в числе других трассу проектировал, и конструкцию кузовов и рам вагонов разрабатывал, и параметры ограничения массы поездов высчитывал, и американский опыт пропагандировал, что в России всегда было занятием неблагодарным. И усилиями того же Мельникова самая большая в мире страна превращалась в страну самых длинных в мире дорог. Это он уже на склоне лет предложил теоретическое обоснование Транссибирской магистрали.
Понятно, что у Габсбургов не было и даже теоретически не могло быть своей железной дороги протяженностью в четверть экватора. Вся имперская диагональ Австро-Венгрии, в ту пору второго по размерам государства Европы, составляла примерно полторы тысячи километров. К началу Первой мировой войны в России построили 70 тысяч километров железнодорожного полотна, преимущественно одноколейного, в Австро-Венгрии — примерно вдвое меньше, зато качеством получше, да и плотность транспортной сети в центральноевропейской империи оказалась выше. Транссиб, для справки, закончили электрифицировать совсем недавно, в 2002 году, через четыре десятилетия после полета человека в космос.
Первый вокзал в Будапеште построили в 1846 году, а в Москве — пятилетием позже, зато по тем временам роскошный. Но уже к середине 1880-х годов все три и сейчас остающихся главными будапештских вокзала (Западный, Восточный, Южный) обрели твердокаменный, нарядный, сообразный этикету эпохи облик. В Москве того времени поезда принимали пять вокзалов — помимо Николаевского (теперь Ленинградского), Ярославского и Рязанского (теперь Казанского) на Каланчевском поле, это Нижегородский (нынешний Курский) у Покровской заставы и Смоленский (нынешний Белорусский) на площади Новые Триумфальные Ворота, причем репрезентативные здания для четырех из них возвели только в начале XX века. Тогда же окончательно сложилась московская железнодорожная система с ее девятью главными терминалами. Последним в 1902 году открылся — стараниями олигарха Саввы Мамонтова — маленький Бутырский (сейчас Савеловский) вокзал. И в Москве, и в Будапеште ныне по одному вокзальному зданию выраженного социалистического архитектурного типа: Курский вокзал после долгих приготовлений и бесконечного планирования перестроили в начале 1970-х, сохранив только кое-что из внутреннего убранства. Почти одновременно в Будапеште поднялся из руин до фундамента разрушенный в последние месяцы Второй мировой войны вокзал Deli (Южный) — получилось такое же, как Курский, угрюмое дитя эпохи массовой городской застройки, меланж прозрачного стекла, серого бетона, серебристого металла.
Выражение «неуютный, как вокзал» — из нашего детства. Советский ветер дальних странствий приносил в вокзальные помещения запахи вареной курицы, газированного напитка «Дюшес», немытого человеческого тела и дезинфицированных раствором хлорной извести общественных уборных. В залах ожидания Казанского, Павелецкого, Киевского вокзалов иностранные журналисты, которым были запрещены свободные перемещения по стране, могли при желании делать интересные наблюдения для составления энциклопедии общественной жизни Советского Союза эпохи развитого социализма.
Столетие назад вокзальные здания служили опорными точками государственного величия держав и славы монархических династий. В советское время об этой державной славе не то что позабыли, но старые символы повсюду, естественно, заменили новыми. Эти символы так замылили глаз, что казались скрытыми паровозной копотью и потолочной паутиной. Лепнину в стиле «советский ампир» на потолках и капителях колонн вокзалов занимательно разглядывать сейчас, когда завитки вокруг серпов-молотов и ряды пятиконечных звездочек-пуговичек стали маленькими приметами, крошечными памятками того, что уже не вернется, что кануло в прошлое. Поколение назад эти гипсовые завитки и пуговицы воспринимались совсем по-другому: они были фрагментами повседневности.
Государь император лично выбрал архитектора для строительства вокзалов главной царской железной дороги. Эти конечные станции даровали стране административное равновесие, устанавливали баланс между двумя русскими столица-ми-соперницами. Спроектировать Николаевские вокзалы в Москве и Петербурге доверили автору Большого Кремлевского дворца Константину Тону, который считался родоначальником русско-византийского стиля, в середине XIX века активно внедрявшегося в архитектурную практику. Это он ввел в моду серийность общественных зданий: кроме близнецов Петербург-Московской железной дороги, Тон выполнил типовые проекты православных храмов на двести, пятьсот и тысячу прихожан. Всей стране (а не то же самое происходит и сейчас?) предписали придерживаться формы и стиля общего церковного проекта: ни одна великая держава не может обойтись без единообразия. Не случайно, должно быть, Константину Тону покровительствовал Николай I, характер императора казался современникам столь же холодным и рассудочным, сколь сухи и холодны были проекты первого архитектора императорского двора.
Последнюю по времени крупную перестройку бывших Николаевских вокзалов (в начале 1920-х годов переименованных в Октябрьские, а еще через десятилетие ставших Московским и Ленинградским) приурочили к столетию со дня рождения главного советского вождя. От зданий Тона в более-менее первоначальном виде сохранились только парадные фасады. Путешествие из Москвы в Петербург до сих пор еще и поездка из одного национального прошлого в другое: в зале Ленинградского вокзала пассажиров провожает в путь сахарная голова Владимира Ильича, в зале Московского вокзала — встречает аспидный torso Петра Великого.
Ярославскому вокзалу, как и Николаевскому, подобрали пару — на другом конце пути и на другом конце света, на расстоянии 9288 километров. Владивостокский вокзал стал «парным» в 1912 году, здание перестроено Николаем Коноваловым по образцу на Каланчевской (Комсомольской) площади.
В Москве начала XX века Ярославский вокзал, преображенное здание которого сдали в эксплуатацию в 1904 году, слыл самым новорусским. Над проектом работали маститые архитекторы, сначала Лев Кекушев, а потом и Федор Шехтель, оба сторонники идеологии модернизма в искусстве и жизни. Вокзал, признанный примером псевдорусского стиля, похож на сказочный терем: узорчатые башни, высокая кровля с подзором и гребнем, шатер с петушком на шпиле (в советское время петушок оборотился и стал пятиконечной звездой). Фронтон над входом в вестибюль напоминал ворота Спасского монастыря в Ярославле (теперь этот фронтон украшен серпом и молотом); образцами для вокзальных башен послужили Коломенский дворец и церковь из подмосковного села Дьяково. Хотя главная железная дорога от Ярославского ведет на восток, три десятилетия своей истории вокзал назывался Северным: он связывает Москву еще и с Архангельском. Прямой поезд во Владивосток уходит отсюда уже без малого столетие. Время в пути по Транссибу с крайнего его запада на его Дальний Восток составляет не 16 суток, как в проклятые царские времена, а всего шесть (если точнее, 143 часа 32 минуты). Поездка в купе спального вагона обходится примерно в 45 тысяч рублей. Это в один конец. Хотелось бы взглянуть на человека, который с удовольствием поедет в оба.
На станции Белогорск Забайкальской железной дороги, где мы когда-то родились и откуда однажды прибыли в Москву, — как выяснилось, чтобы никогда больше в Амурскую область не возвращаться, — поезд 2/1 «Россия», пересекая страну от центра к провинции, останавливается в начале шестых суток своего пути. Всего-то на полчаса, глухой ночью.
В Венгрии, как и во всей «той» Европе, дистанция между западом и востоком коротка. В Будапеште этот размер едва ли не короче слова pályaudvar, обозначающего на загадочном для подавляющего большинства европейцев языке «вокзал». Вот и от Nyugati до Keleti, от Западного вокзала до Восточного, — минут сорок неспешной пешеходной прогулки, два бульвара и полпроспекта. Эти кварталы сформированы все в ту же прекрасную эпоху праздника венгерского тысячелетия. Здесь новая венгерская столица демонстрировала свои гордость и спесь; здесь, представляя местные достижения ар-нуво, поднялись гостиницы «New York Palace» и «Grand Hotel Royal»; здесь самые элегантные конные экипажи везли — от моста Маргит к площади Октогон — самых пленительных мадьярских дам в компании самых бравых мадьярских кавалеров. Первый автомобиль, марки «Benz», пронесся по Будапешту в 1895 году. Еще почти полвека после этого дорожное движение в Венгрии оставалось левосторонним. Кое-кто из местных патриотов считает, что и таким образом венгерский Будапешт стремился подчеркнуть свои отличия от австрийской Вены. Теперь на больших пештских бульварах кабриолеты и ландо заменены самыми длинными в мире трамваями «Combino» (австрийского, кстати, производства), младшими братьями железнодорожных составов.
На месте Западного вокзала до строительства в 1874–1877 годах его нынешнего внушительного здания находилась конечная станция первой венгерской железной дороги. Nyugati возвели во французском бульварном стиле, с романтическими башенками, по проекту парижанина Огюста де Серра. Главное техническое новшество — металлический каркас, гигантской треуголкой соединивший главные вокзальные корпуса, — сконструировали в инженерном бюро Гюстава Эйфеля. Некоторые архитектурные подвиги Эйфеля в Советской России симметрично повторил инженер Владимир Шухов. В 1918 году он перекрыл пространство над платформами Брянского (теперь Киевского) вокзала остекленным дебаркадером, огромной параболой размером в полтора футбольных поля. Шухов, как и его французский коллега, прославился строительством железных башен, только с сетчатой оболочкой. Изобретенные русским инженером гиперболоидные конструкции до сих пор применяются во всем мире, не исключая, конечно, и Венгрии.
От старых времен на Nyugati сохранились (помимо Эйфелевых железных сеток, балок, швеллеров, растяжек, заклепок) музейный императорский салон, меблированный инкрустированными в стиле маркетри столиками и плюшевыми креслами темно-вишневого цвета; мемориальная доска, напоминающая о пионерной железнодорожной трассе между городами Пешт и Вац, проложенной в 1847 году; габсбургских силуэтов светильники, фонари и фонарные столбы. Не на перроне — все перроны всех вокзалов всех стран стандартны, в меру стерильны или в меру заплеванны, — а в кассовых залах и залах ожидания Nyugati кажется, что время здесь заметно отстает от расписания движения поездов. Может быть, это последствия недавней реставрации, вернувшей вокзалу монархическую стать. Юго-восточный подъезд Nyugati снова приобрел молодцеватый вид, рядом устроили уличную зону отдыха с кафе, скамейками, пальмами в кадках вокруг бассейна-фонтана хитроумных очертаний. Бывший вокзальный ресторан превращен в вокзальный ресторан быстрого питания, нагло названный в городских путеводителях «самым элегантным ‘McDonald’s’ в мире». Как ни смешно, это правда, и гамбургер с кетчупом, должно быть, с трудом лезет в горло в окружении этих изящно-кремовых стен с пилястрами, под этим высоченным потолочным плафоном, под этими взбитыми, как пирожные меренга, лепными розетками и консолями. О да, прекрасная эпоха!
При всем своем парижском шике Западный вокзал недолго оставался в Будапеште главным. Даже ему, чистому французу, не хватало европейской столичности, да и поезда расходились с Nyugati преимущественно по венгерским провинциям. Главный городской терминал, Восточный, возвели менее чем через десятилетие близ самого статусного в Венгрии кладбища Керепеши. Соседство Keleti и Kerepesi — мира тех, кто вечно торопится на поезд, с царством тех, кому уже некуда спешить, — конечно, случайно. А может быть, эта случайность, сближающая два полюса бытия, преднамеренна. Не только своей философичностью, ведь кладбище с его мавзолеями — в той же мере национальный проект, что и вокзал с его перронами. По крайней мере, такой вокзал, как Keleti: терминальный символ, учит математическая наука, означает конец последовательности.
Keleti, один из самых технически совершенных транспортных узлов своего времени, с первого дня, с момента прибытия на вокзал осенью 1884 года первого же поезда, сиял сотнями ламп электрического накаливания, что по тогдашним меркам было удивительным. Венгерские художники не зря расписали пассажирские высококупольные залы фресками, тематика которых соответствовала запросам времени: прекрасные девушки, мускулистые юноши, могучие старцы, толстопопые херувимы аллегорически изображали металлургию, торговлю, угледобычу, сельское хозяйство, мостостроение, почтовую связь. Никакой расслабленности, ни минуты отдыха, только движение вперед, сплошной труд во имя прогресса. Если уж связь — то исключительно курьерская. Заложенные в те далекие дни целеустремленность и практицизм не покинули Keleti и сейчас: нигде больше нам не доводилось сталкиваться прямо на вокзальном перроне с такой изощренной сервисной услугой, как платная игра в шахматы.
Через восемь лет после открытия вокзала скончался Габор Барош, государственный деятель и венгерский патриот, благодаря усилиям которого Nuygati и Keleti приобрели внушительный вид и не остались европейскими тупиками. Габор Барош — венгерский Павел Мельников: он занимал важные должности в национальном ведомстве транспорта и дорожного строительства, а потом получил министерский портфель. Не будь энергии и предприимчивости Бароша, венгерская железнодорожная сеть не стала бы так быстро густой паутиной. Поэтому именно памятник Габору Барошу формирует ансамбль привокзальной площади его же имени. Постамент с фигурой подпирают полуобнаженные бронзовые мужчины в окружении молотов и шестерней; очевидно, это те работники тяжелой промышленности, которым не хватило места на фресках вокзальных залов.
Помимо утилитарных целей, люди вот уже почти двести лет упорно прокладывают железные дороги, для того чтобы точнее выверить взаимоотношения между Востоком и Западом. Прямые маршруты ведут с 9 московских вокзалов в 27 европейских и азиатских столиц. 54 международных поезда ежедневно связывают три будапештских вокзала с главными городами 25 государств. Но не было и нет, уверены многие, транспортных связей и путей сообщения, способных избавить венгров и русских от их тысячелетнего европейского одиночества.
Скромную Венгрию и огромную Россию, конечно же, многое различает, но коллективное ощущение фактической изолированности, географического барьера, чрезмерной особости делает два народа кое в чем похожими. Для венгерских интеллектуалов, совести нации, это вечная проблема, усугубленная и лингвистической чужеродностью в Европе, и фантомной болью давно освоенных, но потерянных в результате неудачных войн (протяженность железнодорожной сети в 1920 году разом сократилась втрое, вдруг некуда стало ездить) территорий, — главный предмет вагонных споров на протяжении целого столетия. Словно чувство мадьярского одиночества, возникшего еще в ту пору, когда семеро вождей привели кочевые племена язычников на Паннонскую низменность, где складывались границы славянского, германского, романского миров, никак не проходит. Венгры давно обрели родину, но бесконечно — в отличие от французов, немцев, итальянцев — ищут европейский путь: кто мы? какие мы? с кем?
Вся территория современной Венгрии уместится в пределы двух Московских областей. Но, как ни парадоксально, большая страна в определенном смысле гомогеннее малой, большая культура всегда не так, как малая, восприимчива к различиям и деталям. Однако хоть стрелка ее компаса и другого размера, на север она указывает с тем же упрямством.