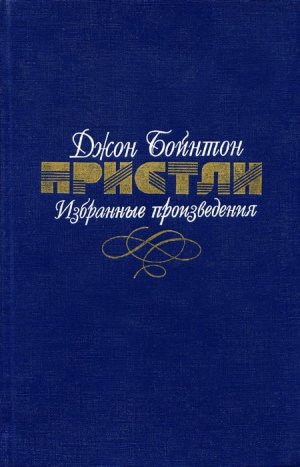
1
В баре «Корона» тихо. Людно здесь только в обед. А сейчас двадцать минут до закрытия. Немолодая барменша, эвакуированная в Лэмбери из Лондона, когда летали самолеты-снаряды, и теперь озабоченная главным образом тем, как выбраться обратно, протерла стойку и смотрит через раскрытую дверь на Базарную площадь, залитую мягким светом весеннего солнца. Посетителей осталось всего четверо: пожилой мужчина с газетой, которую он сложил во много-много раз в крохотный квадратик, словно для конспирации, и неуверенно в него поглядывает; еще один пожилой мужчина, вон курит трубку, вперив глаза в стену; и две девушки за угловым столиком, в брюках и ярких платочках, смеются оживленно и довольно развязно, должно быть, с авиационного завода. Наверно, из-за того, что барменша сама с нетерпением ждет закрытия, ей чудится, будто и всё вокруг — четверо посетителей, стойка, весь бар «Корона», и Базарная площадь, и целый город Лэмбери, и даже солнечный свет, — все охвачено ожиданием. Ожиданием чего? Кто его знает. Не поймешь. Но ощущение именно такое, и настолько сильное, что надо будет рассказать подруге в пять часов за чаем. Возможно, это оттого, что конец войне. Была, была война — и кончилась. А что дальше? В том-то и дело: что дальше?
Одна из девушек, похожая на испаночку, в темно-желтом платочке и с ярко намазанными губами, встретилась с ней взглядом и подмигнула. Барменша по долгу службы заученно улыбнулась в ответ. И тут же решительно отвела глаза. Не о чем им перемигиваться. Наоборот, барменша многое в этой красотке не одобряет. Например, как она всю зиму что ни вечер появлялась в баре то с одним, то с другим, каких только с ней не было, лакала джин с лаймом и разговаривала в голос, тоже мне кинозвезда. Ну, да их уже начали понемногу рассчитывать на авиационном заводе. Эти две тоже, поди, на очереди. Теперь особенно не разгуляются. И хорошо, им только полезно. Барменша спохватилась, что рассуждает как старая, нудная брюзга, и ей стало обидно: на самом деле она ведь не такая.
На площади, тарахтя и лязгая, притормозил грузовик, а потом взвыл мотором и укатил дальше. Снова наступила глубокая, бездонная тишина. В бар просочился запах выхлопных газов. Пожилой посетитель с газетой уставился перед собой невидящими глазами, как будто раз и навсегда утратил интерес к газетам. Две девицы перестали шептаться и хихикать, у одной лицо сделалось рассеянным, у другой грустным. Барменша поставила на стойку пухлый локоть, подперла щеку и снова погрузилась в ожидание.
Внезапно все переменилось. Вошли три парня в новых костюмах. Костюмы отличались цветом: синий, серый и коричневый, но были одинаково скупо, даже убого скроены и все три — совершенно новые. Парни, на которых они были надеты — и видно, надеты только что, — друг на друга не походили: один высокий, красивый блондин, другой такого же роста, но черный и носатый, а третий коренастый, дюжий, топорный; но при всем том между ними ощущалось определенное сходство, как между людьми, которые приехали откуда-то, где были вместе и делали одно общее дело. Они принесли с собой мужской закаленный дух, и он сразу подействовал на девушек, точно тычок под ребра. Барменша тоже ощутила его влияние, но реагировала неоднозначно. Она осторожно улыбнулась.
— Что пьем? — спросил высокий красивый блондин в синем. У него был интеллигентный голос, похоже — офицер.
— А что у них есть? — поинтересовался коренастый в коричневом. Этот говорил по-местному.
— Темного пива? — предложила барменша.
— Три полпинты, — заказал брюнет в сером. У него тоже был местный выговор, но не такой грубый. Зато глаза на носатом лице, маленькие, глубоко посаженные, смотрели неприятно. Она повернулась спиной и, пока нацеживала три кружки пива, слышала, как девушки с авиационного завода разговаривают и пересмеиваются в голос, внимание привлекают. Это уж обязательно.
— Ну вот, — проговорил блондин в синем костюме, — вот мы и в Лэмбери.
— Вернулись, — это носатый.
— Точно! — поддакнул коренастый в коричневом, оглядываясь по сторонам.
Барменша поставила перед ними три пенящиеся кружки.
— Вы, ребятки, только из армии?
— Точно, — повторил коренастый в коричневом, на этот раз в ответ на ее вопрос.
Больше, даже если и было что к этому прибавить, никто ничего не сказал.
— А как поживает наш Лэмбери? — спросил блондин, посмеиваясь своими яркими голубыми глазами.
Барменша не собиралась связывать свою жизнь с Лэмбери. Она сама из Лондона и надеется туда возвратиться при первой возможности, так она им и сказала. Кому, может, в Лэмбери и нравится, но ей нет.
— А нам нравится, верно, ребята?
— И вообще, чем он плох? — чуть ли не грубо спросил носатый.
— Я и не говорю, что плох, — поспешила с ответом барменша. — А вы что, живете здесь?
— Нет. У нас ферма, под Кроуфилдом.
— А я как раз там и живу, в Кроуфилде, — прибавил коренастый, грубовато сколоченный парень в коричневом.
— Туда автобус ходит по-прежнему? Ближайший — через десять минут? — спросил носатый, который оказался фермером, хотя по виду и не скажешь.
Барменша не знала и ответила не без столичного высокомерия, что расписание местных автобусов ей не известно.
— А нам известно. Мы как раз этого автобуса ждем.
Это сказала бойкая черноглазая девица в желтом платочке, она подошла к стойке якобы для того, чтобы купить пачку сигарет, а в действительности, барменше это ясно, чтобы завязать разговор с новыми посетителями.
— Это наш автобус, — продолжала девушка, — он проходит мимо завода, где мы работаем. Остановка на той стороне площади.
И смерила всех троих по очереди довольно нахальным взглядом. Они тоже разглядывали ее во все глаза, точно моряки на дальнем тропическом берегу.
Голубоглазый парень в синем, тот, что недурен собой и, видно, у них за главного, первым нашелся и сказал:
— Большое спасибо. Мне-то самому не в ту сторону, это вот им. А вы тоже едете этим автобусом?
— Мы тоже.
Она кивнула на вторую девушку, которая сидела за столиком с самым неприступным и заносчивым видом.
— Ну вот вам и компания, Герберт и Моулд. Будете попутчиками. Разрешите вас угостить? Как раз успеете.
Он обернулся ко второй девушке, приглашая и ее, но она выпятила нижнюю губу и покачала головой.
— Ты как хочешь, Иди, а я выпью, — крикнула подруге чернявенькая. — Пожалуйста, джин с лаймом, маленькую.
И протянула им купленную пачку сигарет.
— С авиационного завода? — строго спросил носатый.
Она с вызовом встретила его взгляд.
— Да, а что? Есть возражения?
— Нет, конечно. С чего бы?
— Ну, не знаю, вы так посмотрели, как будто мне бы надо прощения попросить, что ли. Может, вы думаете, мы тут сидели, ногти маникюрили и за здорово живешь получали по двенадцать фунтов в неделю?
Тот, что в коричневом костюме, от неожиданности разинул рот. Синий костюм усмехнулся, даже, кажется, подмигнул. Но носатый в сером глядел все так же сердито, не сводя с нее маленьких глаз.
— Я так не думаю, — ответил он ей. — Не было еще времени подумать. С чего это вы взъелись?
— Ну ладно, ладно. — Тот, что в синем, улыбаясь, обвел всех приветливым взглядом, перед которым не устояла даже барменша. — Чур не задираться. Нам, может быть, скоро придется кое с кем поцапаться, но не стоит с этого начинать. Позвольте представить вам нашу компанию. Вот этот строгий гражданин, который служил капралом в Бэнфордширском пехотном полку, а теперь возвращается на отцовскую ферму, — Герберт Кенфорд. Этот, тоже из Бэнфордширского полка, — Эдди Моулд, женатый, между прочим, а, Эдди? Герберт, кстати, холост, потому-то он, должно быть, так строго с вами и разговаривал. Сам я в счет не иду — если все будет в порядке, я уеду в Суонсфорд на машине, — но так или иначе, меня зовут Алан Стрит…
— Так вы живете в Суонсфорд-Мэнор? — неожиданно спросила черненькая. — Офицер?
— Нет, сержант. Вот уж не думал, что вы знаете наше семейство.
— Я и не знаю. Просто слышала. Меня зовут Дорис Морган. А мою подругу — Иди Янг.
— Ну вот дело и сделано, — любезно заключил Стрит. — Теперь мы все знакомы.
— Фермеры, между прочим, неплохо заработали, — сказала Дорис, с вызовом глядя на Герберта Кенфорда, словно все это время между ними не прекращался безмолвный, но яростный спор. — Некоторые нагребли золотые горы. А я никаких двенадцати фунтов в неделю не получала. Только ногти до мяса ломала, и все.
— Не по адресу нападки, — откликнулся Герберт Кенфорд. — Я тут ни при чем, это вы себя же опровергаете. Не пойму, что вы на меня взъелись?
— Да-да, мы вас не понимаем, Дорис. — Стрит притворно вздохнул. — Перед вами три парня, которым ничего не нужно, только немного мира и покоя, — три вполне безобидных парня.
— И вы думаете, что можете получить вот сегодня мир и покой?
— Перестань, Дорис, — одернула ее подруга.
— Надеемся. Правда, Моулд?
— Лично я не откажусь, — буркнул Моулд, как видно, не краснобай.
Черненькая не обратила на него внимания. Она с вызовом смотрела на Кенфорда.
— Я вам скажу, почему я взъелась. Третьего дня сюда тоже зашли вот такие же парни, как вы, только что из армии, и стали невесть что из себя строить. Они-де за пару шиллингов выиграли войну, а мы все это время сидели и делали вид, будто работаем, а сами только дожидались гудка, чтобы подцепить первого попавшегося американца и с ним пуститься во все тяжкие, а за это загребали по десяти — двенадцати фунтов в неделю. Затвердили и слышать ничего не хотят. А как им втолкуешь, что нас уже рассчитывают на заводе, что мы там зарабатывали каждый грош своим трудом, что раньше я работала в магазине, а теперь его больше не существует, и что был у нас хороший дом в Кройдоне, и его тоже больше не существует.
— А у нас когда-то был хороший батальон, — сказал Стрит, и улыбка, которой он улыбнулся, уже не была ни приветливой, ни обаятельной. — Верно, Герберт?..
— Дай ей договорить, Алан. Я хочу знать, к чему она клонит и в чем ее обида.
Но она перевела взгляд на Стрита.
— Верю. Но ведь и мы, между прочим, не на луне жили. У меня было два брата…
— Понятно, — мягко сказал Стрит. — Но не надо вымещать на нас.
— А вам — на нас! Вот и все.
— Послушайте, — возразил Кенфорд с почти оскорбительным снисхождением в голосе, — мы на вас ничего не вымещаем. Никто вам слова худого не сказал. Похоже, у вас сегодня настроение плохое, вот вы на нас его и срываете. А зря.
Они смотрели друг другу в глаза, и девушка первая отвела взгляд. И даже покраснела. А потом нахмурилась и отвернулась.
— Ладно. Опять меня занесло, я понимаю. Но только… когда начнете думать, имейте это в виду.
— Что — это?
— Все. Сами увидите. Сейчас автобус подойдет, не пропустите. Пошли, Иди!
Как раз, когда она шагнула к выходу, на улице раздался скрежет старых тормозов, дверь распахнулась, и ворвался второпях крупный румяный мужчина в военном мундире. Девушки округлили глаза и проскользнули в дверь.
— Алан!
— Джералд! Мама получила мою телеграмму?
— В последнюю минуту. Я только-только поспел. Как насчет стаканчика перед дорогой?
— Если поторопитесь, — ответила барменша и поспешно налила ему двойную порцию виски.
— Это наши ребята, Джералд. Служили со мной все это время. Герберт Кенфорд. Эдди Моулд. Мой брат Джералд, до сих пор штабной майор, но нам теперь наплевать, верно?
Джералд широко улыбнулся, дружески потряс обоим руки и выразил общее и неопределенное пожелание, чтобы дома у них все оказалось в порядке.
— Нам пора на автобус, — сказал Кенфорд. — Побежали, Эдди. У нас на ферме есть телефон, Алан, если надумаешь повидаться.
— Обязательно, Герберт. И поостерегись той девушки, — посоветовал он вдогонку, — по-моему, ты ей приглянулся, хотя ума не приложу чем.
Эдди Моулд в ответ захохотал, но Герберт не отозвался. Джералд, ухмыляясь, смотрел им вслед, а потом обернулся к брату и барменше:
— Если эта черненькая в желтом платочке, то, по-моему, ему повезло. Не так-то плохо для начала, а?
— Но и не так-то хорошо, — ответила барменша, собирая стаканы. — Закрываемся, джентльмены. Время!
Они вышли, а она подошла к двери, чтобы запереть за ними, и сквозь дверное стекло, с которого уже почти облезла темно-синяя краска, видела, как они поспешно нырнули в машину, даром что майор такой грузный, не в пример своему стройному брату в новом синем костюме, и уехали. А на том краю площади как раз отходил автобус, увозивший двух парней и двух девушек. Стекло с остатками затемнения скрадывало оттенки и смазывало контуры. Как в старой кинокартине, подумалось женщине. В баре у нее за спиной уже воцарялась обычная послеполуденная одурь и скука. Женщина и сама чувствовала себя усталой, скучной. Почему-то ей даже стало грустно. Хотя это все-таки лучше, чем бросаться на людей, как некоторые. Надо поскорее возвращаться в Лондон, вот что в который раз подумалось ей. Здесь, в провинции, никогда ничего не происходит.
2
Джералд правил и говорил о машине. Он всегда любил разговаривать о машинах.
— Совсем не тянет, — жаловался он. — От этого бензина летят к черту цилиндры, не горючее, а просто жидкий навоз, ей-богу.
Алан слушал с нежностью, — он любил старину Джералда, но краем уха. А сам смотрел, как проплывают мимо милые сердцу пейзажи в нежном цвету новой весны. Снова действовали древние чары.
— Замечательные у нас края, Джералд. Ты взгляни на эти буки.
— Верно, старичок. Лучше всех. Помню, когда я только приехал из пустыни, я бродил тут, как во сне, ей-богу. Теперь-то привык, понятное дело.
Свернули на Суонсфордскую дорогу, по-прежнему больше заслуживающую название простого проселка. Она шла по долине, прихотливо извиваясь, точно красивая старинная мелодия. Пели птицы. Цвел терновник. И день стоял золотой и теплый. Точно кадры старого кинофильма, проступающие на тусклом экране, в душе у Алана, где-то в самой глубине, всплыла извечная картина английского земного рая. Он узнал ее, попытался было прогнать, не смог и задумался.
— Должно быть, из-за этого мы и не занимаемся по-настоящему проблемами градостроительства, — проговорил он вслух.
— Что, старичок? — Джералд рассмеялся. — Я уж и забыл эту твою привычку — разговаривать вроде как с самим собой. Можешь меня не посвящать, дружище. Кстати, я, кажется, не сказал тебе, что Энн с детишками живет у мамы. И Диана тоже. Все собрались в старом доме.
— А дядя Родней?
— И он, само собой. Только без марок, коллекцию продал. Отхватил, между прочим, приличный куш. Я ушам своим не поверил, когда он сказал. Кто бы думал, что люди — такие дураки? Но факт, дураков достаточно. Кому и знать, как не мне.
— А теперь что он будет коллекционировать?
— Еще не решил. По крайней мере, на вчерашний вечер. Обязательно покажись ему в этом костюме, потом передашь, что он скажет, если меня не будет. То-то он разъярится. — Джералд засмеялся. Впереди ехала деревенская телега, и ему пришлось притормозить. — Костюмчик, согласись, и вправду дрянь. Вот к чему приводит упрямство — не получил производства в офицеры и проторчал сержантом всю войну. Каково тебе пришлось в сержантах, старичок?
— Ничего, нормально. Потому что я ведь все время был в одном полку.
— Вот именно. Я тебя понимаю. А маме и девочкам, конечно, не понять. Откуда им. Теперь-то они наконец перестанут ворчать, дело прошлое. У них теперь одно на уме: где бы подыскать тебе хорошую невесту? Вчера вечером слышал, как они судили да рядили. Как тебе, нужна хорошая невеста?
— Пока что нет, спасибо. Их теперь много осталось ничьих, я думаю?
— Да-а. Уйма, — вздохнул Джералд. — Естественное дело. Жаль их, бедняжек. Тебе придется выполнить свой долг, старичок. Когда малость оглядишься, понятно.
— Как поживает Энн?
Они свернули на подъездную аллею, и Джералд, на взгляд Алана, сверх нужды сбавил скорость, словно хотел с глазу на глаз сказать брату напоследок еще кое-что.
— Энн-то в порядке. Строит планы с утра до ночи, ты же их знаешь. Я ей толкую, что еще не время. А малышня последние дни только о тебе и говорит. Ты в их глазах настоящий солдат — дядя Алан нам расскажет, как там все было, — в таком духе — и по-моему, они верно себе представляют… Вот что, старичок. Ты будь поаккуратней с Дианой.
— А что с ней?
Алан и сам понимал, но хотел услышать ответ Джералда.
— Она, правду сказать, немного нервничает, — сказал Джералд, — и понятно. Я вернулся. Теперь вот и ты вернулся. А ее парень — нет. И никогда не вернется. Ее доконало, что он так долго числился пропавшим без вести, — знаешь, столько месяцев верить, что он еще как-нибудь найдется, а потом все-таки получить известие, и не только из Министерства авиации, но еще и один парень из его экипажа, который спасся, подтвердил факт смерти. Ну, и она, понятное дело, ожесточилась немного. С мамой плоховато ладит. Ты всегда был с Дианой ближе, чем я, Алан, так что, если сможешь для нее что-нибудь сделать, ты уж постарайся, старичок. Ну, а пока — сам понимаешь, тебе не надо втолковывать, — просто будь с ней поаккуратней. Вот, худо ли бедно, мы и дома.
На старый загородный дом глазами Алана смотрели как бы два человека: один родился в нем, а теперь возвратился обратно и с нежностью узнавал каждое окошко, каждый кирпич фасада. Другой после долгого отсутствия, пройдя с боями по Северной Африке и потом по Центральной Европе, глядел на старое несимметричное строение, прижавшееся к зеленому склону холма, и вчуже дивился, отчего оно так много для него значит. Если первый зритель вернулся домой, завершив трудный военный поход, то второй стал на очередную квартиру. Сержант Стрит из Бэнфордского пехотного полка завершил передислокацию. Алан Стрит, младший сын леди Стрит и покойного сэра Вильяма, возвратился в свой родной Суонсфорд-Мэнор. От такого раздвоения немного кружилась голова. И было как-то не по себе. Пожалуй, пора взять себя в руки. Притом немедленно.
— Ты прекрасно выглядишь, дорогой, — сказала ему мать. — Вот только откуда у тебя этот ужасный костюм? Он мне напоминает кого-то, недавно у нас тут был, нелепый такой, но не помню, кто.
Зато помнила Диана:
— Насчет угля приходил. И не думай, пожалуйста, Алан, ты нисколько на него не похож. Просто он был одет примерно так же, как ты сейчас. Верно, вырядился в свой выходной костюм из госмагазина готового платья.
— Ах, вот это, оказывается, что за костюм! — оживленно подхватила мать, будто принимая участие в глупом детском разговоре.
— Именно так, — подтвердил Алан. — Костюмы, которыми брезгуют гражданские лица. Нам всем их выдали. Но это совершенно не важно, даже если бы он меня стеснял, хотя он меня нисколько не стесняет, я ведь могу теперь переодеться во что-нибудь из моих старых вещей.
— Ну, не знаю, — с сомнением произнесла леди Стрит. — По-моему, старых вещей почти не осталось. Подымешься к себе, сам посмотришь. Да, да, милый, комната твоя прежняя.
Она улыбнулась.
Мать почти совсем не постарела. В ней было заложено что-то неизменное. А вот Диана его поразила. Она утратила прежний юный вид, вся как-то высохла, поблекла. И хотя улыбалась, когда улыбались другие, и говорила приветливо, может быть, только чуточку прохладно, но в глаза не смотрела, отводила взгляд в сторону, словно ей мешала старая обида. Алан даже подумал, что уж не угораздило ли его когда-нибудь нелестно высказаться о Дереке, ее муже, — к которому он вообще-то симпатии не питал, — и она теперь не может ему этого простить? Неужели все дело в том, что он вот вернулся, а Дерек — нет?
— Эвакуированные и военные уже много месяцев как съехали, — говорила между тем мать, — но мы пока еще ничего не смогли отремонтировать, хотя Берчелл обещает внести нас в список первыми.
— Он это всем обещает, — заметила Диана.
— Пожалуйста, не перебивай, дорогая, я вовсе не собираюсь донимать Алана разговорами о Берчелле и только упомянула о нем и о несделанном ремонте, чтобы Алан понял, что у нас далеко еще не все в порядке и мы не отвечаем за это свинство…
— Что ты, мама, все замечательно! — заверил ее Алан и поглядел вокруг радостным взглядом. Они все еще стояли в длинном холле, дневной свет под низким потолком загустел почти до сумерек, только алели цветы в вазах, отсвечивала бронза и зеркально блестело полированное дерево. Все — такое знакомое Алану с детства и в то же время удивительное для сержанта Стрита, вернувшегося на последнюю побывку с войны.
— Парадной гостиной мы по-прежнему не пользуемся, — сказала мать. — К чаю накроют в старой детской. И очень скоро. Диана, проводи Алана наверх.
На лестничной площадке из-за старого резного дубового гардероба (все так же похожего на испанский галеон времен Великой Армады) вдруг, точно тролль в юбке, выступила миссис Хейк. Как непривычно было возвышаться над нею, сверху вниз заглядывая в старушечье морщинистое лицо. Да ведь ей лет семьдесят, если не больше! Побегала вокруг них на своем веку.
— Ну-ну, вот денек, за который я могу возблагодарить Господа! — произнесла миссис Хейк, обитательница уютной, средневековой вселенной. — Больше на войну не поедете, мистер Алан?
— Больше постараюсь ни ногой.
Какая она старенькая, усохшая, ей бы давно на покой пора. Хотя она, наверно, просто помрет, если расстанется с их семьей, после того как прожила при них всю жизнь. Надо поговорить с Дианой, она это понимает.
Миссис Хейк тоже захотела проводить Алана в его комнату и вообще приняла его, как школяра, приехавшего домой на каникулы.
— Все ваши сокровища на месте, мистер Алан, — гордо объявила она. — И пожалуйста, больше не разбрасывайте их, как бывало, по всей комнате, ведь я теперь обхожусь, почитай, совсем без подмоги, не то что прежде. Спросите хоть у мисс Дианы. А где ваши армейские пожитки?
— В казарме оставил.
— Оно и к лучшему. Как вспомню эти сапожищи, от них всегда грохот и пыль столбом. Ну, да вы небось хотите как всегда посекретничать вдвоем, — заключила она и вышла из комнаты.
Алан сел на кровать, а Диана устроилась в низком плетеном креслице, так они, бывало, располагались всякий раз, когда Алан приезжал домой. Он разжег трубку, выпустил в сторону сестры струю дыма и выжидательно посмотрел на нее сквозь дымовую завесу. Пока они молчали, время успело отбежать для них назад и все стало так, как было когда-то. Но вот Диана сжала губы, — казалось, она болезненным усилием заставила себя вернуться в настоящее, — и вздернула тонкие темные брови.
— Да, относительно ванной комнаты, — объявила она ему, словно гостю. — У нас на троих будет «Старое Чудище», на дядю Роднея, тебя и меня. Мама, разумеется, пользуется своей. А новую присвоил себе Джералд с семейством. Энн не вылезает из ванной все утро, а весь вечер купает детей. Просто возмутительно.
— Бог с ней, с Энн. И потом, я же всю жизнь пользовался «Старым Чудищем».
Так называлась у них древняя просторная ванная комната, где трубы старчески сипели, а высокая большая ванна походила на гроб исполина, пока наполнится — зуб на зуб не попадает.
— Да, но ты забываешь дядю Роднея. Он сидит часами.
— А где он, кстати?
— У себя в комнате, заводит граммофон, — ответила Диана без тени улыбки.
— Так он, значит, теперь занимается граммофоном?
— Да, новое увлечение. Прочел где-то, что какие-то музыкальные композиции — это, в сущности, плач по гибнущей цивилизации, — Эрнст Ньюмен, что ли, это сказал, — и теперь крутит их с утра до вечера. Нет, правда-правда!
Алан рассмеялся.
— Да ладно, Ди! Ну что тут такого? Смех один. Добрый старый Родней…
Но Диана покачала головой.
— Вот поживешь тут неделю-другую, сам увидишь, какой это смех, — раздраженно сказала она. — У меня дядя Родней вот где сидит! И мама тоже.
Но Алан уклонился от такого разговора. Еще не время. Он осмотрелся вокруг себя и заметил на стене две большие групповые фотографии.
— Наша школьная крикетная команда, — сказал он, больше самому себе, чем Диане. — Странно, я ведь никогда особенно не рвался в школьную сборную.
И не нужна мне была эта фотография, я вовсе не из тех, кто стал бы сознательно прикалывать такие групповые портреты к себе на стенку. И однако же, вот поди ж ты. Висят! Похоже, Ди, что мы живем большую часть жизни автоматически, машинально, вроде роботов. Тебе не кажется?
Она немного подумала, прежде чем ответить.
— Пожалуй. Мужчины в большей мере, чем женщины. Например, Джералд.
— Почему же? А Энн?
— Нет, Энн живет не автоматически, она, конечно, страшный человек, но не робот, нет. Начать с того, что она все время строит планы.
Это — другое дело, это уже больше походило на прежнюю Диану. Алан поддержал ее:
— Да, но планы могут быть машинальные, автоматические, вроде условных рефлексов. По-моему, старина Джералд все-таки лучше, он пусть изредка, но способен сказать или сделать что-то неожиданное.
А она не способна. Была, по крайней мере.
— И теперь не способна. По совести сказать, она гораздо бесчувственнее, чем бедняга Джералд, такие женщины феноменально бесчувственны. Она меня просто бесит. Не желает понять… ну, вот про меня и Дерека… что я переживаю. Очевидно, она не представляет себе, что людей могут связывать особые отношения.
Ее послушать, так, если потеряешь мужа, надо отправиться в модный магазин, купить новые туалеты, сменить, может быть, прическу ну и завести нового.
Только и всего. Прямо она этого, конечно, не высказывает, но подоплека всех ее разговоров именно такая, ей-богу. В сущности, она ничем не лучше этих гулящих горожанок, которые развлекались с американцами или с итальянскими пленными, пока их мужья были на войне. Но конечно, у Энн это все чин чином, рассудительно. Закон биологии. Одного не стало — заведи другого. Животноводство какое-то. Я то злюсь на нее, но мне просто гадко. Ей-богу, надо же так!
Тут ей следовало бы рассмеяться — и Алан этого ждал, — но она не рассмеялась, а сидела и сердито смотрела в окно. Он не знал, что ей сказать. И чуть-чуть подался вперед.
— Да-да, — сразу сказала она, — пора идти чай пить. Мама страшно не любит, когда опаздывают к столу. Она стала очень придирчива к мелочам.
— Может, не понимает, что это мелочи? — шутливо предположил Алан.
— Вот именно, не понимает. Нет, правда, она так держится за распорядок, ты себе не представляешь. Любое нарушение — и жалоб не оберешься, может даже накричать. Мы с ней за последнее время раза два всерьез поскандалили, хотя, видит Бог, я старалась не доводить до этого. Ну, пошли же, Алан, не обращай внимания.
Хотя к чаю действительно было накрыто в старой, довольно обшарпанной детской — Алан никогда бы не подумал, что она может оказаться в таком состоянии, — но леди Стрит и здесь царственно восседала во главе стола и священнодействовала, как исстари, с фамильным серебром, спиртовкой и всеми причиндалами. И пусть ее окружали только трое ее детей и невестка, все равно она приняла изысканный, любезный вид, будто облачилась в дорогой туалет, и даже одаряла по временам сотрапезников искусственными светскими улыбками.
— Ваш дядя Родней к столу не спустится, — сообщила она. — Ты еще не виделся с ним, Алан? Ну, ничего, заглянешь после чая. Он, ты знаешь, чай не пьет, только виски с содовой, правда, виски раздобыть не всегда удается, хотя его виноторговец в Лондоне и делает, что может. Увидишь, Алан, он ничуть не изменился.
— Но теперь его увлечение — граммофон, как я слыхал? Это, бесспорно, что-то новое. Я вообще не знал, что он любит музыку.
— Что ты, милый, он всегда был меломаном, на свой лад, конечно.
Тут Джералд и Энн обменялись улыбкой, и она получилась у них совершенно одинаковой, хотя между обветренной скуластой физиономией Джералда и красивым личиком его супруги, казалось бы, не было ни малейшего сходства. Встретившись глазами с Аланом, Джералд подмигнул и ему.
— Он из-за музыки даже поцапался со священником.
— Это верно, мой друг, хотя в чем там у них было дело, я так толком и не знаю.
— А как он сейчас поживает, священник? — поинтересовался Алан.
— Из ума выжил, — поспешила с ответом Энн.
— Нет, дорогая, это не совсем так, — возразила леди Стрит. — У мистера Толгарта есть чудачества, определенно есть, и немалые. Ведь он, ты знаешь, Алан, в самом начале войны потерял жену, от которой, по-видимому, во всем зависел, и естественно ему ее ужасно недостает, он без нее просто одичал. Никто за ним толком не смотрит — в доме у него грязь и беспорядок, хотя там никто не бывает и можно только догадываться, и сам мистер Толгарт неухожен и странно ведет себя.
— От него пахнет, — сказала Диана. — Правда-правда, мама.
— К сожалению, это так, мой друг. Он очень немолод и всегда отличался странностями. Он совершенно перестал заботиться о своем приходе, никого не посещает и вообще по нескольку дней не показывается из дому. Верит, что должны произойти какие-то ужасные бедствия в духе «Книги Откровений», а по-моему, все это очень несерьезно, всякие там звери с рогами и прочие глупости. Я езжу в Кроуфилд, когда удается выкроить немного бензина. Хотя там приходится встречаться с Саутхемами.
— Вот тебе и раз! А Саутхемы чем провинились? — поинтересовался Алан.
— Умоляю, не надо опять про Саутхемов! — попросила Диана.
— Конечно, дорогая, и я бы рада, но ведь Алану интересно, что у нас здесь происходит. Правда, тебе полковник Саутхем, кажется, никогда не нравился?
— Да, не особенно, — кивнул Алан. За все эти годы он и думать забыл о старике Саутхеме, но теперь вдруг наглядно представил себе его квадратное кожистое лицо, кровавые маленькие глазки, вспомнил своеобразный хрипловатый холодный голос. — По-моему, он — старичок с садистскими наклонностями. Погодите, Морис ведь убит, я не ошибаюсь?
— Не затевай перекличку, дружище, — пробормотал Джералд.
— Да, бедняжку Мориса убили, — нежно и печально отозвалась леди Стрит. — Так жаль его, он всегда был мне симпатичен, в отличие от его отца и в отличие от Бетти, она, представь, взяла и вышла за какого-то флотского офицера, он, бедный, сейчас на Ближнем Востоке, а она, говорят, ведет себя так, словно его вообще не существует.
— На той неделе у Ролинсона она была просто пьяна, — бодро и уверенно вставила Энн. — Если, конечно, не притворялась.
— Бетти всегда была большая притворщица, — сказал Алан. Ему нашлось бы что вспомнить про бесподобную Бетти Саутхем, которая была шалой и несказанно прелестной в те времена, когда прельщать и изводить Алана для нее не составляло труда. Что ж, теперь это дело прошлое.
— Полковник Саутхем добился, что его избрали председателем Объединенного мемориального военного фонда, — снова заговорила леди Стрит.
— Мама, пожалуйста! Ты опять? — прервала ее Диана.
Леди Стрит бросила на дочь один взгляд, выражавший враждебность, и сразу же заменила его на другой, исполненный снисходительного сочувствия. Диана прочла и то и это и опустила голову над чашкой. Мать со значением посмотрела на Джералда, а потом произнесла, обращаясь к Алану:
— Напомни мне как-нибудь, и я тебе расскажу, когда мы будем одни, чтобы не надоедать Диане.
— Мама! — Диана вскочила из-за стола, но больше не прибавила ни слова, а просто повернулась и вышла из комнаты.
— Видишь, дружище? — шепотом сказал Джералд. — У бедняжки нервы все время натянуты до предела.
Но Энн толкнула мужа локтем в бок, и он замолчал.
— Должна сказать, Алан, что хотя костюм тебе выдали ужасный, но ты в нем выглядишь гораздо лучше — из-за цвета, по-видимому, — чем в этом кошмарном хаки. Ты сейчас очень недурен собой, мой друг. Не правда ли, Энн?
Энн наградила его быстрым оценивающим взглядом, каким обычно женщины оглядывают друг друга, и без улыбки подтвердила, что Алан сейчас действительно очень недурен собой. А вот Джералд, добавила она тоже без тени улыбки, в последнее время очень растолстел. Ему надо как можно скорее принимать меры.
— Хорошо, хорошо, — поспешил согласиться Джералд, вдруг почувствовав всю неуместность ее слов, что с ним случалось довольно редко. — Ты ведь не в павильоне скотоводства. А то возьму и не похудею, а еще прибавлю, если будешь так говорить. Ну, я, пожалуй, пойду. Должен позвонить одному человеку.
— А я должна взглянуть на детей. — Энн встала. — Да, а как насчет Дарралда? Когда мы к нему едем?
— Мы ужинаем там в пятницу, дорогая. Мне сегодня звонил один из секретарей лорда Дарралда.
— Значит, в пятницу. Прекрасно! — оживленно заключила Энн. — Пошли, Джералд.
— И ты тоже приглашен, Алан, — сказала леди Стрит. — Диана решительно отказывается ехать, но меня специально просили привезти тебя. Лорд Дарралд — это человек, который купил Харнворт, не помню его прежнюю фамилию, ты о нем наверняка слышал, милый, потому что ему принадлежат заводы, газеты и все такое. Он принимает у себя в загородном доме каждый уик-энд — по будням он в Лондоне — и задает многолюдные ужины. Но вечернего костюма не понадобится, потому что он сам приезжает только в пятницу вечером и не считает нужным переодеваться. Я думаю, тебе там понравится. И вот еще что, милый. — Она понизила голос, хотя теперь они остались одни. — Надеюсь, ты не намерен возвращаться на эту жалкую должность в Управлении недвижимостью?
— Да нет. Я просто так там болтался, покуда война не грянула. Хотя, что я теперь буду делать, ума не приложу.
— Вот именно. Лорд Дарралд — как раз тот человек, с которым тебе следует повидаться, и чем скорее, тем лучше. Он сказочно богат и очень влиятелен, и притом что, разумеется, довольно вульгарен, явно тянется к семействам, имеющим вес в графстве…
— Ну, мама! — рассмеялся Алан.
— В чем дело, милый?
— Ты это не всерьез, конечно? Читала, наверно, с утра старинный роман? Эдак перестали выражаться еще перед войной. Так что брось, пожалуйста. Ты хочешь, чтобы я попросил у него работу?
— Ни в коем случае. Какие глупости! Просто я подумала, если ты произведешь благоприятное впечатление — а ты, я знаю, это можешь, только не всегда хочешь, — так вот… тогда… — Голос леди Стрит зазвенел и оборвался, взмыв к туманным высотам богатства и власти. Она улыбнулась сыну. — Знаешь, да, я перечитываю Троллопа. Очень успокаивает. Попадаешь в уютный мирок Барсетшира, и нет тебе никакого дела до всех этих поляков, русских, китайцев и до того, что будет завтра. Может быть, хочешь после ужина поиграть в бридж?
— Да я, наверно, совсем разучился, и раньше-то был не ахти какой игрок.
— Это быстро вспомнится. И будет очень мило. Так что составим партию. Вместе с тобой не приехал никто из местных молодых людей?
— Двое наших стареньких. Хорошие парни. Один — Герберт Кенфорд, у его отца ферма под Кроуфилдом.
Леди Стрит свела брови.
— Да, да, припоминаю, мы, кажется, один раз купили у них индейку, по-моему, их фамилия была Кенфорд. А кто второй?
— Парень по имени Эдди Моулд. Тоже кроуфилдский. До войны работал в карьере. Силы — как у быка и примерно столько же соображения, но парень отличный, на свой лад. Через пару дней надо будет с ними повидаться, обсудить, что да как…
— Обсудить что, милый?
— Да все вот это. — Он шутливым жестом показал вокруг себя. — Какими мы вас нашли, здешнюю публику.
— Не говори чепуху, Алан. Я тебе не здешняя публика, я — твоя мать. И вообще ты говоришь как-то странно. Словно заехал в чужую страну и хочешь поделиться впечатлениями. Когда на самом деле ты просто вернулся домой и должен только продолжить свою прежнюю жизнь с того места, где ты ее оставил…
Алан покачал головой.
— Да нет. Видишь ли, на мой взгляд все это не так. Жизнь ведь не трость какая-нибудь, чтобы можно было ее оставить, а потом подобрать. Моя жизнь все это время продолжалась, внутри меня…
— Ты же понимаешь, что я хочу сказать, милый…
— Понимаю. Но по-моему, это не так. Ну, не важно. Оставим это. Я, пожалуй, теперь поднимусь к дяде Роднею.
— Да-да, навести его, Алан. Он, наверно, сейчас слушает пластинки, но даже если ты его и прервешь, на тебя он не рассердится. И не забывай, пожалуйста, милый, дядя уже очень немолод, он ведь гораздо старше меня, его возраст дает себя знать в самых разных проявлениях, и по временам он бывает…
Алан поднял руку.
— Не беспокойся, мама, я не буду его раздражать. И потом, ведь мы с ним всегда отлично ладили. Мне просто не терпится поскорее с ним увидеться, честное слово.
Она улыбнулась.
— Тогда ступай, поговори с ним, приободри его немного.
У дверей Алан не выдержал и обернулся.
— Я все-таки скажу тебе одну вещь, мама. Поделюсь одним впечатлением. Я заметил, что тут все против всех друг друга предостерегают. В этом есть что-то пугающее.
— Алан… почему ты так говоришь?
— Нет-нет, в другой раз. Сейчас — к дяде Роднею.
На лестничной площадке перед дядиной дверью у Алана возникло какое-то странное ощущение. Из комнаты доносились звуки граммофона, и, пережидая, он прислонился к древнему комоду, испокон века стоявшему на этом месте. Рядом на стене висела большая старинная акварель — гротескная уличная сцена в некоем средиземноморском порту. В дальнем конце площадки находилось светлое окно, за окном по ярко-голубому небу бежали белые облака, а здесь, в закоулке, уже густели теплые сумерки гаснущего дня. Но странным было не это, а сама музыка, звучавшая в комнате дяди Роднея. Женщина — рыдающее, низкое контральто — прощалась с землей. Взмыли ввысь тонкие голоса струнных, оборвались и пропали. Нежным, чуть слышным перебором ответили арфы. Серебристые молоточки челесты рассыпались по глубокой тишине — будто где-то далеко, жемчужный и безразличный к людям в своей совершенной красоте, над разбитыми сердцами и мертвыми городами исподволь разгорался новый рассвет. «Ewig!»[1] — негромко оплакивала женщина покидаемую Вену. Простонали и замерли последние инструменты. Тишина росла. «Ewig! Ewig!» Светлеет небосвод, земля пробуждается навстречу Весне; и не слышно больше ропота прощанья, потому что человек обрел свой давно утраченный дом.
— Спокойно, ребята, подтянись, — тихонько скомандовал себе Алан, так как неожиданно ощутил стеснение в груди. И, сделав вдох, вошел.
Дядя Родней, в старой охотничьей куртке и диагоналевых брюках, с самозабвением одинокой старости хлопотал у граммофона, выставившего чуть не до середины комнаты свой огромный раструб. Все окна в комнате были закрыты, в душном воздухе клубился ароматный дым египетских сигарет.
— Здравствуйте, дядя. Я выждал, пока кончится. Это последняя часть малеровской «Песни о земле», правильно? Смотрите, какой я молодец, что угадал, ведь прошло столько времени.
— Рад тебя видеть, мой мальчик. — Дядя Родней пожал ему руку. Он держался по-прежнему величественно, но теперь скорее походил на величественную руину. — Боже милосердный, что они с тобой сделали? Этот костюм. Ты в нем напоминаешь страхового агента. Откуда он у тебя? Покрой никуда не годится. Садись.
— Государственная продукция. Выдается каждому, кто демобилизуется из вооруженных сил его величества.
Дядя Родней сунул в рот толстую египетскую сигарету и сразу стал опять похож на видного многоопытного дипломата восьмидесятых годов.
— Отдай его. И когда в следующий раз будешь в городе, можешь заглянуть к моему портному, если он еще работает. Мне это неизвестно, я не заказывал себе новой одежды с тех пор, как началась нынешняя война, и впредь не предполагаю. У меня, знаешь ли, накопился неплохой гардероб, хватит до конца моих дней и еще останется. Я уже свыкся с этой мыслью, а поначалу жутковато казалось: человек умрет, а всякие его жилеты и ботинки, щетки и бритвы преспокойно останутся. Теперь-то я примирился, но все же в этом, по-моему, есть что-то неправильное. — Он заглянул Алану в лицо. — Хлебнул, поди, как следует, мой мальчик?
— Не без того. Из здешних парней не многие вернутся домой.
— Гм. Печально. Ты славный мальчуган, Алан. Обидно, что я ничего не могу для тебя сделать, — ни денег, ни знакомств. Как тебе граммофон, нравится?
— Мне-то — да, но я не знал за вами такой склонности.
— Верно. Новое увлечение. Пару лет назад распродал монеты. Потом марки, за хорошие деньги, кстати. Все не мог решить, что коллекционировать дальше, вот и надумал, буду-ка я слушать музыку. Отличный аппарат, скажу я тебе, лучший из того, что сейчас производят.
Алан согласился с этим.
— Ну, а Малер?
— А, ты про «Песнь о земле»? Сначала она казалась мне чересчур замысловатой и слишком уж китайской, но теперь начинает доходить. Душераздирающая вещь, в сущности. — Дядя Родней откинулся на спинку стула и пустил изо рта безупречно круглое кольцо дыма, самодовольно проводив его взглядом. — Теперь она мне нравится.
— Диана говорит… — начал было Алан.
— Нет-нет, мой мальчик, не хочу слышать, что говорит Диана. Она теперь один сплошной комок нервов, оттого что у нее убили мужа. Понять ее, конечно, можно, хотя на мой вкус человек он был скучный. Но если ты хочешь знать, чем и почему я занимаюсь, спроси у меня самого, а не слушай Диану или вашу мать. Джералд со своей женушкой, эти просто не способны понять душу такого человека, как я. У них соображения не больше, чем у механиков в каком-нибудь гараже. Так что они не пропадут. Настоящие механики из гаража, а в этом мире скоро только останутся что завод, гараж и аэродром. Истинный же мир, мой мальчик, мир, в котором стоит жить, кончен. Эти ребята — Малер, Элгар, Делиус и остальные — предчувствовали конец уже давно, видели его приближение и напоследок озирались вокруг, как бы бросали прощальный взгляд на красоту, изящество, прелесть, зная, что всему этому осталось существовать недолго. Выпьешь виски? У меня еще сохранилась пара бутылок.
— Нет, дядя, спасибо. Давайте вам налью, а вы пока кончайте свою мысль.
— Хорошо, благодарю. Много не лей. Представь себе, что ты влюблен в женщину, вернее, был когда-то влюблен, — продолжал рассуждать дядя Родней, у которого в свое время, как говорили люди, было несколько романов с прославленными светскими красавицами. — Она была прелестна, вся — грация и огонь, — только таких женщин и можно любить, смотри не свяжись с современной дюжей фермершей — так вот, ты приезжаешь ее навестить, она такая же красивая, как была, но постепенно ты замечаешь в ней то, другое, третье и вдруг сознаешь, что дни ее сочтены, что она обречена. Ты возвращаешься, и — понимаешь ли, ты поешь об этом, выражаешь все это в музыке, в плаче скрипок, в возгласах тромбонов, изливаешь свои чувства: прежний восторг, любовь, горе. Вот что испытывали эти композиторы — и я тоже, — и речь не только о женщинах, хотя и они, естественно, сюда входят, а обо всем мире, обо всей нашей бывшей злополучной жизни. — Дядя Родней разволновался, теперь это был не видный дипломат прошлых времен и даже не деревенский джентльмен-коллекционер — личина, под которой он успешно прятался после 1938 года; перед Аланом сидел зловещий пророк, мрачный Иеремия лондонских аристократических клубов, и указывал в него дрожащим старческим перстом. — Ты на добрых полстолетия моложе меня, мой мальчик, но скажу честно, я тебе не завидую. Наоборот, мне жаль тебя, тем более что ты тонко чувствуешь и живо реагируешь, не то что эти толстокожие механики и шоферы, которых мы тут наплодили. Да, да, мне жаль тебя. Ты встаешь утром, принимаешь ванну, чистишь зубы, бреешься, надеваешь пристойную одежду — и все для чего? Чтобы весь день корпеть в жалкой конторе или жариться на заводе, а вечером возвратиться в свою нумерованную клетку, проглотить содержимое консервной банки и либо отправиться в кино — смотреть фильм о производстве булавок, либо слушать по радио наставления правительственного чинуши, как правильно заполнить форму номер девять тысяч тридцать восемь. Раз в году тебе и твоей жене с лицом серым, как мясная запеканка, и всем вашим отпрыскам, вакцинированным от любой болезни, кроме тупости и скуки, будет предоставляться путевка в загородный лагерь, где вы будете жить бок о бок с пятью тысячами других клерков и механиков, их женами и детьми, заниматься физическими упражнениями, есть рисовый пудинг, играть в массовые игры и выслушивать беседы про тропические болезни и про аэропланные двигатели. А я буду радоваться, что уже умер.
— Да, я вижу, что вы в хорошей форме, — сказал Алан. — Вы ничего не смыслите в том, о чем толкуете, но у вас это вполне лихо получается.
Дядя Родней ухмыльнулся.
— Признаться по правде, я очень рад тебя видеть, мой мальчик. Давно ни с кем не доводилось беседовать, и твое появление подействовало благотворно. Ты побудешь или опять исчезнешь?
— Да нет. Я пока не знаю, чем заняться. Рано еще принимать решение. Но вот ответьте мне, если, по-вашему, все, ради чего стоило жить, погублено и больше не существует, за что же тогда мы с ребятами воевали?
— Нет-нет, мой друг. — Дядя Родней покачал большой белой головой. — Напрасно ты ловишь меня на слове. Вы воевали, чтобы не отдать нас всех в лапы гестапо и на милость прихвостней Гитлера, чтобы не допустить сюда это дьявольское германское безумие. Необходимая мера. Скинуть годков тридцать, я бы и сам пошел воевать. Ирония в том, — продолжал он, оживляясь в предвкушении остроумного рассуждения, — что эти наци, не будь они так жадны и настырны, не лезь они на рожон и не действуй другим на нервы, наверно, получили бы все, что хотели, без единой бомбежки. Массовое производство и массовые сборища! Обращения руководства к народу по радио! Хорошенькие домики для послушных людишек! Здоровье через Радость! Поездки в Италию или к норвежским фьордам всего за восемь фунтов! Ведь они именно это и предлагали и именно этого жаждут толпы во всем мире.
— Вот демон! — покачал головой Алан. — Прошу прощения. Вы, надеюсь, меня поняли.
— Мне это только льстит, — удовлетворенно усмехнулся дядя Родней. — Но, как я уже сказал, мир, достойный того, чтобы в нем жить, кончился, и его уже не вернешь. Мне роптать не след, я свое успел получить. А вот тебе, мой мальчик, досталось только бросить на него последний взгляд. Вот почему мне и жаль тебя. Давай еще послушаем музыку. Как тебе виолончельный концерт Элгара?
Он грузно поднялся из кресла.
Алан смотрел на дядю Роднея со смешанным чувством нежности и досады.
— Вы просто говорящий динозавр.
— Не дерзи, мой друг. Заведи-ка вот ручку.
И Алан принялся накручивать пружину, чтобы хватило на весь элгаровский концерт, а сам смотрел, как дядя достает из ящика пластинку, и примечал, что у него теперь все — и щеки, и подбородок, и просторная куртка, и диагоналевые брюки — обвисло дряблыми складками, а угол комнаты за его сутулой спиной занимали белые книжные полки, заставленные пестрыми мемуарами и желтыми французскими романами начала века, и еще там висел маленький натюрморт Уильяма Николсона и полотно Сиккерта дьеппского периода. Когда он уже почти до отказа докрутил граммофонную ручку, ему на минуту представилось, будто и вся эта сцена — тоже картина, написанная явно где-нибудь в девятьсот третьем, примерно, году, первоначально выставленная в галерее Новой Английской живописи, а теперь, вернее всего, висящая в Тейт-гэллери.
— Я уже поместил вас в Тейт, дядя. Только пластиночный ящик выпадает из стиля.
Дядя Родней то ли не расслышал, то ли не счел нужным обращать внимание на слова Алана.
— Ты, кстати сказать, остерегись здешних женщин. Если не будешь осторожен, они тебя быстро женят на какой-нибудь добропорядочной местной девахе с руками и ногами дюжего фермера. Я на днях слышал разговоры на эту тему. Теперь, поди, у них уж и список составлен. Я тебя предостерег.
— Я уже говорил маме, — шутливым тоном заметил Алан, — что в этом доме меня все против всех предостерегают. С чего бы это?
— Распад, мой мальчик. Полный распад, — с широким жестом провозгласил дядя Родней, а потом обернулся и пристально взглянул на Алана. — Обо мне тебе тоже говорили?
— Да нет. Только, что увлекаетесь граммофоном. Может, запустим его?
— Конечно. Но должен сказать, что для юноши, вернувшегося с войны, ты, на мой взгляд, слишком серьезен. Нет-нет, ни слова больше. Элгар, Виолончельный концерт.
Зазвучала музыка, но не прервала мыслей Алана, а мысли были совершенно не к месту и не ко времени. Он ведь вернулся наконец домой, не так ли? Сбылось то, о чем мечталось. Или нет? Щедрый, густой поток элгаровской музыки лился и лился, но не мог затопить кое-каких вопросов и сомнений. Волны старого вина, и сожалений, и тоски по утраченному дому, пенясь, накатывали на берег; но там были мины и их предательские проволочные усы…
3
Герберт Кенфорд, тот, что был в сером костюме (и так в нем и остался), разговаривал с матерью в кухне на родной ферме «Четыре вяза». Дело было на следующее утро после его приезда. У матери, конечно, как всегда, дел — выше головы, но и за хозяйственными хлопотами, наклоняясь над огромной старой плитой, она может говорить и слушать, поэтому она попросила Герберта остаться с ней после завтрака. Герберт у нее младшенький и любимчик.
— Вот бы мне тоже повидать заморские края, — мечтательно сказала она. — Ваш отец всегда был тяжел на подъем, а мне так страсть хотелось поездить. — И это была правда. В ее дородной груди до сих пор жила непоседливая, любознательная душа ребенка, жаждущая впечатлений, тоскующая о путешествиях, о дальних землях и морях. — Некоторые письма, Герберт, те кусочки, где ты немножко описывал, что видел, были чудо как хороши, я их по сто раз перечитывала.
— Жаль, что коротко выходило, — сказал Герберт; мать он очень любил. — Но там особенно не распишешься, да и нельзя подробности, не разрешается.
Мать кивнула понимающе, а потом проговорила с улыбкой:
— Зато теперь ты сможешь мне сам обо всем рассказать.
— Мне бы надо заняться каким-нибудь делом на ферме, — сказал Герберт, такой серьезный и ответственный мальчик, не забыл, что такое фермерский труд.
— Да ты только-только приехал! Вовсе незачем тебе сразу браться за работу. У нас все под приглядом, все в порядке. Отец с Артуром только вот нынче уехали в Лэмбери, но это — по особому делу.
— Что же это за особое дело?
Мать посмотрела на него весело и в то же время таинственно. Он с детства помнил этот ее взгляд. Годы тут ничего не изменили. Пусть Европа лежит в руинах и пожарищах и пол-Азии тлеет огнем, но этот взгляд, этот голос, восходящий к давним сочельникам и дням рождений, какой был, таким и остался.
— Узнаешь вечером — за ужином. Будут Артур с Филлис и еще двоюродная сестра Филлис Эдна, помнишь?
Герберт нахмурился, что-то слишком многозначительно мать сказала об этой Эдне.
— Да, я помню ее. А она зачем приедет?
— Ну как, мы подумали, тебе будет приятно с ней увидеться, она повзрослела, стала девушка хоть куда. — Мать подождала, не скажет ли он чего-нибудь на это, но он промолчал, и она, бросив на него опасливый взгляд, неуверенно спросила: — Уж не нашел ли ты себе там кого-нибудь на войне, а? А нам, своим родным, — ни словечка?
— Да нет, что ты! Кого я мог там себе найти? Не выдумывай, ма.
— Мало ли, из вспомогательного Женского корпуса какую-нибудь, например…
— Ничего подобного!
— Ну, оно и к лучшему, — произнесла миссис Кенфорд. — Я об них наслышалась. Они, бывает, так ведут себя — и курят, и вино пьют, и грубо выражаются. Интересно, как они собираются после этого детей воспитывать и порядочный дом вести?
— Но ведь по честности сказать, — тут же вступился Герберт, борец за справедливость, — откуда им оставаться неженками, если мы же сами обрядили их в военную форму и отправили водить грузовики и складывать боеприпасы?
— Неподходящая это для девушек жизнь, — убежденно заключила мать. — Поэтому я и рада, что ты ни с кем из них не успел себя связать. А вот Эдна, она совсем не такая.
— Ну, еще бы. Словом, так, — решительным тоном повторил он, поскольку мать уже готова была что-то возразить. — Я ни с кем себя не связал, как ты выражаешься, и пока не собираюсь.
Но в этот миг ему представилась, как бы на далекой, ярко освещенной сцене, та задиристая девчонка в баре, Дорис Морган. Почему она к нему прицепилась? Чего взъелась? Ему вдруг ужасно захотелось еще немного потолковать с ней, построже, поставить ее на место, черноглазую, узколицую, в желтом платочке. Надо же, какая язва. И он, сидя перед матерью, принял решение как-нибудь вечером на днях заглянуть в «Корону» и высказать ей кое-что.
— Ты о чем это задумался? — подозрительно покосилась на него мать. Он вспомнил эту ее способность — сразу догадываться, стоит только тебе в голову прийти какой-нибудь на ее вкус нежелательной мысли. С ней держи ухо востро.
— Вспомнил двоих здешних парней, с которыми вместе вернулись, — ответил он, не кривя душой, потому что они тоже были на той отдаленной сцене. — Один — Алан Стрит из Суонсфорда. А другой — Эдди Моулд.
— Слышала я об миссис Моулд. Если это все хоть наполовину правда, что о ней рассказывают, то я ему не завидую. Из тех женщин, что роились вокруг «Руна» и «Солнца», водили к себе мужчин, и вообще Бог знает что.
— Если это правда, то ей я тоже не завидую, — зловеще произнес Герберт. — Моулд, когда рассвирепеет, то только клочья летят. Я один раз видел, как он управлялся с двумя эсэсовскими молодчиками, которые думали, что их голыми руками не возьмешь, покуда не наткнулись на старину Эдди.
Мать подчеркнуто промолчала.
— А мистер Стрит, я думала, ему бы следовало быть офицером?
Это прозвучало в ее устах так, словно Алан нарушил субординацию.
— Он бы сто раз мог получить офицерское звание, он просто не хотел разлучаться со своими ребятами. Потому и я сидел в капралах. Он был у нас сержантом, и мне больше хотелось служить под ним, вот я и постарался не получать новых лычек.
— Это меня удивляет, Герберт. По-моему, он тебе не товарищ.
— В армии был товарищ, и еще какой.
— А здесь — другое дело, вот увидишь, — сказала мать. — Увидишь, увидишь, не сомневайся. Эдди Моулд и этот мистер Стрит — тебе неровня. Всегда так было, всегда так будет. Заруби это себе на носу, Герберт.
Герберт кивнул и поднялся.
— Пойду, пожалуй, погляжу что да как. День опять погожий.
— Я бы рада еще побалакать с тобой, но, конечно, ступай, оглядись, если хочешь. Но только помни, Герберт.
— О чем?
Он задержался у порога.
— Ты вернулся из армии домой, и навсегда, я надеюсь. Так вот, хочу тебя предостеречь. Слышал небось разговоры, что, мол, после войны все будет по-другому? Даже по радио об этом передавали, мы иной раз успевали услышать, пока отец ручку-то не выключит, он таких вещей на дух не переносил. Так вот, меня и тогда уже сомнение брало, уж больно все у них гладко получалось — не допустим больше того, не потерпим этого, — а теперь я точно знаю: как раньше было, так оно все на круг и останется. Люди разберутся по своим прежним местам, увидишь. Уже и сейчас разбираются. Оно так и должно быть. Вот об этом я хотела тебя предостеречь, только и всего.
— Не буду с тобой спорить, мама, — сказал Герберт. — Но все-таки чего меня предостерегать? Я-то тут при чем?
Она внимательно посмотрела на сына.
— Ты мало что успел мне о себе рассказать, Герберт, но мне кажется, ты переменился. Даже не кажется, а я точно знаю. И притом ты в отца уродился, упрямые вы, раз что заберете в голову. Недаром у вас вон какие носы у обоих.
— Разве я переменился? Не заметил. Хотя, если и так, что ж в этом удивительного. Стал старше на несколько лет, побывал в Африке, помотался по Европе, повидал и пережил много такого, чего никогда не думал повидать и пережить. Что из того, если я и переменился?
— Ладно, Герберт. Помни, я хочу только, чтобы ты занял свое место в жизни и был счастлив и доволен.
— Я и сам этого же хочу, — серьезно сказал Герберт. — И по-моему, это не так-то мало.
Мать с облегчением отвела глаза от лица сына и умиротворенно произнесла:
— Ну вот и слава Богу, коли так.
Она с улыбкой махнула рукой.
— Ступай уж, раз не сидится тебе. Непоседа, весь в отца.
На дворе, под щедрыми лучами утреннего солнца, Герберт огляделся вокруг, с удовольствием принюхиваясь к знакомым запахам. В нем осталось довольно от фермера, чтобы без объяснений понять, что дела на ферме «Четыре вяза» идут очень даже неплохо. На всем лежала печать процветания. И было почти слышно, как растут из земли овощи и злаки.
Во двор вышел скотник Старый Чарли, который был работником на ферме, сколько Герберт себя помнил. Теперь он казался совсем дряхлым, ушел в почву, как древний дух земли, со сморщенным личиком, похожим на перележалое яблоко.
— Отличное утро, а? — сказал Старому Чарли Герберт и протянул раскрытую пачку сигарет. — Дела идут неплохо?
— Да вроде бы, — прошамкал Старый Чарли. — Стадо у нас сейчас собралось богатое, правда, вот пастбищной земли не хватает.
— Ну, вы вечно ворчите, старина Чарли. А ведь вы и сами не внакладе, по-моему, верно? Небось за всю жизнь такого жалованья не получали, как теперь?
Старый Чарли покачал головой.
— Деньги — это еще не все. Важно, что на деньги можешь взять, мастер Герберт, я так смотрю. Бывает, у человека полон карман монет и бумажек, а ему с того никакого проку. Ну что нынче купишь-то? Попробуйте ответить, мастер Герберт. Пиво жиже воды, а цены — жуть одна, жуть, говорю я вам. А об капле спиртного по холодной погоде и вовсе даже мечтать не приходится. Табаку унция — плати два шиллинга с гаком. Одной рукой тебе дают, другой назад забирают. Ловкий грабеж, и более ничего.
Он устремил на Герберта негодующий взгляд и презрительно пососал беззубые десны.
— Я думал, вы в гору пошли, Чарли.
Чарли напоследок сглотнул и громко прокашлялся.
— Заработки-то у всех возросли. Но и цены, ежели придет к чему охота, тоже подскочили дай Боже. Опять же и товаров нет. Вот и вся игра, мастер Герберт. Я, когда начал работать, еще до вашего рождения, то был я молодой Чарли Шатл, последний, можно сказать, в очереди, держал свои пенсы в горсти, чтобы купить себе мяса, пива да табаку. Да. Так оно и было. Ну, а теперь я — Старый Чарли, и опять же последний в очереди, и хотя в горсти теперь держу шиллинги, не пенсы, но хватает мне опять-таки только на мясо, пиво да табак. Да и того не вволю. Сельскохозяйственный рабочий, вот я кто такой, мастер Герберт, и нет у меня ничего своего. Ясно я говорю?
— Да-да, Чарли, что же дальше? Или это все?
Старик настороженно оглянулся через плечо, подошел на шаг ближе и понизил голос:
— Вот ежели бы такой сделался порядок, чтобы у меня было чуток собственной землицы и немного своей скотины, или, может, иначе: чтобы были неоглядные поля и тысячные стада и я бы мог сказать: «Они принадлежат тебе, Чарли, как и любому другому», — вот тогда бы, мастер Герберт, и впрямь можно бы считать, что я пошел в гору, как вы говорите. Это уж была бы не игра, а настоящий прогресс.
— Ай да Чарли, — засмеялся Герберт. — Кто бы подумал, что у вас такие мысли в голове!
— Так что ж, — самодовольно проговорил Старый Чарли, — у нас тут по соседству, сами увидите, за время войны всякие перемены с людьми произошли. Я, к примеру, за военные годы научился мозгами шевелить, думать стал, и глубоко забираю.
— Вижу, Чарли. У вас с этим делом серьезно.
— Позднее, — не без высокомерия произнес Чарли, — будет случай и время, я вам все подробнее растолкую, мастер Герберт. Ну, а пока, — заключил он опять в полный голос, — с прибытием, и желаю вам здоровья и счастья!
Радостно было Герберту шагать через поля, обводить взглядом выпуклости и впадины жирной, разогретой нивы, любоваться нежными зеленями, голубыми и желтыми первоцветами по краям переполненных канав, слушать звонкие птичьи голоса. Но ему хотелось рассказать кому-нибудь про свой разговор со Старым Чарли. Да только — кому? Отец и брат Артур, уж конечно, не пожелают слышать мнения своего старого скотника. Матери это неинтересно, к тому же она всегда недолюбливала Чарли. Алан Стрит, вот он бы понял, но Алан Стрит скрылся у себя в Суонсфорд-Мэноре и, возможно, теперь с головой погрузился в тамошнюю таинственную жизнь, забыв обо всем прочем, хотя это, Герберт считает, все-таки навряд ли. Почему-то на ум ему опять пришла девушка Дорис в желтом платочке, вот кому бы рассказать про Старого Чарли. Он одернул себя и с презрением отбросил эту дурацкую мысль — но она к нему вернулась еще и еще раз, породив в душе смущение и досаду. А вокруг, поздравляя его с возвращением, зеленели поля, на живых изгородях распускались почки, пестрели цветы, пели птицы, — все такое знакомое и все исполнено волшебства, и сквозь смущение и досаду в душе проступали смутные, беспокойные желания, принося с собой непонятно откуда взявшееся чувство утраты.
Когда он шагал обратно на ферму по обсаженной деревьями проселочной дороге, его перегнали два всадника. Мужчина остановил лошадь и обернулся, остановилась и его спутница. Герберт узнал полковника Саутхема и его дочь Бетти. Девушка бросила на него один вопрошающий взгляд и тут же с полным равнодушием отвернулась, задумавшись о чем-то постороннем. Герберт был о себе не слишком высокого мнения, он не считал, что способен вызвать к себе интерес у такой прелестной утонченной особы, но все-таки ее высокомерие задело его за живое. Поэтому он чуть ли не с вызовом посмотрел в лицо ее отцу. Полковник Саутхем выглядел по-прежнему подобранным, лощеным — те же выдубленные щеки, красные прожилки в глазах, — однако он заметно постарел. И голос его звучал еще сиплее, чем раньше.
— Постойте-ка, постойте, — произнес он. — По-моему, вы молодой Кенфорд, что записался в Бэнфордширский полк.
— Да. Я вернулся домой. Демобилизован.
— Молодчина! Мне тут надо кое-что сказать вашему отцу, — продолжал полковник. — Он, надеюсь, дома?
— Нет, с утра уехал в Лэмбери.
— Хм! В таком случае, попрошу вас ему передать. Скажете, что капитан Спайрс-Вуд может приехать пятнадцатого, поэтому митинг назначаем на это число, и я хотел бы, чтобы председательствовал ваш отец — местный фермер, и все такое. Вы меня поняли?
Герберт не без иронии дословно повторил слова полковника.
— Верно, — кивнул полковник Саутхем. — И сами тоже приезжайте на митинг. Как насчет того, чтобы выступить перед публикой? Есть охота?
— Нет, — ответил Герберт.
— Что так? Страшно?
— Да нет вроде бы. Хотя, может, и это. Но я не хочу выступать перед публикой, пока у меня не будет что ей сказать.
Полковник мрачно усмехнулся.
— Об этом не беспокойтесь, Кенфорд. Мы вам найдем, что сказать.
— Это — да. Но я хочу найти сам. А я только что вернулся.
— Понятно. Но вы спросите у вашего отца. Он вам скажет. — Полковник оглянулся на дочь, которая выказывала признаки нетерпения. — Минуточку, Бетти, я сейчас. Не натягивай так поводья. — И снова перевел взгляд на Герберта. — Вы — сын фермера, у вас тут отличное хозяйство, не так ли? И вы воевали за свою страну.
— Старался, — ответил Герберт. — И что с того?
— Как это: что с того? Глупое выражение. Так говорят в американских фильмах. И моя дочь вон его употребляет. Теперь ваш долг — позаботиться, чтобы страной управляли, как надо.
— Я всей душой — за, — сказал Герберт.
— Тут сейчас вредного народа развелось, знаете ли, — воинственно продолжал полковник. — Идеи всякие вредные распространяются. Посмотрите на Европу.
— Я посмотрел.
— Вот именно. И что вы видели? Повсюду рыщут красные. Мы не можем допустить такого здесь, вы согласны?
— Не знаю, — спокойно ответил Герберт.
Полковник Саутхем прямо взвился.
— То есть как это не знаете?
— А вот так, — ровным голосом отозвался Герберт, он вдруг принял решение не щадить чувства полковника. — Во многих местах, где я побывал, красные, как вы их называете, теперь распоряжаются, потому что они одни последовательно выступали против нацизма. Вам это известно? А другие, которые боялись красных, шли на сотрудничество с нацистами и поэтому теперь утратили власть. Вот как обстоит дело там, в Европе. Каков расклад здесь, — этого не могу сказать, потому что еще не знаю, я только что приехал.
— Нацисты тут ни при чем! — закричал на него полковник. — С нацистами покончено. Надо теперь позаботиться о своей стране. Если вы, молодежь, не отнесетесь к этому со всей серьезностью, страна угодит в лапы бюрократов, долгогривых агитаторов и подонков индустриального общества. И кончится тем, что они уведут эту ферму у вас из-под носа, если будете зевать. Поговорите с вашим отцом, поговорите. Он понимает положение. И не забудьте передать ему насчет митинга.
Тут, к изумлению Герберта, дочь полковника Бетти громко рассмеялась. Отец сердито оглянулся на нее.
— Иду, иду! — крикнул он и тронул лошадь, даже не посмотрев больше на Герберта.
Девушка ускакала, смеясь, а Герберту стало как-то не по себе от ее смеха. В нем не было смысла. Что она, сумасшедшая? Этот смех был еще неприятнее, чем внезапная ярость полковника, срывающийся голос, побагровевшее лицо. Что это с ними? — подумал Герберт, недоуменно глядя им вслед.
Поручение полковника Саутхема Герберт смог передать отцу только вечером, перед самым ужином. Они сидели в гостиной, и здесь же находился его брат Артур. Жена Артура Филлис и ее двоюродная сестра Эдна помогали матери на кухне. Ужин обещал быть торжественным. Чувствовалось, что у отца и Артура есть какой-то потрясающий секрет, который они готовятся ему открыть в свой срок и ни минутой раньше. Артур, раздобревший за последние года два, так что красная шея прямо распирала воротник сорочки, хитро улыбался и подмигивал. У отца, рослого и сухощавого пожилого человека, всегда такого хмурого и озабоченного, было сегодня на лице чуть ли не игривое выражение, и оно так же мало пристало ему, как и выходной костюм, надетый по случаю поездки в Лэмбери. Герберту он сейчас напоминал те времена, когда был попечителем воскресной школы и в Духов день перед родителями изо всех сил старался держаться бодро и приветливо. Мистер Кенфорд принадлежал к методистам старого закала и подозрительно, даже враждебно относился ко всякой человеческой деятельности, кроме круглогодичной работы на ферме, купли-продажи, прибыли-экономии, морального осуждения и принятия пищи. Сейчас он выступал в несвойственной ему роли и явно тяготился ею. Вид отца и брата раздражал Герберта, но в то же время ему было стыдно своей холодности и отстраненности — ведь праздник-то, он отлично понимал, был затеян в его честь — так что он следил за тем, чтобы не выказывать своей досады.
Все трое вздохнули с облегчением, когда наконец из-за двери выглянула разрумянившаяся Филлис и позвала к столу. Большой стол ломился — Герберт уж и забыл, когда видел такое изобилие. Можно было бы взвод накормить. Целый окорок и свиное филе, это только на закуску. Словно собрали, скопили весь тук земли и вытряхнули перед ним на праздничные блюда. Войны, революции, голод — ничего этого больше не существовало. Три женщины-хозяйки сияли и словно воплощали эту тучную щедрость земли. Эдна была моложе, чем Филлис, совсем еще юная, не заматеревшая, но и она выглядела плотной — этакий полновесный ломоть бело-розовой женской плоти, спелый, налившийся плод, двойная порция фруктово-кремового торта. Эдна была вполне недурна собой, она то и дело приветливо и даже с восхищением взглядывала на Герберта блестящими голубыми глазами, и он ничего против не имел. Но сегодня она как-то была ему ни к чему, как ни к чему был, если по-честному, и весь этот торжественный ужин. Слишком все это, на его вкус, получилось обильно.
— Ага, это уже кое-что! — проговорил отец, переводя взгляд со стола на Герберта. — А взгляните-ка сюда. — Он указал на бутылки с пивом и сидром. — Вы, ребята, знаете, я в рот этого никогда не брал и не возьму, но ваша мать сказала, что сегодня вы должны пропустить по глотку, так что вот, пожалуйста!
— Гм, неплохо, — с ухмылкой сказал Артур. — Не знаю, как насчет Эдны, но за Филлис с этими бутылками нужен будет глаз да глаз.
— Ладно тебе, Артур! — лениво улыбаясь, отозвалась Филлис. — Не за мной нужен тут глаз да глаз. И не за Эдной.
— Ну, мои милые, не для того, чтобы смотреть, все это на стол выставлено, — пригласила миссис Кенфорд. — Нарезай свинину, отец. А ты, Герберт, садись тут, рядом с Эдной. Прямо не знаю, как бы я без нее управилась.
Герберт чувствовал, что его потчуют ветчиной и Эдной. Хотя ведь она, бедная девочка, не виновата. И он дружелюбно отвечал на ее робкие расспросы, рассказывал о том, где побывал, и даже кое-что из того, что видел. Хотя, конечно, для нее все равно это были только слова. Реальность оставалась где-то за стенами дома.
— Ты не думай, Герберт, — с вызовом произнесла Филлис, — Артур, конечно, был все это время дома, помогал отцу управляться на ферме, но и это тоже не шуточки, сколько работы прибавилось, и ополчение, и много чего еще. Верно ведь, Артур?
Артур сказал, что верно, — поскольку от него ждали ответа, а Герберт поспешил с заверениями, что вовсе не считает это шуточками.
— Но к чему ты об этом, Филлис?
— Просто я подумала. — Она замялась. — Мне показалось, что ты немного свысока на нас поглядываешь, вот и все.
— Выходит, неверно тебе показалось, — улыбнулся Герберт. Он успел забыть эту способность женщин угадывать твои невысказанные мысли, схватывать настроение. Слишком долго жил среди мужчин. Все три женщины за столом небось отлично понимают, что ему не по себе, и напрасно он так старается сохранять беззаботный вид.
— Фермерский труд, — проговорил отец, подняв голову от тарелки, на которой высилась груда еды, ибо он, как нередко случается с худощавыми мужчинами аскетической наружности, обладал невероятным аппетитом, — фермерский труд — труд тяжелый, если выполнять все добросовестно. А у нас тут работают добросовестно. Иначе бы мы не выдюжили на этой войне. Они там, наверху, в конце концов это сообразили. А уж мы теперь постараемся, чтобы и впредь не забывали об этом. Не позволим больше фокусов с сельским хозяйством в нашей стране.
— Правильно, — поддакнул отцу Артур. — Нам в стране нужно увеличивать сельскохозяйственную продукцию, а городские пусть за нее платят хорошую цену.
— Любое правительство, если оно с умом, будет стоять на этом! — подхватил мистер Кенфорд.
— Пожалуйста, не надо сегодня политики! — поспешила с просьбой миссис Кенфорд.
— Ой, я тоже прошу, — подхватила Филлис. — Все спорят, спорят, спорят. Прямо ужасно. Вы бы слышали Сиднея. Правда, Эдна?
— Сидней ну просто жуть что говорит. Я ему тут на днях прямо так и сказала, чтобы он немедленно замолчал, и все. Потом-то даже пожалела, что пришлось его так осадить, да ведь что ж это такое за разговоры?
Эдна обращалась к обеим женщинам, и те понимающе кивнули.
Но мистер Кенфорд, человек упрямый, еще не высказался до конца.
— Что я думаю о политике, все знают. Со мной спорить незачем. Я просто говорю, что при теперешнем положении вещей всякое разумное правительство, если понимает что к чему, должно поддерживать сельское хозяйство. Тут двух мнений быть не может.
— Ясное дело. А городские, если не согласны с этим, — добавил Артур, который все норовил свести счеты с «городскими», — накличут большие неприятности, только и всего.
— Какие еще неприятности? — не удержался Герберт.
Артур взглянул на него, и Герберт был потрясен: на него с подозрением смотрел чужой, настороженный человек. Но в следующую минуту Артур уже весело ухмыльнулся:
— Ладно-ладно, братишка. Знай себе наворачивай да радуйся жизни. С возвращением!
И посмотрел на сидящих за столом, ища поддержки. Его поддержали.
Герберт послушно жевал и старался радоваться жизни. Но ему по-прежнему было среди них как-то неуютно и даже немного грустно. Вокруг сидели его родные, сидели крепко и ели, относясь к делу с полной серьезностью и чуть ли не отирая пот со лба; а он, сам точно такой же, как и они, ничем не лучше, словно завис в воздухе и наполовину отсутствовал. Мать угадала его ощущение и то и дело на него посматривала, не то с вызовом, не то с мольбой. Сделав над собой усилие, Герберт принялся, как и накануне, задавать вопросы о соседях и общих знакомых. Что сталось с тем-то и тем-то? Помогло. Завязался живой разговор — отец и Артур поставляли хозяйственные сведения, а женщины увлеченно выкладывали рождения, женитьбы и похороны. За этими делами одолели фруктовую запеканку со сливками, яблочный пирог и сыр, и оказалось, что больше никому кусок в глотку не лезет, все насытились до отвала. В ход пошли бутылки с пивом и сидром, а мистер Кенфорд принял из рук хозяйки чашку крепкого чая, одновременно выразив надежду, что остальным не придется раскаиваться в допущенных «излишествах».
— Мы останемся здесь, ладно, отец? — сказала миссис Кенфорд. — А посуду перемоем потом, пока вы, мужчины, будете обговаривать подробности.
— Это как ты скажешь, мать, — ответил мистер Кенфорд. Вид у него стал торжественный и многозначительный. — Пойду принесу бумаги.
Что именно за всем этим последует, Герберт не имел представления, но ясно было, что наступил самый главный момент, а весь вечер и даже весь день служил ему подготовкой.
— Может быть, мне лучше уйти? — испуганно спросила Эдна.
— Нет-нет, Эдна, оставайся, — с улыбкой ответила ей миссис Кенфорд. — Ты ведь тут не чужая. Мы считаем, что ты — член семьи.
Да? Это еще почему? Правда, она двоюродная сестра Филлис, напомнил себе Герберт. Но у Филлис, вполне возможно, уйма двоюродных сестер и братьев, теток и дядьев — и, кстати сказать, отец с матерью — с чего же они вдруг удочерили Эдну? Нет, это ему совсем не нравится. Он обернулся, встретил ее робкий, ласковый взгляд и сразу почувствовал себя последним подлецом, когда ласковая робость в ее взгляде вдруг сменилась чуть ли не отчаянием.
— Ты ведь не против, Герберт? — пугливо шепнула она, потянувшись к его уху, вся до того розовая, сияющая и взволнованная, что на мгновение ему захотелось схватить ее и сжать в объятиях.
— Нет, конечно. Да я и вообще не знаю, о чем речь, — ответил он ей довольно сухо, досадуя на себя за такую реакцию.
Отец уже отодвигал тарелки и бережно располагал перед собой большой нотариального вида конверт. Решительный миг настал.
— Герберт! — громко провозгласил мистер Кенфорд, призывая всеобщее внимание. — Мы рады видеть тебя наконец снова под родным кровом.
— Ну, а как же иначе, отец? — вставила словечко мать.
— Ты выполнял свой долг, — продолжал отец, будто не слыша. — А мы здесь выполняли свой. Нам не в чем себя укорить, а пожалуй что и можно погордиться. Теперь так. Ты небось удивился вчера, что я не завожу с тобой серьезного разговора?
— Да нет, — отозвался было Герберт.
Но мистер Кенфорд, раз заговорив, любил довести речь до конца.
— Ну, да. Я не стал раньше времени объяснять, хотел, чтобы получился приятный сюрприз. Надо было еще выправить сегодня кое-какие бумаги. Для того мы с Артуром и ездили с утра в Лэмбери. И мы сделали все, что наметили, и даже выгоднее, чем предполагалось. Это касается твоего будущего, Герберт. Ты небось сомневался, как мы будем дальше жить в «Четырех вязах», вместе и ты, и Артур. Ну, так вот. Помнишь ферму Джо Эллерби, на полдороге отсюда как ехать в Суонсфорд?
— Еще бы, — ответил Герберт. — Как поживает старый Джо?
— С Джо все кончено. Перенес удар. Да он так и так не мог выращивать зерновые, не под силу ему было. Но сегодня я купил у него ферму со всеми постройками. И туда переберется Артур, как только мы вступим в права…
— Ай, Артур! А ты мне не говорил! — воскликнула Филлис.
Артур ухмылялся.
— Приказ был такой: молчок. Отличная ферма, ежели хозяйничать с толком.
— Сейчас речь о Герберте, — строго перебил его отец. — А вы свои дела можете обсудить позже. Ты понял, Герберт, что теперь получается? Артур переселится на ферму Эллерби. Здесь остаешься ты — ну и я, понятное дело, хотя я и Артура буду поддерживать, — но рано или поздно ферма достанется тебе. И не забудь, в наших местах лучше этой фермы нет. Так что вот так.
Все выжидательно, по-доброму смотрели на Герберта. Родные подумали о нем, подумали за него. А он-то! На сердце у него стало тепло, не из-за фермы — мысли о делах, собственности, деньгах еще не лезли в голову, — но его растрогала их забота о его будущем. Он даже не ожидал от них, ну разве что от матери, и как-то не заслужил, ведь он сидел среди них как равнодушный, настороженный чужак. Но теперь, устыдившись, он наконец вздохнул с облегчением, на глаза навернулись слезы: он почувствовал себя своим среди своих.
— Честное слово, отец, это просто замечательно, — пробормотал он, запинаясь. — Я совсем не ожидал… ничего такого… Не успел задуматься на эти темы… Я очень, очень благодарен…
Мать обвела всех торжествующим взором, словно говоря: «Вот видите!»
— Я и не предполагал, что вы можете купить целую ферму, — продолжал Герберт, — тем более такую большую, как у Джо Эллерби. Выходит, у вас тут дела и вправду шли отлично?
— Да, неплохо, — не без самодовольства подтвердил Артур.
Но тут опять взял слово отец:
— Да, мы пожаловаться не можем. Владение это доходное. А теперь еще одно такое же будет, надо только как следует взяться. Какую бы дурь ни затеяли в стране, тот, кто имеет хорошую собственную ферму, всегда останется в выгоде. Мы можем жить, и жить хорошо, пока они под угрозой голодной смерти в конце концов не возьмутся за ум. И не сомневайся, все правильно. Человек должен думать о себе и о своих близких, это — первейший долг. Сейчас на нашей стороне все преимущества. А почему? — Мистер Кенфорд обвел сидящих за столом вопросительным взглядом, не столько ожидая ответа, сколько нагоняя страху: пусть только попробуют его прервать! — Оно конечно, привозные продукты, может, и дешевле наших, но ведь за них, куда ни кинь, надо платить, верно я говорю? А платить теперь будет потруднее, чем раньше. Это уж точно. Пусть попробуют, сами быстро убедятся. А мы почти все, что требуется, можем производить сами. И можем брать хорошую цену.
— Ты, Герберт, просто удивишься, когда узнаешь, — жирно улыбаясь, произнес Артур. — Теперь положение другое, не то что тогда, когда ты уходил в армию. Совсем даже не то.
— Многие из тех, кто вместе с тобой пришли из армии, Герберт, — продолжал отец, — сейчас воображают, будто стоит им только потребовать себе то да се — хорошие дома, чистую легкую работу, большие оплаченные отпуска, и так далее, — и им, пожалуйста, все подадут на тарелочке. Но через годок-другой они уже будут голову ломать, куда бы половчей эмигрировать, и уже не до жиру им будет спрашивать, чистая ли их там ждет работа, будут ли оплаченные отпуска. Надо только видеть жизнь как она есть, и тогда все глупости, что теперь болтают, глупостями и объявятся. Но ты можешь не беспокоиться, Герберт. Мы об тебе позаботились, как и об самих себе, — а как же иначе, это не в заслугу нам я говорю, — и ты теперь будешь прочно стоять на земле, а пройдет время, и земля эта станет твоей собственностью. Вот так-то. И довольно об этом.
Действительно, сказанного было довольно, и с избытком. Чувства облегчения и причастности у Герберта опять как не бывало. Он снова почувствовал себя среди своих родных посторонним. Не говоря о двоих живых, вместе с ним надевших новые костюмы, было еще не меньше полусотни погибших и похороненных в пустыне, во Франции, в Германии, которые были ему гораздо ближе, чем эти, его домашние. Вспомнились разговоры: «Говорю тебе, браток, после войны все переменится». — «Прямо, выкуси-ка, как было, так все и останется!» — «А ты что скажешь, капрал?» Что тут скажешь? Что прочно стоишь ногами на земле? Интересно, на какой земле? Может быть, на одном из могильных холмиков обочь автомобильного тракта, где песок под ногами того гляди осыплется и обнажит указующий костяной палец или пристально зияющую глазницу?
— Ты что, Герберт? — спросила мать. — Плохо себя чувствуешь?
— Да нет… мне… — Он поспешно поднялся. — Я, пожалуй, выйду на воздух, подышу немного.
— Переел парень, а? — сказал ему вслед Артур. — Отвык, поди, от такого изобилия? Не можешь переварить?
— Не могу переварить.
Ночь была тихая, льдистая, необъятная, в вышине слабо мерцали звезды. Ночь ничего не говорила Герберту. Один человек — ничто перед этой стылой равнодушной бездной. Чтобы не дрогнуть сердцем, глядя в лицо ночи, надо шагать в рядах с другими, со многими, имея перед собой общую цель, двигаясь, пусть и в молчании, но чувствуя локоть соседа и ясно понимая задачу. А он сейчас был один. И, дав себе приказ молчать, не выражать своих настоящих чувств, чтобы вечер закончился так, как хотят они, Герберт вернулся в дом…
4
Эдди Моулд, здоровяк в коричневом костюме. Он проснулся утром, как в тумане, после всего выпитого накануне пива, недоумевая, где находится. Ему где только не приходилось ночевать — в палатках, на пароходах, в казармах, на дне окопов. А вот сейчас он, оказывается, у себя дома, в собственной постели. И притом один. Он стал размышлять об этом — Эдди Моулд был тугодум и к каждой неприятной мысли возвращался по нескольку раз. Он прибыл из армии, а его домик пуст — жены Нелли на месте не оказалось. Отправленная им телеграмма — это сержант его надоумил, сам-то Эдди к телеграммам не приучен — лежала нераспечатанная. И никакой записки от Нелли, она, может, и не знала, что он так скоро вернется. С другой стороны, по остаткам продуктов, которых ему хватило, чтобы худо-бедно сварганить себе ужин, было ясно, что она отсутствует всего день или, самое большее, два.
Два обстоятельства вчера вечером выбили его из колеи. Во-первых, пустой дом и отсутствие жены. Ничего себе: солдат вернулся домой. Сколько раз он об этом мечтал, а получилось — ничего похожего. А второе — фотография, увеличенный снимок их малютки, такую же, но маленькую карточку он таскал в кармане. Пока его не было, девочка умерла. И там-то узнать об этом было для него большим потрясением, а тут, в пустом доме, где ей бы бегать и топать ножками, оказалось еще горше, хоть он вроде бы и знал уже. Он долго разглядывал фотографию и совсем расстроился. А потом пошел к соседу Берту Россу, с которым вместе работали на карьере, он и сейчас там работал, и они вместе отправились в «Руно» и приняли по нескольку кружек.
И вот — утро, и надо самому себе готовить завтрак, а это несправедливо, когда человек только что вернулся из армии. А дома оказалось вовсе не так прибрано, как бывало прежде, хотя Нелли и прикупила кое-что в хозяйство, две вазы, часы на стенку и новенький радиоприемничек, который Эдди впервые видит, должно быть, немало денег на это ушло из ее аттестата, если она, конечно, не получила наследства, у Нелли родня с деньгами, мог кто-нибудь оставить ей, они всегда считали, что она вышла ниже себя, за простого рабочего в каменоломне.
Поджарив остатки бекона с остатком хлеба и выпив крепкого чаю, правда, без сахара, Эдди вышел за порог покурить. Утро было погожее, и деревня выглядела вполне ничего, живописно. Их домик, вместе с тремя другими, стоял в дальнем конце Главной улицы. Через неделю, сказал Берт Росс, Эдди сможет приступить к работе в карьере, мистер Уотсон подал на него заявку через Биржу труда, и теперь все уже в порядке. Надо будет сходить попозже, поговорить с самим мистером Уотсоном. А пока Эдди стоял у себя на пороге, одетый в новый шикарный костюм коричневого цвета, костюм — что надо, только самую малость тесен в плечах, покуривал и мирно смотрел вдоль улицы.
И тут на крыльцо вышла миссис Могсон. Она жила в соседнем доме вдвоем с дочерью (та работала на почте) и была очень вредная старуха, эдакая скрюченная, злорадная ведьма. Эдди как приехал ее еще не видел и не имел желания видеть.
Миссис Могсон поглядела на него долгим язвительным взглядом, и ему сразу стало не по себе.
— Вернулся, стало быть?
— Да, миссис Могсон. Приехал еще вчера вечером.
— Слышали, слышали. Моя дочка еще раньше сказала, что ты приезжаешь. Это она телеграмму-то твою доставила. Но ты, я вижу, один?
— Да. Жена, похоже, уехала к матери в Банстер, она часто у нее гостит. А телеграмма, видать, пришла уже после ее отъезда. Такое дело.
— Неужто?
— Выходит что так.
Эдди нахмурился.
— Ты так думаешь?
— Да, думаю.
Он уже почти кричал.
— А чего глотку-то дерешь? — отозвалась миссис Могсон. — Не глухая, поди, хоть кое-кто и ведет себя так, будто мне ничего не слышно. Слышно мне, не беспокойтесь, много чего слышно.
Эдди не ответил и, отвернувшись, снова посмотрел вдоль улицы.
— Ну, да вот теперь ты вернулся. Давно бы пора.
Чего от него хочет старая гусыня? Он бросил взгляд на ее морщинистое лицо — сколько точно таких же старух видел он в Северной Африке, в Нормандии, на голландских дорогах. Они все похожи между собой.
— Да, давно пора бы тебе домой заявиться, — повторила она. — Взглянуть, что делается у себя в Кроуфилде, а не у Гитлера.
— Мы, миссис Могсон, и сами рады, что вернулись домой.
В ответ она захихикала, старая ведьма! Чего это она? Из ума, что ли, выжила?
— Тебе и костюмчик, глянь, какой шикарный выдали по случаю возвращения. Смотри береги его, молодой человек, у тебя вон плечищи-то, как бы пиджак по швам не лопнул, ты уж поосторожнее. Ишь какой ты стал, Эдди Моулд, молодец молодцом. И нрав небось горячий, порох? Мы тут и без тебя молодцов навидались, все больше американцев, иные даже и чернокожие.
— Наслышан, — коротко отозвался Эдди.
— Еще наслушаешься, я чай, вскорости, — злорадно сказала миссис Могсон. — Знай держи ушки на макушке. Ты, это, не соскучился один-то? Глядишь, и жена теперь скоро заявится.
— Послушайте! — окликнул ее Эдди. — Что вы такое говорите? К чему клоните? Может, вас кто обидел?
— Да, обидели, — сразу отозвалась она. — По ночам заснуть не давали, когда спать пора. И не только мне, но и дочке моей, а ей утром рано на работу, не то что некоторым, кто допоздна в постели валяется и заполночь веселится.
— Да вы о чем? Кто вам спать не давал?
— Сам узнаешь. Небось тогда уж не будешь так важничать. Ишь вырядился в новенький костюмчик! Хе-хе-хе!
Она с презрительным смехом захлопнула за собой дверь.
Как парень основательный и по-своему опрятный Эдди вернулся в дом и занялся уборкой. Но странные речи соседки не шли у него из головы. Потом он решил сходить купить газету — почитать, что творится дома, — и на улице встретил жену Фреда Розберри, — вернее, вдову, — выходившую из магазина с нарядной девчушкой, их меньшенькой. Встреча получилась неловкой. До войны Эдди был мало знаком с Фредом, но на фронте они сдружились. Фред поделился с ним радостью, когда получил известие о рождении этой малышки, а когда взрывом мины беднягу убило, Эдди находился от него в каких-нибудь десяти шагах. Конечно, он имел в виду со временем зайти к жене Фреда, но потом, попозже. А тут она оказалась прямо перед ним, высокая, темноволосая женщина с бледным, серьезным лицом, довольно красивая и очень хорошо и аккуратно одетая. Помнится, она работала в Лэмбери, в гастрономе, и Фред считал себя счастливчиком, что она за него вышла. Да уж, что и говорить, счастливчик!
Ей, похоже, тоже было неловко. Фред ей о нем, конечно, рассказывал. И теперь она не знала, то ли заплакать, то ли улыбнуться.
— А вы, оказывается, уже дома, мистер Моулд? — произнесла она, справившись с собой.
— Только вчера вечером приехал, — смущенно ответил он, не глядя ей в глаза.
Девочка, которую она держала за ручку, сказала что-то, но Эдди не расслышал.
— Она говорит, дядя не военный, — растолковала мать и немножко улыбнулась.
Эдди любил детишек, он подмигнул малышке и объяснил:
— Раньше был военный, но бросил это дело.
И, подняв глаза на мать, успел заметить, что она почему-то смотрит на него с жалостью. Она поняла, что он это заметил. У нее вдруг зарделись щеки. Чтобы прервать неловкое молчание, она пробормотала:
— Рада за вас, что вы дома наконец. А как поживает миссис Моулд?
— Да вот, понимаете, не знаю, — пожал плечами Эдди. — Она не знала, что я должен приехать… ее дома нет… к матери, наверно, поехала…
Добавить к этому было нечего. Девочка увидела подружку, отняла у матери руку и перебежала через улицу. Миссис Розберри сказала, не спуская глаз с детей:
— Фред часто упоминал о вас в письмах. Вы ведь служили вместе?
— А как же. Виделись каждый божий день. И мы… мы все его любили… и от души жалели, когда…
— Да-да, — тихо сказала она. — Мне сержант Стрит прислал очень хорошее письмо.
Эдди ухватился за соломинку:
— Он отличный парень, сержант Стрит, он из Суонсфорда, — знаете большой дом? — но отказался от производства в офицеры, не захотел расставаться с ребятами. Я ради него что угодно сделаю. Мы с ним и еще с Гербертом Кенфордом — у них ферма, слышали про таких? — втроем демобилизовались. Этот Герберт Кенфорд тоже отличный малый. Тихий такой, вроде молчун, но парень что надо. Мы трое вчера вместе приехали. Трое из наших мест.
— Да, — тихо, с горечью, повторила она. — Вы трое.
— Простите меня, миссис Розберри… Я не подумал…
— Ничего, я понимаю. Дора, идем! — позвала она девочку. А потом снова обратилась к нему и сказала, как-то уже не так скованно: — Мистер Моулд, я не хочу вас теперь затруднять, но потом как-нибудь, когда у вас будет время, вы не зайдете рассказать про Фреда, и как вы служили, и как вообще все там было? Один только раз. Мне не довелось еще поговорить ни с кем, кто служил с Фредом, а вы, я знаю, были рядом. Вы бы мне этим очень помогли.
— Да я плохой рассказчик, миссис Розберри. Я человек простой, неученый, вам бы с сержантом Стритом или с Гербертом Кенфордом поговорить, с сержантом лучше всего, но если вы хотите, чтобы я, то я конечно.
— Да, хочу. И… вот еще что, мистер Моулд… если вам понадобится от меня какая-нибудь помощь… мало ли что… пожалуйста, обратитесь ко мне, хорошо?
— Обязательно обращусь, — посулился он, хотя совершенно не представлял себе, чем бы она могла ему помочь и почему бы ему вдруг понадобилась помощь. Но видно было, что она сказала это по-дружески, из добрых чувств. Теперь он был рад, что она ему встретилась, по крайней мере перебила неприятный привкус, который оставил разговор этой старой жабы миссис Могсон. — Я давеча говорил с миссис Могсон.
— Она ужасная женщина! — обеспокоенно отозвалась миссис Розберри. — Надеюсь, что вы…
Она недоговорила. Эдди ждал. Она опять залилась краской.
— Я хотела сказать, вы, надеюсь, не стали слушать, что она говорит?
— Да нет. Она ведь полоумная, разве ж я не знаю? Ну…
Она улыбнулась ему, кивнула, и он пошел дальше. Хорошая она женщина, жена бедняги Фреда. Надо же было жениться на такой, чтобы потом нарваться на «Воющую Минни». А другие избежали пуль и снарядов и невредимые вернулись домой к женам, а у них жены — стервы, каких свет не видывал. Неправильно это. Несправедливо.
Эдди купил газету и прошелся по деревне, немного стесняясь своего нового гражданского костюма. Он встретил кое-кого из старых знакомых и перемолвился с ними словечком-другим. Но много попадалось и таких, кого он не знал или не помнил. Сама деревня совсем не переменилась — ее не бомбили, и теперь заново ничего не отстраивали. Единственные следы войны остались от американских частей — приказы, объявления. Но все равно Эдди ощущал кругом что-то непривычное. Казалось бы, наконец вернулся человек туда, куда стремился всей душой, но не было у него чувства, что он дома. Может быть, потому что нет Нелли? Возвращение домой было для него неразрывно связано с мыслями о Нелли, какой же дом без жены? Он уже начал подумывать о том, чтобы дать знать в Банстер, или, может быть, самому махнуть туда. Могло же статься, что ее мать тяжело заболела.
— Как делишки, Эдди? — спросил его Томми Лофтус, который получил чистую по ранению еще в сорок втором и с тех пор работал водителем автобуса.
— Нормально, Томми. Странно как-то, конечно, поначалу на гражданке.
— А я тебе скажу, почему, Эдди. Вот мы все много говорили про жизнь, какая она будет после войны. Но ничего этого нет. Да-да, можешь мне поверить. Нет здесь этой жизни.
Эдди не совсем его понял. Томми был шутник, поди разбери, что он говорит.
— Здесь нет, а где же она тогда?
— Да где сроду была. В головах у нас, — и Томми невесело рассмеялся.
— Не понимаю.
— А ты сообрази. Я ведь знаю, о чем ты все это время думал, в точности как и я: «Вот только демобилизуюсь, и все будет путем». Верно? Вот то-то. Ну так вот, я демобилизовался.
— Да, — мрачно кивнул Эдди. — А если бы ты побывал там, где я после тебя побывал, ты бы еще добавил: «Слава Богу, что дешево отделался». Вот так.
— Это точно, Эдди, только если я получил чистую по ранению, значит, там, где ты потом побывал, я уже побывать не мог. Это как дважды два. Но я тебя понимаю. А теперь скажу, чтобы и ты меня понял: когда возвращаешься домой, жизнь на гражданке оказывается не такой, как думалось тебе, ясно? Погоди, еще сам убедишься.
— Но со временем привыкаешь?
— Вот то-то и оно что нет! — горячо возразил Томми. — Я лично не привык. А я уже два с половиной года как дома. Знаю, что ты скажешь. Было время военное, не то что теперь. И в этом я с тобой, Эдди, полностью согласен. Янки понаехали, и здешние бабы через одну скурвились…
— Но-но, ты потише, — угрожающе прервал его Эдди.
— А чего потише-то? — заорал в ответ Томми, любитель говорить начистоту. — Ты бы посмотрел, как они себя вели! Я бы сам, расскажи мне кто, нипочем бы не поверил. Но я своими глазами видел, понятно? Только я не об этом. У меня-то в доме никаких таких игр не было, я своевременно успел вернуться. Что я хочу тебе сказать, Эдди, это что все тут оказывается не так, как ожидал. Мы думали, что будет иначе, чем было. Лучше. Иначе-то оно иначе, это так, но насчет того, чтобы лучше, этого я, убей меня, не вижу. И не похоже, чтобы в будущем ожидалось улучшение.
— Ты в большевики, что ли, подался, Томми?
— Я-то? Я тут скоро самих большевиков перебольшевичу. Ладно, ладно, Лиззи! — крикнул он своей нетерпеливой кондукторше. — Иду. — Он указал на нее большим пальцем и понизил голос: — Вон Лиззи, толстомясая крошка, намылилась уезжать в Канаду. Можно подумать, сейчас прямо отъезжает, до того ей не терпится, минуты не может подождать спокойно. Однако мысль правильная. И не в Канаде дело. Ей, как и всем нам, нужны позарез перемены, ну, она за переменами и собралась в путь-дорогу. Тебе тоже скоро захочется перемен, Эдди.
— Ну уж нет. Я переменами сыт по горло. По мне пусть все остается, как есть.
— Подожди еще. Ты пока сам не знаешь, что тебе понадобится. Сам удивишься. Ладно, до скорого, Эдди!
— До скорого, Томми! — Эдди посмотрел вслед автобусу. Незачем принимать так уж всерьез, что говорит Томми Лофтус, хоть он, конечно, парень не дурак. Ему слишком много приходится баранку крутить. Вот он и озлобился. С этими, которые всегда за рулем, обычная вещь. Без конца скорости переключай да на тормоза с ходу жми, все от этого.
Эдди прикинул, что имеет смысл подождать открытия пивных, а пока поболтаться поблизости от «Солнца»; походил, постоял, перекинулся словечком-другим кое с кем из старых знакомых; но на душе было как-то невесело, смутно, не по себе, и, убедившись в конце концов, что ему вовсе и не хочется в пивную, вдруг повернулся и пошел прочь, заторопился к себе домой. Нелли вполне могла уже за это время вернуться. Но ее дома не оказалось. Теперь эта пустота подействовала на Эдди особенно тяжело. Ему почудилась в ней издевка, как в разговоре старой миссис Могсон. Он стал метаться по дому, вверх и вниз по лестнице, шарить в шкафах и комодах, рыться в ящиках, заглядывать во все углы, будто потерял и не может найти что-то, сам не знает что.
На заднем дворе у них стоял сарайчик, он сам его сколотил, когда они только въехали, за год до войны. И в конце концов он добрался и до сарайчика. Огляделся, зажигая спичку за спичкой. В углу — груда пустых бутылок, и явно не из-под пива. Он стал вытаскивать их наружу, на свет. Оказалось больше дюжины. И все из-под виски и джина, иные с заморскими наклейками, американские. Эдди перетаскал бутылки в дом и выставил на стол. В эту минуту кто-то встал в распахнутых дверях.
На этот раз явилась дочка миссис Могсон, та, что работала на почте. Она всегда приходила домой обедать в половине второго. Была она из таких, которые строят из себя невесть что и суют нос в чужие дела; типичная старая дева. И зырк, конечно, на бутылки и на Эдди. Пусть глазеет, если кому охота.
— Я нахожу нужным вам сообщить, мистер Моулд, — произнесла она официальным тоном, — что миссис Моулд уехала не когда-нибудь, а вчера днем. Мама видела, как она уходила.
— Ну, еще бы, — проворчал Эдди. — И что из того?
Мисс Могсон выпучилась на него еще нахальнее.
— После того как была доставлена ваша телеграмма, — пояснила она. — На случай, если вы намеревались подать жалобу.
— Кто говорил о жалобе? — рявкнул Эдди. — Что вы вмешиваетесь не в свое дело?
— Телеграмма — это мое дело. И телеграмма была доставлена своевременно, до отъезда миссис Моулд. Вот и все.
И она торжественно удалилась.
Он схватил первую попавшуюся бутылку, выбежал во двор и шарахнул оземь что было силы, только осколки полетели. Но легче не стало. Тогда он выскочил на улицу, хлопнув за собой парадной дверью, и долго бродил по окрестностям, не думая о еде и питье, расстроенный и обозленный, то растерянный, как бывает во сне, когда знакомые места и лица вдруг изменяются и становятся неузнаваемыми, то охваченный злобой, оттого что весь-весь мир против него. К концу рабочего дня он, сам не заметив как, вышел к карьеру и остановился, почти с волнением глядя на разбитую высокую скальную стену, словно наконец-то встретил единственного друга. Так его и застал мистер Уотсон, управляющий, пожилой задерганный человек.
— A-а, Моулд! Рад вас видеть. Довольны, что наконец вернулись домой?
— Сам не знаю, — пробормотал Эдди. — Голова как в тумане.
Мистер Уотсон посмотрел на него с удивлением.
— Вот как? Впрочем, у нас, можно сказать, у всех голова слегка в тумане. Но вам, надеюсь, известно, Моулд, что со следующей недели вы можете приступить к работе? Дел тут — невпроворот. Добыча важная. И такой крепкий, надежный парень, как вы, будет нам очень кстати. — Он добавил вполголоса: — Здесь у вас большие перспективы, Моулд, смотрите не сбейтесь с пути. Дело вам знакомо, лет вам немного, а из здешних кое-кто уже далеко не первой молодости. Надеюсь, вы меня понимаете?
— Ага, — уныло кивнул Эдди. — В общем и целом.
Мистер Уотсон бросил на него подозрительный взгляд.
— Вы что, с перепою?
— Да нет. — Эдди, в свою очередь, посмотрел на мистера Уотсона. — А вы?
— Но-но-но! — вскинулся мистер Уотсон. — Разве можно так разговаривать?
— Да пожалуй что и нет, — медленно ответил Эдди. — Разве только если по-товарищески. Но раз вы меня спросили, то и я вас спрашиваю.
— Нет-нет, вы забываетесь, Моулд.
Эдди подумал минуту и медленно ответил:
— Нет, я не забываюсь, я себя помню. Но меня, похоже, кое-кто подзабыл. Это я не об вас, мистер Уотсон.
— Надеюсь, — сказал мистер Уотсон. — Я вперед за несколько недель оформил на вас заявку, чтобы вы могли как можно скорее вернуться на свое рабочее место. Чего уж, кажется, больше? Так что прямо с понедельника можете и приступать.
— Ладно, посмотрим.
— Посмотрите? То есть как это вы посмотрите? Чего тут смотреть? Я вас не понимаю, Моулд.
Эдди подавленно развел руками.
— Вы тут ни при чем, мистер Уотсон. Не обращайте внимания. Но только… я ведь тоже человек, верно? И у меня тоже есть чувства. Человек, чтоб вам всем пусто было, а не машина какая-нибудь!
— Не говорите со мной в таком тоне! — всполошился мистер Уотсон. — Здесь вам не армия, знаете ли. Конечно, вам нужно делать скидку… я и делаю скидку… но это уж, Моулд, знаете ли…
— Послушайте, мистер Уотсон, — честно сказал ему Эдди. — Я против вас ничего не имею, вы, пожалуйста, не думайте. И карьер тоже мне по сердцу, нормальная работа. Я же вам сказал, не обращайте внимания, я сам не знаю, на каком я свете. И вообще я целый день ничего не ел, — спохватился он, сразу ощутив голод, — у меня голова кругом идет, ничего не соображаю. Так что я лучше уйду.
В том месте, где шоссе между Лэмбери и Банстером пересекает Кроуфилдская дорога, расположена небольшая забегаловка, где останавливались перекусить главным образом водители грузовиков. Здесь Эдди взял себе чайник чаю и сосисок с жареной картошкой и уселся в дальнем углу, никого и ничего не замечая, — мрачный, мускулистый, в новеньком, с иголочки, коричневом костюме, заметно тесноватом в плечах. То же самое было и в баре «Солнце» — он устроился со своим пивом в темном углу, а народу набивалось все больше и больше, и в толкотне, в гаме и дыму никто на него не смотрел. Но сам он тут кое-что ненароком подслушал. В двух шагах от него две пожилые женщины обменивались впечатлениями, и он наслушался такого, чего бы и не надо было. Перед закрытием он поднялся и стал пробираться к выходу.
— Смотрите-ка, кто здесь оказался! — закричал Джордж Фишер, явно перебравший пива. — Да ведь это старина Эдди Моулд, прославленный правый защитник из «Кроуфилдских скитальцев». Мы снова собираем команду на будущий сезон, Эдди. Ты как? Или старые ноги не держат?
— Что верно, то верно, Джордж, — буркнул Эдди, выдираясь из его рук. — Я уже стар для этого.
— Да ладно врать, Эдди. У тебя отличный вид. Верно, ребята? Нет, вы поглядите, поглядите на старину Эдди!
— Заткнись-ка ты.
Эдди сделал еще одну попытку вырваться.
— Ну как же так, Эдди? Ты же наш храбрый защитник…
— Дерьмо! — вне себя заорал Эдди и так пихнул Джорджа, что тот отлетел на изрядное расстояние и едва не сшиб с ног еще нескольких выпивох.
— Эй, прекратите! — В чем дело? — Кто это начал? — послышались крики. Все лица обратились к Эдди.
Эдди набычил голову и поднял тяжелые кулаки. Его подмывало расправиться разом со всеми.
— Никто ничего не хочет? — грозно спросил он. — А то за мной дело не станет. Ну как?
— Убирайтесь из помещения! — крикнул хозяин.
Эдди ответил ему достаточно невежливо и вышел не торопясь вон. Но в темноте на дороге его охватила такая тоска и ненависть не только к ним, но и к самому себе, что хоть вой. Все не то и не так. И час от часу хуже и хуже.
Дойдя до своего дома, он остановился. Занавески на окнах задернуты, но видно, что горит свет. Значит, Нелли все-таки вернулась. Эдди был не пьян, но и не трезв. Он находился в том промежуточном состоянии, когда человек воспринимает все, что видит и слышит, еще яснее, отчетливее, чем обычно, и словно бы гораздо больше замечает. Эдди стоял перед своим маленьким домиком и с особенной остротой воспринимал все: темные, занавешенные окна, сочащийся из-под занавесок свет, сулящий только зло и обиду, запахи растоптанного огорода, холодное печальное дыханье ночи.
Оказалось, что Нелли не одна. Распахивая дверь, Эдди услышал второй голос, тоже женский. И с удивлением увидел жену Фреда, миссис Розберри, встревоженную и еще более бледную, чем обычно. Нелли сидела заплаканная. Она показалась Эдди Моулду старше, грузнее, грубее, чем он помнил. При виде его она снова принялась плакать.
— Мистер Моулд, — произнесла миссис Розберри таким тоном, будто хотела его о чем-то вежливо попросить, но, не зная, как лучше выразить просьбу, замолчала. А он шагнул через порог и сделал еле заметное движение рукой, как бы указывая на дверь. Она сразу поняла, обратилась было к Нелли, но, видно, передумала, бросила безнадежный взгляд на мужа и жену и без единого слова вышла, затворив дверь.
— Эдди, — сквозь плач выговорила Нелли.
Он стоял, смотрел на нее и ничего не говорил. В доме что-то переменилось, он не сразу сообразил, что. Потом понял: нет бутылок, они их вынесли. Он представил себе, как они шептались, перетаскивая их обратно в сарай. Совсем за идиота его считают, что ли? Ну, он ей покажет.
— Эдди.
Она мельком боязливо взглянула на него, поспешно отвела глаза и стала промокать их платочком. Обыкновенная чужая женщина. Не к ней он спешил из армии.
— Можешь не трудиться врать, — сказал он ей. — Я уже все знаю. Бардак на дому. И ты — одна из этих. Наслушался сегодня в баре, глаза бы мои его больше не видели. Янки. Если которая не шла бесплатно, то по тарифу: фунт — с белым, два — с черным. Да я по бутылкам понял! — Он перешел на крик. — Бутылки мне все рассказали, можно было ничего больше и не слушать! Домой вернулся называется. И маленькая умерла…
— Ее ты не трогай, — сверкнула на него глазами Нелли. — Она тут ни при чем. Пока она жила, я ничего такого не позволяла, а после… я была такая несчастная, не знала, куда податься…
— Очень даже знала, куда! Туда и подалась. Ну вот, а теперь подавайся вон отсюда.
— То есть как это?
Она вытаращилась на него, разинула рот. Да у нее, оказывается, золотые зубы — вот куда небось пошла выручка от нового ремесла!
— А вот так. Не затем я домой вернулся, чтобы подбирать чужие объедки. Катись отсюда!
— Нет, нет! Я не могу! — завыла она в голос.
Он разъярился еще больше.
— Я сказал: убирайся! Да поживее, пока я за тебя не взялся всерьез.
Но и она не испугалась, а тоже разъярилась. И встала перед ним.
— Только попробуй тронь меня, Эдди Моулд!
— Тронь тебя? — подхватил он. Ярость растеклась у него по рукам, пульсировала в пальцах, подкатила к горлу. Он почти задохнулся. Потом его замутило. — Тронул бы я тебя, шею бы свернул к чертовой матери. Так что смотри, чтобы духу твоего не было, когда вернусь. Я тебя предупредил.
Он вышел на задний двор. И здесь его вывернуло наизнанку: все выпитое пиво выплеснулось со дна желудка зловонным потоком. Даже на новый костюм немного попало. Унизительная изнанка жизни, с которой солдат знакомится так близко, как никто другой, опять обволокла его. А он-то думал, что сможет хоть ненадолго расправить плечи. Его передернуло над блевотиной. И, совершенно остыв, Эдди поплелся в дом.
Нелли уже убралась оттуда. К миссис Розберри небось. Эдди запер парадную дверь — от Нелли и от всего остального света. И уселся перед холодным камином в старом кресле-качалке, когда-то принадлежавшем его матери, перебирая в памяти свой разговор с Нелли, потом все, что слышал за день от людей, и свои подозрения, и прежние отпуска, и как жил с Нелли до войны, и как они поженились, и еще дальше, вплоть до тех, совсем, казалось, далеких времен, когда они еще только женихались, и он ездил на автобусе в Лэмбери, где она работала, или ждал на перекрестке, и они гуляли среди полей, тесно прижавшись друг к дружке, а по воскресеньям вечерами, а если тепло, то и заполночь, обнимались в траве на вершине холма, где снизу зияет карьер. Будто бы были две Нелли: одна — та, молоденькая хохотушка, вся дышащая ароматами свежей травы, в карих глазах — искры, на пухлых губах — укоры: «Ишь какой горячий да неуемный, надо все-таки уметь себя вести»; а другая — теперешняя, прежде времени состарившаяся девка, с испитым одутловатым лицом, которая то хнычет, то визгливо бранится, которая водила гостей из «Солнца» и складывала бутылки в сарае. Эта находилась сейчас где-то поблизости, за углом, небось по сию пору изливала свои жалобы; а прежняя Нелли, его невеста и молодая жена, пропала, исчезла за время его отсутствия. Эдди сидел и покачивался в старом кресле, и постепенно ему стало чудиться, что и прежняя Нелли тоже где-то существует, но недоступна для него. И Эдди Моулдов тоже было как будто бы два: один счастливый и беззаботный подле той Нелли, а другой теперешний, что сидит среди ночи иззябший в кресле-качалке, он вернулся домой, и оказалось, все не так, совсем иначе, чем думалось: не как было, по-доброму и по-хорошему, только еще гораздо лучше, а паршиво и безобразно, намеки и ухмылки, и взгляды теток Могсон, и слова Томми: «Тебе тоже захочется перемен, Эдди», и издевательский смех в баре «Солнце», и бутылки, оставшиеся после чужих мужчин в доме, и его собственная блевотина у задней двери…
5
Пятница, вечер, половина седьмого. Алан Стрит и его сестра Диана сидят вдвоем в старой детской. А за окнами совершается все одновременно: и солнце, и дождь, и черная грозовая туча, и синее небо, да еще две-три нежные радуги в придачу, — совсем как на акварельном пейзаже прославленной школы. В комнате же полутемно, привычно и уютно. Разговаривая с братом, Диана всегда забивалась в старое кожаное кресло, вся съеживалась, становилась как можно меньше; Алан, наоборот, вытягивался во весь рост, просторно развалясь на кособокой кушетке. Сейчас он еще курит длинную вонючую трубку, которая к тому же неприятно хлюпает при затягивании. Все — как в прежние годы, и от этого Диане и приятно и больно.
— Что за вещь заводил дядя Родней, когда мы поднимались? Такая жутко длинная, однообразная, тоскливая? Ты слышал?
— Да. Медленная часть Четвертой симфонии Брукнера, — ответил Алан. Он разбирался в музыке. — Нескончаемая. Как почти все у Брукнера.
— Не выношу. А он ее все время ставит и ставит.
— Ты бы попросила, он не будет. Он ведь на самом деле неплохой старикан, Ди, честное слово. Мы с ним несколько раз толковали по душам. Разумеется, все принимает в штыки и строит из себя музейный экспонат — но он безобидный, правда. Я думаю, кстати, что он опасается со дня на день откинуть копыта.
— Я ему этого совершенно не желаю, — бесстрастно заметила Диана. — Уж хотя бы за то, как с ним было весело, когда мы были маленькие. Но я думаю, его опасения безосновательны. По-моему, он проживет еще долгие-долгие годы, становясь все чудаковатее и чудаковатее. — Она помолчала. — Знаешь, Алан, мне бы так хотелось лучше относиться к людям. Не к дяде Роднею и к близким, а вообще к людям. Если бы я относилась к ним лучше, гораздо лучше, чем сейчас, мне самой было бы легче.
Алан это понимал. Но ей явно было полезно выговориться. И он спросил, почему?
— Потому что тогда я могла бы к ним пойти и что-нибудь для них делать. Мне хочется деятельности. Сил нет сидеть здесь безо всякого проку. Маме я, в сущности, не нужна. А есть работы, где я могла бы принести пользу. Но для этого надо любить людей, ради которых стараешься, а я не могу. Пробовала — не получается.
— Это когда же и где ты пробовала? — спросил он нарочно обидным тоном, чтобы задеть и расшевелить ее.
— Ну что за глупости, Алан. Ты думаешь, я так и сидела тут все эти годы сложа руки? Я пробовала взять на себя женщин с детьми, когда поступали эвакуированные. Пробовала работать с мужчинами, помогала в столовой. Бесполезно. Я их не люблю. Стыдно, но ничего не поделаешь. По-моему, они тупы, неопрятны, невежественны. Еще пока у меня был Дерек, так куда ни шло. Я могла с ним отводить душу. Но теперь его нет, и я чувствую, что все бесполезно. У меня просто не хватает на них терпения.
— Не знаю насчет женщин с детьми, — медленно проговорил Алан, — а вот с парнями я знаком хорошо. Жил с ними бок о бок больше пяти лет. И конечно, ты права, они тупы, неопрятны и невежественны. Какими же им еще быть? Их же все время морочат и сбивают с толку. Вот познакомлю тебя как-нибудь со своим приятелем Эдди Моулдом, и если удастся его разговорить, ты поймешь. Но, с другой стороны, у этих парней — и у их жен наверняка тоже — есть свои очень определенные достоинства, свои замечательные положительные черты, которые не сразу и заметишь.
Он с вызовом кивнул в подтверждение своих слов.
— Какие, Алан? Ну, например? Ты только не раздражайся и не сердись на меня. Я из себя никого не строю. А вправду хочу знать.
Он вынул трубку изо рта. Осмотрел ее со всех сторон. И сказал:
— Ну, во-первых, у них под внешней грубостью, которая тебя, наверно, и отталкивает, прячется особая, своеобразная деликатность. Они никогда не скажут и не сделают многое из того, на что вполне способны наши знакомые.
— Если бы ты видел и слышал то, что довелось мне… — начала было она. Но осеклась: — Прости! Я слушаю.
— Один человек, — кажется, американец, — сказал: «Власть — это отрава». Ну так вот, эти ребята не отравлены. По-моему, это страшно важно, Ди. Они не испорчены изнутри. Им не свойственна беспощадность и… как бы это назвать?.. беспардонность. А ведь такие люди, как наша мать, тем более настоящие хапуги, не способны считаться с другими. Ты можешь, конечно, возразить, что этим просто негде было развернуться, так оно и есть, но факт тот, что среди них почти никто не стремится заграбастать себе больше, чем ему причитается «по честности». Это представление — «по честности» — заложено в самой их природе. И всякого в армии, кто разделяет его с ними, они признают за своего, даже если он строг и не знает снисхождения. Речь не о справедливости — справедливость абстрактна, это понятие образованной публики, а им надо, чтобы все было «по честности». Немцы это уразуметь оказались не в силах. Потому-то и наши парни не могли взять в толк, что за люди такие эта немчура, — считают, что у тех просто мозги набекрень.
— Бог с ними, с немцами, — сказала Диана. — Не хочу о них больше слышать. Конечно, тебе они видятся иначе. Я говорю про этих людей. Вы там были вместе, вместе воевали, естественно, что ты их понимаешь. Но на мой взгляд, они все такие тупицы — во что только не верят! Что только не говорят! И потом… они совершенно не стараются…
— Так у них же пока что не было возможностей, Ди, — мягко возразил Алан. — Им негде развернуться, надо зарабатывать на жизнь, как-то крутиться…
— Глупости! — неожиданно горячо прервала его Диана. — Наслышалась я таких разговоров и больше не верю ни единому слову. Крутиться, искать выход из положения приходится не им, а людям нашего класса, при наших очень ограниченных денежных средствах. А эти, о ком говоришь ты, не заглядывают и на неделю вперед, как только у них заводятся деньги, они обо всем забывают, и начинается — вино, футбольные пари, собачьи бега, любое барахло, что ни приглянется. Эвакуированные женщины, которых мы здесь принимали, были многие совершенные распустехи.
Алан улыбнулся.
— Не вижу тут ничего смешного, — рассердилась она. — И их мужьям тоже будет не до смеха. Если, конечно, они и сами не такие же, как жены.
— Такие же, наверно, — согласился Алан. — Человек научается заглядывать вперед, когда у него есть собственность, свое имущество. И тогда часто бывает, что он строит планы на будущее, а не живет настоящим. Все религии против этого. Ты же христианка, Ди, больше, чем я…
— По-моему, религия здесь ни при чем.
— Я просто хочу сказать, что именно эти люди, добродушные, терпеливые, отходчивые, скромные и не развращенные властью, и есть, по-моему, христиане. В них даже слишком много христианского, на мой взгляд. Они чересчур со многим мирятся. Чересчур редко приходят в негодование. Поворчат — и смирятся.
— Потому что не знают ничего другого, лучшего. И не хотят знать. Женщины обсуждают кинозвезд, мужчины — футбол. Наслушалась я их. Эвакуированные женщины даже не интересовались войной, хотя их мужчины были на фронте. Последних известий по радио и то особенно не слушали…
— Знаю, — сказал Алан. — Но нужно понять их точку зрения, поставить себя на их место. Эти женщины, о которых ты рассказываешь, они, наверно, считают, что известия по радио предназначены не для них. И голос диктора звучит не по-ихнему. И манера речи — чужая. Без соответствующих комментариев получается просто перечисление незнакомых географических названий и каких-то непонятных военных операций. Как если бы ты вдруг попала на университетскую лекцию по физике. А вот мужчины, с которыми я служил, войной очень даже интересовались. Притворялись, будто только о том и думают, как бы поскорее освободиться из армии, придумывали — на словах — разные хитрые способы выбить себе «чистую», как они выражаются, но это все пустая болтовня. Важно не что они говорили, а как себя вели. И потом вот еще что. Они почти никогда не разговаривают по душам, вот как мы…
Недокончив фразы, Алан вскочил с кушетки.
— Только что мимо окна прошел старик Толгарт. Прибыл с визитом.
— Не может быть! — Диана тоже спрыгнула с кресла. — Он сейчас нигде не бывает. Что ему могло понадобиться здесь?
— Но я отчетливо видел. Слушай! Так и есть.
— Я ушла. А ты его прими, Алан. Больше к нему никто не выйдет. Он слегка тронулся умом — и к тому же от него пахнет. — Она побежала к двери на заднюю лестницу. — Отделайся от него как-нибудь! — бросила она через плечо брату и скрылась.
Мистер Толгарт служил приходским священником в Суонсфорде, сколько Алан себя помнил. Это был человек очень высокого роста с вечно раскачивающейся головой на длинной-длинной шее. Он всегда выглядел немного странно, но теперь, постаревший, беспризорный и чудаковатый, приобрел вид просто фантастический. Небритые ввалившиеся щеки в обрамлении длинных седых косм; изодранная, засаленная одежда; безумный неподвижный взор. Как-то мальчиком Алан получил в подарок кукольный театр с набором персонажей, среди которых был один таинственный отшельник, герой готических сюжетов, и он теперь припомнился ему при взгляде на мистера Толгарта. Только голос у старого священника остался прежний — приятный, интеллигентный, четкий и в то же время вкрадчивый. Сейчас он этим своим голосом высказывал вежливое, но решительное нежелание покинуть прихожую.
— Вы, я полагаю, помните меня, сэр? — обратился к нему Алан. До этой минуты старик, казалось, его не узнавал.
— Как же, как же. Младший сын леди Стрит. Вы были за границей?
— Да. С нашей армией.
Голова мистера Толгарта закивала, заходила туда-сюда. Неожиданно старик произнес:
— И вы там, естественно, потерпели поражение?
— Д-да, на первых порах. Но потом — нет. Естественно.
Как бы сейчас не пришлось излагать ему ход войны на последнем этапе, с опаской подумал Алан. Но мистер Толгарт сказал, поджав губы:
— Вы потерпите поражение здесь. Как я.
Время и одиночество действительно нанесли ему поражение, но он явно имел в виду не это. Алан не знал, что ему возразить.
— Если вы обратили внимание, — мягко продолжал мистер Толгарт, — четвертое царство в первом видении Данииловом носит отчетливое сходство с четвертой печатью в Иоанновом Откровении.
— Это — где конь бледный?
— Да, конь бледный, и на нем всадник, имя которому смерть, — процитировал мистер Толгарт без особого выражения, — и ад следовал за ним, и дана ему власть над четвертою частью земли — умерщвлять мечом и голодом, и мором…
Старик словно погрузился в непресекающийся поток грез. Алан переждал немного и, чтобы нарушить молчание, вежливо спросил:
— Если я правильно понял вашу мысль, сэр, вы хотите сказать, что это самое четвертое царство и четвертая печать представляют наше время?
Мистер Толгарт широко распахнул глаза. Алан теперь только заметил, что они у него не серые и не желтовато-карие, а как бы смесь того и другого цвета. Что происходило сейчас позади этих странных зрачков?
— Несомненно, — ответил мистер Толгарт.
— И ничего нельзя поделать?
— Мой дорогой юноша, — с легким раздражением произнес старый священник, — от вас, конечно, не приходится ожидать веры в истинность библейских пророчеств. Какое там. И вам, конечно, виднее. Еще бы! Но я много и серьезно размышлял на эти темы. Давайте на минуту оставим в стороне Библию, так будет проще для вас. — Он поднял длинный и грязный указательный палец со сломанным, обкусанным ногтем. — Мы теперь приступили к уничтожению друг друга, это неизбежно, так как не существует больше ничего, что бы нас связывало.
Алан пробормотал что-то про «общие интересы».
— Эти ваши общие интересы не стоят ломаного гроша, — сердито откликнулся мистер Толгарт, тыкая пальцем Алану в галстук. — Люди сейчас помнят о том, что их разъединяет, а не о том, что связывает. Одна группировка оказывается на дороге у другой, более многочисленной и сильной. И слабейшая уничтожается. Но внутри восторжествовавшей группировки происходит раскол, возникают новые противоречия, столкновения, и снова одни уничтожают других. И так вплоть до отдельно взятых индивидуумов…
— Но ничего такого не происходит! — возразил Алан.
— Пока еще нет. Но так будет. Распад неизбежно продолжится. Мы рвем связи, чтобы в конечном итоге уничтожить самих себя. Разобщение людей началось с отъединения от Бога, и это есть начало Ада. Сейчас мы, разумеется, в Аду, — заключил он тоном, не допускающим возражений.
Алан не нашелся, как это можно мало-мальски убедительно, и притом вежливо, оспорить, и потому не сказал ничего. Несколько мгновений оба молчали. Мистер Толгарт смотрел по сторонам.
— Этот дом содержится не в таком безупречном порядке, как прежде, — хмурясь, заметил он. — И моя резиденция, надо сказать, тоже. Там у меня вообще полное запустение и мерзость. Здесь еще не мерзость, но уже не то, что было. В деревне все дома запущены.
— Война виновата, — сказал Алан.
— Несомненно. Война в широком смысле слова, со всем, что она с собой несет: праздностью, безответственностью, пьянством, прелюбодеянием. Неизбежные следствия, ничего не поделаешь. С таким же успехом можно проповедовать против солнечного восхода или осуждать буйство юго-западного ветра. Вы не знакомы с епископом?
Алан с епископом знаком не был.
— Суетливый политикан, — ворчливо сказал мистер Толгарт. — Шлет мне всякие буклеты и прочий мусор, будто мы с ним работники социального обеспечения. Разве это священник? Ему бы заведовать каким-нибудь богоугодным заведением — детским домом, приютом для старушек, убежищем для оступившихся гувернанток. Мы с ним оба в Аду, а он этого даже не подозревает. Но я вас задерживаю.
— Нет, нет. Я просто не знаю, может быть, вы хотели видеть маму? Или дядю Роднея?
— Вашего дядю Роднея, разумеется, нет, — решительно, но вполне любезно ответил мистер Толгарт. — Он всегда был человек довольно вздорный, если мне будет позволено так выразиться, а в последнее время стал совершеннейшим скоморохом. Вздумал донять меня какими-то несусветными музыкальными разговорами. А вашу матушку я, разумеется, всегда рад видеть.
Он выжидательно посмотрел на Алана.
— Я подумал, может быть, вы зашли к ней по какому-то делу?
Мистер Толгарт задумался.
— К вам у меня дела быть не могло, поскольку хоть я и рад встрече, но о вашем возвращении осведомлен не был. Да, я вашу мысль понял. Очевидно, я имел намерение повидаться с вашей матушкой. Но вот по какому поводу? Ах да, насчет утренней службы. А вот и она сама.
Леди Стрит была в вечернем туалете, и тут Алан вспомнил, что сегодня он с матерью, Энн и Джералдом приглашен на ужин к лорду Дарралду.
— Здравствуйте, здравствуйте, мистер Толгарт. Вот так сюрприз! — воскликнула она. И сразу же обратилась к Алану: — Алан, милый, беги, пожалуйста, наверх и переоденься. Ты разве забыл, что мы едем в гости?
— Я помню. Но переодеваться не буду.
— Вечерний костюм не обязателен. Но нельзя же тебе ехать в этом ужасном пиджаке.
— Можно, мама. Более того, я именно в нем и поеду.
— Милый, не дури. Он же плохо сидит, и покрой никуда не годный. У тебя где-то тут еще остались приличные вещи. Ступай поищи, а я пока поговорю с мистером Толгартом.
Но он искать не стал. Он провел несколько минут в ванной, а потом, чтобы убить время, заглянул к дяде Роднею. Тот кончил прослушивать Брукнера и теперь, лежа на кушетке, читал «Бейсбольные новости».
— Кто этот лорд Дарралд, у которого вы сегодня ужинаете? — спросил дядя Родней.
— Он купил Харнворт…
— Ну и глупец. Я бы этот дурацкий здоровенный сарай и задаром не взял. Что еще он купил?
— Он хозяин «Ежедневного листка», «Санди сан» и еще нескольких изданий…
— Не читаю. Индустрия и все такое?
— Да. Индустрия и все такое. Мама говорит, он чудовищно богат и влиятелен и, разумеется, довольно вульгарен. Я думаю, она везет меня к нему в надежде на то, что я понравлюсь его сиятельству и он предложит мне работу.
— В этом костюмчике страхового агента ты ему не понравишься, — сказал дядя Родней.
— Не понравлюсь, значит, не понравлюсь. К тому же я сомневаюсь, что он мне понравится.
— Верно. Вообще я думаю, что единственный способ получить работу у этой публики, — наплевать, как они к тебе относятся. Тогда они могут заинтересоваться и пригласить тебя. Но только прошу тебя, мой милый, не иди ты в эти борзописцы, которые разъезжают по званым обедам и ужинам, а потом печатают сплетни в газетах.
Алан рассмеялся.
— Это все дела прошлые.
— Не скажи, мой друг. Ты просто отстал от жизни. Я только вчера получил письмо от Джонни Делмейна, он пишет, что его младший сынок заключил контракт на поставку сплетен в газету — тысяча пятьсот фунтов в год, да еще сколько влезет на расходы. А ты говоришь.
— Господи! Неужели мы снова беремся за прежнее? — изумился Алан. — Надо будет выяснить. Кстати сказать, там пришел мистер Толгарт. Мы с ним побеседовали.
— С ним беседовать невозможно. Совсем из ума выжил. Четвертая печать, а? И прочая чушь?
— Он говорит, что мы — в Аду. Прямо здесь и сейчас. И я должен признать, что в последнее время бывали минуты, когда я готов был бы с этим согласиться. По его словам, мы идем к уничтожению друг друга.
— Полная чепуха! Наоборот, начнем небось сейчас размножаться, как кролики, помяни мое слово. А вот что мы уничтожим, — вернее, уже, можно сказать, уничтожили, — так это тот образ жизни, каким только и стоит жить. Останутся заводы, сгущенное молоко, эстрадные певцы. Вы сможете передвигаться со скоростью четырехсот миль в час в любом направлении, да только что проку? Куда ни подайся, всюду одинаковая дурь и тощища, что на одном конце, что на другом. Русские и американцы на пару будут всюду распоряжаться. Не по вкусу тебе русская ежегодная конференция работников цементной промышленности — можешь попробовать лос-анджелесский конкурс трясунов с притопом или соревнование на самые красивые лодыжки среди галантерейщиц Нью-Йорка.
— Вы бы, конечно, выбрали соревнование лодыжек, дядя Родней, — с ухмылкой сказал Алан.
— И выбрал бы, — подтвердил старый джентльмен, — если бы красивая лодыжка была знаком своеобразия личности, женской прелести, огня, изюминки. Но когда все будет сведено к одному среднему уровню безвкусной, скучной серятины, чего уж тут…
— Послушайте, дядя, — уже почти всерьез заспорил Алан, — вы что же, считаете меня скучным? По-вашему, я менее яркая и своеобразная личность, чем были вы в моем возрасте?
— Несомненно, — ответил дядя Родней. — Ты не знал меня, когда я был в твоем возрасте, так что вопрос твой извинителен. Ты славный юноша, конечно, храбрый, как лев, неглупый, и так далее. Но никто из моих ровесников не назовет тебя личностью яркой, темпераментной и оригинальной. Ни в коей мере. Скажут, как говорю и я, что ты человек приличный, положительный, но… скучный.
— Ах, вот, оказывается, как? — возмутился Алан. — Послушайте, вы же ничего обо мне не знаете! Вы понятия не имеете о моей жизни. Оттого что я прихожу сюда и вежливо слушаю…
— …мои глупости…
— Да, ваши глупости. Это ведь действительно глупости, имейте в виду, я бы мог камня на камне от них не оставить.
— Однако ты этого не сделал, — ровным голосом возразил дядя Родней. — Что само по себе не случайно. Нет, нет, сейчас уже не время. Тебе так или иначе некогда, ты же едешь ужинать в Харнворт. Ну, беги. И не забудь завтра рассказать мне, что за тип этот Дарралд.
Ни один энергичный молодой человек не обрадуется, если его обзовут приличным, положительным, но скучным. Алан спустился вниз, весь кипя от негодования. Конечно, дядя Родней — невыносимый старый позер, чье мнение ничего не значит, но Алан чувствовал себя глубоко задетым. Скучный, видите ли!
— Ты не сказал бы, что я — человек скучный? — спросил он брата, как только они выехали за ворота. Джералд вел машину, а Алан сидел с ним рядом впереди.
— Нет, старичок, не сказал бы, — ответил Джералд. — Ты, конечно, парень со странностями, всегда такой был. Например, отказался от производства. Или вот, носишь этот дурацкий готовый костюм. И сейчас ведь в нем, угадал? Или эти твои бесконечные писания.
— Писания все оказались пустым номером.
— Ясное дело. Я и тогда тебя предупреждал. Но разве тебя отговоришь. И теперь опять вполне можешь приняться еще за какую-нибудь глупость — за живопись, например. В таком духе.
— Приличный, положительный и скучный — это я, Джерри.
— В жизни не слышал ничего глупее, — усмехнулся Джералд. — Совсем не похоже. Во-первых, разве ты приличный? И положиться на тебя нельзя, это во-вторых. А в-третьих, повторяю, с тобой не соскучишься. Наверно, речь шла не о тебе, а обо мне. Я человек вполне приличный и положительный и бываю по временам чертовски скучным. Сам себя мог бы насмерть уморить, только вот я не из скучливых. Кстати сказать, мама хочет, чтобы ты произвел хорошее впечатление.
— На Дарралда?
— Вот именно, старичок. А я так надеюсь, с Божией помощью, произвести опустошение на его столе. Говорят, в этом доме угощают щедро, чего про нас в Суонсфорде нынче, к сожалению, не скажешь.
— О чем это ты, Джералд? — вытянула шею его жена на заднем сиденье.
— Выражаю надежду, что Дарралд нас знатно накормит.
— Ты говорил что-то другое.
— Но подразумевал это. Кто-то обозвал Алана скучным человеком.
— Это совершенная неправда! — всполошилась леди Стрит. — Ты вовсе не скучный, дорогой. Я слышала, что лорд Дарралд любит забавные разговоры, но на твоем месте я бы сегодня проявила осторожность. Сначала нужно его получше узнать.
— Я, может быть, не захочу узнавать его лучше! — крикнул Алан сквозь гудение мотора. — И у меня сегодня нет настроения проявлять осторожность.
— К чему такие разговоры, дружище? — негромко одернул его Джералд. — Одни только нервы, и никакого проку. Эй, смотрите-ка, это автомобиль старика Саутхема. Не иначе как тоже катит в Харнворт. У него кто-нибудь сидит? Ах, он везет с собой Бетти? Ну, брат, держись.
— Бетти меня не беспокоит, — ответил Алан.
— Не знаю, не знаю. Меня бы ей ничего не стоило побеспокоить. Сейчас проскочу перед их машиной. Так будет безопаснее для всех. Ну, вот. Теперь даешь Харнворт и добрый стаканчик спиртного перед ужином!
Стаканчики спиртного, в том числе и отличного розового коктейля «Бакарди», дожидались их в библиотеке — красивой длинной комнате XVIII века, где стояла благородная мебель красного дерева и по стенам тянулись ряды несчетных кожаных книжных корешков. Стриты приехали раньше самого лорда Дарралда и его гостей, которых он должен был привезти с собой из Лондона. И это дало Алану время перекинуться несколькими фразами с Бетти Саутхем, объявленной как миссис Иллинстер.
— Алан, я ведь тебя сначала не узнала! — сказала она, улыбаясь своей загадочно-бессмысленной улыбкой. — Представляешь, мне показалось, что это кто-то из унылых секретарей лорда Дарралда. Почему мне примерещилось, будто ты унылый? Даже странно. Ты никогда не был унылым, дорогой, и никогда не будешь. Но в твоей наружности кое-что переменилось. Не пойму, что.
— Армейская стрижка. Этот костюм. Новые настроения, может быть. Еще коктейль?
— Да, пожалуйста. А что ты скажешь насчет меня? Как ты меня находишь?
— Ты такая же, как была. Красивая. Особенная. Чуть-чуть потусторонняя…
— Моя беда, что я слишком потусторонняя. Но ты говоришь мне все то же, что говорил раньше, верно? С кем это ты меня обычно сравнивал?
— С Ундиной. Я был тогда совсем еще молод, не стоит вспоминать. — Алан разглядывал ее. — Но я понимаю сейчас, почему я так говорил. У тебя своеобразное лицо, Бетти, и глаза особенные, широко расставленные, с раскосинкой, и этот широкий, изгибающийся злой рот… И бледность, создающая впечатление маски. И эта удивительно длинная шея, очень красивая шея, Бетти. Да, ты все та же — юная ведьма, русалка, наяда, бело-золотистая фея, дочь Короля Троллей…
— Алан, я только сейчас поняла. Мне тебя очень недоставало. Со мной теперь никто так больше не говорит.
— И не должен никто, раз ты теперь миссис Иллинстер. Кроме мистера Иллинстера, понятное дело. Что он за человек, Бетти?
— Крупный, богатый и военный. Военно-морской. Капитан третьего ранга, не как-нибудь.
— И где же он теперь капитанствует?
— На каком-то эсминце в Тихом океане. А ты ведь только что из армии, верно? Женат или как?
— Никак.
Она подняла стакан и быстро подмигнула. На сказочное существо Бетти походила, только когда принимала изящную непринужденную позу, да и то на отдалении.
— Слава Богу. Я думала, какая-нибудь курица, вроде твоей невестки Энн, успела тебя подцепить. Энн меня терпеть не может, хотя по мне, так пусть она владеет на здоровье своим беднягой Джералдом. Сколько я таких дюжих молодцов вроде Джералда перевидала в Портсмуте, пили у меня розовый джин. Боб их всех знает. Ладно, наплевать. Слушай, по-моему, будет очень даже интересно.
— Ты что? На сегодняшнем ужине?
— Да нет, конечно. Тут-то скорей всего предстоит одна скучища. Жаль, нельзя нам с тобой улизнуть и напиться в каком-нибудь кабаке. Ты бы рассказал мне все обо мне. Это у тебя лучше всего получается под градусом. Вот чего мне в жизни недостает, Алан, — я теперь понимаю — после всех этих дюжих молодцов.
— А может, я тоже стал теперь дюжим молодцом.
— Не говори глупостей, милый. Давай скорее пропустим еще по одной, пока не начались взаимные представления и вся эта светская трепотня.
Они едва успели пропустить по третьему большому стакану крепкого коктейля. Приехал лорд Дарралд с остальными гостями. Он оказался вовсе не таким, каким заранее представил себе Алан. Не грубый, жирный бандит с багровым затылком, а небольшого роста, узкогрудый, какой-то выбеленный и засушенный, больше всего похожий на важную духовную особу в гражданском облачении. Лорд Дарралд обошел всех присутствующих, каждому, без пропуска, пожал руку, предварительно пристально заглянув в лицо, словно делал смотр почетному караулу, после чего каждому улыбался неспешной улыбкой. Лучшее в нем была как раз улыбка. А худшее, решил Алан, — это голос и манера речи. Он говорил отрывисто, малословно, с каким-то нарочитым, искусственным американским акцентом, словно англичанин-актер средней руки изображает чикагского газетного магната.
Хозяин привез с собой из Лондона четверых гостей и личного секретаря, немолодого озабоченного мужчину по фамилии Ньюби. Среди приехавших была некая миссис Пентерленд, как можно понять, известная светская красавица. Она действительно была красива на свой лад, — крупная блондинка в замысловатом оформлении, больше похожая на достопримечательное историческое здание, чем на человека, — доступ для посетителей в будни с десяти утра до темноты и с полтретьего до темноты по воскресеньям, входная плата — шесть пенсов, и еще шесть пенсов — за сувенирный буклетик. Она почти ничего не говорила, но постоянно расточала на все стороны ничего не выражающие улыбки. Вторая дама была совсем в другом роде: костлявая, черная и мужеподобная. Эта разговаривала, ни на минуту не закрывая рта. Звали ее Билли Арран; ни Алан, ни Бетти никогда про нее не слышали, хотя, по-видимому, о ней полагалось знать все в подробностях. Такая женщина бывает всюду и знакома со всеми. Мужчины тоже представляли собой контраст. Один, сэр Томас Стэнфорд-Риверс, был политик-консерватор, весь розовый, самоуверенный и слащавый, как мятный ликер. Когда-то, на заре своей успешной политической карьеры, он, вероятно, пришел к выводу, что ему следует иметь лукавый взгляд, и с тех пор беспрестанно щурился и подмигивал. Второй гость не подмигивал, а таращил глаза и дергался. Его звали Дон Маркинч, он работал у Дарралда главным редактором, эдакий американский газетчик высокого напряжения, весь на нервах и сигаретах, роняющий пепел себе в тарелку и глотающий вперемежку таблетки бензедрина и барбитуратов. Таким он, во всяком случае, показался Алану, трудно было даже представить себе, как он переживет здесь субботу и воскресенье без единой войны, революции или новой рекламы.
Алан чувствовал себя немного пьяным. Три очень крепких коктейля на пустой желудок, встреча с Бетти и торжественная обстановка званого вечера, — все вместе вызывало у него легкое головокружение. Состояние было такое, когда кажется, с минуты на минуту жизнь может либо засиять ослепительными возможностями, либо погрузиться в непереносимый мрак. Почему-то приобрели таинственную многозначительность посмеивающиеся со стен столовой портреты XVIII века. Ньюби, вездесущий секретарь, ловко рассадил гостей вокруг стола, и Алан очутился между Бетти (что не было случайностью) и этим гальванизированным скелетом с Флит-стрит Маркинчем. Подавал убеленный сединой дворецкий, словно специально загримированный для такого торжественного случая, и три широколицые горничные-иностранки. Такого ужина Алан не ел уже давно. Запивал он кларетом. Бетти пила шампанское. А ужин Маркинча состоял из столовой воды, таблеток и сигарет.
— Как ты себя чувствуешь, милый? — осведомилась Бетти.
— Чуточку странновато, — ответил Алан, — тут замешаны вон те два портрета, но каким образом, я еще не разобрался.
— Не обращай внимания, — сказала она. — Лучше расскажи мне обо мне. Это тебе удается лучше всего, а мне необходимо как воздух.
— Не сейчас и не здесь. Тебе не кажется, что моя мать старается заинтересовать Дарралда моей особой? Я заметил, как он только что на меня взглянул.
— Конечно, старается.
— И напрасно. Я против.
— Ну и дурак. Смотри, как миссис Пентерленд бессмысленно улыбается. Дело в том, что она на самом деле близорука и ничего не видит, а очки носить не желает.
— И правильно. Это все равно что нацепить очки на здание Национальной галереи.
Бетти хихикнула. Но тут к ней обратился сидящий от нее по другую руку сэр Томас Стэнфорд-Риверс. И Алан остался без собеседников, потому что Маркинч в это время перебрасывался через стол громкими репликами с Билли Арран. Это был разговор двух посвященных. Уменьшительные имена и прозвища всех видных политических деятелей. Лондон, Вашингтон, Москва, Чунцин, Нью-Йорк, Париж, Рим — век воздухоплаванья, планетарный подход. Эти двое досконально знали все закулисные тайны. Рядом с ними Алан вновь почувствовал себя одним из многомиллионной толпы безответных простаков, не ведающих, что сулит им завтрашний день. Алан посмотрел через стол на Джералда — тот явно получал удовольствие от пищи, и вин, и от блестящего общества и выглядел еще массивнее и еще простодушнее, чем обычно. Добрый старый Джералд! Но кто они такие, эти Арран и Маркинч, чтобы все знать? Почему они, а не Герберт Кенфорд и Эдди Моулд и та девушка с авиазавода, которая тогда в Лэмбери так набросилась на Герберта? Почему не он, Алан Стрит? Разве их это все не касается?
Маркинч повернулся к нему.
— Простите, не расслышал вашей фамилии.
Голос у него звучал хрипло, устало.
— Стрит. С лордом Дарралдом сейчас разговаривает моя мать. А вон там сидит мой брат. Мы живем здесь поблизости. В Суонсфорде.
— Старая местная знать?
— Мне не вполне ясно, что это значит, но, пожалуй, можно назвать и так.
— Я родился в Ливерпуле, — сказал Маркинч, — вблизи Шотландской дороги. Трущобы — дай Боже. В тринадцать лет бросил школу. А эти зануды лейбористы говорят, будто у нас в стране невозможно добиться успеха тому, кто не из верхнего ящика. Посмотрите на меня. Самый нижний ящик.
— Да? — сказал Алан.
— Плетут сами не знают что. Любой человек, независимо от происхождения, у нас в стране может выбраться наверх, если только захочет.
— И если будет готов заплатить соответствующую цену, — добавил Алан, ему не понравилось, что этот тип вздумал его наставлять.
— Какую еще цену? — насторожился Маркинч.
— Ну, что стоят места наверху. Откуда мне знать, какую? Я не наверху. И даже не на подъеме.
— Чем занимаетесь?
— Только что из армии. Так что пока ничем — валяюсь по утрам допоздна в постели.
Из-за плеча у Маркинча выглянула Энн:
— Он отказался от производства в офицеры. И прослужил всю войну сержантом в пехоте, сражался в Северной Африке, Сицилии, Нормандии — всюду. И был…
— Хорошо, хорошо, Энн, — мягко, но решительно оборвал ее Алан. — Это никому не интересно.
— А вот тут вы не правы, — возразил Маркинч. — Мне интересно. Почему, объясню потом. — Он вынужден был отвлечься, потому что Билли Арран с той стороны стола пронзительным голосом потребовала у него подтверждения каких-то своих слов. И снова завязался через стол разговор двух посвященных. «Надо бы тебе слышать премьера, когда Лежебока соединил его с Вашингтоном!» В таком духе.
От портвейна Алан отказался, но выпил коньяку. Бетти тоже взяла себе коньяк.
— Ну, как пошло, Алан? — вполголоса спросила она.
Он наклонился к ней.
— По-моему, коньяк плохо на меня действует, — так же вполголоса ответил он ей. — Раньше я пил и веселел, ты, должно быть, помнишь, но теперь чувствую, что во мне рождается подозрительность и агрессивность.
— Очень жаль, — перешла она совсем на шепот, украдкой протянула руку и ущипнула его за мизинец. — Когда мы поговорим обо мне?
— Что это ты вдруг? В прежние времена тебе быстро надоедало, когда я принимался разглагольствовать.
— Только если это было не обо мне. И потом, я переменилась. Стала старше. К тому же я много лет общалась с одними дюжими молодцами, которые двух слов связать не умеют. А женщине нужно, чтобы с ней разговаривали, чтоб ее уговаривали. — Она повернула свою прелестную длинную шею и вопросительно посмотрела на Алана. — Только не убеждай меня, что армия тебя испортила и тоже превратила в человека, который не тратит лишних слов, а немедленно приступает к делу. Не убеждай меня в этом, милый!
— Хорошо, не буду. Твой отец смотрит на тебя свирепыми глазами, наверно, думает, что ты пьяна.
Она с ослепительной улыбкой взглянула через стол. А Алану шепнула украдкой:
— Нет, он этого не думает. Беда в том, что он сам сильно накачался. Понимаешь, он так и не оправился после гибели Мориса. А ему, бедняжке, нельзя много пить, у него ужасно высокое давление. От этого он чуть выпьет и начинает всех и вся поносить. Заводится от любой мелочи. Вот, например, мы катались верхом — кажется, вчера, — и он остановился потолковать с одним из младших Кенфордов — неинтересный такой парень, лицо унылое, вытянутое, нос длинный…
— Герберт Кенфорд! — воскликнул Алан с тем восхищением, какое охватывает человека, когда у него на глазах пересекаются два разных мира. — Вместе служили. Мой лучший друг.
— Значит, ты тоже скоро станешь таким же занудой, как твой друг! Надо будет что-то срочно предпринять против этого, милый. Так вот, представь, этот Кенфорд вздумал высказывать собственное мнение, — кажется, что-то такое из области политики, — и папочка сразу пришел в неописуемую ярость. Меня смех разобрал. Но потом уж было не до смеха, на весь день хватило. Он, бедненький, не виноват, просто жизнь такая. Настоящий ад, ведь верно? Скажи «да», Алан.
— Ну, хорошо, да. Гляди, дамы уходят.
— Вот черт, какая скука! Вы уж, мальчики, особенно не засиживайтесь.
Алан смотрел, как она вслед за другими женщинами грациозно выплывает из комнаты, и сердце у него странно сжималось. Он нисколько не был в нее влюблен, это все осталось в далеком прошлом. Но сейчас она была для него видением любви, изящным и нежным образом. Оставшиеся за столом мужчины выглядели безжизненными, как деревянные истуканы. По приглашающему жесту хозяина Алан хмуро пересел поближе, не отказался от еще одной рюмки коньяка, но отклонил сигару, и так как курить хотелось, разжег вместо этого трубку.
Лорд Дарралд направил на него, как и давеча, сначала пристальный взгляд, а затем неспешную улыбку. Верно, считает меня молодым нахалом, подумал Алан. Ему было безразлично мнение лорда Дарралда. С тоской душевной он опять приготовился к разговорам «посвященных», «сугубо не для передачи», пересыпаемым сентиментальными прозвищами великих мира сего и «глобальными» секретами; приготовился выслушивать новости, которые появятся в завтрашних газетах и будущих воскресных передовицах. Сэр Томас Стэнфорд-Риверс, держа стакан в руке, отошел в сторонку для отдельного разговора с полковником Саутхемом и Джералдом. Ньюби куда-то исчез, может быть, побежал тактично шепнуть кое-что дамам (Алан наглядно представил себе его в этой роли). Дон Маркинч дергался и кашлял по другую руку от Алана. Так что он оказался зажат между великим человеком и одним из его главных подручных. Деваться было некуда.
— Слушайте-ка, Дон, — отрывисто проговорил лорд Дарралд, — этот молодой человек, он только что из армии, и даже не офицер. Ваше мнение?
— Я как раз собирался вам сказать, босс, — отозвался Маркинч. — Думаю, надо с ним потолковать. Новый угол зрения.
Дарралд кивнул и, посасывая сигару, опять окинул Алана быстрым взглядом. Затем последовала неспешная улыбка.
— Ну как, Стрит? Согласны нас просветить? У человека с вашим армейским опытом немало найдется что нам сообщить. И публике тоже, если ей это подойдет. Верно, Дон?
— У меня была та же самая мысль, — ответил Маркинч. — Послушайте, мистер Стрит, нас интересует, что они думают, о чем говорят, что хотят, все эти парни, которые сейчас возвращаются с войны.
Дарралд кивнул в подтверждение и улыбнулся еще раз.
— Давайте, не робейте, молодой человек. Мы вас слушаем. Лучшей публики не сыскать.
Алан колебался. Они думали, что он робеет. В некотором смысле так и было, но не в том, как понимали они. Просто в данную минуту, с данными людьми ему не хотелось разговаривать на эту тему. У них другие взгляды, другие пристрастия. Его подмывало ответить им коротко и грубо. Но он гость и должен соблюдать вежливость.
— Видите ли, это не так-то просто, — медленно начал он. — Большинство, если с ними поговорить, могут показаться равнодушными, даже циничными. Вроде им на все вообще наплевать, рады что домой вернулись, отделались от службы. И ничего им не надо, кроме спокойного житья на гражданке и жены с ребятишками или там невесты, — только и всего. Так они вам скажут. Но понимаете, они вообще редко говорят то, что думают и чувствуют. В большинстве, я не говорю — все.
Он замолчал и вопросительно посмотрел на того и на другого: есть вопросы?
— Дальше, — сказал лорд Дарралд. — Мы заинтересовались. Только покороче.
— Хорошо, — ответил он уже другим тоном. Хотят покороче, пожалуйста. Посмотрим, как им это понравится. — На самом деле эти парни ждут в глубине души чего-то необыкновенного, какой-то принципиально новой жизни. И когда увидят, что их ожидания не оправдались, тут-то и начнется потеха.
Как воспринял эти слова Маркинч, Алан не узнал, потому что смотрел на Дарралда, а Дарралд остался абсолютно невозмутимым.
— Какого рода потеха? — осведомился он.
— Не знаю, — раздраженно ответил Алан. — Этого никто не знает. Даже они сами. Они едва ли вообще отдают себе отчет в том, что ожидают чудесных перемен. Тем не менее это так.
— И надеются, что им преподнесут чудесные перемены на тарелочке? — съязвил Маркинч.
— Да, конечно, — ответил Алан. — Так им внушали, сулили. «Вы, ребята, воюйте, а мы здесь обеспечим остальное». Постоянный лейтмотив со времен Дюнкерка. Ну и вот, они свое дело сделали, отвоевались.
— Минуточку! — загорячился Маркинч. — Они что же, не понимают, в каком положении оказалась страна?
— Помолчите, Дон, — с чисто американской любезностью распорядился лорд Дарралд. — Всему свое время. Продолжайте, Стрит.
— Продолжать? Но я уже кончил. Я рассказал вам, что думаю.
— Вы еще ничего не рассказали.
— Тогда, значит, мне вам нечего рассказывать.
— Босс, — прохрипел Маркинч, который тоже любил показать себя американцем, — он чего-то недоговаривает.
— Похоже что так.
— Могу только добавить вот что, — устало произнес Алан. — Было много разговоров в связи с окончанием той войны. Сам я этого знать не могу, возраст не тот. Но я много беседовал с людьми, которые хорошо помнят то время, и пришел к выводу, что сходство между тогдашними солдатами и теперешними только поверхностное. На самом деле имеется существенная разница.
— В чем, например? — спросил его сиятельство.
— Когда они убедятся, что их ждет разочарование, что их скрытые надежды — а что надежды скрыты, в данном случае важно — не осуществятся, наши, сегодняшние, солдаты не ограничатся угрозами, как те, в начале двадцатых, а приведут их в исполнение. Их терпение уже истощается. А надо учесть, что они в этой войне повидали гораздо больше, чем те в прошлой.
— Больше — чего? Драки?
— Да нет. Повидали мир. И что в нем происходит. Видели квислингов, черные рынки, сговоры реакционеров, народное сопротивление. И нередко имели возможность сами убедиться, кому по сердцу нацисты, а кому нет. Неплохая школа, в своем роде, — добавил Алан.
— Это — ладно, мы не против, — сказал Маркинч.
Лорд Дарралд поднял ладонь. И в очередной раз устремил на Алана пристальный взгляд, хотя теперь задержал его дольше. В конце концов все-таки появилась и улыбка, но она заставила себя подождать. Несмотря на горячительное воздействие хорошего вина, Алан чувствовал себя молодым и беспомощным. Лорд Дарралд казался ему теперь могучим и грозным императором. Целые легионы ожидали где-то его приказа, чтобы сразу же прийти в движение. Он уже не был больше богачом, купившим Харнворт и искавшим дружбы местных «хороших» семейств. Он был — Власть.
— Послушайте, Стрит, — произнес Дарралд. — Вы мало что нам рассказали, и вы ошибаетесь. От нынешних армейских парней беспорядков ждать нечего. Их будет даже меньше, чем тогда. В тот раз мутили воду профсоюзы. Всеобщая забастовка показала, чего они стоят на самом деле. Теперешние профсоюзы не такие. Знают что к чему. С ними будет все тихо-мирно. А что до скрытых надежд, о которых вы говорили, то я сейчас вам сам скажу, чего хотят бывшие солдаты. Они хотят приятной жизни. И можно их понять. Нужна перспектива. Собачьи бега, ипподромы, побольше футбола, удобные кинотеатры, хорошие рестораны, куда можно пойти с женой, дешевые курорты, чтобы проводить отпуск. И мы ведем кампанию за все это, так ведь, Дон?
— С большим размахом, — подтвердил Маркинч. — И встречаем живой отклик.
— Но им ведь не только это нужно, — возразил Алан. Он неожиданно сник. Уверенный в себе молодой борец, готовый выдать старому хрычу порцию неприятных истин, внезапно куда-то делся.
— Знаем. Гарантированная работа и приличные заработки, — пожал плечами лорд Дарралд. — Дома, когда появится возможность строить. И это — все. Мы знаем.
Алан сделал над собой усилие.
— Прошу прощения, но я не согласен. Это не все. Они сами еще не до конца сознают собственные нужды, но им же недостаточно только хлеба и зрелищ.
К своей досаде он заметил, что голос у него дрожит.
— Выпейте еще коньяку, — сказал лорд Дарралд. — Отличная марка. Могу поручиться. А теперь я скажу вам, в чем ваша ошибка, Стрит. Тут нечего стыдиться, мы все этим грешим, покуда жизнь не научит. Вы видите, что люди чего-то хотят, но толком не знают, чего. И вы, приписывая им свои стремления, делаете вывод, что они хотят того же, что и вы.
— В самое яблочко, босс! — восхитился Маркинч.
— Мы такой ошибки себе позволить не можем, — продолжал лорд Дарралд. — Мы продаем газеты. Нам морочить самих себя не годится. А вот вам факты. «Листок» распродается ежедневно в два раза большим тиражом, чем любая другая популярная газета, и в десять раз большим тиражом, чем такие газеты, какие читаете вы. То же самое и «Санди сан». Таков ответ. Мы объясняем нашим читателям, чего им не хватает. Мы ведем широкую кампанию за то, чтобы они получили все это, чтобы они хорошо жили. И никто не захочет затевать беспорядки. Кроме всегдашней небольшой горстки, которая, как мы можем доказать, просто стоит у людей на пути к гарантированной работе и заслуженным развлечениям. Ну-ну, не смотрите так уныло, юноша.
— Прошу прощения. Я не знал, что это заметно.
Алан выпил коньяку.
— Ваша мать мне сказала, что вы пописывали перед тем, как уйти в армию. Умные вещи писали? А чем теперь думаете заняться?
Алан ответил, что еще не знает.
— Я немного работал в Управлении недвижимостью, но возвращаться туда не намерен.
— И правильно. Бесперспективное занятие. Я сейчас вам скажу, что я сделаю. А вы слушайте, Дон. Я возьму вас в штат газеты — специальным корреспондентом — подписные публикации — будете разговаривать с этими парнями, которые вместе с вами вернулись из армии, расспрашивать, чего они хотят. А им будете объяснять, о чем мы для них хлопочем, и если это — то, что им надо, они так и скажут.
— А если не то? — спросил Алан.
Дарралд ухмыльнулся.
— Думаете, подловили меня? Вы им растолкуйте, что мы стараемся для них сделать, — и если это окажется не то, что им надо, и они так определенно и скажут, мы их высказывания напечатаем. То-то! Удивились? Так что вот вам мое предложение. О деньгах договоритесь с Доном, это его обязанность. — И он решительно отвернулся от Алана, словно окончил аудиенцию. — Том! — позвал он сэра Томаса Стэнфорд-Риверса. — Идите сюда. Я сегодня утром такой забавный анекдот слышал в палате!
Дон Маркинч отвел Алана подальше от стола.
— Каков босс, а? — с сумрачной гордостью сказал он Алану. — Он редко когда так расщедрится. Наверно, хорошо чувствует себя сегодня. Приехал за город, расслабился. Эх, мне бы так отключиться, все забыть. Ладно, давайте короче. Сейчас пойду звонить в редакцию. Тридцать пять фунтов в неделю плюс расходы в разумных пределах. Поездите по стране, маршруты и прочее утрясете в редакции с Фарли. Контракт на двенадцать недель. Если после этого не захотим с вами расстаться, — а у меня найдутся для вас и другие задания, когда эта тема себя исчерпает, — то получать будете не меньше, а возможно, и больше. В редакцию явитесь на будущей неделе, скажем, в среду. Ну, что скажете?
Алан не знал, что сказать. Он изрядно выпил. От пулеметной речи Маркинча у него голова шла кругом. И личное обаяние его сиятельства еще давало себя знать. Подумать только, можно сразу получить такое большое жалованье! Но под этим веселым сознанием, в глубине души было тяжело и сумрачно, подступала неуверенность, тоска — так к праздничному фейерверку подступает влажная ночная тьма, грозя пролиться дождем и загасить веселые огни. А времени, чтобы разобраться, что все это означает, просто нет — рядом нетерпеливо таращится и дергается Маркинч.
— Так что скажете, а?
— Большое спасибо, — замялся Алан, — но мне нужно время, чтобы подумать. Можно я сообщу ответ немного погодя?
Маркинча всего покоробило.
— Мы не любим тянуть волынку. Вот что. Я пробуду здесь завтра до вечера. Можете звякнуть.
Едва Алан переступил порог гостиной, как леди Стрит подозвала его еле заметным жестом.
— Ну, он сказал тебе что-нибудь? — шепотом спросила она.
Алан постарался скрыть раздражение.
— Угу. Потом расскажу.
Мать испытующе заглянула ему в лицо, решила, что все благополучно, и обвела комнату любезно лучистым, точно вращающийся глаз маяка, взглядом.
— Мы скоро должны будем собираться. Что же это вы мужчины оставили лорда Дарралда в столовой?
— Наверно, они с Маркинчем, это один из его редакторов, заказали международный разговор с Тегераном или Сан-Франциско.
Он посмотрел через комнату и увидел Бетти, слушающую неповоротливые рассуждения Джералда. Она была похожа на юную Нимуэ или Фею Моргану под вечно цветущей яблоней Авалона. Но тут она взяла и подмигнула ему — и сходство пропало.
— Ну, как тебе ужин лорда Дарралда, милый? — поинтересовалась мать. — Доволен, что поехал?
Доволен ли? Он обошел второй вопрос, его надо было еще обдумать, и ответил:
— Ужин королевский.
— По-моему, Энн уже не сидится. Как только лорд Дарралд придет, — а мне, право, думается, он мог бы выбрать для международных разговоров другое время, — будем прощаться и уходить.
Через двадцать минут они уже спускались по широким каменным ступеням парадного крыльца, перед которым были оставлены автомобили. Сочила свет невидимая луна, вдали у горизонта проглядывали звезды, хотя вверху над головой небо плотно закрывали тучи, и на крыльце клубилась холодная тьма. Но чувствовалось дыхание весны. Вокруг лежали сады, щедро ухоженные двумя десятками первоклассных садовников. Что же удивительного, если воздух отдавал колдовством, чертовщиной? Джералд и полковник Саутхем ушли вперед — запустить моторы. Леди Стриг и Энн увлеченно обменивались впечатлениями о проведенном вечере.
— Ау! — вполголоса окликнула Алана Бетти и оттащила его в подходящее место за углом. — Ты заметил, я тебе подмигивала? Что ты при этом обо мне подумал?
Он с готовностью схватил ее в охапку, прижал к себе и бурно поцеловал.
— Сейчас некогда рассказывать.
— Послушай, — торопливо зашептала она, — приезжай завтра к обеду и все расскажешь. Будем только мы. У папы дела в городе. Я собираюсь уезжать. Уеду, и ты меня тогда сто лет не увидишь, так что смотри, жду.
— Приеду, — ответил Алан в приятном возбуждении.
Они незаметно вернулись к остальным. Оба автомобиля ждали наготове.
— Отлично провели вечер, правда, старичок? — сказал Джералд, выруливая на дорогу вслед за Саутхемами.
Алан смотрел на пляшущий красный глазок передней машины.
— Да, отлично, — подтвердил он.
Усевшись поглубже рядом с братом, он сделал попытку задуматься. Но мысли как-то не шли в голову.
6
Герберт заглянул на кухню к матери.
— Я еду на автобусе в Лэмбери. Поручений не будет?
— Нашлись бы, — отозвалась мать. — Но тебе-то зачем в город понадобилось?
— Батя попросил. Надо кое-что для него сделать.
— Ах вот оно что, — сказала она, не скрывая облегчения. — Стало быть, это не твоя затея.
Герберт притворился, будто не понимает, что ее беспокоит.
— Батина затея. А что?
Мать улыбнулась.
— Я думала, может, ты с какой девушкой встретиться хочешь.
В этом Герберт не признавался даже самому себе, а уж матери и подавно. Он только лишний раз подивился про себя женской интуиции.
— Ты, мама, не забудь, что меня столько времени не было дома. У меня теперь в Лэмбери и знакомых нет. А ты: девушка. Сама подумай!
— А что мне думать? Эдна вон давеча говорила, что не иначе как у тебя кто-то есть.
Ну вот, теперь еще Эдна! Ох уж эти тончайшие щупики женской чуткости…
— Болтает, сама не знает что, — раздраженно проворчал он.
— Она, может, и не знает, зато я знаю. — Миссис Кенфорд пристально посмотрела на сына. — И вот что я тебе скажу, Герберт. Я давеча заступилась за тебя — перед отцом и остальными, но на самом деле ты, я считаю, дурно поступил по отношению к нам, что вдруг взял да ушел.
— Но я же объяснил…
— Объяснил, верно. И я перед тем еще за тебя объяснила. Да только это ничего не меняет, Герберт.
Она снова испытующе заглянула сыну в лицо.
Попытаться растолковать ей, что он тогда чувствовал? Нет, неподходящая минута. И на автобус опоздаешь.
— Слушай, ма, я должен бежать, не то пропущу автобус. Так что тебе привезти?
— Да нет, на самом деле ничего не надо. — Она вдруг широко улыбнулась ему, словно в одночасье повеселела. — Ну, беги! И можешь не торопиться домой к ужину, коли не будет охоты. В кино сходи. Я бы на твоем месте обязательно сходила. В Лэмбери теперь новый кинотеатр. И по пятницам, кажется, есть поздний автобус. Так что съезди развлекись, Герберт.
Он сразу ощутил огромное, необъяснимое облегчение, какое всегда испытывают мужчины, освободившись от щупа женской проницательности.
— Есть, ма! — крикнул он и бросился из дому.
В толпе на автобусной остановке у поворота дороги он увидел парня по фамилии Пеллит, который славился своей болтливостью.
— О, Герберт! Здорово! Ты, оказывается, вернулся?
— Как видишь, — отозвался Герберт. Он вовсе не жаждал всю дорогу в автобусе слушать разглагольствованья Пеллита.
— Вижу, вижу, — не отвязывался Пеллит. — Постой-ка, Эдди Моулд не вместе с тобой служил?
— Вместе. И вернулись тоже вместе. А что?
— Да вот, скандалит друг Эдди.
Герберт заинтересовался.
— Не похоже на него. Мы все время были рядом, он парень хороший, спокойный. Конечно, если его не довести, покуда уж он себя не помнит. Видел я пару раз, каков он, когда в бешенстве, — сказал Герберт, припоминая. — Сами не рады были. А что случилось?
— Сижу я вчера в баре… — с охотой принялся было рассказывать Пеллит. — А вот автобус! Дорасскажу, когда сядем.
Автобус набился полный, и им пришлось стоять. Но это не помешало Пеллиту, он прилепился к Герберту, вслед за ним протиснулся между корзин и женских колен и повис, раскачиваясь рядом.
— Сижу я вчера в «Солнце», — начал он заново, конфиденциально крича ему в ухо, — и тут Джордж Фишер — помнишь Джорджа? — вдруг заметил Эдди, Эдди как раз уходил, они оба были под градусом, Джордж и говорит: «Смотрите-ка, кто здесь есть! Старина Эдди», — и дальше в таком же духе, вполне по-дружески, но немного с гонором, как он всегда. А Эдди сказал, чтобы он заткнул пасть, и как двинул его, чуть мозги не вышиб. Публика в баре — врассыпную. Я было подумал, ну, сейчас начнется общая потасовка. Но у Эдди рожа зверская, того гляди прикончит кого-нибудь, можешь себе представить, а Джо Финч, он теперь содержит «Солнце», говорит: «Убирайся отсюда», — ну, Эдди послал его известно куда, а сам и вправду ушел. Слава Богу, между прочим.
Автобус трясся, переваливался сбоку набок. Разговор вести было трудно. Но Герберт все же изловчился, придвинулся к Пеллиту вплотную и спросил, не повышая голоса:
— Эдди был с женой?
Пеллит понимающе ухмыльнулся.
— Да нет, один. Там говорили насчет нее и насчет других еще некоторых, Эдди небось и услышал кое-что. Он с добрый час, если не два, просидел в углу — пил в одиночку, а это ведь не к добру, верно? — и вполне мог разного наслушаться, в «Солнце» народ знаешь какой, что думают, то и брякнут.
— Да про что брякнут?
Пеллит подмигнул, ухмыльнулся еще шире, но ответил не сразу — автобус, громыхая, несся по шоссе, и вести доверительный разговор было невозможно. Но вот подъехали к остановке, и Пеллит принялся вполголоса объяснять:
— У нас ведь тут, ты знаешь, янки стояли. Каждый вечер в «Солнце» толклись, швырялись деньгами, и кое-кто из женщин с ними водили компанию, норовили поживиться чем Бог даст. Мое мнение: бедняга Эдди на этом и погорел.
— Вот оно что.
Автобус двинулся дальше, дребезжа и дергаясь сильнее прежнего, так что у Герберта появился законный предлог на этом прервать разговор. Он не хотел больше ни говорить, ни слушать. Вспомнилось, как Эдди всегда ждал раздачи почты, как старательно выводил строки ответных писем. Как он был доволен, когда нарядился в новый коричневый костюм. И вот теперь, в «Солнце», у него оказалась «зверская рожа, того гляди прикончит кого-нибудь». Герберт испытывал смутное чувство вины, словно он обязан был приглядеть за Эдди, и вот не приглядел — словно отправил Эдди в глубокую разведку без патронов и провианта. Пеллит еще что-то пытался ему говорить, но он сделал вид, будто не слышит. Надо было поразмыслить, да и надоел этот Пеллит. Но когда автобус наконец выехал на Базарную площадь Лэмбери, Пеллит все-таки перехватил его при выходе, не дал улизнуть.
— Я так и подумал, что тебе будет интересно послушать про беднягу Эдди, — сказал Пеллит, оправдываясь.
Герберт отказался от мысли о бегстве.
— Ну, ясно. Спасибо, что рассказал.
— Дело в том, — с видом знатока продолжал Пеллит, — и я уже давно это говорю, что парням вроде Эдди теперь нелегко будет приладиться.
— К чему приладиться?
— Ну, просто войти в штатскую колею и… как бы спустить пары.
— А по-моему, чем парням вроде Эдди спускать пары, — проговорил Герберт, глядя тому прямо в глаза, — лучше бы вам, здешней публике, вспомнить о долгах.
— То есть как это?
— Точно не знаю, — откровенно признался Герберт. — Но только мне не по вкусу эти разговоры про «беднягу Эдди». Кто бы говорил. Я видел, как Эдди уступил свое место в шлюпке, когда мы не смогли удержать предмостное укрепление и срочно сматывались под минометным и артиллерийским обстрелом. И я видел, как Эдди… ладно, не имеет значения, — и он раздраженно замолчал.
— Слушай, ну а я-то тут при чем? — недоумевал Пеллит. — Я ему ничего не сделал.
— Знаю. Но тон ты взял, на мой взгляд, неверный. Я близко знаю Эдди Моулда, а вот вас, кто в барах ошивается, — нет. Или скажем иначе — я тоже здесь чужой, как и он. Пока!
Когда Герберт увидел на той стороне площади вывеску «Короны», раздражение его разом унялось. Вон она, слава Богу. Такой же бескомпромиссный в отношениях с самим собой, как и с другими, он стал анализировать, докапываться, откуда у него взялось это радостное чувство, и обнаружил, что причина в той девушке, в Дорис Морган. Ну вот, с ума, что ли, он сошел? Мало давешней перепалки?
И тем не менее, побывав в двух-трех местах по поручениям отца, а затем перекусив в кооперативном кафе, Герберт возвратился на площадь и неторопливо, как человек, старающийся не показать своего нетерпения, вошел в бар «Корона». Сегодня здесь сидело народу больше, чем в тот раз, когда он заходил с Аланом Стритом и Эдди; но Дорис Морган не было. Герберт обругал себя дураком за то, что понадеялся ее застать, за то, что хотел этого, и вообще сдуру он сюда явился. Тем не менее он просидел в мрачности над кружкой пива довольно долго. Люди вокруг его не интересовали, разговоры они вели идиотские.
К счастью, у него еще оставались кое-какие невыполненные отцовские поручения, они заняли время до самых пяти часов. Сеанс начинался в полшестого, но в кинотеатре был буфет — он уже работал, и Герберт выпил в нем чаю, а потом затесался в толпу женщин, молодых и старых, среди которых чувствовал себя глупо и неловко. В армии он пересмотрел уйму фильмов, но в английском кино, кажется, не был тысячу лет. Однако сейчас, может быть, конечно, из-за плохого настроения, попав в английское кино, он почувствовал себя вовсе не в Англии, а в Америке. У Герберта не было предубеждения против Америки и американцев. Когда случалось соприкасаться с американскими частями, он всякий раз восхищался особыми свойствами их армии, этой странной смесью непринужденности и распоясанности с великолепной инженерной эффективностью в боевых действиях; полной концентрации на поставленной цели с бестолковым страстным желанием получать на досуге от жизни как можно больше удовольствия. Нет, янки — ничего, неплохие ребята. Но все-таки непонятно, почему, если в Лэмбери завелся наконец свой кинотеатр, этот кинотеатр должен быть таким американским.
Киножурнал, правда, был отечественный, но самый комментарий, бойкий и язвительный, уже содержал сожаление по этому поводу. А остальное все пришло из Соединенных Штатов. Сначала короткометражный документальный фильм, выдержанный в серьезных тонах, втолковывал кинозрителям в Лэмбери, каких потрясающих успехов они добились в деле защиты американского образа жизни, иначе именуемого Демократией. Потом показали короткометражный комедийный фильм про некоего затюканного дантиста, его сварливую жену, необъятную тещу и занудного шурина, выставляющий на обозрение небольшой сочный ломоть этого самого американского образа жизни. И наконец, главное блюдо — полнометражный художественный фильм, длинная, но незамысловатая история про морских пехотинцев, принимающих участие в довольно шумных сражениях непонятно где, и про их любимых девушек, которые днем работают нежными сестрами милосердия, а ночи напролет отплясывают под джаз фокстроты и джиттербаги. Когда кто-нибудь из героев приезжает на побывку домой, он — или она — долго подымается по широкой белой лестнице, идет бесконечно длинными коридорами, покуда, наконец, не оказывается в уютной светелке в добрых сто пятьдесят футов от стены до стены. Морские пехотинцы либо парятся в темных джунглях, либо ищут укрытия от назойливого тропического ливня, на досуге же стараются забыться в ночных клубах мегалитической постройки, где одна эстрада и то уже размерами с футбольное поле. А девушки, правда, иногда ставят градусники и томно взбивают подушки, но с окровавленными бинтами и подкладными суднами дела явно не имеют — потому-то и веселятся без устали и трясут аккуратными локонами крупным планом на фоне знаменитого джазбанда. Ничего похожего на войну и армейскую жизнь, какой ее знал Герберт; если же это все и задумано как дорогостоящий пустяк, не отражающий даже американского образа жизни, то непонятно, зачем было доставлять его из Голливуда через океан в Лэмбери. Согласны ли с ним зрители в зале, Герберт определить не мог: они не аплодировали и не шикали, не выражали ни одобрения, ни осуждения — просто сидели молча, смотрели, слушали. Словно не развлечься пришли, а сидят в очереди на прием к врачу. Хотя они, наверно, и не рассчитывали на развлечение, просто убивали время — как и он. Английский образ жизни. Но на кой черт ввозить такое барахло?
Был уже девятый час, когда он снова вошел в «Корону». Теперь там бурлила жизнь — пятница, вечер, у всех в карманах получка. Помещение бара походило на тесную, жаркую пещеру. Слишком дымно, людно, шумно. Герберт с трудом протолкался к стойке и должен был еще ждать, пока его обслужат. Тут-то он и увидел ее, Дорис Морган. В том же самом желтом платочке. Она была с компанией — молодые ребята и девушки, и с ними несколько людей постарше. Все друг с другом хорошо знакомы. Должно быть, работают вместе на авиационном заводе. Судя по тому, как старательно они сейчас веселились, видимо, справляли какой-то праздник. Дорис Морган не отставала от остальных — громко переговаривалась, смеялась. Видно было, что тоже успела немного выпить. Облокотившись о стойку, Герберт издалека разглядывал эту девушку и сам уже не понимал, зачем она ему понадобилась?
— Ишь растопырился мистер. Может, потеснитесь? — обратился к нему сбоку какой-то человек.
— И не подумаю, — хмуро ответил Герберт и так свирепо на него поглядел, что тот сразу переменил тон.
— Так я же ничего, мне бы вот только…
— Ладно, подходи, — сказал Герберт и отодвинулся. — В другой раз не задирайся.
Он снова посмотрел через весь зал на Дорис Морган, и на этот раз она его заметила. Было видно, как она хмурит брови, верно, гадает, где она его видела, потом лицо ее просветлело: припомнила! Она приветливо улыбнулась. Герберт кивнул ей, отпил пива и посмотрел в другую сторону. Подумаешь!
Через две минуты она уже была рядом, втиснулась в толкучку и оказалась почти прижата к нему. Вблизи глаза у нее были вовсе не такие черные, скорее карие, теплые и блестящие.
— В одиночку на этот раз? — спросила она.
— Да, — ответил Герберт. И высокомерно пояснил: — Вот зашел на минуту, горло промочить.
— Понятно, что не умыться. Пошли к нашим?
— Да нет, спасибо. Слишком большая компания.
— Ладно, дело хозяйское.
Она отвернулась к стойке и попробовала привлечь внимание барменши.
Герберт перевел дух и сказал:
— Я сегодня уже один раз сюда приходил.
— Неужели? — равнодушно отозвалась она.
Надо было во что бы то ни стало ее заинтересовать, сейчас или никогда!
— Я тебя искал. И сейчас тоже пришел поэтому.
— Прямо уж! — Но теперь она смотрела ему в глаза. — А ведь, похоже, и вправду поэтому.
— Я же сказал, — почти с раздражением подтвердил он.
— Да, но я не всему верю, что мне говорят. Если это правда, то зачем?
— А я про тебя много думал и про то, что ты тогда говорила, помнишь? — попытался он объяснить уже по-дружески.
Но у нее почему-то отзыва не встретил.
— Не помню, — сразу поскучнев, сказала она.
— Не важно, — вспыхнул он. — Возвращайся к своей компании, успеешь еще нализаться. Время есть.
— Ну и характерец у тебя! И в тот день ты точно такой же был. Придрался ко мне, глаза бешеные.
— Ты же сказала, что не помнишь.
— Тебя-то помню. Иначе разве бы я стала тебя приглашать к нашим, верно? Тебя зовут Герберт Кенфорд, ты живешь на ферме в Кроуфилде. Точно?
— А тебя — Дорис Морган, и ты работаешь на авиационном заводе, который сворачивает производство. Я сказал: «У вас настроение плохое», а ты сказала: «Когда начнете думать, имейте это в виду». Точно?
Теперь она дружески улыбнулась.
— Да. А ты спросил: «Что — это?» А я говорю: «Всё. Сами увидите». Правильно?
— Правильно, — серьезно ответил он. — Я рад, что ты помнишь.
— Так. Что же нам делать? К нашей компании ты присоединяться не хочешь…
— Мне очень жаль, но сегодня я как-то не настроен.
— Ты, наверно, удивишься, только я и сама не очень-то настроена. Но и здесь тоже толком не поговоришь. А скоро еще хуже будет.
— Знаю, — мрачно кивнул он. — Мне уже здесь порядком осточертело. Ненавижу набитые пивные.
Теперь ход за ней.
Она на минуту задумалась.
— Знаешь что? Если ты подождешь меня минут десять, мы с тобой уйдем отсюда и поговорим. Сразу я удрать не могу, моя очередь ставить выпивку. Ты подожди снаружи, я тогда смоюсь под каким-нибудь предлогом, чтобы не выслушивать разных дурацких замечаний, что, мол, убегаю с незнакомым кавалером. Хорошо?
Она энергично застучала по стойке.
Эти десять минут на темной улице так растянулись, что Герберту уже подумалось, не посмеялась ли она над ним? Но когда двери наконец распахнулись и он увидел в освещенном проеме ее, ладную и улыбающуюся, к нему, как синий воздушный шарик, пришло на минуту ощущение чистого счастья. Радостный и благодарный, он шагнул ей навстречу.
— Я знаю, получилось больше десяти минут, — призналась она, когда они двинулись по улице. — Но я уж думала, совсем не смогу уйти. Все-таки нехорошо с моей стороны. Мы столько времени работали вместе, а теперь, может быть, со многими никогда не увидимся. Куда пойдем?
— Мне все равно. Куда-нибудь, где тихо.
— Ладно. Но только вот что. Когда я сказала: «поговорим», я ничего другого не имела в виду. Лапаньем сыта по горло. У меня с этим покончено. Так что не говори потом, что тебя не предупредили.
Слова эти, только-только после прекрасного мгновенья в дверях «Короны», резанули слух. Герберт разозлился.
— А когда я сказал: «поговорим», то тоже ничего другого не имел в виду. Я вовсе не собирался тебя лапать, как ты выражаешься, и весьма сожалею, что столько парней уже воспользовались такой возможностью.
— Я этого не говорила. Я только сказала, что пока с меня довольно. И перестань беситься. Надо же, какой характер! А что там внизу?
— Канал, — сердито ответил Герберт. — Можно пройтись вдоль берега, если, конечно, ты не боишься, что я сброшу тебя в воду.
— Рискнем, — со смехом сказал она, словно они уже были старыми добрыми друзьями.
Когда в сгущающейся темноте они стали по узкому проулку спускаться к воде, она естественно и непринужденно взяла его под руку.
— Пока не забыла, ты возвращаешься последним автобусом? Я тоже. Моя остановка — перед развилкой.
Это известие его обрадовало, о чем он ей тут же и сообщил. Значит, он сможет в любом случае проводить ее до самого дома, а затем пешком доберется к себе. Надо будет только не пропустить автобус. Зато не потребуется в один час втискивать все, что ему хочется ей сказать. Это все он ей тоже растолковал.
— Ну и отлично, — кивнула она. — Только имей в виду, какая я ни глупенькая, а полночи под открытым небом меня держать нельзя. Не забудь, когда будешь разговаривать, что ты выпил одну маленькую кружку пива — это ведь все? — а я, между прочим, приняла шесть порций джина с лаймом.
— Из них четыре — лишние, — строго добавил он.
— Кончай, слышишь?
Герберт промолчал, и через минуту пальцы, лежащие у него на рукаве, снова дружелюбно сдавили ему локоть. К его собственному удивлению, у него вырвался тихий довольный смешок.
Они шли по берегу канала. Кругом стояла тишина, пахло краской, гнилой древесиной и речной водой.
— Ты ведь парень серьезный, верно?
— Верно, — ответил он. Пусть знает.
— Я сразу это поняла, еще тогда. Совсем не такой, как тот ваш приятель, красавчик с улыбкой.
— Совсем не такой. Он потрясающий парень, — добавил Герберт. — Алан Стрит. Девушки все, само собой, от него без ума.
— Только не я, — поспешно возразила она. — А вот тебя я с первого взгляда поняла, что либо возненавижу, либо ты мне понравишься. Пока еще не решила окончательно. Знаешь что? Давай тут посидим, покурим.
Они уселись на старое бревно и закурили. И Герберт начал рассказывать про себя, поначалу с запинками, но потом все увереннее и горячее. Описал ей вчерашний ужин дома.
— Какая она, эта Эдна? — перебила она его в этом месте.
— Да она вполне ничего, только не в моем вкусе.
— А кто, например, в твоем вкусе?
— Сам не знаю. Но она не в моем. Да это не важно, — нетерпеливо отмахнулся он. — Не в ней дело.
— Ну, допустим, — как будто не без сомнения согласилась она. — Рассказывай дальше.
— Понимаешь, когда я узнал, что они за меня все обдумали и решили — купили брату Артуру вторую ферму, чтобы «Четыре вяза» достались мне, — мне стало стыдно.
— И напрасно, — быстро сказала она. — Тебя ведь не спросили, что ты сам хочешь. Они просто заботились о том, чтобы вся семья была пристроена.
— Но потом, — продолжал Герберт, — когда они все разговорились, в особенности отец, у меня уже чувство было совсем другое. Выходило так, что им ни до кого нет никакого дела, лишь бы свои были в порядке.
— Уж я-то знаю! — вздохнула она.
— И это мне не понравилось. Я не был готов к такому отношению. Конечно, в армии жизнь другая, дисциплина, приказ, боевая задача, но даже и при этом, если бы мы там думали: «Провалитесь все, остался бы я цел и невредим», мы бы ничего не добились, иной бы дух был в армии. Ведь нас заверяли, что люди, которые остались дома, теперь не такие, как были…
— Некоторые не такие.
— Я естественно ожидал, что почувствую эту разницу сразу, как только вернусь. Кое-что перед самым возвращением я успел заметить, что настораживало. Но я думал, это не важно. А вчера смотрю, они все расселись за столом, такие довольные, отхватили жирный кусок, вцепились и не намерены выпускать из рук, что бы ни было с остальными людьми, — и у меня так муторно стало на сердце! Послушай, — вдруг смущенно оборвал он себя, — это, наверно, подло, что я так говорю? Они мои родные, любят меня, и вообще они хорошие люди, я не хочу, чтобы ты думала о них плохо…
Он растерянно умолк.
— Я не беру своих слов обратно — ну, насчет разговора, и чтоб ничего другого, — хоть я немножко и пьяная. Так что ты ничего такого не подумай. Но я должна тебя поцеловать. — Она наклонилась и легко чмокнула его в щеку. — Потому что ты славный. Нет, это — всё, на сегодня. Будем разговаривать дальше.
— Не знаю, как идут дела у того другого пария, про которого ты говорила, Алана Стрита, — продолжал Герберт, немного задохнувшись после этой неожиданной интерлюдии. — Я собираюсь у него спросить. Но вот про третьего нашего приятеля, с которым мы вместе вернулись, — здоровый такой, плечистый, помнишь? — пришлось кое-что услышать сегодня утром.
И он передал ей то, что узнал про Эдди Моулда.
— Я бы тебе много могла рассказать насчет этого, — грустно произнесла она. — Хватило бы на десяток непристойных романов. Насмотрелась. Безобразие, конечно, я вовсе не спорю. Но, знаешь, не так это все грязно, как представляется, — просто некоторые женщины не выдерживают, когда и год, и два — одна беспросветность, одиночество и ничего не происходит. Вашему приятелю, и всем остальным, надо постараться все простить и забыть и начать заново. Все мы слабые и сумасбродные, и столько трудностей выпало на нашу долю… Но понимаешь, — она вскочила и ткнула его в грудь маленьким сердитым кулачком, — у меня не об этом душа болит — эти вещи можно в два счета уладить, — а вот про что ты раньше говорил: что опять возвращается то, что было, вся эта жадность, эгоизм. Представляешь, как только миновала угроза и можно больше не опасаться — и сразу опять думают только о себе. Люди не переменились, не набрались ума — научились только делать бомбы все тяжелее и тяжелее и ненавидеть. А к чему это нас приведет? Дальше-то что? Ну, черт же возьми!
— Ты что, плачешь? — изумился Герберт.
— Да, дубина ты стоеросовая! Обними меня на минутку. И помолчи. Да, я тебя предупреждала, что нельзя, но это совсем не то, и ты совсем не такой.
Они сидели в обнимку на берегу темного канала, вокруг сгущались ночные потемки, и Дорис легонько всхлипывала, а у Герберта, как сумасшедшее, колотилось сердце. Все это вышло так неожиданно, он совершенно забыл, если и знал когда-то, как странно и непредсказуемо иногда ведут себя девушки. Хорошо ему сейчас или нет, он и сам еще не понимал. Все это еще предстоит осмыслить на ясную голову.
— Который час? — вдруг спросила Дорис и отстранилась. — Пора на автобус.
На обратном пути она молчала и под руку его не взяла. Расстояние, разделявшее их, казалось Герберту огромным. Это ему не нравилось, и минуты через две или три он сам взял ее руку и просунул себе под локоть. Тогда все опять стало хорошо.
— Ты бы рассказала о себе, — отважился даже попросить он. — Я знаю, что тебя зовут Дорис Морган, что ты во время войны работала на авиационном заводе, а до этого была продавщицей и жила в Кройдоне. И еще я помню, что ты говорила о братьях, — негромко добавил он.
— Надо же, запомнил, — усмехнулась она. Но чувствовалось, что ей это было приятно.
— А как же. Но мне хотелось бы знать гораздо больше. Я все это время говорил только о себе, а ты ведь мне совсем ничего о своей жизни не рассказала.
— Да нечего и рассказывать, — отмахнулась она. И вдруг, к его удивлению и даже некоторой досаде, перескочила на Эдну: — Эта твоя Эдна небось на ферме выросла?
— Да, отчасти. Но Бог с ней, она тут ни при чем.
Еще один головокружительный перескок.
— Тебе нравится фермерствовать, Герберт?
— Работа нравится, хотя она не из легких. Я к ней привык. — Тут он замолчал.
— Ну, дальше. Рассказывай.
— Да я, понимаешь, не до конца еще все это продумал, — запинаясь, проговорил он. — С работой все нормально. Она мне по душе, другой искать не стану. Хорошее это дело, на земле хозяйничать. Приносит человеку большое удовлетворение. Ты бы поняла, если бы пожила на ферме.
— Навряд ли, — грустно возразила она. — Я бы там не смогла. Бр-р!
Герберт тоже огорчился. Действительно, они разговаривали, как представители двух разных национальностей. На минуту он представил себе ее на чуждом фоне больших заводов, сверкающих витрин, улиц, толп, кафе — Лондон, Кройдон.
— А эта Эдна, она, конечно… — начала было она.
— Ну что ты затвердила — Эдна, Эдна! Сколько раз тебе объяснять, что она ни при чем? Забудь о ней.
Она сжала ему локоть.
— Ладно тебе, бешеный. Я согласна, забудем о ней. Давай дальше про фермерство. Чем оно тебе не нравится?
— А я разве говорил, что не нравится?
— Не говорил, но было слышно. Я по тону твоему догадалась.
— Понимаешь, до армии у меня ничего такого и в мыслях не было, — с прежней вдумчивостью принялся объяснять Герберт. — Но теперь, когда вернулся, ясно ощутил. На ферме жизнь слишком обособленная, и можно докатиться до того, что будет вообще наплевать на всех других людей. Перестанешь быть частицей целого, начнешь думать только о себе, о своей семье. Очень легко до этого дойти, ведь работать приходится — дай Боже, на другое времени почти не остается, и редко общаешься с теми, кто делает другую работу, не то что в городе. Но все равно это неправильно. Так быть не должно. Больше не должно. Как ты говорила, если возвращаться назад к тому, что было, то во что мы превратимся?
Автобус уже стоял, и они, чтобы поспеть, бросились бегом. У Герберта мелькнула мысль, что они могут встретиться в автобусе с кем-нибудь из ее компании. Как она тогда поведет себя с ними? Это было для него важно, своего рода проверка. И действительно, он сразу заметил ее знакомых, шумно сгрудившихся на задних сиденьях. Они стали махать и кричать Дорис, но она только улыбнулась и кивнула и прошла туда, где было два свободных места рядом. В эту минуту он опять испытал такое же чувство огромного облегчения и чистого счастья, как тогда, когда она появилась в дверях «Короны».
В пути, среди грохота и тряски, они почти не разговаривали. У нее был усталый, измученный вид, свет, падавший сверху, бледнил ее лицо и накладывал тени в глазницы и под скулами. И вся она теперь казалась маленькой, хрупкой, драгоценной. По временам, встречаясь с ним взглядом, она улыбалась — наверно, просто для того, чтобы не прерывать общения, но эта далекая, слабая улыбка пугала его. Он и сам порядком устал, но не намерен был допустить, чтобы этим закончился вечер и она ускользнула, он боялся, что она исчезнет навсегда, скроется от него в огнях заводов, магазинов, улиц, кафе…
— Я здесь выхожу, — сказала она.
— Я с тобой.
— Тогда пошли скорее, а то кто-нибудь из наших увяжется.
Они торопливо зашагали по темному шоссе. Потом свернули на проселок. Герберт вспомнил, что здесь перед самой войной было построено несколько домиков. Шли теперь медленно, бок о бок, под широким сводом ароматной ночи. Здесь оказалось лучше всего.
Дорис была опять совсем другая, непохожая на ту задиристую, бойкую девчонку, которую он отправился искать в Лэмбери. Удивительно, до чего быстро она менялась. Но вовсе не потому, что она какая-то особенная, странная, а просто — женщины отличаются от мужчин, и он теперь, через нее, начал наконец сознавать это чрезвычайно значительное обстоятельство.
— Понимаешь, Герберт, я слишком много разговариваю, — тихим голосом призналась она, — и люблю, говорят, командовать и вообще нос задираю. Но на самом деле я никуда не гожусь. Можешь спросить хоть у той старухи барменши, она тебе про меня расскажет.
— Ничего я не собираюсь у нее спрашивать, — сказал Герберт. — Тем более про тебя. Бог с ней.
— Как хочешь, но я довольно много времени — и денег, я ведь за себя сама плачу — потратила у нее в баре и в других таких местах. Просто убивала вечера. И я говорю, все не так, надо взяться всем вместе и сделать, чтобы стало лучше, это мое убеждение, а что я для этого сделала, кроме разговоров, да раза два выступила на заводских собраниях? И знаю я мало, но не учусь. На заводе, правда, работала хорошо, да это было легко.
— Даже если на заводе легко, — встал на защиту Герберт, — а каково было жить вдали от дома и знать, что там всё разбомбили, и… и про своих братьев, и про все остальное? Забросили сюда, и работай, когда ничего не известно. Нет, Дорис, не могло это быть легко.
— Ты очень славный, Герберт, просто очень. Я даже не думала. Думала, ты надежный… основательный… это — да, но не такой. Вот что! — Она остановилась, обеими руками ухватила его за лацканы и поцеловала, как раньше, на берегу. — Нет, нет, теперь дай мне поговорить. Пока идем. Знаешь, мне уже сколько лет? Двадцать шесть! А тебе сколько?
— Двадцать семь, — сразу ответил Герберт. И засмеялся. — Ты так сказала, как будто тебе пятьдесят.
— Мне иногда и кажется, будто не меньше. Будто вся жизнь прошла, пока я работала в сборочном цехе или лясы точила да пропускала стаканчик за стаканчиком в какой-нибудь «Короне». Кажется, бог весть сколько лет прошло с тех пор, как я жила дома и работала продавщицей. Я тогда ничегошеньки не знала.
— Ты же говорила, что и теперь мало знаешь, — напомнил он.
— Так то совсем другое, глупый. Я мало знаю теперь о том, что нужно знать людям, — о политике, экономике, о таких вещах.
— Да, я тоже. Хотя нам кое-что рассказывали в армии. Но мы можем выучиться.
— Мне бы уже пора было выучиться, — сердито сказала она. — О чем я тебе и толкую. А тогда, давно, я ничего не знала про жизнь. Что люди на самом деле думают, что чувствуют, к чему стремятся, как парни себя ведут, ну и все такое.
— Вот это, про парней, мне не понравилось, — честно признался Герберт. — И ничего смешного…
— Конечно, ничего, Герберт, я просто не удержалась. У тебя это так мрачно прозвучало. Ну вот, здесь я живу, второй дом. Хозяйка — миссис Томпсон. Она сначала меня терпеть не могла, но теперь мы с ней вполне ладим. Люди вообще всегда оказываются не такие уж плохие, если с ними сойтись поближе. Верно? Даже если тебе не по вкусу, как они разговаривают и поступают, ты начинаешь понемногу понимать, отчего это они. Вот миссис Томпсон, например, убеждена, что ей обязательно надо опять выбрать в парламент тори, а иначе поделят все имущество, и одна из ее двух розовых ваз достанется миссис Фланаган, соседке. И бесполезно с ней спорить. Бог с ней, с миссис Томпсон. Давай постоим тут минутку, и я пойду.
Они стояли, и каждый, волнуясь, вглядывался в смутно белеющее незнакомое лицо другого и ждал чуда, чуда понимания и доброты.
— Ну что? — короткий вопрос прозвучал у нее, как вздох.
— Что? — заметно дрогнувшим голосом отозвался он.
После этого они замолчали, но в воздухе между ними дрожали невысказанные вопросы: Кто я? Кто ты? Что ты думаешь обо мне? Как мы будем жить дальше?
Вдруг ее настроение опять резко переменилось, и она уже говорила Герберту, яростно и настойчиво:
— Слушай, Герберт, что бы ни было, только не отступайся от своих теперешних мыслей! Не позволяй превратить себя в благополучного обывателя и не разучись думать. Никогда не верь, будто можно будет и дальше жить по-старому, не болея за других. Мы все между собой связаны, Герберт, хочется нам этого или нет, — такова жизнь — и если мы не будем все вместе работать и думать друг о друге, тогда останется только ненависть, и страдание, и кровь рекой. Честное слово, поверь!
— Я думаю, ты права, Дорис. Я, правда, еще толком в этом не разобрался, как-то времени вроде не было, но я начинаю думать так же, как и ты. Но понимаешь, я же только что вернулся…
— Понимаю я, понимаю! — страстным шепотом отозвалась она. — Ты был на войне. Ты воевал. И тебе хочется немного перевести дух, пожить легко и беззаботно. Нет, нет, конечно, ведь это так естественно. Но пока ты будешь прохлаждаться, они вынут у тебя сердце, Герберт. Можешь не думать обо мне, это — как тебе захочется, но ради Господа, не сгибайся перед ними, а пободрствуй и повоюй еще немного — ради всех нас. Тебе, может быть, кажется, что мы этого не стоим, но мы стоим, поверь, потому что мы и ты — одно, у нас общая жизнь, и если ты попробуешь отгородиться, это будет смерть. Так уж устроено, Герберт. Слушай, мне пора.
Он обнял ее за плечи.
— Мне бы не хотелось искать тебя по пивным…
— И не надо, чтобы искал. Теперь ты знаешь, где я живу, вот тут, у миссис Томпсон, дом номер пять. Правда, теперь, наверно, мне тут жить уже недолго.
— Могу я увидеться с тобой завтра? Завтра суббота.
— Нет, — ответила она спокойно и очень серьезно. — Не потому, что я занята завтра или не хочу тебя видеть. Хочу. Но это рано. Ты меня понимаешь, Герберт? Я должна немного о тебе подумать. И хочу, чтобы ты подумал обо мне. Не будем торопиться.
— Да, но ты же сама сказала, что тебе жить здесь недолго. Тогда в воскресенье? В воскресенье днем? Ну, пожалуйста!
— Хорошо, — поколебавшись, сказала она. — После половины третьего, на этом месте. Доброй ночи, Герберт.
— Доброй ночи, Дорис.
Он постоял, пока за ней, щелкнув, закрылась дверь. И пошел домой. Там было всего каких-нибудь две-три мили ходу, он даже и не заметил, как добрался до «Четырех вязов», потому что двигался словно во сне. Но в этом сне он ощущал тоскливое беспокойство, какое испытывает человек, переходящий из одного мира в другой, из темного ночного закоулка, который должен был бы стать его домом, но еще не стал, а был пока только смутно белеющим лицом и тихим шепотом под звездами, — к горящему очагу и уютной постели, которые раньше были его домом, но больше никогда не будут. Молодой человек в сером костюме, только что вернувшийся с войны и уже павший жертвой…
7
Вечером в пятницу, часов около десяти, Эдди Моулд, спотыкаясь, добрел до дверей своего домика. Не пьяный и не трезвый, а просто оглоушенный. Весь день, не заглядывая домой, он бродил где-то за Кроуфилдом, нося в сердце недоумение и обиду, а под конец завернул в мрачную, грязную пивнушку у Банстерской дороги, там выпил несколько кружек пива и затеял многословную путаную ссору с двумя фермерскими работниками; когда же они обозлились, обозлился еще пуще них и позвал их выйти на улицу. Тут вмешалась хозяйка, несимпатичная толстуха, с самого начала кисло смотревшая на Эдди, и велела ему убираться туда, откуда пришел; и все, сколько там было посетителей, держали ее сторону. За Эдди не вступился ни один.
Дома настроение у него не поправилось, не с чего. Наоборот, там все выглядело еще беспросветнее, чем утром, когда он уходил, — тоска и запустение, словно какое-то злое начало, тайное недоброжелательство, непонятно отчего теперь грозившее ему со всех сторон, похозяйничало у него в доме, не оставив и следа от былого уюта. Эдди огляделся с омерзением: это уже был не его дом. Он нашагался и устал, но спать не хотелось. Хотелось одного: поговорить по душам с каким-нибудь хорошим, добрым человеком. Единственно кто пришел в голову, это вдова бедняги Фреда Розберри, она жила поблизости, через несколько домов. На пути сюда он заметил свет у нее в окне и теперь, несмотря на поздний час, решил, что попытает удачи.
Потом, когда она уже вышла на освещенное крыльцо, одетая, спокойная и чуть испуганная, ему подумалось, что, наверно, это было с его стороны неправильно.
— А, это вы, мистер Моулд, — с облегчением произнесла она, когда узнала Эдди. И после маленькой заминки пригласила: — Ну что ж, заходите, пожалуйста.
Он вошел следом за нею, ощущая себя огромным, неповоротливым, нечистым. Последний раз брился два дня назад, и новый коричневый костюм, должно быть, имел сейчас такой вид, будто в нем выспались под забором. Миссис Розберри занималась шитьем и слушала радио. Пока она выключала приемник, Эдди осмотрелся: комнатка прибранная, уютная, не то что его холодное, заброшенное жилище.
— Садитесь вон туда, мистер Моулд, — кивнула она, а сама села на прежнее место и взялась за свое рукоделие. Когда они уже сидели друг против друга, она сказала: — Вы, по-видимому, пришли справиться о своей жене?
— Ну да, — пробормотал он неопределенно и робко заглянул в ее бледное, серьезное лицо.
— Она действительно была здесь, — твердо произнесла она и посмотрела на него довольно строго, — но потом, сегодня утром, уехала к матери. Она, могу вам сказать, была ужасно расстроена.
Настоящий разговор как-то не получался, к тому же Эдди сильно устал, отупел — перебрал пива, и в голове у него была каша.
— Я тоже, — невнятно пробормотал он. — Да и вы бы на моем месте так. После всего как она себя вела.
Миссис Розберри отложила шитье.
— Я не говорю, что она права, мистер Моулд. Разумеется, нет. Я ей так и сказала. Здесь многие вели себя так, что стыдно и противно было смотреть. Но ее случай все-таки особенный, мистер Моулд, уверяю вас.
Ее черные глаза засверкали, к щекам прихлынул румянец, — она даже похорошела.
— Чем это? — Он презрительно искривил губы.
Она ответила, хотя и не сразу:
— Ведь она потеряла ребенка. Она мне рассказывала, что после этого все и началось, и я вполне ей верю. Меня, во всяком случае, спасли дети. Если бы мне не приходилось о них заботиться, я не знаю, что бы с собой сделала. Когда у женщины умирает ребенок — а муж находится так далеко, и война все не кончается и не кончается, — она может дойти до крайности. Женщине всегда нужен кто-то — и если у нее никого нет, а случается горе, и ничего не светит впереди, — тогда она способна на что угодно, лишь бы как-то отвлечься. Так что у вашей жены есть смягчающие обстоятельства, мистер Моулд.
Эдди обдумал ее слова; мысли у него работали замедленно.
— Может, и смягчающие — если один раз удариться в загул. А она постоянно так себя вела.
— Откуда вы знаете, что постоянно?
— По бутылкам, — объяснил он. — Да еще от людей наслушался.
— Я бы не советовала вам особенно слушать, что люди говорят. Есть такие, наговорят всякого.
— Что сталось у нас тут с народом? — вспыхнул он. — Из-за их недомолвок да ухмылок еще в тысячу раз хуже. Что я им сделал? Кто из нас изменился, я или они?
Она посмотрела на него сочувственно, но ничего не ответила.
— Вот что я вам скажу, миссис Розберри, — проговорил он, немного успокоившись. — Если бы она хоть ждала меня дома, когда я вернулся, и объяснила бы мне все, как, видать, объяснила вам или как вы сами мне вот сейчас растолковали, — что, мол, настрадалась из-за маленькой, и все такое, а потом бы сказала: «Я неправильно себя вела, Эдди, и очень сожалею», в таком роде, тогда бы, по мне, получилось совсем бы другое дело. Но ее вообще даже дома не было. Распечатала мою телеграмму и снова запечатала — мол, не читала. А потом является с таким видом, будто вообще ничего особенного и не случилось…
— Я знаю, знаю! — взволнованно сказала миссис Розберри. — Это она сделала неправильно, и уже сама понимает.
— Еще бы! — Эдди не мог больше усидеть на стуле. Он поднялся, покачиваясь и глядя в пол, стараясь подобрать подходящие слова. Но обида накипала, и он заметался по комнате, от двери к столу, покуда наконец не остановился снова перед хозяйкой.
— Слышали бы вы наши разговоры на фронте — о том, как все будет, когда мы вернемся. У нас часами могли об этом говорить. С чего ни начнется разговор, обязательно приходит к этому: «Вот ужо, подождите, ребята!» И представьте, я вернулся, на душе радостно, штатский человек опять, и весь свет мне друг и брат, а получилось все не то, все наперекосяк, и я вам честно скажу, миссис Розберри, как подумаю, так прямо, кажется, разнес бы все на куски к чертовой матери!
— Нет, нет! — огорченно вскрикнула она. Она уже тоже поднялась со стула.
— Простите меня за грубое выражение, миссис Розберри, — повинился он. — Я не хотел — сорвалось. Извините.
— Я не об этом, мистер Моулд, — горячо возразила она, глядя на него с состраданием. — Я понимаю ваши чувства, но поверьте, все, что вас мучает, на самом деле — не так плохо, как представляется, право!
Может быть, на него подействовал ее сострадательный взгляд. Или просто сам ее вид, как она стояла перед ним, такая славная и добрая. Только он сделал в направлении к ней несколько шагов и протянул руки, даже не зная, чего ему надо. Но увидел, как она отшатнулась, как в глазах у нее мелькнул испуг — или отвращение? — и остановился.
— Я… я хочу как-нибудь выбрать время и поговорить с вами о Фреде, — запинаясь, сказала она. — Но сейчас уже поздно. По-моему, сейчас вам пора уходить, мистер Моулд, вам не кажется?
— Да, да, мне пора, — пробормотал он, не поднимая глаз. — До свидания.
Эдди добрел до своего дома, страшно подавленный. Что он ни делает, все получается не слава Богу. И некуда от этого укрыться. Любая самая паршивая ночевка вне радиуса действия минометов — все было бы лучше, чем то, что с ним здесь происходит. Ей-же-ей, даже под бруствером в окопе, с трясучкой в брюхе, он не чувствовал себя так погано. Мрачный, растерянный, лег он в постель. Уснуть, скорей бы уснуть! Но сон к нему пришел далеко не сразу.
Субботнее утро, да только какой это праздник? Нечем даже позавтракать, накануне забыл купить. Но идти в деревню смертельно не хотелось, поэтому, несмотря на голод, он обошелся чашкой крепкого чая и сигаретой. А потом хмуро огляделся и решил прибраться в доме. Работал невесело, но тщательно и управился ровно наполовину, когда, как на грех, Бог принес первого гостя: раздался стук в открытую дверь, и вошел мистер Дроден, пастор, сильно поседевший, но по-прежнему румяный и улыбчивый. Уж он-то не остался без завтрака.
— Вот это прекрасно! — весело воскликнул мистер Дроден. — Мы только что вернулись с войны и уже взялись за свою долю домашней работы! Хотя для того, кто служил в армии, это, должно быть, сущие пустяки, а? Ну, как поживаете?
— Да ничего, — буркнул Эдди.
— А миссис Моулд, надо понимать, отправилась за покупками.
— Нет. Она уехала к матери.
Мистер Дроден сел, положил на пухлые колени шляпу, прижал поля мягкими ладонями, согнал с лица улыбку и озабоченно посмотрел на Эдди.
— Мне очень прискорбно это слышать. До меня уже дошли — довольно кружными путями — слухи о том, что вы поссорились, и я отчасти по этой причине и явился. Правда, я надеялся, что мои сведения ложны, — в деревне распространяется много глупых сплетен, — но, как видно, так оно и есть?
— Все так, — подтвердил Эдди, напрягая скулы.
Мистер Дроден снова украсился улыбкой.
— Может быть, мы с вами раскурим трубки и все тихо-мирно обсудим?
— Вы раскуривайте, если хотите, — сухо ответил Эдди. — У меня трубки нету.
— Сигарету, в таком случае? У меня есть с собой.
— Да нет, спасибо. Не тянет сейчас курить.
И разговаривать тоже не тянет — подразумевал его неприветливый тон.
Мистер Дроден, разговаривая, принялся возиться с кисетом и трубкой, будто показывал и пояснял, как ими пользоваться.
— Сейчас такие времена, что… надо все тщательно обдумывать… и советоваться. Из-за войны у всех нас получился как бы перерыв в жизни…
— Не у всех, однако же.
— В каком смысле? Я вас не совсем понял, Моулд.
— У многих парней, которых я знал, с которыми служил вместе, получился не перерыв, а конец жизни.
— Я не согласен, что это конец их жизни… и сожалею, что таково ваше мнение… но теперь я понял, что вы имели в виду. И все-таки для большинства из нас, как я уже сказал, из-за войны получился в жизни довольно долгий перерыв.
— И потом еще, — упрямо продолжал спорить Эдди, — вроде считалось, что после войны мы начнем жить по-новому.
— О, да-да, разумеется, — сердечно закивал мистер Дроден. — Мы все надеемся, что это удастся осуществить в какой-то мере. Правительство разработало план. Вы наверняка слышали об этом.
— Слышать-то слышал…
— Но сейчас мы говорим о делах более личных, — поспешно продолжал мистер Дроден, словно бы недовольный сомнением в голосе Эдди… — У вас тут произошла ссора, но я надеюсь, что очень скоро нам удастся все уладить. Чуточку терпимости, — жизнерадостно порекомендовал он, — больше понимания бед и трудностей друг друга, в духе христианского милосердия и прощения и с той и с другой стороны. Ну, как?
Эдди молчал. Мистер Дроден заполнил неловкую паузу новой серией приемов раскуривания трубки.
— Мы смотрим на вас, молодежь, — с натужной улыбкой вновь заговорил мистер Дроден, — на вернувшихся с войны героев-победителей…
— Никакие мы вам не герои-победители! — вскинулся Эдди. — Я лично не герой. И никогда не метил в герои.
— Вот это верно. Это по-британски…
— Не в том дело, мистер Дроден. По-британски или там еще по-каковски, — нет особой разницы. Все парни как парни — кроме наци, понятно, но у этих просто-напросто мозги набекрень. Я не герой. А самый обыкновенный парень. Пришел с войны, где одно дерьмо, и кровь, и убивают людей. Я видал такие разрушения, что не поймешь, это ратуша была или свинарник. Видал людей, сгоревших заживо. Этого быть не должно было.
— Ну конечно, не должно, — согласился мистер Дроден. — Но вы ведь понимаете, нацисты…
— Знаю. Все это я слышал! — горячился Эдди. — И нацистов видел своими глазами. Они психованные. Но я вот не пойму, кому это раньше было не ясно? Кто их напустил на людей? И дал им такое преимущество на старте? Почему всех этих типов, Гитлеров всяких и Гимлеров, давным-давно не заперли в дурдом, не вздернули на виселицу как кровавых убийц? Кто это так все устроил, что мне пришлось несколько лет своей жизни потратить на то, чтобы их выловить?
— Ну, это вопрос политический, — сказал мистер Дроден. — Мы, разумеется, допустили ошибки…
— Что-то я не слышал, чтобы хоть кто из наших руководителей признался, что допустил ошибки. Этот старикашка, как там его, наш премьер, не идет ко мне и не говорит: «Слушай, Эдди Моулд, я тут наделал ошибок, ты уж прости». Как бы не так! Но вы говорите, что с этим покончено и мы начинаем новую жизнь. Кто же это ее начинает, хотелось бы знать? Назовите хоть несколько имен у нас в Кроуфилде. Что они затеяли, как взялись за дело? Я бы вот мог кое-кого назвать, да только ничего нового они не начинают. А разговаривают и смотрят так, что можно подумать, я с отсидки вернулся, а не с войны. Но этого тоже не должно быть, как крови и дерьма там, откуда мы вернулись. Что нам нужно, что лично мне нужно…
Он замолчал, ища подходящие слова, чтобы выразить мысль.
И в эту минуту на пороге появился сержант Паркинсон из Бэнфордской полиции. Когда Эдди уходил в армию, Паркинсон был рядовым констеблем, но с тех пор получил повышение. Эдди знал его издавна и порядком недолюбливал. Берт Паркинсон и рядовым-то вечно придирался и лез не в свое дело, а уж теперь от него и подавно ничего хорошего ждать не приходилось. К тому же он сейчас прервал Эдди, когда тот пытался сказать что-то важное.
— Проходите, не стесняйтесь, — саркастически пригласил его Эдди.
— А что, дверь открыта, — оправдываясь, заметил сержант Паркинсон. — О, с добрым утром, мистер Дроден. Не знал, что вы здесь.
— Ясно, не знали, — огрызнулся Эдди, с ненавистью глядя в обветренное лицо полицейского. — Некогда было поинтересоваться. Ну, чего вам?
Сержант, почтительно поглядев на пастора, который не выказывал намерения уходить, ответил:
— Ничего срочного. Зайду в другой раз.
— Да ладно, — сказал Эдди. — Выкладывайте.
— Может быть, вам лучше без меня? — Мистер Дроден стал подниматься.
— Честно сказать, я со своей стороны буду только рад вашему присутствию, мистер Дроден, — сказал сержант Паркинсон.
— Ну… в таком случае… — улыбнулся мистер Дроден.
Эдди перевел раздраженный взгляд с одного своего гостя на другого. Ишь как спелись, ну прямо душа в душу. Непонятно только, что им надо от него?
Сержант Паркинсон откашлялся, устремил на Эдди суровый взгляд и официальным тоном проговорил:
— Я получил на вас несколько жалоб, Эдди Моулд. Одна — в связи с вашим поведением в питейном заведении «Солнце». Грубо выражался и грозил побоями. Ну ладно, я посмотрел сквозь пальцы. Но вот опять поступила жалоба. Вчера вечером в «Колоколе». Нарекания те же.
— Вот именно. И я еще кой-чего могу от себя добавить, — раздалось с порога у Эдди за спиной. Это была миссис Могсон.
— А ну, проваливай отсюда! — заорал на нее Эдди. Она напугала его, подойдя сзади, и он вконец разозлился. — Вон!
— Вот видите! — воззвала старуха к государству и к церкви. — А у меня тоже жалоба. Кричат тут, ругаются по-всякому и до глубокой ночи дочке моей спать не дают. Возмутительно. То одно тут было безобразие, теперь другое.
Тут Эдди рванулся к ней, она завизжала и отскочила от порога. На самом деле он хотел просто захлопнуть дверь перед ее наглым носом, но она подняла крик, будто он бросился на нее с кулаками. Сержант Паркинсон поспешил ему наперерез, однако Эдди все-таки успел закрыться от вредной старухи.
— Вот и все, — отдуваясь, проговорил Эдди. — Пусть не лезет. Разоралась старая чертовка на чужом пороге. Пакостница!
— Тут вы, может, и правы, — строго сказал сержант. — Однако же это еще одна жалоба. Ведь верно, мистер Дроден?
— Да, да, — поспешно подтвердил мистер Дроден. — Прискорбно. Очень, очень прискорбно. Так что же вы хотели сказать, сержант?
— Я вот что как раз собирался ему сказать, — начал сержант Паркинсон, будто Эдди вообще тут и не было.
— А собирались, так и говорите! — не стерпел Эдди. — Да поживее, и катитесь к чертовой матери!
— Опять грубые выражения. Совсем распоясался. И при ком! — Сержант осуждающе покачал головой. — А собирался я сказать вот что. Вы тут не в армии, Эдди Моулд. Вы гражданское лицо и будьте добры вести себя по-граждански. Иначе у вас будут неприятности — серьезные неприятности. Не воображайте, что раз вы вернулись, то можете делать тут что вам нравится.
— Что мне нравится? — возмутился Эдди. — Нравится? Да я ничего и не сделал еще, чего хотел!
Мистер Дроден поднял большую белую ладонь, призывая к спокойствию и Эдди, и рвущегося в бой Паркинсона.
— Нет, нет! Только не будем выходить из себя. Сержант Паркинсон о вас же заботится, его слова — чисто дружеское предостережение…
— И пусть убирается со своими дружескими предостережениями! — орет Эдди. — Я не обязан терпеть, чтобы полицейские сержанты врывались в мой дом. И пасторы, между прочим, тоже…
— Ну, довольно, хватит. — Мистер Дроден величественно поднимается и обращается к сержанту: — Тут имели место кое-какие семейные неприятности, и я надеялся, что, выкурив трубку-другую и поговорив как мужчина с мужчиной…
— А я не желаю выкуривать трубку и говорить как мужчина с мужчиной! — раздается глас Эдди, вопиющего в пустыне раздражения и безысходности.
— Одно дело — что вы желаете или не желаете, и совсем другое — что вам следует делать, — наставительно произносит сержант Паркинсон. — Вы вот мистера Дродена слушать отказываетесь. Меня слушать отказываетесь…
— Так точно. И миссис Могсон тоже отказываюсь. Это уже трое. И еще наберется немало, кого я слушать не собираюсь. Так что двигайте отсюда! — Он свирепо смотрит на них, не произнося больше ни слова. Но потом в душе у него происходит как бы всплеск горечи. — Что это с вами со всеми? С ума, что ли, посходили, или это я не в себе? Потому что я, ей-богу, не понимаю, где я очутился. Если и дальше так пойдет, я не знаю, что могу с кем-нибудь сделать.
— Ничего вы ни с кем не сделаете, — произнес сержант Паркинсон, распахивая дверь перед мистером Дроденом. — И имейте в виду, что я больше вас предупреждать не буду. Прошу вас, мистер Дроден.
Мистер Дроден обернулся напоследок и бросил на Эдди укоризненный взгляд.
— Постарайтесь успокоиться и немного подумать. Помните о своих новых обязательствах, Моулд. И в любое время, если вам…
— Всего хорошего!
Эдди отвернулся от двери. Он был очень зол, в особенности на Паркинсона; но зол он был и на себя. Он знал, что вел себя неправильно, но правильно себя вести у него никак не получалось, словно существовал какой-то таинственный широкий заговор, цель которого — навлечь на него, Эдди, всеобщее осуждение, в том числе и его собственное.
Поразмышляв на эту мрачную тему, он вернулся к уборке. Все-таки какое-то занятие. Если он не может навести порядок в собственных тоскливых мыслях, зато хоть наведет порядок у себя на кухне. Вскоре он сделал открытие: в чулане, позади двух бидонов нашлась бутылка виски в форме плоской фляги, почти полная. Сначала Эдди понюхал, действительно ли это виски? Потом сделал глоток, удостоверился: виски, притом высшего качества. А раз виски, значит, его можно выпить. И Эдди принялся пить. Он выпил всю бутылку большими, огненными глотками.
Люди оборачивались, когда он брел по улице в пивную «Руно» прикупить пару кружек пива — от выпитого виски у него разыгралась невыносимая жажда — и мясного пирога или бутербродов, что там найдется подходящего. Ну и пусть глазеют. В «Руно» на него тоже косились. И на здоровье. Ему ни до кого дела нет, и пусть к нему тоже не лезут. А если кому охота выяснить отношения, он отлынивать не станет, черт бы их всех побрал. Он так и сказал двоим в пивной, и они ответили, что им ничего выяснять не охота. Потом они ушли. Там в баре их было еще несколько, но те помалкивали, только глаза на него пялили. Ну, он тоже на них взглянул разок-другой. Сволочи.
А потом он разглядел среди прочих лицо друга. По крайней мере, так ему показалось. Лицо было старческое, в морщинах, с ухмылкой. Эдди знал его всю жизнь, только вот сейчас забыл, чье оно.
— Вроде знакомый, а? — с трудом промямлил он. Язык плохо слушался. И скулы затекли, намолчался в этой паршивой дыре.
— Как же, как же, Эдди! — отозвался старый, еще больше обнажив голые десны. — Чарли я, Чарли Шатл с фермы «Четыре вяза». Вот с эдаких пор тебя знаю, парень.
— А, ну да, — кивнул Эдди. — Старый Чарли. Старый миляга Чарли. Выпьем со мной, Чарли?
— А чего, спасибо, — закивал старик. — Не откажусь пропустить стаканчик горького.
— Получите пинту! — Эдди кричит: — Эй, налейте Старому Чарли пинту горького! Живо!
Это не понравилось. На него снова посмотрели искоса — но пинту подали.
— Наилучшего здоровьица! — произнес Старый Чарли. — А ты как поживаешь, Эдди, в наши беспокойные времена?
— Да не знаю, — пожал плечами Эдди. — Я только что вернулся, понимаете? И как поживаю, сам не знаю. Не так чтобы особо хорошо, пожалуй, — нет, хрен его дери, не так чтобы особо хорошо!
Старик подмигнул.
— Нагрузился нынче, парень, как я посмотрю, а? Накачался малость?
— Ваша правда, Чарли. Но не пьян, нет. И не думайте даже говорить, что, мол, я пьян.
— Да нет, что ты. — Старик захихикал. — В самый раз, вот что скажу. В самую меру.
Эдди не очень понял смысл его слов, но спорить не стал. Старый Чарли не внушал ему ни беспокойства, ни подозрений. Старый миляга Чарли. И тут Эдди вспомнил про Старого Чарли нечто существенное.
— Слушайте, Чарли! — закричал он. — Вы же работаете у Кенфордов, точно? Всю жизнь у них! А я и забыл. Ну, как там Герберт?
Чарли поднял умудренные глаза над пивной кружкой.
— Был у меня с ним разговор… об теперешнем военном времени и по прочим вопросам… и теперь он размышляет, по лицу видать, что я его заставил задуматься.
Старик самодовольно хихикнул.
— А то он без вас мало думал, — заспорил Эдди. — Мы с ним вместе служили, понятно? Уж кто-кто, а я его знаю хорошо. Лучший капрал на свете, Герберт Кенфорд!
— Хороший парень, смирный, — кивнул Старый Чарли. — Мы с ним о чем, бывало, ни толковали. Не то что его брат, с этим не поговоришь, с мастером Артуром, он все сам знает. Он тебя и слушать не станет. А вот мастер Герберт, он слушает. И на заметку берет.
— Да и не в том только дело, — подхватил Эдди, взволнованный неясной мыслью, не вслушиваясь в слова Старого Чарли. — Тут такого насмотришься, что каждый задумается. Я вот, например, стал думать.
— О чем же, Эдди?
Эдди нахмурился. Вопрос был преждевременный, над ним еще нужно было поломать голову.
— Да вот, понимаете, обо всем, — пробормотал он. — Много чего надо обмозговать, Чарли. Разложить по полкам… и то и се… — задумчиво протянул он.
И как на грех, именно в этот неудачный момент должен был вмешаться в разговор возчик Эрни Вильямс, самая луженая глотка в Кроуфилде.
— Эй, да ты, я вижу, вернулся, Эдди! Ну как жизнь, в порядке? Ишь у тебя какой костюм новенький, ты смотри поаккуратнее с ним. А что это Старый Чарли тебе рассказывает?
Старый Чарли Эрни Вильямса недолюбливал, он втянул голову в плечи и предоставил отвечать своему собеседнику.
— У нас серьезный разговор, — буркнул Эдди, раздосадованный вмешательством.
— У вас и вид такой. Серьезный.
— Не все тебе равно, какой у нас вид? Ты и сам не ахти как выглядишь, черт бы тебя драл! Удались.
— Э, э! Ты здесь не хозяин. Понятно?
— И ты не хозяин.
Два здоровяка стояли лицом к лицу, испепеляя друг друга взглядами. Старый Чарли решил потихоньку ретироваться.
— Ну, ну, к чему ссориться, ребятки? — попробовал было он их образумить, но никто не обратил на него внимания.
По правде сказать, Эдди тоже недолюбливал Эрни Вильямса, между ними и в прежние годы случались стычки. Правда и то, что было у него такое предчувствие: этот день непременно кончится для него отчаянной дракой. Но все-таки, когда они стояли вот так, дыша враждой и выжидая, кто первым сделает следующий ход, в его затуманенной голове еще мелькнула мысль, что это все — бессмыслица, что это — одна большая необъяснимая неправильность, обложившая его со всех сторон.
Но Эрни Вильямс отступил на шаг, допил свое пиво и поставил стакан на стойку. Эдди тоже допил пиво из своей пинтовой кружки и поставил ее на ближайший столик. Обернулся — Эрни Вильямс уже был наготове. И тут Эдди забыл, что все это — бессмыслица. А только видел перед собой ненавистную, мясистую рожу Эрни Вильямса.
— Заруби на носу, — произнес Эрни. — В других местах у тебя, может, и получается командовать, но здесь, при мне, — не выйдет! Ясно? Ах нет?
— Нет!
Разозленный не столько словами, сколько презрительной гримасой Эрни Вильямса, Эдди ринулся на него, ничего перед собой не разбирая, но был остановлен и отброшен свирепым ударом в грудь. От этого туман у него в голове сразу рассеялся, прошло ощущение, будто он говорит и действует сквозь сон, и накатило бешенство.
Хозяйка пивной на пару с дочкой пронзительно завопили; посетители, обступив дерущихся кольцом, пытались их разнять; Эрни Вильямс исхитрился провести несколько ударов; но Эдди наседал, мелькали тяжелые кулаки, били, крушили, и скоро окровавленный, пыхтящий Вильямс был повержен. А Эдди под всеобщий гам на подкашивающихся ногах вышел за дверь, прижимая платок к глазу, который к утру заплывет синяком. И, слепо спотыкаясь, направился домой.
Но тут же кто-то тронул его за рукав. Оказалось — Старый Чарли.
— Такое дело, Эдди. Пришлось мне отойти в сторонку, — сказал он. — Мы с Эрни крепко не терпим друг друга, а я уж давно вышел из того возраста, когда мог постоять за себя кулаками. — Потом он хихикнул: — Здорово ты его отделал, парень, в жизни ничего лучше не видел. Мясную тушенку сварганил из его физии, право слово, мясную тушенку.
Но Эдди не торжествовал.
— Этого быть не должно было, Чарли! — бормотал он. — Нипочем не должно было. Плохо это. Час от часу все хуже и хуже.
— Такое устройство, — мрачно кивнул Чарли. — Оно и впредь так будет, Эдди, покуда не возьмутся за ум и на той и на этой стороне.
— При таком развороте, — рассуждал Эдди, — ведь Паркинсон за мной с ордером явится. Нет, мне надо с кем-то обговорить это дело. А то у меня в голове полная каша.
— Я шепну словечко мастеру Герберту, ежели он только дома нынче, — предложил Чарли.
— Да, пожалуй, — грустно кивнул Эдди. — Но на самом-то деле мне бы надо повидать сержанта Стрита, вот кого.
Вечером, протрезвевший, но сильно помятый и по-прежнему несчастный, Эдди свернул в проулок и пошел по дороге, которая вела в гору к Суонсфорду. И здесь он встретил Герберта Кенфорда.
— Эдди! — окликнул его Герберт. — Что с тобой случилось?
Эдди помотал головой.
— Много чего, Герберт.
— У тебя основательный фонарь под глазом. Эрни Вильямса работка? Мне уже Старый Чарли рассказал.
— Это точно, Эрни Вильямса. Но не в том дело, Герберт, совсем не в том.
Герберт посмотрел на него с заботливым сочувствием.
— А в чем же? Что тебе неймется, старый пень, а?
Эдди еще раз помотал головой.
— Некогда мне сейчас разговаривать, Герберт. Я должен повидать сержанта. Обязательно должен.
— Алана Стрита? Это ты к нему топаешь? А если ты его дома не застанешь, Эдди?
— Авось повезет. Мне вот так надо с ним повидаться. Посоветоваться.
Герберт положил руку ему на плечо.
— Ты никогда раньше так не падал духом, Эдди. Взбодрись, парень, ведь не настолько уж все плохо.
— Плохо, Герберт, и может стать еще гораздо хуже, — понуро сказал Эдди. — Все пошло наперекосяк. Эдак я скоро убью кого-нибудь, ей-богу, вот увидишь.
— Знаешь что, Эдди, я, пожалуй, с тобой пойду.
— Пошли, конечно. Но тебе необязательно, Герберт. То есть понимаешь…
— Нет, — твердо сказал Герберт. — Я иду с тобой, Эдди. Я тоже хочу повидать Алана Стрита. И у меня найдется кое о чем с ним поговорить. Так что, если ты не возражаешь, я пойду с тобой. Ты не против?
Эдди осторожно, криво осклабился — настоящей, широкой улыбки у него на этот раз не получилось.
— Мы с тобой на пару, капрал Кенфорд, явимся к сержанту Стриту и доложим обстановку. Двинули скорее, не то со мной еще какая-нибудь незадача приключится, и я уж тогда не знаю что натворю.
— Что ж, пошли, — сказал Герберт; и они зашагали вдвоем.
Эдди, как бывало, по-медвежьи топал с ним бок о бок. Был погожий, золотой вечер. Проселок вился среди зарослей сирени и ракит. Холмы на фоне заката казались вырезанными из золотисто-зеленого бархата. А над ними, прозрачная, безоблачная, уходила в необъятность сумеречная лазурь. Этот вечер словно принадлежал иной жизни, а не им, какими они оба были сейчас. Он раскинул шатер неземной красоты над их земными огорчениями.
— Совсем как тогда в Сиракузах, — сказал Герберт и, не дождавшись от Эдди ни слова, спросил: — Хочешь, потолкуем сейчас, Эдди? Или тебе лучше отложить до Алана Стрита?
— Давай лучше отложим, — ответил Эдди, не сбавляя шаг. — Если его не будет, тогда постараюсь все объяснить тебе. Да только хорошо бы все-таки он оказался дома. Вот уж не думал я, Герберт, что мне еще понадобится обратиться к сержанту Стриту. А вот поди ж ты, понадобилось. Да еще как.
— И со мной, похоже, такая же штука, — задумчиво проговорил Герберт.
— Как? У тебя же все вроде в ажуре, разве нет?
— Да вот сам не знаю, Эдди. Хорошо, однако, что мы с тобою встретились. Я собирался зайти, поглядеть, как твои дела. Слышал, у тебя непорядок кое в чем. Но ведь неизвестно, Алана, может, нет дома, или он занят, или вовсе не захочет нас видеть. Может, ему больше ни к чему с нами знаться.
— Ну, это ведь ты не всерьез так думаешь? — обеспокоенно спросил Эдди.
— Не хотелось бы думать. Да нет, не думаю, конечно. Неприятно было бы, если у Алана Стрита не было бы больше охоты с нами знаться.
— Неприятно! Для меня это прямо не знаю что было бы — я вон как запутался. Весь день себе твержу: «Надо тебе, как бывало, пойти посоветоваться с сержантом Стритом». А больше уж и не знаю, что можно сделать. Либо это, либо я совсем с ума сбрыкну.
В эту минуту они заметили приближающийся автомобиль, и Герберт, разглядев, кто в нем сидит, крикнул и поднял руку.
8
— Что это с тобой сегодня? — утром подозрительно спросила Диана.
Обычный вопрос, Диана постоянно спрашивала, что с ним. Новой — незаслуженной, необычной и убийственной — была подозрительность в ее тоне. Не прежняя сестринская забота, а настороженность, чувство более темное и коренящееся глубже, чем те, что испытывала Ди в прежние времена. Жизнь дала ей Дерека, а потом безжалостно отняла, и теперь она ни на йоту не доверяла жизни. Любой, даже Алан, мог оказаться членом пятой колонны.
— Это с перепою, — шутливо ответил Алан. — От злоупотребления спиртными напитками. Его сиятельство потчевал нас вчера с размахом. Спроси у Джералда, братец тоже накачался дай боже. В девяти случаях из десяти после попойки встаешь просто с головной болью, трезвый и унылый. Но бывает, пожалуй, даже реже, чем один раз из десяти, что просыпаешься, а ты все еще под градусом, во хмелю, и на душе весело. Сегодня вот как раз такой случай. Строго говоря, я просто еще пьян.
— Что-то не верится, — сказала она.
— Уверяю тебя, Ди.
Она испытующе посмотрела на него.
— Как Бетти?
Молодчина старушка Ди, она еще способна иногда влепить прямо в яблочко, подумал про себя Алан. Надо с этим поаккуратнее.
— Милейшая Бетти все так же прекрасна и глупа. Ее посадили за стол рядом со мной, и она рассказывала мне про своего мужа.
— С нее станется.
— Я сегодня еду к ним обедать, — как бы между делом упомянул Алан.
— Мама будет вне себя. Ты уже ей сказал?
Алан отрицательно покачал головой.
— Если она спросит, куда я собрался, тогда скажу. Но если вопрос не поступит, то мы это замнем. И когда я говорю «мы», я имею в виду…
— Да, я знаю, кого ты имеешь в виду, — не без раздражения прервала его Диана.
— Я слышал, как о маме с утра справлялся Джералд после какого-то телефонного разговора. Возможно, у него для нее более интересные новости, и ей будет не до меня.
Диана задержала на нем задумчивый взгляд.
— Мама думает, что ты наймешься на работу к этому чудовищному лорду Дарралду.
— А что, может быть, — легкомысленным тоном ответил Алан. — Я и сам об этом подумываю. Мне дан срок для ответа до исхода сегодняшнего дня.
— Лучше бы тебе сегодня не принимать ответственных решений, — многозначительно произнесла Диана.
— Почему это?
— У тебя сегодня одна дурь на уме. Да, да, Алан, уж я-то тебя знаю.
Вошел Джералд, сияя улыбкой.
— Ишь как вы тут уютно сидите чирикаете над остатками завтрака! Так вот, сегодня днем к нам с кратким визитом пожалует важный гость. По пути на обед к Дарралду. Будущий государственный деятель, а ныне какой-то там помощник министра Имперского Сотрудничества, мой старый однокашник Табби Арнклиф. Вы ведь, по-моему, не знакомы?
Нет, они не имели чести.
— Кто это? — спросил Алан.
— Табби? Его папаша — лорд Беннервейл. Он — младший сын. Мы с ним вместе учились в школе, а потом в Сандхерсте,[2] так что всю жизнь, можно сказать, бок о бок. Поначалу и служили в одной дивизии, но потом он чем-то заболел, напялил на голову котелок и занялся политикой. Ну, вот, он заедет сегодня пропустить стаканчик. Джин у нас есть?
— Нет. И до конца той недели не будет, — ответила Диана, вставая из-за стола.
— Может, у дяди Роднея найдется припрятанная бутылочка?
— Едва ли, — сказала Диана, захватывая свой поднос. — А если бы и нашлась, не думаю, чтобы он нам отдал. Придется вам удовольствоваться хересом.
— Херес этот никуда не годный, — проворчал Джералд, открывая ей дверь. — Не представляю себе, откуда его теперь привозят. Ну ладно, посмотрим. — Он прикрыл за Дианой дверь и возвратился к столу, озабоченно поглядывая на брата. Алан раскуривал трубку.
— Ты как, старичок, будешь дома, когда заявится Табби?
— Не знаю. Я в начале первого должен уехать. А что?
— Просто, если будешь, ты уж поснисходительней к нему, ладно? Он не слишком-то хорошо соображает, бедный Табби, а мне бы не хотелось, чтобы он составил себе о нашей семье ложное представление.
— Послушай, Джералд, если человек достаточно хорошо соображает, чтобы представлять правительство его величества в таком важном деле, как Имперское Сотрудничество…
— Так-то оно так, старичок, — с сомнением сказал Джералд. — Но то — политика. У них в роду всегда занимались политикой, потому и для Табби нашлось местечко. Вообще-то он малый отличный, безукоризненно честный, и все такое, но вот только насчет умственных способностей у него не блестяще, тут спорить не приходится. Так что ты уж с ним, пожалуйста, поосторожней, старичок. Без разных этих твоих фокусов. Выражайся четко, доходчивыми словами, ну и так далее, идет?
Алан ухмыльнулся, кивнул и вдруг разразился хохотом. Он хохотал неудержимо, из глаз по щекам катились слезы. Следом захохотал и Джералд, его большое, румяное лицо совсем побагровело. И так — минуту или две.
— Сам даже и не знаю, чего мы смеемся, — отдуваясь, проговорил наконец Джералд.
— Я как раз только что пытался объяснить Ди, — сказал Алан, — да она вот не понимает. А все дело в том, что я вчера выпил лишку, и сегодня утром у меня вместо обычного похмелья как бы затянувшееся опьянение — ну знаешь, когда ты чуточку навеселе и в легкомысленном настроении…
— Да, я тебя хорошо понимаю, старичок. Со мной тоже так бывало иногда. Двух-трех глотков достаточно, и ты снова пьян. В этом была беда Джека Стоуэрса, помнишь его? Да нет, конечно, откуда тебе? Бедный старина Джек постоянно из-за этого страдал. Накануне выпьет, а утром еще в таком же виде, как с вечера. Помню, один раз…
Но не успел Джералд углубиться в таинственную сагу о Джеке Стоуэрсе, как раздался звонок почтальона, и Алан пошел его встретить. Прибыл пакет, по-видимому, с пластинками, на имя дяди Роднея. Алан понес его наверх.
Дядя Родней, в поношенном, но великолепном темно-красном шлафроке, показался ему сегодня похожим на пресыщенного жизнью римского императора.
— Тиберий на Капри, — вслух сказал Алан.
— Что насчет него?
— Ты на него похож.
— Очень рад слышать, — сказал дядя Родней. — Если бы у нас был театр для взрослых, кто-нибудь мог бы написать отличную пьесу о Тиберии. Современная точка зрения, будто он поселился на Капри, чтобы предаваться оргиям, — это, конечно же, чепуха. У него была полная возможность при желании до отвала предаваться оргиям в Риме. К тому же я сомневаюсь, чтобы человек в своем уме, хоть однажды участвовавший в оргии, захотел бы предаваться им повторно — дурацкое состояние. Нет, Тиберий оставил Рим потому, что ему там прискучило, и именно этого не могли ему простить напыщенные ослы. — Дядя Родней рассуждал, а сам распаковывал пластинки. — Скрипичный концерт Делиуса. Золотистые сумерки расставания, и все такое. Сейчас мы его поставим. Присядь пока, мой мальчик. Что слышно нынче с утра?
Алан рассказал ему про Табби Арнклифа и повторил просьбу Джералда быть к Табби поснисходительнее.
— Думаю, он совершенно прав, — сказал дядя Родней. — Юнца этого я не знаю, но знал когда-то его папашу Беннервейла, и на мой взгляд, он был просто слабоумный. Его жена, мать этого юноши, дочь старого лорда Гландестри, питала неумеренную страсть к гвардейцам, выбирала то одного, то другого, то третьего и приводила к себе домой в любое время суток. Должно быть, подхватила эту слабость в младенчестве от кормилицы. Психоаналитических объяснений тогда еще не придумали. Но родным большое неудобство, как ты понимаешь. Так что этому юнцу не в кого иметь маломальские умственные способности. Надо будет мне спуститься взглянуть на него.
— У вас нет джина?
— Немножко найдется. А что?
— Внизу нет ни капли. А херес, по мнению Джералда, никуда не годится. И я тоже с удовольствием бы выпил что-то приличное, даже если этому Табби Арнклифу и безразлично, что пить.
— Последнее весьма вероятно. Но ты свою порцию получишь. А как прошел вечер у Дарралда? Как он тебе показался?
Алан в легкой и веселой манере, отвечавшей вкусам дяди и его собственному настроению, описал вчерашний ужин. Дядя Родней, соскучившийся по светской болтовне, довольно посмеивался.
— Ты сегодня блистаешь остроумием, мой мальчик. Этот вечер явно пошел тебе на пользу.
— А вчера, если помните, вы назвали меня положительным, но скучным.
— Разумеется, помню, — как ни в чем не бывало кивнул дядя Родней. — Это я чтобы немножко задеть тебя за живое, мой милый, подстегнуть твою умственную энергию. Похоже, что не безуспешно. Знаешь ли, я бы взял эти деньги.
— У Дарралда? Согласились бы работать в его газете?
— Да. Тебе придется, конечно, поставлять ему всякую вульгарную чушь, рассчитанную на автомехаников и горничных. Но в конце концов таков мир, в котором тебе предстоит жить, почему бы тебе не заработать на нем немного денег, коль скоро они сами идут в руки? Был бы у тебя какой-то выбор, я бы порекомендовал что-нибудь попристойнее. Но других вариантов просто нет. А если выбирать между гангстерами и обормотами, то уж лучше присоединиться к гангстерам. Я бы так поступил на твоем месте. Хотя благодарю Бога, что я не на твоем месте. Ну, а теперь Делиус, а?
Они проиграли весь Скрипичный концерт. Алан слушал более или менее вполуха. Сегодня у него было неподходящее настроение, и музыка доносилась до него как бы издалека.
— Ну вот пока и все, — проговорил дядя Родней, словно очнувшись. — Через пару дней я уже буду разбираться в этой музыке лучше. Но если я хочу посмотреть на молодого человека, мне пора переодеваться. Будь добр, по пути открой кран в ванной. Старая гадкая лохань наполняется целых полчаса. И не забудь взять джин.
Отчасти чтобы избежать встречи с матерью, Алан вышел пройтись. Утро соответствовало его настроению словно на заказ. Легкий ветерок, сияющее солнце, там и сям положены насыщенные цветные пятна. Будто гуляешь внутри красочного пейзажа на выставке 1912 года: холмы, поля, амбары, живые изгороди, — удачная компановка, гармония тонов, хороший английский импрессионизм, без обмана, — продано в первую же неделю за триста пятьдесят гиней. Алан представил себе, как вместе с автором картины и его друзьями празднует удачу в «Кафе Ройяль», а потом они веселой ватагой переправляются в Дьепп и получают взбучку от сердитого Сиккерта.[3]
За этими фантазиями Алан приятно провел время прогулки и мог не думать о своих делах — лучше, он чувствовал, чтобы они пока росли и зрели сами собой, как получится. Пусть беззаботное солнечное утро расцветает свободно, и вечернее золото не будем подсчитывать, покуда оно не упадет в ладони.
У крыльца — автомобиль ответственного вида. Голоса — не откуда-нибудь, а из парадной гостиной. То-то сегодня с утра там спешно наводили порядок по случаю приезда Табби! Алан скромно переступил порог продолговатой комнаты, вполне красивой, хотя и населенной призраками прошлого. Мать поздоровалась с ним светским тоном хозяйки салона. Здесь же находился и дядя Родней, любезный и тучный, типичный видный дипломат в отставке. Дианы не было, зато были Джералд и Энн, оба крупные, в центре внимания, точно хозяева офицерской вечеринки в отдаленном гарнизоне среди гор Востока. И гость, мужественно попивающий херес.
Младший помощник министра Имперского Сотрудничества, меньшой сын графа Беннервейла, консервативный член палаты от избирательного округа Сладберри и тем самым не только мудрый представитель интересов встревоженных жителей Сладберри, но также и заступник — или, по крайней мере, помощник заступника — миллионов канарцев, австралийцев, новозеландцев, южноафриканцев и прочих, оказался довольно рослым, довольно упитанным и розовато-золотистым; и на первый взгляд, держался вполне непринужденно, но при повторном взгляде стало очевидно, что он только-только опомнился от глубокого потрясения. Он явно очень хотел бы понравиться, но не совсем понимал, что для этого нужно.
— Мой младший брат Алан, — провозгласил церемониймейстер Джералд. — Только что из армии. Джина с тоником, старичок?
— Да, спасибо, — поспешил ответить Алан. Джералд, никогда не страдавший скупостью, налил ему щедрую порцию джина. Очень мило с его стороны.
— Слышал, разумеется, о вас от Джералда, — медленно и внятно произнес Табби, словно его словам внимали все владения Короны. — Мы с ним, знаете ли, однокашники. Вы, говорят, вчера ужинали у лорда Дарралда?
— Да, — ответил Алан. — Ваше здоровье.
— Дарралд приглашает его на работу в один из своих жалких ежедневных листков, — сказал дядя Родней.
— Но… послушайте, — возразил Табби, впрочем, извиняющимся голосом, дядя Родней определенно внушал ему трепет, — разве его газеты уж такие жалкие?
— Безусловно, — свирепо ответил дядя Родней. — Сплошное подсматривание в комнату горничной.
— А вы откуда знаете? — сразу же парировала Энн в своей лучшей колониальной манере.
Леди Стрит бросила вокруг торопливый взгляд и подчеркнула рассеянной улыбкой, что не берет на себя ответственности за происходящий разговор, ибо он принял, как она считает, нежелательный характер.
— По воображению, — ответил дядя Родней. — Впрочем, я, кажется, несправедлив к горничным, они не привлекают меня — в том смысле, на который здесь сделан намек, — но и не внушают особого отвращения. А вот газеты лорда Дарралда, что же они такое, если не жалкие листки?
— Самые могущественные и влиятельные образчики нашей замечательной свободной Прессы! — в пародийно-ораторском стиле провозгласил Алан. Он одним духом осушил половину своей порции джина и уже чувствовал его действие.
— В каком-то смысле, знаете ли, вы даже и правы, — с запинкой произнес Табби. — Они действительно пользуются… э-э… очень большим влиянием. Для нас они были… — он замычал с видом Флобера, нащупывающего единственное точное слово, — чрезвычайно полезны. И сам Дарралд тоже. Он очень, я бы сказал, склонен к сотрудничеству.
— И у вас там, конечно, имеются всякие планы и наметки, а, старина? — поспешил ввернуть Джералд, весь сияя интересом.
— Ваша работа, должно быть, очень увлекательна, — подхватила леди Стрит.
— Да, ничего себе, — согласился Табби. — Наша цель, так сказать, — сближение с доминионами.
— А как же, а как же, — сказала Энн, а может быть, это был Джералд, или леди Стрит, или они втроем в один голос.
— Зачем? — спросил Алан.
— Налить тебе еще, старичок? — засуетился Джералд.
— Спасибо, Джералд, с удовольствием, — обрадованно ответил Алан.
Вид Табби выразил облегчение, но оно оказалось преждевременным.
— Я нахожу вопрос вполне уместным, — сказал дядя Родней. — Действительно, зачем?
— Н-ну, это, я бы сказал, вроде как очевидно, сэр, разве нет? То есть, мы тесно сотрудничали во время войны, большинство доминионов отлично себя показали, и… вот теперь нам надо наладить сотрудничество в мирное время. Во благо империи, знаете ли, ну и так далее, — промямлил Табби.
— Вот именно! — подхватил Алан, готовый сейчас поддержать любое мнение. Тут он встретился взглядом с дядей Роднеем. — Вы, дядя, по-моему, не болеете за благо империи.
— Ну что ты такое говоришь, Алан? — упрекнула его мать. Она чувствовала, что с минуты на минуту может произойти большая неловкость, и поэтому, бросив Алану предостерегающий взгляд, обратилась к Табби: — Но конечно, на ваши плечи ложится большая нагрузка?
Однако было уже поздно.
— Разумеется, не болею, — начал дядя Родней пространную речь. — Всякий раз, когда мне говорят о благе империи и о нашем долге отстаивать его, я убеждаюсь, что говорящий имеет тут свою корысть. Но я лицо заведомо незаинтересованное, и для меня проблема встает в совершенно ином свете. Существование заморских владений — или доминионов, как вы выражаетесь, — на мой взгляд, имеет единственную цель: увековечить наихудшие черты английского характера и уклада — манеру наедаться в пять часов и носить шерстяное белье, торгашеский и постный дух, недостаток остроумия, жизнерадостности и подлинного изящества, ханжество и притворство. А так как я не употребляю мороженую баранину, искусственное бургундское и прочие отвратительные продукты, у меня их коммерческая предприимчивость не вызывает ни малейшего восторга. Возможно, впрочем, что они и слали нам товары высокого качества и превосходного вкуса, а мне просто не довелось их отведать. Что же до жителей, то, за исключением некоей прелестной вдовушки из Ванкувера, с которой я как-то познакомился на Антибе, все остальные, с кем сводила меня судьба, были, помнится, как на подбор бесцветными ничтожествами либо же вообще производили отталкивающее впечатление. Так что боюсь, Арнклиф, — заключил он любезно и покровительственно, — вы стараетесь совершенно напрасно. Еще стаканчик хереса?
Речь его повлекла за собой протестующие возгласы и возмущенные взгляды. Бедняга Табби, уже не розоватый, а пунцовый, растерянно бормотал:
— Право же, сэр… вы это, я уверен, не всерьез. Ну, то есть, конечно, некоторые из них действительно люди невозможные… но дело ведь не в этом, вы согласны?.. Нам просто необходимо сплотиться, и не важно, как мы к ним относимся, я сам присутствовал при том, как премьер-министр говорил…
Но дальше Алан уже не слушал. Ему пора было собираться, тем более что до Саутхемов предстояло идти пешком. От двух щедрых порций джина и всего этого дурацкого маленького раута, на котором каждый играл свою комедийную роль, настроение у него сделалось еще легкомысленнее, чем с утра, достигнув высшей точки безответственного веселья. Он казался самому себе похожим на кого-то из героев (если это слово здесь подходит) знаменитых довоенных романов, эдакого обаятельного и умного молодого человека, тонкого, но надежно защищенного броней равнодушия и безответственности и прогуливающегося с приема на прием, от одной любви до другой, поплевывая на все, как заезжий инопланетянин. Может быть, только так и мыслимо прожить на этом свете: вообразить себя гостем с иной планеты, попавшим на этот огромный сине-зеленый шар, который сверкает и переливается радужными пустяками, предназначенными в награду для тех, кто чуть менее глуп, чем другие.
— Я должен идти, — провозгласил он без подготовки и пожал руку Табби, еще вскинутую в жесте протеста. — Сердечно рад был с вами познакомиться, сердечно рад, — произнес он при этом отчасти даже искренно. Он успел удалиться, прежде чем были заданы вопросы. И зашагал по дороге на Кроуфилд.
— У тебя необычный вид, — сказала Бетти.
— У меня и состояние необычное, — ответил Алан. — Я выпил две великанские порции джина в честь Джералдова однокашника Табби Арнклифа, который в настоящее время является членом правительства ее величества, да поможет правительству Бог! Я пришагал сюда на полной скорости, дабы не опоздать. Да еще я вижу тебя. Вот и сложи.
— Не хочешь выпить еще? К сожалению, льда нет. Как я сегодня выгляжу?
Она была в зеленом, с высокой прической.
— Очень экзотично. Белокурая восточная красавица. Изысканное сокровище, завезенное Кубла-ханом, сенсация Ксанаду.[4] С другой стороны, что-то подводное, — продолжал он, рассматривая свою собеседницу. — Таинственная женщина со дна морского. А в терминах «Аналитической психологии» Юнга — фигура «Анима».
— Милый, — очень довольная, проговорила Бетти. — Это все совершенно непонятно. Но звучит потрясающе.
— Это и вправду потрясающая вещь.
— Не то что обед, который нас с тобой ждет. Предупреждаю заранее, что он страшно плохой. Ужасный здесь дом, правда?
Алан огляделся.
— Очень похож на наш. Раньше мне бы это никогда в голову не пришло, но теперь, возвратившись после долгого отсутствия, вижу, что ваш дом от нашего почти ничем не отличается. И тот и этот свое уже отжили, как говорится, и перед ними никакого будущего, только свалка.
— Ну, так уж прямо и свалка, — не поняв, возразила она.
— Не в том смысле. — Алан еще раз посмотрел вокруг. — Тут есть очень красивые вещи. У нас, кстати сказать, тоже. Но все равно это уже не дома, а довольно жалкие реликвии.
— Тебе надо посмотреть мой домик — у меня ведь есть свой домик, и очень даже миленький.
— Согласен. Пригласи меня, Бетти.
— Ты приглашен, милый.
Их взгляды встретились, и она медленно, многозначительно улыбнулась. Он мог болтать любую чепуху, называть ее экзотической, таинственной, юнговским образом, но все равно факт оставался фактом: Бетти при случае бывала очень соблазнительной. Сейчас он это ясно чувствовал.
— Допивай, и пошли, обед ждет, какой ни на есть, — оживленно позвала она.
Столовая была темная и небольшая, изобиловавшая следами жизни старого полковника Саутхема и других, прежних, Саутхемов, ослепительная Бетти выглядела здесь совершенно не к месту. Обед подавала пожилая прислуга — видно было, что она давно уже не выносит молодую хозяйку и поэтому к ее гостю тоже относится неодобрительно. Бетти очень скоро отослала ее.
— Я тебя предупреждала, что еда будет никуда не годная, — говорила Бетти. — Это я виновата. Собиралась сама для тебя кое-что приготовить — ты, может быть, не поверишь, но я совсем недурно умею готовить — и представляешь, забыла, проспала. Кажется, я вчера вечером была немного пьяна.
— Я и сейчас немного пьян, — сказал Алан.
— Тебе это к лицу. Некоторые мужчины становятся лучше, когда они слегка под градусом, и ты — из таких. Что ты делаешь сегодня днем?
— Все мои дела на сегодня — это звонок Маркинчу — помнишь того типа вчера у Дарралда? — надо ответить, согласен ли я на их предложение насчет работы. Он покривился, даже когда я попросил один день на размышление, так что позвонить надо непременно.
— Позвонить можно и отсюда.
— С удовольствием, Бетти, если позволишь.
— Ты, само собой разумеется, согласен. Расскажи мне, что они хотят.
Он объяснил, о какой работе идет речь и сколько ему за нее сулят, и заключил:
— Вчера еще это далеко не разумелось само собой. Я очень даже сомневался. Но сегодня склонен согласиться.
— Будешь оболтус, милый, если не согласишься.
— Если Табби может служить вторым помощником министра Имперского Сотрудничества, то самое малое, чем способен я содействовать комическому эффекту, это писать всякий бред в Дарралдову газету. Если уж мы все валяем дурака, то по крайней мере я на этом что-то заработаю. Глядишь, еще со временем пробью себе дорогу из заднего ряда массовки на авансцену, где главные комики. Что это за напиток, душа моя?
— Много джина и капелька синтетической апельсиновой эссенции. Можешь пить и не беспокоиться. А что ты будешь делать после того, как поговоришь по телефону?
— Если ты меня не выставишь, усядусь тут где-нибудь поудобнее и буду восторгаться тобой, сравнивать тебя с летним днем, и тому подобное.
— Хорошо, я тебя не выставлю. Пудинга положить? Я его в рот не беру. Сейчас покурю, чтобы не курить потом, когда я буду как летний день, и тому подобное. А что такое фигура «Анима»?
— Довольно сложная вещь, с пудингом не идет, — ответил Алан.
— Ну ладно, не трудись, расскажешь потом, я хочу знать. Не думай, что я уж такая дурочка. Ленивая до жути — это да, но не безмозглая. Ты ведь никогда и не обращался со мной как с дурочкой. Это мне, кстати, в тебе и нравится, помимо прочего. Ты не сюсюкаешь. А кроме того, Алан, — она посмотрела на него через стол, странные ее глаза потемнели, — теперь, когда ты стал взрослее и немного заматерел, ты выглядишь гораздо привлекательнее. Ты знаешь?
— Не знал. Но рад слышать, — сказал Алан, и вправду ощущая радость. Он смотрел на Бетти с улыбкой. Как он когда-то мучился из-за нее, когда был молод и раним. (Сейчас, в эту минуту, он чувствовал себя толстокожим и старым.) — Ты ведь знаешь моего дядю Роднея? Вот кто тебя бы оценил.
И он стал рассказывать ей про дядю Роднея.
Она поднялась, проговорила:
— Тебе, по-моему, пора подумать о телефонном разговоре.
— Да, — ответил он и пошел к ней вокруг стола. Она ждала, благосклонно, широко распахнув глаза. Он обнял ее с еще более восхитительной легкостью, чем накануне, и почувствовал, как под его губами приоткрылись ее губы. Но она отклонилась и мягко разжала его руки.
— Ступай лучше позвони по телефону.
— У меня сейчас нетелефонное настроение.
— Так надо, милый. И потом, здесь нельзя любезничать, это небезопасно. У меня, кстати, есть одна блестящая идея.
— Какая? — Он был изрядно пьян.
— Потом скажу, — весело откликнулась она на ходу. — Телефон вон там. А я пока приготовлю кофе, тот, что варят на кухне, — невыносимая бурда.
У лорда Дарралда было сначала занято — должно быть, все еще шли разговоры с Парижем, Римом и Вашингтоном. Что ж, скоро, возможно, и он будет названивать в разные города. Сегодня у него было к этим людям и их действиям совсем другое отношение, почти уже свойское. Когда смотришь со стороны, бегаешь куда пошлют и выполняешь что прикажут, ты испытываешь глубочайшее почтение. Но он теперь знает, как это все делается в действительности. Проще простого — все равно что целоваться с Бетти, коль скоро это уже не всерьез и не причиняет муки. Дозвонившись наконец до Маркинча, Алан объявил ему коротко и развязно:
— Говорит Алан Стрит. Насчет работы, что вы вчера предложили. Помните?
— Угу. Берете?
Алан чуть было тоже не сказал ему в ответ: «Угу».
— О’кей, Стрит. Платим вам тридцать пять в неделю плюс издержки в разумных границах. Контракт на двенадцать недель, и материалы подписные. Во вторник или среду спросите в редакции Фарли. Давайте лучше во вторник. О’кей?
— О’кей, — ответил Алан, решив, что пора осваивать их язык. — Буду во вторник.
— Чудно. Вчера после вашего ухода босс шел на пари, что вы откажетесь. — Маркинч хмыкнул. — Моя взяла. Слушайтесь Фарли — хотя вас, наверно, потянет дать ему пинок в зад. Он знает работу и вас может научить. Увидимся в Лондоне, Стрит.
Только и всего. Пара рекомендаций от соответствующих лиц, разговорчик-другой за стаканчиком-другим — и ты принят, ты свой. Возвращаясь к Бетти, Алан вдруг ощутил досадливое презрение ко всем безликим миллионам глазеющих со стороны и выжидающих, как распорядятся их жизнями.
— Отличный кофе, — похвалил он Бетти.
— Я же сказала. Ты вот не веришь, а я и вправду умею неплохо делать все по дому, когда хочу. Поневоле научилась во время войны. С работой все в порядке? Когда приступаешь?
— Назначено явиться на Флит-стрит во вторник.
— Это нужно отпраздновать.
— Согласен. Когда — и где?
Она улыбнулась своей особенной улыбкой. Алан смотрел с пониманием.
— Прошу тебя, — сказал он, — не выплывай из таинственных зеленых глубин с такой улыбкой на устах, если ничего не хочешь ею сказать.
— Я размышляю, — задумчиво отозвалась она. А через несколько мгновений, подняв голову, одарила его такой неотразимой, откровенно безнравственной ухмылкой, что он сразу же сказал:
— Что бы это ни означало, мой ответ: «Конечно да, Бетти».
— Вот что, милый, я обдумала, как отпраздновать. Давай закутим. Я все равно сегодня вечером собираюсь в свой домик и машину зафрахтовала до вторника, ты как насчет того, чтобы поехать со мной? Тогда во вторник ты оттуда подашься в Лондон, а я вернусь сюда. Будем мы одни. Там в полумиле по шоссе неплохой ресторанчик, если нам понадобится еда и питье. Можно будет отлично провести время. Ты это заслужил. Да и я тоже. Так как?
Он кивнул, улыбаясь, подошел к ней и запрокинул ей голову.
— Один только раз, и все, — шепотом предупредила она. — Здесь вправду небезопасно. Подожди, пока приедем туда.
Он возвратился на свое место за столом. Руки слегка дрожали, и он долго, старательно набивал и раскуривал трубку.
— Мне надо будет незаметно пробраться домой, захватить чемодан с кое-какими вещами. Когда мы едем?
— Я думаю, после чая, так в половине шестого или около того. Знаешь что? Я отвезу тебя, сама притаюсь за углом, пока ты соберешь чемодан, и мы укатим вместе. На дорогу уйдет час с небольшим. Мой домик — божественный уголок, милый. А теперь поговори со мной спокойно. Расскажи, какая я. Ты один умеешь со мной разговаривать как надо.
И до самого чая он сидел, поглядывая через стол на изысканные черты, которые по временам кривила мимолетная тайная ухмылка, и плел невесть какую чепуху, потом не мог вспомнить ни слова. В пустопорожней болтовне, перемежаемой долгими, внимательными взглядами, время летело, будто сон, но где-то в глуби этого сна бился пульс, его кровь отсчитывала секунды. Подали, потом убрали чай, все промелькнуло, как тени на стене.
— Мы словно сидим в чайном домике какого-то забытого китайского императора, — сказал он.
Она ответила ухмылкой. А потом вскочила, вся — энергия и целеустремленность.
— Пора ехать. Помоги снести кое-что в багажник.
В двухстах шагах от поворота на аллею, ведущую к Суонсфорд-Мэнору, она выпустила его из машины. Здесь было безлюдно.
— Только живей. Никаких семейных встреч и разговоров. Если меня заметят, скажу, что условилась довезти тебя до станции.
— Больше пяти минут не задержусь, — пообещал он и зашагал по аллее.
Внизу в холле никого. Он взбежал по лестнице в свою комнату, покидал кое-что в небольшой чемодан, вышел с ним на площадку — и столкнулся лицом к лицу с Дианой.
— Куда это ты?
— Я принял предложение насчет работы в «Листке». Приказано явиться в редакцию.
Лгать Диане было неприятно, но ничего лучшего не пришло в голову.
— Прямо сегодня? А где ты будешь ночевать?
— Пока не знаю. Не важно.
Она пристально посмотрела ему в лицо.
— Ты что-то затеваешь, Алан. — Она посторонилась, чувствуя, что брат торопится. — Хорошо, иди. Ты не обязан со мной делиться.
Она уже не обвиняла. Она говорила отреченно, почти безнадежно. И отступила не на шаг, а куда-то далеко-далеко. И даже стала с виду меньше, старше, сокрушеннее.
Ничему этому не было места в мире, где он провел весь день. Его словно задело жалостью по живому нерву, так стало вдруг больно.
— Сейчас не могу рассказать, Ди, — ласково проговорил он. — У меня сегодня был странный день. Потом все расскажу. Мы ведь с тобой так толком и не поговорили. Подожди немного, поговорим еще. И пожалуйста, не смотри так, Ди. Ничего еще не кончено.
Он со всех ног сбежал вниз по лестнице с таким чувством, будто радужный шар жизни уже отнесло вперед, и надо теперь догнать его и вспрыгнуть внутрь. В холле опять никого не оказалось. Алан быстро зашагал по аллее. Бетти уже открыла дверцу машины.
— Придется вернуться по Кроуфилдской дороге, — сказала она, трогаясь с места, — а потом свернем на шоссе. Там сейчас движение, наверно, не большое. Где-нибудь через час будем на месте.
И она запела своим странным немузыкальным голоском, более юным и незрелым, чем сама хозяйка, словно отставшим от нее в развитии. Что-то в этом было трогательное, но сейчас немного неподходящее, ближе к тому, что он ощутил только что при встрече с Дианой.
— Мне становится довольно весело, — сказала Бетти.
— А мне весь день было весело, — отозвался он, — но теперь неуклонно становится еще веселее.
Но правда ли это? Он твердо ответил себе, что правда. И тут он заметил на дороге их. Серый костюм и коричневый костюм. Герберт Кенфорд и Эдди Моулд.
— Остановись, Бетти! Остановись! — закричал он.
— Господи! Что случилось?
— Вон те ребята, они, наверно, шли ко мне. Остановись скорее.
— Пожалуйста, — ответила она с досадой, затормозив всего в нескольких шагах от двух парней. — Но только побыстрее, ладно? И не говори лишнего, один из них знаком с моим отцом. Какие там у вас общие дела, кончай с ними поживей.
После того как Герберт крикнул и поднял руку, оба пешехода остановились, и теперь Алан подошел к ним.
— Здорово, ребята. Вы не ко мне?
Он сразу заметил, что Эдди недавно побывал в переделке и что у Герберта выражение лица еще более озабоченное и серьезное, чем всегда. Нет, они шли не просто в гости.
— К тебе, — ответил Герберт. — У Эдди к тебе очень важное дело…
— Надо поговорить, сержант, — понурясь, буркнул Эдди, а потом поднял на Алана умоляющие глаза: — А то я таких дров наломаю, что…
— … и у меня тоже есть к тебе разговор, — заключил свою мысль Герберт, — вот я и пошел с ним вместе. Да только ты, похоже, уезжаешь?
— Да. А что случилось? — Алан посмотрел на Эдди.
— Тут на месте все сразу не расскажешь, — тихо ответил Эдди. — Началось с жены, она, пока меня не было, гуляла с американцами у всех на виду, — но это как бы первый толчок. По правде сказать, я совсем запутался и вроде как дошел до последней крайности.
— А ты, Герберт?
Герберт мрачно усмехнулся.
— У меня, наверно, не такое отчаянное положение, как у старины Эдди, но я, по-моему, тоже запутался и дошел до крайности. Поэтому мы и хотели с тобой потолковать, Алан. Но раз нельзя, значит, нельзя.
Они оба смотрели на него. Ему был знаком этот взгляд, он встречал его множество раз и всегда в самых безвыходных ситуациях; на мгновенье он словно ощутил снова пот и гарь сраженья. Стало ясно, что следует делать.
— Я и сам порядком запутался, если уж на то пошло. Нам надо втроем сесть и все обсудить, верно я говорю?
— Так точно, сержант, — ответил Эдди, у него гора упала с плеч.
— Подождите минутку, ребята, я сейчас вернусь! — крикнул Алан.
— У тебя странный вид. — Бетти открыла ему дверцу машины. — Что там случилось?
— Мне очень жаль, Бетти, — проговорил он спокойно, — но ничего не получится. Я обязан задержаться и поговорить с ребятами.
— С какой это стати? — Она пришла в бешенство. — Господи, ты что же это, решил меня оставить с носом, что ли?
— Мне очень жаль. Но я обязан. Понимаешь, мы были вместе на фронте…
— Мне дела нет до того, где вы были вместе! Раз так, между нами все кончено! На вот, держи свой чертов чемодан.
Автомобиль на полной скорости устремился на Герберта и Эдди, они едва успели отпрыгнуть в стороны, а он яростно прогудел и унесся прочь. Алан поднял чемодан. Двое подошли к нему.
— Раз уж я оказался с чемоданом на руках, придется нам пойти ко мне, чтобы я мог от него избавиться, — смущенно усмехнулся Алан. — У нас есть старая беседка в конце сада, можно будет посидеть в ней, пока не похолодает. А потом пойдем в дом. Похоже, что разговаривать нам придется долго. Так что вперед.
9
— Может, кто пива хочет? — предложил Алан. — По-моему, в доме найдется.
— Мне лично не надо, спасибо, — ответил Эдди. — Я и без того за последние дни перебрал выше головы.
— Я тоже не хочу, спасибо, Алан, — сказал Герберт. Он задумчиво смотрел из беседки, где они сидели в трех обшарпанных шезлонгах. — Хорошо как здесь, а?
Между столбиками открывался вид на речку, на светлый заливной луг, осоку и камыши, на узловатый терновник и гибкие ивы. Все золотилось в дымчатом вечернем свете. Пейзаж знакомый и родной, но заполненный сейчас волшебным сиянием, как край обетованный. Разговаривая, они все время видели его перед собой.
— Ну, Эдди, — ровным голосом спросил Алан, — что с тобой случилось? Поделись с нами, если есть желание.
— Желание есть, да вот не знаю, смогу ли выразиться понятно, — ответил Эдди. Старательно подбирая слова, он начал с того, как явился домой и нашел только свою телеграмму на полу. Рассказ давался нелегко, но все-таки Эдди сумел объяснить, что с ним случилось.
— Вы только не думайте, — сказал он под конец, — я не виню никого, уж даже и жену. И я, конечно, лезу с кулаками, особенно выпивши, это с моей стороны неправильно. Но они меня достали, вся здешняя кодла. Если и дальше так пойдет, сержант, то я не знаю, что могу с ними в конце концов сделать! Мне, наверно, лучше попроситься обратно в армию. Думал, домой возвращаюсь, а приехал неведомо куда. Совсем я запутался, к чертовой матери. В ком причина, не пойму, во мне или в них? Если во мне, то как мне быть? А если в них, то спятили они, что ли?
Несколько минут все трое молчали. Герберт вопросительно смотрел на Алана. Эдди сидел, свесив побитую голову.
— Эдди, — тихо проговорил Алан. — Можно задать тебе один вопрос?
— Задавай какой хочешь, браток. Валяй.
— Понимаешь ли, это насчет тебя и твоей жены, — неуверенно начал Алан. — Предположим, все осталось бы только между вами, — ты бы узнал, как она себя вела, но больше бы это никому не было известно, — ты бы ее простил?
— Так ведь что ж, не должна она была этого делать, — рассудительно ответил Эдди. — Муж на фронте. Так? Нехорошо с ее стороны. Но тут беда с малышкой, одно да другое, как говорила жена Фреда Розберри. Тоже много кой-чего…
— Да, а ты, со своей стороны, легко приходишь в такое состояние, — подхватил Алан, припоминая некоторые случаи, но не показывая виду, — когда все тебе кажется вроде бы не на самом деле и неважно, и никакой разницы, как ни поступи. Будто пьяный.
— Ну, я бы, пожалуй, потолковал бы с ней хорошенько с глазу на глаз, а потом сказал бы: «Ну ладно, давай все забудем». Я бы, наверно, смог так, — заключил Эдди.
— А по-моему, — тихо сказал Герберт, — ты на самом деле только того бы и хотел. Тебя, наверно, совесть мучает?
Эдди подумал и ответил:
— Может, ты и прав, Герберт.
— И по-моему, тоже, он прав, — сказал Алан.
— Я хочу поступить, как будет правильно, — проговорил Эдди. — Если правильно, как вы говорите, я так и сделаю. Но вот жить в здешних местах я больше не могу. И не хочу. Что тут с ними со всеми сделалось, объяснили бы вы мне.
— Мне кажется, я могу тебе ответить, — сказал Алан. — Ты возвратился из армии, где жил бок о бок с ребятами, сблизился с ними, вы делали одну общую работу, и она была всем хорошо понятна. Так? Ну вот, а здешние люди живут иначе. Может быть, какое-то время, после Дюнкерка, когда была угроза вторжения, они тоже сплотились. Но когда опасность миновала, они снова расползлись в разные стороны, да еще энергичнее потянули каждый на себя после того, как пришлось постоять плечом к плечу. Они теперь какие были до войны, такими в общем и остались. А вот ты изменился, и в этом все дело. И ты совсем другое ожидал здесь найти. Когда они рассуждают о том, что тебе надо, как они выражаются, угомониться, на самом деле они хотят, чтобы ты отказался от этих своих ожиданий.
— Так что же я должен делать? Скрутить себя и смириться, или как?
— Нет, — неожиданно резко ответил Герберт. Это было так на него непохоже, что оба друга посмотрели на него с изумлением. Он смутился. — Я считаю, что Алан прав. Но только они не все такие. Некоторые нас понимают. И они на нашей стороне. Один человек мне сказал, чтобы я никогда не отступался от своих теперешних мыслей, чтобы не позволял превратить себя в благополучного обывателя, не разучился думать и не верил, будто можно будет и дальше жить по-старому, не болея за других. Она… то есть он, этот человек, говорит, что мы теперь все между собой связаны, хочется нам того или нет, и если не станем думать и заботиться о других, тогда только и останется что ненависть, и страдание, и кровь рекой.
Эдди округлил глаза.
— Со мной никто так не разговаривал. А ведь кто только не пробовал — и управляющий, и пастор, и полицейский, всякая публика.
— А кто это был, Герберт? — спросил Алан.
Герберт потупился.
— Одна девушка. Помните, в Лэмбери, в баре с нами поспорила девушка с авиационного завода?
— Такая хорошенькая, чернявенькая нахалка? — удивился Эдди.
— Ну да, только она вовсе не нахалка. Дорис Морган ее зовут, помните? Она тогда сказала мне кое-что, и я… ну в общем я задумался. А вчера вечером у нас с ней был длинный разговор. Она хорошая девушка. — Он поглядел на приятелей с вызовом.
Алан ухмыльнулся:
— Мне тоже так показалось. Вреднющая, правда, и не в моем вкусе, но как раз по тебе, Герберт, будет оказывать на тебя положительное влияние. Это все она тебе говорила?
— Да. И еще многое. Я тоже думаю, что она будет оказывать на меня положительное влияние. По крайней мере, постарается. Завтра я с ней увижусь. Но тут есть свои трудности.
— Какие тут могут быть особенные трудности? Ты поделись с нами, Герберт. Напрасно стесняешься. Мы с Эдди оба через это прошли в свое время.
— Это точно, — подтвердил Эдди и в первый раз усмехнулся.
— Я, правда, и сейчас еще не знаю, на каком я свете, — признался Алан. — По-прежнему дурака валяю.
— С тобой в машине это дочка полковника Саутхема была? — спросил проницательный Герберт.
— Да, но не важно. И вообще мы сейчас говорим о тебе и о твоей подруге. Так какие же трудности?
— Ну, во-первых, рано еще всерьез это обсуждать, — нахмурившись, ответил Герберт. — Но пока что дело выглядит довольно бесперспективно. Она городская, ее жизнь — заводы, улицы, и все такое. А я деревенский. Если она пойдет за мной, то потеряет себя. А если я пойду за ней, то потеряюсь я. Так я это вижу сейчас.
— Теперь я понял, — озабоченно кивнул Эдди. — Ты, похоже, прав, Герберт. Славная такая девчонка, но что-то я себе не представляю, как она будет вставать в полшестого или стряпать обед на дюжину косцов.
— Погодите вы, — загорячился Алан. — Начать с того, что раз она работала на заводе, значит, приучена вставать до света, и тяжелая работа ей тоже не в новинку. А потом, что это вообще за противопоставление: деревенский, городской? Это раньше так было. Теперь заводы переехали в сельскую местность, и надо будет, чтобы они у нас тут остались. А фермам хорошо бы размещаться на окраинах городов. Так что тут вы с ней договоритесь. По-моему, ты напрасно беспокоишься. Но как это у тебя получилось, Герберт, что ты стал с ней обсуждать такие вопросы? Я ведь думал, что уж кто-кто, а ты вернешься на землю и будешь спокойно заниматься хозяйством и на все остальное поплевывать. В чем же дело?
Раз преодолев застенчивость, Герберт уже без стеснения рассказал о праздничном ужине в отчем доме и о том, что он тогда почувствовал.
— Вы не подумайте только, что я предаю свою родню, — сказал он в заключение. — Я их всех люблю. Они обо мне позаботились, они думают, как мне лучше, и меня, конечно, мучила совесть, что я в какой-то степени отплатил им неблагодарностью. Но я понял, что тут какая-то неправда, как Дорис говорила. Конечно, я ей объяснил, когда занимаешься фермерством, само собой начинаешь думать только о себе и о своих. Работа тяжелая, и ты отрезан от других людей, не знаешь, кто как живет. Но все равно, дальше так нельзя. Как Дорис говорит, если отгородишься от людей, это означает смерть. Понадобилась война, чтобы это осознать, а следовало бы и без нее разобраться. Я не мог спокойно слушать, когда отец и брат рассуждали так, будто кроме нашей семьи никто не имеет значения, и наша задача состоит в том, чтобы ухватить кусок земли и обрабатывать его, а из остальных только выжимать как можно больше барыша. До сих пор у нас так и было — и смотрите, до чего мы дошли.
— А чего же ты хочешь, Герберт? — спросил Алан. — Устроить колхозы?
— Пока еще сам не знаю, Алан, — ответил Герберт. — У меня еще не было времени все как следует обдумать. И знаний у меня недостаточно. Но я займусь этим и постараюсь выяснить, как устроить лучше всего. Но в этом-то все и дело. Не для нас в нашем уголке лучше всего, а для всех. Работа на земле — это то, что я умею, я и в будущем хочу ею заниматься, но мне не важно, на своей ли собственной ферме, или в сельскохозяйственном кооперативе вместе с другими парнями, или же ездить на работу в колхоз на русский манер. Чего я не могу больше терпеть после всего, что мы пережили, так это прежней нашей тупой жадности, когда рвут каждый для себя и визжат, как голодные псы вокруг лошадиного бока. Не за этим я домой вернулся, не это защищал на войне. Если теперь, когда опасность миновала, здесь опять думают жить по-старому, я уж лучше уеду в другую страну и там начну все заново. Но я этого не хочу. Я бы хотел остаться здесь и помочь вытащить страну из ямы. Англия стоила того, чтобы за нее воевать, надо позаботиться о том, чтобы теперь в ней стоило жить.
— Верно, — кивнул Эдди. — Но неужели мы же, кто был в армии, теперь должны и этим заняться?
— Нет, — сказал Алан. — Это было бы неправильно. Попахивает фашизмом, верно, Герберт?
— Да, это не метод, — согласился Герберт. — И потом, многие из тех, кто был в армии, вообще думают иначе. Вы же слышали разговоры. А среди тех, кто и близко к армии не подходил, есть такие, кто думает, как мы.
— Например, его Дорис, — подмигнул Алан.
— Она не моя Дорис, но конечно, она тоже. Потому она и завелась тогда так. С ней я могу разговаривать совсем так же, как вот с вами.
— Тогда, значит, тебе здорово повезло, — сказал Эдди. — И ты не будь дураком, держись за нее. А где жить будете, это дело десятое.
Минуту или две все трое молчали. Золотистая дымка загустела, и в удлинившихся тенях появилась примесь синевы, предвестье ночи. Потускнела зелень заливного луга. На речке заиграли холодные белые блики. Алан поежился.
— Может, пойдем в дом? — предложил он.
— Как хочешь, мне все равно, — отозвался Герберт.
— А мне здесь нравится, — сказал Эдди. — Я не озяб.
— Тогда посидим еще немного. Теперь, наверно, вы хотите узнать обо мне. Так вот, вы сегодня поспели как раз вовремя. Я собирался поступить как последний болван, вернее — продолжить в болванском духе. Выехал из дому, имея в виду после небольшого загула явиться в редакцию «Листка» и дать согласие на работу, которую мне там предложили. А случилось это так.
И он описал им обед у Дарралда, изобразил в лицах разговор с Дарралдом и Маркинчем и, наконец, обойдя молчанием Бетти, рассказал, как нынче в конце дня по телефону сообщил о своем согласии.
— Не понимаю, Алан, — строго сказал Герберт. — Ведь ты не мог бы работать на этих людей. Разве ты не знаешь, каких материалов они бы от тебя потребовали?
— Знаю. Может быть, дошло бы до дела, и я бы не смог написать то, что им нужно. Но я должен вам объяснить, почему я согласился и почему ехал к ним, когда вы меня встретили.
— Не объясняй, если неохота, — сказал Эдди. — Мне, например, никаких объяснений не нужно. Я знаю, что ты своих не предашь. И Герберт тоже знает.
— Нет, я должен объяснить, — возразил Алан. — Спокойно. Объяснить не только вам, но и самому себе. Поэтому я буду говорить медленно. — Словно для того, чтобы выиграть время, он раскурил трубку и проследил взглядом курчавую струйку дыма. — Вы оба вернулись и застали дома совсем не то, что ожидали. Особенно Эдди, конечно, но и тебе, Герберт, тоже эта девушка твоя кое на что открыла глаза. Ну а я? Что ждало дома меня? Честно сказать, просто какое-то сумасшествие. С нами живет дядя — фантастический старик, музейный экспонат, но далеко не глупец, — и он сказал мне, как это все называется: распад, полный распад. Класс, к которому они принадлежат, их общество, просто разваливается. Каждый из них оказался в своем индивидуальном тупичке. Все считают друг друга помешанными — и совершенно правы. Как отдельный класс они утратили свою роль, но не способны — или просто не хотят — выйти на общую дорогу и идти вместе со всей толпой. Поэтому остаются на прежних местах и потихонечку, соблюдая благопристойность, сходят с ума. Мне хотелось убедить себя, что это не имеет значения и даже забавно. Но тогда уж, чтобы поверить, пришлось убеждать себя, что вообще все не имеет значения и жизнь — просто дурацкая шутка. Не такое уж трудное дело, тем более если выпил и у тебя перед глазами — соблазнительная девочка.
— Вроде той красотки в машине, — кивнул Эдди. — Я ее видел. Хотя у нее характер паршивый.
— Погоди, — вмешался Герберт. — При чем тут этот лорд — как его? — Даллард и его «Листок»? По-твоему, эти ребята тоже не в себе?
— Строго говоря, да, — ответил Алан. — Но только на иной лад. Они очень деятельны и отдают себе отчет в том, что делают, — до определенных пределов. Они обладают властью и не намерены ею поступаться — покуда мы их не припугнем хорошенько. Но теперь вы понимаете, почему меня к ним все-таки потянуло? Когда насмотришься, как твои близкие, вообще люди твоего круга, все оказались в тупике и только бормочут бессмысленный вздор, каждый себе под нос, тогда общество других, кто делает дело и имеет перед собой какую-то цель, действует освежающе и притягательно. Если вся жизнь начинает казаться то ли идиотской шуткой, то ли аферой, возникает соблазн, тогда уж лучше быть среди аферистов. Тут заезжал сегодня утром один оболтус — одноклассник моего брата, — он пошел по политической части, потому что у них в семье всегда занимались политикой, и уже дослужился до второго помощника министра. Так мы оглянуться не успеем, и он не успеет разжиться хоть каким-то умишком, а уж он очутится в правительстве. Это тоже на меня повлияло. Надо либо стать в один ряд с ним и постараться что-нибудь урвать для себя, либо же выступить открыто против него и всех тех, кто посадил его в это кресло.
— На мой взгляд, хорошее дело, — сказал Герберт. — Что нам мешает открыто выступить и послать его куда подальше?
— Ничего не мешает! — оживился Алан. — Я готов, вместе с вами. Но еще сегодня утром я думал иначе. Мне казалось, не стоит труда. Все равно жизнь — одна дурацкая комедия. Такое у меня было чувство.
— Жизнь серьезна, — проговорил Герберт. — Какая есть, она у нас одна, поэтому с ней дурака валять не приходится.
Эдди ухмыльнулся.
— Ты всегда у нас был парень серьезный, а, Герберт?
— Да. И тебе, Эдди, тоже было не до смеху, когда мы встретились, — огрызнулся Герберт. — А сейчас ты подсмеиваешься надо мной, просто потому что у тебя отлегло от души.
— Верно, отлегло, — согласился Эдди и добавил, извиняясь: Это я так, поддразнил тебя немного. Ты все правильно сказал, браток. Ясно?
— Но вы меня поняли? — озабоченно спросил Алан. — Ведь вы столкнулись совсем не с тем, с чем я. Я нашел здесь пустоту, беспросветность и джентльменские фантазии. Все в вечерних платьях, но полуодеты: некуда пойти. По-прежнему упорно надеются, что время повернет ради них вспять и на следующей неделе глядишь, а год на дворе снова тысяча девятьсот пятый. Отрезаны от ствола, от корней, от жизненных соков — отмирающие. Держаться при них я не смогу. Это мне было ясно. Но теперь, когда я опомнился, мне ясно и то, что я не смогу писать вздор для Дарралда и его приспешников, которые считают почти всех людей глупыми, близорукими и ленивыми и лезут из кожи вон, чтобы они такими оставались и впредь.
— Вот, значит, на что у них ставка? — переспросил Герберт.
— Да. И я чуть было не ввязался в их игру, хотя, думаю, надолго бы меня не хватило. Ну, так вот. К Дарралду я пойти не могу. Здесь оставаться — тоже. Не хочу обманывать, но не хочу и гнить. Что же мне делать?
— Дорис сказала: «Повоюй», и я теперь вижу, что она права! — горячо сказал Герберт. — Нам немало пришлось повоевать…
— С меня хватит, — сухо заметил Эдди.
— Да? А кто передрался чуть не со всей деревней?
— Э, нет. Это другое дело.
— Понятно, другое. Я говорю не о трактирных драках, — резко сказал Герберт. — Повоевать за то, ради чего стоит воевать.
— А я говорю, с меня пока довольно того, что было, — упрямо повторил Эдди. Если Герберт способен на резкость, то Эдди умеет выказать упрямство. — Чего я хочу, так это мира и покоя, и моя обида, что я вернулся с войны, а ничего этого здесь не получил и, похоже, не получу.
Наступившее молчание прервал женский голос.
Алан в удивлении вскочил.
— Диана!
Его друзья тоже поднялись, приглядываясь к ней в сумерках.
— Извините, — проговорила она. — Я сестра Алана.
— А это Герберт Кенфорд, — представил Алан. — И Эдди Моулд. Мы вместе служили и вместе вернулись домой — я тебе рассказывал, помнишь?
— Помню, — ответила она. — Я слышала, что вы тут говорили. Не собиралась подслушивать, но из сада доносились голоса, а я знала, что наших никого нет дома и ты, Алан, я думала, тоже уехал, вот и подошла тихонечко — посмотреть, кто это. И не захотелось сразу прерывать, поэтому стояла и слушала. Извините, если вам неприятно.
— Наоборот, — сказал Алан. — Я даже рад.
— Ты не упоминал обо мне, — печально произнесла Диана, — и я, конечно, ценю твою деликатность. Но я понимаю, что ты имел в виду и меня тоже.
— Да, и тебя, Ди, — ответил Алан. — Помнишь, как ты говорила вчера утром? Про то, что ты хотела бы что-то делать и что тебе нужно лучше относиться к людям?
— Конечно, помню. — Она взглянула на его товарищей, все еще смущенно молчащих. — Я потеряла мужа, он служил в авиации. И после этого мне было очень трудно. Не знала, чем заняться. Я говорила Алану, что долго тут оставаться не смогу. Мы вчера как раз об этом разговаривали. — У нее задрожал голос. — Но потом Алан вдруг переменился, и мне стало тревожно — мы с ним всегда делились и все друг другу рассказывали. Теперь-то я знаю, что с тобой было, Алан, и уже не беспокоюсь. Когда ты бежал сегодня по лестнице с чемоданом, мне стало так горько, я сразу почувствовала, что с тобой делается что-то нехорошее.
— Я тоже, — признался Алан, — хоть и старался уговорить себя, что ничего такого не чувствую. В ту минуту игра, в которую я собрался играть, показалась мне сомнительной. А потом я встретил Герберта и Эдди, они хотели со мной поговорить, и я понял, что никуда не поеду. Прости, что огорчил тебя, Ди.
Она с улыбкой покачала головой. Несколько мгновений все молчали — четверо в бескрайних сумерках. Плескалась и журчала речка, просвистела последняя птица.
— Я вас так поняла, — неуверенно проговорила Диана, — что вы все трое недовольны, огорчены, разочарованы. И казалось бы, каждый — по своей причине. Наверно, вы просто ожидали слишком многого, что, конечно, вполне естественно. Но при этом — мне не хотелось бы говорить неприятное, но я должна, — при этом не видно, чтобы вы что-нибудь были намерены предпринять, взяться за что-то всем вместе.
— Ну, тут мы еще должны посмотреть и подумать, — серьезно сказал Алан. — Ведь мы же пока мало что знаем. Только то, что успели увидеть за каких-то несколько дней. Я, например, убедился, что наш класс обречен и не должен больше противиться своей гибели. Речь, конечно, не о старых чудаках вроде дяди Роднея, он просто эксцентричный пережиток. От него, может быть, мало проку, но и вреда никому нет, не то что от этих бандитов Дарралда и Ко. Но я теперь вижу, что если мы, молодое поколение, будем держаться особняком, то так и сгнием стоя.
— Н-не знаю, — покачала головой Диана. Она обратилась к Герберту: — Эта девушка, ваша приятельница… Мне хотелось бы с ней встретиться, поговорить.
— Она вам по первому взгляду, наверное, не понравится, — сказал Герберт. — И вы ей тоже…
— Знаю. Я к этому подготовлюсь, постараюсь подготовиться. Мне надо поговорить с женщиной. Она сможет понять…
Диана замолчала, недоговорив. И тут набрался смелости Эдди:
— Я с женой рассорился. У нас умер ребенок, и ее это вроде как сбило с панталыку. Мне бы надо, чтобы вы с ней поговорили…
Он тоже замолчал, недоговорив.
— Хорошо, поговорю, если вы считаете, что это поможет. — Она повернулась к Алану: — Вот ты утверждаешь, что с нами все кончено. По-моему, нет. Они оба обратились со своими трудностями к тебе. И мистер Моулд просит, чтобы я поговорила с его женой. Разве это означает, что от нас нет пользы?
— Мы будем приносить пользу, и у нас снова появится будущее, но надо, чтобы мы не держались особняком, — ответил Алан. — Ведь мы тоже — часть народа. Среди нас есть редкостно хорошие люди, как ты, например, Ди. Но нельзя считать себя отличными от других людей. Мы должны идти общей со всеми дорогой, а не расползаться по тупикам. И не стараться удержать за собой привилегии, которых лишено подавляющее большинство народа. Такую ошибку делали коллаборационисты в оккупированных странах — и мы видели, как их потом увозили, правда, Герберт? Они побратались со смертью просто для того, чтобы сохранить кое-что лично для себя. А ведь воображали, что ведут хитрую и верную игру. Многие, слишком многие и сейчас поступают так же. Но я теперь убежден: это безнадежное дело. Заботиться о самих себе невозможно.
— Невозможно, — согласился Герберт. — А если и возможно, то все равно нельзя. Я понял это, когда слушал речи отца за праздничным столом. В том, что он говорил, была неправда.
— Они ведь старались как лучше для вас, — сказала Диана, представляя себе фермерскую семью в хлопотах по случаю возвращения сына.
— Вот именно, — кивнул Герберт. — Потому оно и обидно. Мне это не подходит. Отдельные семьи и группы людей, заботящиеся исключительно о своем благополучии, а на всех остальных — наплевать. Такой принцип больше не работает. Он уже испытан.
— Герберт прав, — подхватил Алан. — Нельзя больше, чтобы каждый думал только о себе. Мы плывем в одной большой лодке и либо выгребем все вместе к ближайшему берегу, либо канем.
— Канем — это куда? — не понял Эдди. Он не шутил, а просто запутался в рассуждениях.
— Понимаешь, Эдди, — ответил ему Алан, — если мы вздумаем и дальше жить по-старому, с конкуренцией, набиванием карманов и крохоборством, по устарелым рецептам, которые давно уже никуда не годятся, тогда у нас опять будут трущобы, безработица, недоедание. Народ быстро изверится и обозлится. Борьба за рынки примет еще более яростный характер. А это означает новые войны, новые кровавые революции и, может быть, появление новых сумасшедших диктаторов. И не успеем оглянуться, как мы, полуголодные и полубезумные, уже будем круглые сутки копошиться под землей, сооружать тысячетонные ракеты.
— Только не я, — в сердцах отозвался Эдди. — По мне так уж лучше с концами под землю, чтобы лопух вырос. Послушайте, неужели у людей не хватит ума остановить все это?
— Должно бы хватить, — с сомнением сказала Диана.
— Люди попадают порой в разные немыслимые положения не по собственной воле, а просто силой обстоятельств. — Алан, помолчав, продолжал: — Сказал бы кто людям двадцать пять лет назад, что их ждет в тысяча девятьсот сороковом году, на смех бы подняли. Однако ж это было.
— Так что же мы психи, что ли? — От растерянности и возмущения голос Эдди истончился почти до визга. — Взять, например, меня. Человек отвоевался, и ему только нужен дом и покой. А дома нет, и покоя тоже не видно.
— Тебе не повезло, — сказал ему Алан. — Но дом тебе так или иначе придется создать. Нам всем придется этим заняться. Наша задача — сделать планету домом для человека. Мы ее еще не испробовали толком. Надо будет нам, Эдди, снова всем навалиться.
— Похоже что так. — Эдди задумчиво потер подбородок. — Вот только мне сдается, вы, ребята, после демобилизации стали лучше относиться к армейской жизни, чем я. Мне так она вконец осточертела. Вспомнить — с души воротит.
— А нам нет, что ли? — горячо заспорил Герберт. — Но все-таки, как ни ждали мы возвращения домой, оно наши надежды обмануло. Иначе с чего бы мы сейчас тут собрались и жалуемся? Значит, непорядок на гражданке. А в армии хоть и плохо было, зато нас обучили там ждать дома перемен к лучшему. В этом все и дело. Верно, Алан?
Алан кивнул. Несколько мгновений он молча смотрел на меркнущие зеленые дали. Потом заговорил, медленно и раздумчиво:
— Армии — это гигантские машины, которые ничего не производят. В них только передвигаешься от одного разрушительного приспособления к другому. Но если это хорошая армия, в ней есть нечто ценное — связь между людьми. Во всяком случае, люди движутся вместе к одной общей цели. И в этом смысле армейская жизнь лучше, чем гражданская, вернее, чем она до сих пор была. В армии никто не разгласит боевой приказ ради того, чтобы обзавестись собственной яхтой или парком с оленями. Никто не выдаст противнику шифр из желания наложить лапу на газетное издательство или банк. И не сдаст опорный пункт, чтобы приобрести за это шикарную любовницу или антикварный мебельный гарнитур. Разница немаленькая.
— Попробовал бы кто, расстреляют, — сказал Эдди.
— Может и до этого дойти, — мрачно заметил Герберт.
— Не дойдет, — возразил Алан. — Коль скоро мы способны общими силами разрушать и убивать, то, уж конечно, сможем объединить силы в созидании, в строительстве новой жизни. А если не сможем, тогда нам конец. Сегодня мы стоим перед выбором. Как стояли в сороковом году. Тогда у нас был выбор: либо запросить мира и сберечь на какое-то время хоть что-то или же воевать дальше, в одиночку, ставя под удар всех и всё здесь, ради того, чтобы спасти всё и всех повсюду. И мы сделали выбор. Это был правильный выбор, наша правота чувствовалась в воздухе, которым мы дышали. Это был поступок великого народа. И вот теперь надо опять выбирать. Поступим ли мы и на этот раз как великий народ или же сойдем со сцены, скуля и огрызаясь.
— Но, Алан, — возразила Диана, — это ведь другое дело. Выбор после Дюнкерка был прост и понятен для каждого. Британия могла сдаться, а могла воевать дальше. Решить легко. Но этот, другой выбор, о котором ты говоришь, он не такой простой. Что мы должны делать? Ты ведь и сам не знаешь.
— Я, например, знаю, что мы не должны делать, — резко проговорил Герберт. — А это уже кое-что для начала.
— Да, — горячо подхватил Алан. — Мы не должны делать того, за что уже принялись многие, не успела подсохнуть пролитая на землю кровь. Не должны возвращаться к довоенной неразберихе. К старым мыслям и поступкам. Они и раньше были чреваты бедой, а теперь и подавно. Не надо, чтобы нашими делами управляли прежние люди. Мы же за это время кое-чему научились! Хватит кричать: «Мое! Убирайтесь!» Хватит оберегать покой в своем уголке — а остальные пусть катятся к черту. Хватит рассуждать о свободе, подразумевая на самом деле право обдирать публику. Мы не должны отказываться от своих же слов, которые говорились, когда страна была в опасности. Хватит спекуляций. Будем честно трудиться на общество и получать за это от общества плату, которую оно нам положит по справедливости. Хватит лени и глупости, жадности и бессердечия. Постараемся помнить, что создавать гораздо важнее — и гораздо интереснее, — чем иметь. И что лучше жить трудно, на скудные пайки, как жили русские, но зато в государстве, которое знает, что оно делает и к чему идет, чем вести — до поры до времени — роскошное существование в государстве, которое кое-как переваливается от катастрофы к катастрофе. Вместе того чтобы действовать наугад и стараться урвать побольше, будем планировать. Вместо конкуренции будем сотрудничать. Выйдем за порог детской и начнем взрослеть.
Алан был уже на ногах, он возвышался над остальными, прямой, преобразившийся, обращая свою речь в темноту, словно к огромной невидимой аудитории:
— Кто-то сказал, помнится, это был Гейне, что каждая эпоха — Сфинкс, бросающийся в бездну, как только его загадку решили. Я теперь знаю, какова загадка нашей эпохи. Она не в том, как произвести на свет горстку блестяще одаренных индивидуумов, создать самые роскошные, изысканные условия жизни для небольшого класса людей, наделить огромной властью отдельные группы и возвести два или три величественных монумента. Современный человек — существо по природе своей общественное, кооперативное. Высшие достижения нашей эпохи — намного превосходящие, кстати, все высоты, достигнутые в прежние времена, — не в творчестве отдельных личностей, а там, где складываются усилия многих. И загадка, которую нам надо разрешить, чтобы Сфинкс нас не уничтожил, состоит в том, как использовать эту коллективную силу на пользу наибольшего числа людей. Что-то в нашей душе не дает нам теперь покоя и не позволяет радоваться жизни, покуда большинство представителей рода человеческого пребывает в бедности, темноте и безнадежности. Мы должны превратить эту планету в наш общий дом. Пора научиться вере в людей и сочувствию к ним, все равно — белые, смуглые или черные у них лица. Эта надежда на общий дом на земле, эта вера и умение сочувствовать — вот главные силы в сегодняшней реальности. Если они будут двигать нами и направлять все наши действия, тогда только мы начнем жить в настоящем смысле слова, черпая энергию из живого источника. Если же мы отвернемся от этих сил, если пренебрежем великой задачей, мы обманем сами себя и скатимся к жестокостям и убийствам, впадем в безумие, обратимся в камень. И честное слово, политика, экономия, психология, философия, религия сегодня, хотя и говорят на разных языках, но указывают все в одну сторону. Так что надо выбирать. Планета Земля должна в скором времени либо стать могилой всего рода человеческого, либо наконец сделаться нашим общим домом, где люди получат возможность жить в мире и трудиться во имя счастья других.
— Эй, эй! Ишь как тебя понесло, — растерянно проговорил Эдди. — Этак ты в проповедники угодишь, а то, глядишь, и в парламент.
— А разве это было бы плохо? — горячо откликнулась Диана. В ее голосе звучала новая жизнь.
Алан рассмеялся.
— Ди, найдется что-нибудь поесть?
— Как всегда, почти ничего. Но можно приготовить чай с бутербродами.
— Бутерброды нарежу я, — сказал Алан. — А ты беги завари чай, Ди. Пошли, ребята.
И он повел их через темный сад к гостеприимно светящимся распахнутым дверям в дом.