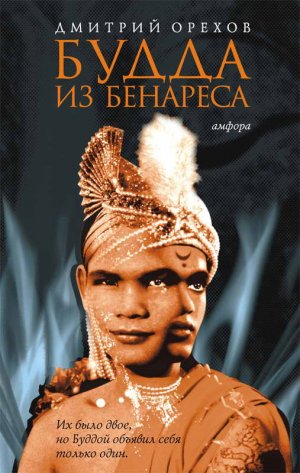
Спасибо, что вы выбрали сайт ThankYou.ru для загрузки лицензионного контента. Спасибо, что вы используете наш способ поддержки людей, которые вас вдохновляют. Не забывайте: чем чаще вы нажимаете кнопку «Спасибо», тем больше прекрасных произведений появляется на свет!
Посвящается моему отцу. Он был настоящим кшатрием
Посвящается моему отцу. Он был настоящим кшатрием
Я хочу поблагодарить Восточный факультет СПбГУ — за все; кафедру филологии Китая, Кореи и Юго-Восточной Азии — за науку; кафедру Индийской филологии в лице С. С. Товастшерны, С. О. Цветковой, Е. К Бросалипой — за академический подход, ценные замечания и чаепития под портретом Махатмы Ганди; Вадима Назарова — за то, что заставил меня работать и за терпение; писателя А. П. Ефремова и поэта В. Ю. Бобрецова — за мудрость и редакторскую хватку, Юрия Абрамова, Андрея и Светлану, брата Федора, Гиви Джикербу, Аслана и город Сухум — за гостеприимство, оказанное мне в период работы над книгой; Павла Клименко — за свет в окне по средам и субботам.
ПРОЛОГ
На четвертом курсе я чуть не вылетел из университета. Я завалил два экзамена, а впереди было грозное «Введение в буддологию». Буддологию у нас принимал декан Восточного факультета, профессор Андрей Андреевич Ольдберг — живая легенда востоковедения и альпинизма, путешественник по Тибету и Гималаям, умница и самодур, отец шестерых детей и душа всякого застолья. Обрусевший потомок остзейских баронов, он быстро говорил, быстро двигался и вообще все делал быстро. Ольдберг был невысок ростом, худощав, коротко стриг свои не седеющие светлые волосы и одевался с элегантностью депутата законодательного собрания. Студенты носили его на руках. Впрочем, он мог быть и безжалостным.
Да, забыл сказать — в ту летнюю сессию на мне висела еще курсовая «Брахманистская философия в магадхско-маурийскую эпоху», причем даже в ее названии не все слова были мне понятны. Узнав, что декан вызывает меня к себе, я приготовился к худшему.
Профессор встретил меня хищным блеском очков в золотой оправе. Он работал за массивным столом, на котором громоздилась целая Джомолунгма курсовых и дипломных работ. Справа был бронзовый бюст бородача Рабиндраната Тагора, слева — портрет Махатмы Ганди, ехидно улыбающегося лысого старика в пижаме. Войдя в кабинет, я мгновенно понял, что если на сочувствие Тагора, пускай и пассивное, я могу рассчитывать, то от Ганди, как и от самого Ольдберга, пощады ждать не приходится. Поэтому из двух стульев я выбрал тот, что был ближе к классику индийской литературы.
— Вы опоздали на две с половиной минуты, — приветствовал меня Андрей Андреевич.
Такое начало ничего хорошего не предвещало.
— У вас не в порядке академическая успеваемость, понимаете? — Ольдберг метнул на меня ястребиный взгляд. — Вы провалили санскрит!
— Я сдал тамильскую литературу, — робко напомнил я.
— Вы не сдали географию тибетских памятников! — Декан, как видно, не сомневался, что на весах академической успеваемости география тибетских памятников и санскрит намного перевешивают даже самых талантливых представителей тамильской литературы. — Вы до сих пор не сдали курсовую работу! Понимаете? Я уже хотел представить вас к отчислению…
Он сделал внушительную паузу, и я почувствовал себя смертником, которому показывают электрический стул. Голос Ольдберга прозвучал откуда-то сверху:
— Но я передумал. У вас обнаружились способности… в другой области.
Я поднял голову, еще не смея надеяться. Сухие пальцы декана разглаживали на столе номер журнала «Факел» с моим рассказом. Электрический стул стал медленно отъезжать в сторону, открывая взгляду накрытый банкетный стол.
— Ваша история про павлина весьма любопытна. У вас богатое воображение.
Я скромно опустил глаза. Сюжет «Павлина» я позаимствовал в пыльной «Антологии средневековой малайской прозы», которую буддолог Ольдберг вряд ли читал.
— Давайте поговорим о ваших проблемах, — милостиво предложил декан. — Может быть, вам наскучила тема брахманизма? Что, если я освобожу вас от курсовой?
Теряясь в догадках, что все это значит, я глупо спросил:
— А экзамены?
— Экзамены нужно сдать! — тут же провозгласил Ольдберг. И прибавил уже мягче: — Но я предлагаю вам кое-что написать… Понимаете? Вместо этой вашей курсовой о брахманизме…
— Что написать? — спросил я.
— Повесть, — просто сказал он.
— Повесть?
— Да, повесть. Видите ли, дружочек… Вам должно быть известно, что я проанализировал Палийский канон и более поздние буддийские тексты. Это была серьезная работа, имевшая резонанс в научном и околонаучном мире…
Так оно и было. Ольдберг умел наделать шуму — особенно своими резкими высказываниями в адрес псевдовосточных культов. В одном подмосковном городке, где наш профессор выступал с лекциями об оккультизме, местные последователи гуру Клементия Чугунова угостили его пирожками с толченым стеклом. Что же касается буддологии, то Андрей Андреевич совершил переворот в этой науке. Сравнив наиболее ранние фрагменты Палийского канона и «Дхаммападу», он убедительно показал, что можно говорить об историчности не одного Будды, а двух. Или даже трех.
— Я возлагаю надежды на ваше перо! Не хочу говорить о Гессе — он был гений, хотя и не разбирался в буддизме. Но если бы вы смогли написать повесть о Будде, вернее, о нескольких буддах… Конечно, под моим руководством… Это было бы здорово. В нашей стране сейчас каждый второй имеет свое мнение о буддизме. А эти лавки с макулатурой, провонявшие палочками из подкрашенного навоза?! Сколько же вздора пишется о Гаутаме Шакьямуни, о «просветленных», о «мирном характере» буддизма! Буддизм никогда не был «мирной» религией, понимаете? Вспомним хотя бы кровопролитные войны за обладание зубом Будды! А метемпсихоза? Даже в шестом веке до нашей эры многие брахманы отвергали это учение. А кстати… — Ольдберг строго посмотрел на меня поверх очков. — Вы не забыли почему?
Я пожал плечами.
— С точки зрения жрецов, доктрина о кругообороте душ была дикарской и глупой, понимаете? Что, по-вашему, принесли арийские племена в междуречье Ганга и Джамны?
— Красную керамику? — предположил я. — Колесницу?
Профессор поморщился.
— Не только! Арии принесли с собой учение о возмездии. Учение о возмездии, понимаете?
— Понимаю, — сказал я. — Красную керамику, колесницу и еще учение о возмездии.
— Племена ариев пришли в междуречье со своей религией, понимаете? Их учение наложилось на тотемистические верования аборигенов долины. Надеюсь, вам не нужно объяснять, что такое тотемизм?
— Нет, — сказал я как можно увереннее.
— Тотемизм — это вера в кровное родство человека и животного, характерная для племенного сообщества, — не удержался Ольдберг. — Понимаете? Когда арийская доктрина возмездия соединилась с верованиями местных племен, возникло учение о переселении душ. Оно не похоже на суррогат, которым нас потчуют теперь на каждом углу! В нашей стране произошла оккультная революция, понимаете? Мне приходится много выступать, я трачу драгоценное время на этот ликбез… Но не стану же я каждому встречному дарить свои монографии! Да и что он в них поймет, не владея, так сказать, аппаратом научного мышления… Ну так как? Возьметесь за повесть?
— Я подумаю, — выдохнул я, ошеломленный не столько его напором — на факультете мы ко всему привыкли — сколько настойчивым подмигиванием Рабиндраната Тагора. Профессор тоже перевел взгляд на бронзовый бюст.
— Вот-вот, подумайте, — сказал он немного рассеянно.
Мы помолчали.
— Экзамен по санскриту у вас не сдан, экзамен по географии — аналогично. А кстати… — Декан снова повернулся ко мне. — Не могли бы вы перечислить десять классов отшельников, содержащихся в «Ангуттара-никае»?
Если честно, я не мог перечислить ни одного класса отшельников, содержащихся в «Ангуттара-никае».
— Об этом писал… как его… Дэс-Риведс?
— Рис-Дэвидс! Томас Уильям Рис-Дэвидс, основатель Общества палийских текстов! — отчеканил Ольдберг. — Ох, дружочек… А ведь завтра мы встретимся с вами на экзамене. Я очень надеюсь, что вы обрадуете меня хорошим знанием источников. Если, конечно, вас не устроила моя затея. Понимаете?
Подобный прием у писателей называется «насадить персонаж на вилы дилеммы». Я чувствовал себя этим литературным персонажем и еще новгородцем, запутавшимся в стременах в момент атаки закованной в латы конницы Святого Ордена.
— Drang nach Osten[1], — пробормотал я.
— Как вы сказали, дружочек?
— Мне нужно все обдумать и взвесить.
— Ради Бога, взвешивайте сколько угодно!
— Ольдберг тут же вскинул руку с часами «Rolex». — А через полчаса зайдите ко мне и скажите. Понимаете?
Я вышел на набережную, спустился по гранитным ступеням к Неве и закурил, поглядывая то на речную гладь, то на купол Исаакия. Надо мной кричали чайки, пахло мазутом и простором большой воды. Мне не хотелось приниматься за повесть о буддах. И все же вылетать из университета не хотелось еще больше. Отчисление, осенний призыв — и что будет делать моя жена, оставшись вдвоем с сынишкой в нашей темной комнатке с видом на Литейный мост?.. Я посмотрел на часы — срок ультиматума истекал через одиннадцать с половиной минут. Бросив третий окурок в павлиньи разводы мазута, напоминавшие узоры на галстуке профессора Ольдберга, я вернулся в деканский кабинет.
— Ну и славненько, — обрадовался Андрей Андреевич. — Давайте поговорим теперь о нашей, вернее — о вашей книге. Я предлагаю назвать ее «Неизвестные будды», поскольку так называлась моя статья в «Вопросах философии». Подходит?
Я промычал что-то в ответ.
— Итак, «Неизвестные будды». Вам следует показать, что у буддизма было несколько отцов-основателей. Понимаете? Этот факт вы должны были уяснить из моих лекций. Царевич Сиддхарта, покинувший дворец ради поисков истины, этот юноша с жертвенным и любящим сердцем, не мог быть автором «Дхаммапады». Вспомните встречи со стариком, больным, мертвецом. Сиддхарта жаждет спасти людей, избавить их от страданий. Автору «Дхаммапады» это не нужно. В «Дхаммападе» собраны афоризмы другого будды, понимаете? Этот будда восхваляет аскетизм, бодрость духа и силу убеждения, но не забывает похвалить и себя за серьезную и достойную жизнь, и особенно — за свою мудрость, которая делает его выше Брахмы. С не меньшей гордостью, чем самый тщеславный из греческих стоиков, он умеет отличать умного человека от неумного. «Мудрец выделяется, как скакун, опередивший клячу, — говорит он. Мудрец смотрит на больное печалью человечество, как стоящий на горе на стоящего на равнине». Этот второй будда идет напролом к своей цели, он заносчив, самовлюблен, циничен и равнодушен к чужому горю. Прислушайтесь к такой цитате из «Дхаммапады»: «Убив мать и отца и двух царей из касты кшатриев, брахман идет невозмутимо». Вы понимаете, что произошло? Второй будда потеснил первого и возглавил тогда еще небольшую секту бродячих аскетов! Спустя несколько веков составители канона соединили жития двух разных подвижников…
Разглагольствовать в таком духе Ольдберг мог часами.
— Во-вторых. Рис-Дэвидс был абсолютно прав, когда написал, что под именем готамаков скорее всего скрываются ученики Девадатты, этого буддийского Иуды… А почему они скрываются под именем готамаков, как вы думаете?
Я благоразумно молчал.
— Но это же проще простого! — вскричал Ольдберг. — Девадатта был двоюродным братом Сиддхарты, и «Гаутама» — их общее клановое имя… У истоков буддизма стояли два брата, Сиддхарта и Девадатта, понимаете? Вспомним теперь тексты, идущие от махаянской традиции, где Девадатта назван «высоким бодхисаттвой». Не правда ли, все проясняется? Если вы заглядывали в сочинения китайского автора Фа Сяня, вы должны помнить, что в пятом веке нашей эры существовала значительная группа индийских буддистов, поклонявшихся Девадатте, но совершенно не помнивших о Сиддхарте… И, в-третьих, у нас остается будда номер три…
— Андрей Андреевич! Я могу написать повесть только об одном будде, — твердо сказал я, глядя декану в глаза. — Не больше.
Это был ход конем, кульминационный момент сражения. Подобным образом в битве при Халдигхати знаменитый воин Пратап решил исход боя, заставив свою лошадь по кличке Четак ударить копытами в лоб слона могольского полководца Ман Сингха.
На лице Ольдберга промелькнуло беспокойство.
— Если вы читали мою «Буддологию» и слушали лекции…
— Я говорю не о лекциях, а о повести. Понимаете, Андрей Андреевич, повесть — это жанр, где в фокусе повествования находится один многомерный персонаж. Создание трех многомерных персонажей возможно лишь в рамках сложного по структуре произведения. Но роман, к сожалению, мне сейчас не поднять. Как вы знаете, у меня проблемы: география и, опять же, санскрит…
— Я думаю, вы свои проблемы решите сами, — сказал декан и благожелательно улыбнулся. — А героев, дружочек, в вашей повести должно быть три.
— Если вы заглядывали в сочинение «Поэтика» греческого автора Аристотеля, — зашел я с другого фланга, — вы должны помнить, что если главных героев несколько, требуется и несколько сюжетных линий с постепенным нарастанием драматического конфликта. А это возможно только в романе.
Пальцы профессора забарабанили по столу. Кажется, он начинал сердиться.
— Роман, не роман — какая разница? Вы будете писать книгу или нет?
— Книгу об одном будде — пожалуйста. А книгу о трех — нет. Романы пишутся в спокойной обстановке, понимаете?
Ольдберг снял очки и снова надел их. Он молчал. Я тоже не произнес ни слова. Профессор зачем-то ощупал свой гладко выбритый подбородок, несколько раз окинул меня быстрым взглядом и вдруг махнул рукой, словно епископ, отпускающий грехи крестоносцу.
— Все три экзамена я приму у вас сам, — сказал он. — Понимаете? А со своей стороны постарайтесь, дружочек, чтобы героев тоже было три. Ну, в крайнем случае, два.
Я покачал головой:
— К сожалению, Андрей Андреевич, ничего не получится.
Декан откинулся на спинку кресла и уставился на меня стальными арийскими глазами.
— Вы отказываетесь?
— Нет, — сказал я. — Пожалуй, нет. Но мне нужны условия для работы. И не хуже, чем у Гессе.
Его брови поползли к переносице.
— У Гессе? Любопытно… И что за условия?
Я немного помялся.
— Ну… Во-первых, название я придумаю сам. Во-вторых, я буду писать, следуя художественной логике, а не конспектам. В-третьих, я сам решу, кто из будд что скажет.
— Это все?
— Нет, не все. Работа над небольшим романом о двух буддах займет полгода, а то и целый год. При всем желании я не смогу посещать все лекции на пятом курсе, понимаете?
Профессор усмехнулся, но промолчал. Моя кавалерия с гиканьем мчалась вперед, лед под ногами тевтонов трещал. Махатма Ганди на портрете бессильно покусывал губы.
— Если автор не уверен в завтрашнем дне, у него ничего не получится, — рассуждал я со славянской простотой. — Я уже давно подумываю об аспирантуре…
Андрей Андреевич схватился за голову:
— Ну зачем вам аспирантура, дружочек! Вы все равно не станете заниматься чистой наукой! У вас иное призвание, понимаете?
Я постарался, чтобы ни один мускул на моем лице не дрогнул. Во взгляде Ольдберга появилось веселое любопытство.
— Продолжайте, юноша.
— Что касается большого исторического романа о трех буддах — это тоже возможно, но мне потребуется лучше узнать фактуру… Некоторые детали можно изучить только на месте, понимаете? Меня бы устроила поездка в Бихар, где проповедовал Сиддхарта, или хотя бы в Непал, где он родился…
— Не пойдет, — отрезал декан. — У факультета нет таких денег.
Я переигрывал — у меня и в мыслях не было ехать в Непал и писать большой исторический роман. Но мне очень кстати вспомнились лекции по истории дипломатии: на любых переговорах следует выдвигать завышенные требования, чтобы иметь возможность уступить по ряду второстепенных позиций.
— А вы справитесь? — недоверчиво спросил Ольдберг. — Несколько сюжетных линий, нарастание драматического конфликта и тому подобное?
Я пожал плечами — мол, могу и попробовать. Профессор еще раз перелистал журнал, глубоко задумался и стал похож на магистра Ливонского ордена, заключающего союз с меченосцами.
— Давайте остановимся на двух буддах, — сказал он, рыцарским жестом протягивая мне руку. — Мне кажется, два будды — вполне достаточно.
К этому осталось добавить, что каждый из нас — и я, и Ольдберг — свое слово сдержали. Роман о двух буддах был написан и, после некоторых исправлений, одобрен профессором. Вы держите его в руках. Пятый курс я закончил без особых проблем и поступил в аспирантуру.
Полтора месяца назад Ольдберг бесследно исчез во время большой поездки с лекциями по Бурятии, Туве и Алтаю. В газетах писали, что активисты местной секты «Белый лотос» несколько раз пытались сорвать его выступления. В Горно-Алтайске нашему декану предложили совершить восхождение гору Белуха. Узнав, что высочайший пик Сибири не покорился легендарному Райнхольду Месснеру, профессор не устоял. Он в одиночку ушел к вершине из лагеря на Ак-Кемском леднике, и с тех пор его никто не видел. Программа «Вести» передавала, что низкая облачность сделала работу спасателей невозможной, и ученый-буддолог, вероятнее всего, погиб. Я в это не верю. Однажды Ольдберг взбежит по ступеням Восточного факультета и расскажет нам о своих приключениях. А пока я пишу следующую книгу. Андрей Андреевич очень просил, чтобы черновой вариант был готов к его возвращению.
ЧАСТЬ ПЕРВАЯ
Глава I
ОЗЕРО В БАМБУКОВОЙ РОЩЕ
Как на куче мусора, выброшенного на большую дорогу, может вырасти лотос, сладкопахнущий и радующий ум, так ученик поистине просветленного выделяется мудростью среди слепых посредственностей, среди существ, подобных мусору.
Дхаммапада, 58–59
Он любил это озеро в бамбуковой роще. Озерцо было самое обычное. Мелководье заросло красным рисом, а по кромке воды тянулся мелкий кустарник, усеянный желтыми и синими цветами. У берега напротив рассыпались по воде белые кувшинки.
— О, страна Гвоздичного дерева, ты прекрасна! — прошептал старик. — В твоих озерах нет ни тины, ни ряски, но неподвижно стоит чистая вода. Твои белые цветы прекрасны…
Ему почудилось, будто птицы и пчелы понимают его.
— Я люблю твой полдень, когда люди отдыхают от зноя в хижинах с соломенными крышами; я люблю твои ночи, когда луна, выглядывая из-за облаков, целует твое улыбающееся лицо. Но еще больше я люблю тебя сейчас, на рассвете, когда богиня утренней зари, юная Ушас, спешит на свидание со своим суженым, а слоноликий Ганеша с белоснежными бивнями, увитыми побегами жасмина, в упоении пляшет, стирая хоботом звезды с горней тверди, и похлопыванием ушей взметает пыльцу камфары, от которой розовеют небеса!..
Радость переполняла его, брахман чувствовал себя ребенком. Он поднял руки к небу и запел:
— В самую внутренность неба, где свет никогда не гаснет, где струятся вечные воды… Где обитают радость и веселие, дружба и счастье, а всякое доброе желание находит свое исполнение… Туда, в вечное бессмертие, отведи нас, о Сома!
Это был гимн, посвященный Соме. Сома был господином вод и подателем жизни, он же был горным растением, и белым диском Луны, и хмельным напитком — светло-желтым соком, приведенным в брожение и смешанным с молоком священной коровы. Брахман особенно почитал Сому, ведь другие боги не могли обойтись без него и являлись на место жертвоприношения, услышав скрежет давильных камней. Пожалуй, в доме жреца опьяняющая жидкость проходила через сито из овечьих волос несколько чаще, чем требовал обычай, и это вызывало тайные улыбки женщин. Старый брахман замечал эти улыбки, но они не огорчали его. И сейчас, простирая руки к небу, он простирал их навстречу Соме. Он любил Сому, ибо Сома сам был любовью.
Мальчиком слышал Шарипутра рассказ учителя Сомананды о том, как некогда юный Сома, бог священного напитка, пострадал от своей любви. По воле Брахмы Сома стал богом лунного диска и владыкой ночного неба. И полюбил Сома прекрасную Рохини, дочь грозного Дакши, отца богов. Но тот не соглашался отдать ее, требуя, чтобы Сома взял в жены всех его дочерей. А было их у Дакши двадцать семь, и были они богинями созвездий лунного неба. Сома, изнемогая от любви, взял их в жены, но любил только одну Рохини, а остальные жены-созвездья скучали. Тогда разгневанный Дакша наслал на Сому хворь, и молодой бог стал чахнуть ото дня ко дню. Он худел, и все бледней становилось сияние луны, и ночи становились мрачней и мрачней. На земле увядали травы, воды отступали от берегов, и животные стали спадать с тела. На земле начался голод, жертвы оскудели, и боги встревожились. Они явились к Дакше и попросили: «Смилуйся над Сомой! Он так исхудал! Животные чахнут вместе с ним, и растения, и люди, и мы тоже!» — «Я пощажу его, — согласился Дакша, — но отныне вечно он будет худеть в первую половину месяца и снова полнеть в другую».
К Соме вернулись его лучи, и он опять стал озарять землю. С тех пор лунный диск в темную половину месяца убывает, напоминая людям, как некогда страдал Сома, верный своей любви…
Брахман услышал чей-то смех и обернулся. Под гвоздичным деревом стоял темноволосый юноша. Он был без оружия, но осанка и золотистый цвет кожи выдавали в нем кшатрия.
— Прости, что я потревожил тебя, — сказал юноша странным певучим голосом, низким и звучным. — Ты, кажется, сочинял стихи?
Жрец смутился. Этот юноша с грацией молодого оленя наверняка слышал его болтовню о розовой Ушас и слоноликом Ганеше.
— Когда мой отец читал мантры, боги внимали ему, — медленно сказал Шарипутра, вглядываясь в лицо кшатрия и тщетно пытаясь обнаружить в нем знаки пристрастия к охоте или воинским упражнениям. — А я… я даже не научился по-настоящему толковать веды. Не суди меня строго — старые жрецы любят поболтать сами с собой.
Юноша пожал плечами.
— Зачем мне судить тебя? Я слышал, многие брахманы сочиняют стихи. Ведь это прибыльное занятие, верно?
Так оно и было. Правители в долине питали слабость к праздникам жертвоприношений, на которых в огонь проливалось немало масла и молока. Брахман-сочинитель обязан был представить к торжеству новый гимн. Неслучайно священные песни, как древние, так и современные, были довольно раболепными по тону; изобилуя лестью к владыкам Джамбудвипы, они без всяких околичностей выражали надежду на богатую мзду (она состояла в священных коровах), так как понятно, что непростое искусство стихосложения не может оставаться без поощрения. Шарипутра не был исключением. Его гимны весьма ценились, и он получил от магадхского раджи Бимбисары немало коров.
— Скажи, далеко ли река Найранджана? — спросил кшатрий.
— Река Найранджана?
— Да, я иду в Урувеллу.
Старик ладонью отер пот со лба.
— Тебе нужно пересечь джунгли. Ты встретишь озера и ручьи, где обитают наги — змеи, умеющие оборачиваться людьми. Дальше начнутся горы. Там, как я слышал, живут карлики-якши с вывернутыми ступнями и немигающими красными глазами. Река Найранджана берет начало на крутых склонах. Говорят, у ее истока пьет воду корова Камадхену, исполняющая желания…
Увы, эта сказочная риторика не подействовала на кшатрия, напротив, его губы тронула легкая усмешка:
— Значит, Урувелла недалеко?
— Недалеко. Но чтобы достичь ее, нужно взять с собой большой груз удачи.
Некоторое время юноша размышлял, но потом тряхнул головой, отчего его длинные черные волосы закрутились подобно фазаньему хвосту, и улыбнулся.
— В день, когда я родился, у городских стен видели белого слона с приметами счастливой породы, — сказал он. — Слон трижды потерся спиной о ворота.
Шарипутра вздохнул.
— Тогда все в порядке. И все же послушай моего совета: не отправляйся в Урувеллу сейчас. Усталый странник поднимает больше пыли, а я вижу по твоему лицу, что ты долго не спал. В моем доме, — он сделал приглашающий жест в сторону зарослей, — ты сможешь отдохнуть, а с рассветом тронешься в путь.
Кшатрий кивнул и первым двинулся по тропинке среди молодых бамбуков. На мгновение пораженный тем, как изящно и ровно юноша ставит ноги, старик поспешил за ним.
Семи лет от роду Шарипутра был отдан в ученики к обедневшему брахману Сомананде, желчному старику-вдовцу. Целые дни проходили в зубрежке и повторении гимнов Ригведы, а расплатой за невнимательность была порка, после которой под набедренной повязкой невыносимо чесалось, а мухи просто изводили своей назойливостью. При этом Шарипутра, как и другие ученики, должен был вознаграждать Сомананду множеством различных услуг. На их отроческих плечах лежала работа по дому и личный уход за учителем; они разводили огонь в очаге и готовили еду, массировали старика после омовения, подавали ему бетель и воду для полоскания рта. Тогда Шарипутре казалось, что день избавления от этого рабства не наступит никогда, и он жил как будто во сне. И вот однажды ему, уже юноше, обрили голову, оставив лишь маленькую косичку на темени. Вместе с волосами отлетели прочь и прежние обязанности. Шарипутра уступил свою циновку в хижине Сомананды испуганному большеголовому мальчику, которому тоже выпало несчастье родиться в брахманской варне, и вошел хозяином в собственный дом. Вторая часть жизни брахмана, более продолжительная и гораздо более приятная, состояла в обзаведении потомством и служении правителю в сане жреца. На третьей стадии земного пути пожилой жрец проводил много времени в уединении, еще не разрывая связи с людьми, но постепенно готовя себя к подвигу шрамана, обитателя лесов. Четвертая, заключительная ступень отшельника была печальным расчетом с жизнью. Таков был порядок, и Шарипутре он казался разумным.
В самом деле, что будет, если юноши, едва окончив ученье, наденут повязки аскетов? Кто тогда продолжит брахманский род? Кто почтит жертвоприношениями богов, духов и предков? Кто умягчит беседой сердце правителя?
Увы, с тех пор, как в долине стало распространяться учение о сансаре, обычаи нарушались все чаще. В местности Урувелла, о которой спрашивал юноша, подвизались вполне молодые аскеты. Впрочем, до недавнего времени все они были брахманами, и даже не верилось, что философские размышления, медитация, подвиги поста и умерщвления плоти могут увлечь людей из других варн.
А несколько месяцев назад — Шарипутра прекрасно помнил день, когда услышал об этом — явился первый проповедник из сословия кшатриев. Им стал Вардамана из Вайшали, сын мелкого князька личчхавов, народа, жившего за великой рекой к северу от Магадхи. Все началось со смерти этого несчастного князька, который, отведав на пиру мяса антилопы, внезапно побагровел лицом, схватился за горло и умер, не обращая внимания на гнев раджи и труды придворного знахаря, щекотавшего ему нёбо орлиным пером. Проводив родителя на погребальный костер из дорогих сандаловых поленьев, Вардамана бросил игру в кости, до которой раньше был большим охотником, оставил дом, жену и двух дочерей и ушел странствовать в одеянии аскета, которое, впрочем, по окончании периода дождей сбрасывал, предпочитая проповедовать нагим. Старое имя уже не устраивало его, и он назвался Джиной-Махавирой, что значит — Победитель и Великий Герой. Говорили, будто Джина-Махавира учит аскетизму и добровольной голодной смерти, ибо вкушение пищи, согласно его учению, способствует не только увязанию в сансаре, но и постепенному переходу существа души в мертвую косную материю.
Глава II
НАЛАНДА
— Партию в чатурангу[2]? — предложил брахман.
Юноша кивнул. Он проспал до самого вечера, потом совершил омовение и с царственным безразличием позволил служанке умастить свое тело благовониями. Наблюдая за гостем, Шарипутра отметил, что щеки юноши, упругие, как лепестки нераскрывшегося бутона чампаки, даже не порозовели, как будто его растирала не молодая девушка, а какой-нибудь старый служитель при священном бассейне. И брахман сделал вывод, что кшатрий богат и не знает недостатка в самых красивых женщинах.
После массажа молодой человек выпил чашку горячего рисового отвара, отчего его тело покрылось легкой росой пота, и отведал бетеля. Сейчас оба они, и брахман, и его гость, сидели на террасе в ожидании ужина. Воздух был напоен ароматом диких лилий.
— Взгляни на эти фигурки, мой друг, — сказал брахман, указывая на доску. — По краям ждут своего часа колесницы; вот пешие воины, вот конница, вот боевые слоны. Ты — кшатрий, и тебе, конечно, знакомо военное ремесло. Если я не ошибаюсь, перед сражением так строится и настоящее войско?
— Ты не ошибаешься, — серьезно подтвердил юноша.
— Прекрасно. А тебе не кажется, что наши предки не зря установили правило четырех частей? Ведь организация войска соответствует устройству любого из наших государств, не так ли? И в Раджагрихе, и в Шравасти, и в Бенаресе, и в Капилавасту есть брахманы, кшатрии, вайшьи и шудры. Брахманы обучаются священному знанию, совершают жертвоприношения, размышляют над ведами и упанишадами, а в конце жизненного срока уходят в джунгли, где предаются аскетизму. Кшатрии ведут жизнь благородных людей среди почестей и материального благополучия, упражняя силы на войне или проводя время на охоте, на скачках или в веселых ночах с «танцовщицами»; вайшьи пасут скот и возделывают землю — из этого сословия выходят также купцы, моряки, цирюльники, кузнецы, ювелиры, гончары и ткачи. И наконец у нас остаются шудры, пригодные только к самой грязной работе. Но что будет с землей Гвоздичного дерева, если шудры захотят, скажем, торговать и уплывут на кораблях в другие страны? Или если вайшьи бросят ремесла и устремятся к алтарям? О, Сома! Вероятно, тогда брахманам придется лепить горшки? Как ты думаешь?
Кшатрий не ответил. Он молча слушал, в знак внимания наклонив голову.
— Жить без варн — все равно, что играть в чатурангу без доски, поделенной на квадраты, — продолжал Шарипутра. — Разве каждой варне не присущи свои занятия, свои обычаи, свои обязанности, наконец? Даже боги-покровители у нас разные: кшатрии поклоняются Индре, вайшьи — Пушану, брахманы — Соме и другим жреческим божествам. Так было много веков и так должно оставаться и впредь. Ведь кшатрии, и ты не мог не слышать этого, произошли из рук первого человека Пуруши, вайшьи — из его бедер, шудры — из ног, а брахманы — из головы…
Не встретив сопротивления и этому тезису, Шарипутра прямо заговорил о том, что больше всего волновало его:
— Скажи мне, благородный воин, откуда берутся кшатрии-философы и кшатрии-аскеты? Неужели жизнь твоей варны стала так скучна, что ты уже в столь юном возрасте решил посвятить себя лесной науке? Взгляни на меня: я стар, но крепок, и я не в Урувелле, а здесь. А ведь я — брахман, и меня готовили к аскетизму с рождения! О, Сома! Того и гляди ко мне в Наланду заявится брахман на коне, в боевых доспехах и с чреслами, препоясанными мечом…
Юноша потянулся, и Шарипутра вдруг почувствовал, что где-то неподалеку распустился лотос. Да, лотос. Он явственно ощутил его аромат.
— Знаешь, брахман, маленьким ребенком я плакал, требуя, чтобы мне достали с неба луну, — сказал кшатрий. — Говорят, от моего плача раскалывались оплетенные соломой горшки…
Шарипутра подался вперед и нечаянно толкнул чатурангу. Фигурки, так и не вступившие в сражение, посыпалась с доски.
— Это очень странно, — пробормотал брахман. — Это очень странно… сын раджи.
Собеседник посмотрел на него темными, как у богини Кали, глазами.
— Ты слышал обо мне? — спросил он.
Играть в прятки уже не имело смысла, и брахман кивнул.
— Я слышал пророчества о твоем рождении. С самого первого мгновения, когда я увидел тебя на берегу озера, я догадался, кто ты.
— И кто же?
— Знаки мудрости на твоем лице переплетены со знаками призвания. Возможно, ты станешь великим правителем. Возможно, тебе, кшатрию, будут внимать сотни людей из других варн. В любом случае, ты пришел изменить нынешний порядок вещей, и мне очень хочется отговорить тебя от задуманного. Но может быть, когда ты объяснишь мне, я пойму…
— Если бы я сам хоть что-нибудь понимал! — воскликнул юноша. — Я совсем ничего не знал, и если бы не мой колесничий…
— Твоим учителем был колесничий? — Шарипутра развел руками, так велико было изумление.
— Да, его звали Чанна. Я многим ему обязан.
— Клянусь Брахмой, это самый удивительный день в моей жизни! Но ты должен рассказать мне все по порядку. Сейчас подадут ужин, и ты поешь, а потом… Потом я хочу услышать, почему ты ушел из дворца.
По знаку Шарипутры служанки подали дымящийся рис на свежих листах банановой пальмы, соус, приправы и кислое молоко в глиняных чашках, смешанное с медом и розовым маслом. Гость и хозяин ели в совершенном молчании, и тишину нарушали только далекие завыванья шакала и кваканье лягушек Сердце брахмана замирало, а рассудок упрямо твердил, что новое не бывает лучше старого, и нужно уговорить юношу вернуться к привычным занятиям кшатрия. Если еще не поздно. Шарипутра знал — тот, кто оставил свой дом, легко сбросит и последний лоскут одежды.
— Наверное, я не ушел бы — если бы не Чанна, — сказал юноша.
— Колесничий?
— Да. Он один говорил мне правду. Понимаешь, брахман, я жил слишком счастливо…
На террасу выбежал голый мальчик с медными браслетами на ножках и черным камушком на шее — такой амулет дают ребенку с очень светлой кожей, чтобы уберечь его от злых духов. Заметив гостя, мальчик остановился и сунул в рот большой палец правой руки; в левой он держал пест для растирания риса. У будущего брахмана были длинные, как у бычка, ресницы, подкрашенные сурьмой брови и большие темно-оливковые глаза.
— Многие живут счастливо, — возразил Шарипутра. — Вот мой воспитанник Ананда. Его мать умерла, отец обеднел, а мальчик растет в моем доме. Женщины положили его спать, но он пробрался на кухню и утащил пест. Ему два года, а он уже счастлив. И будет счастливым еще лет пять, пока не начнется ученье.
— Ты не понимаешь, — сказал юноша. — Никто не был счастлив, как я. В жару меня обмахивали опахалами и банановыми листьями. Мне по первому зову приносили мяч или кости. Меня каждый день убирали цветами, как какой-то алтарь… Даже деревья в парке и их тени служили мне. Младенцем меня часто укладывали под гвоздичным деревом, и когда няньки вспоминали обо мне, всякий раз оказывалось, что тень дерева осталась на месте!
— Это очень странно, сын раджи.
— Меня учили священным гимнам и песнопениям, четырем ведам и всем видам искусства, коих насчитывается шестьдесят четыре. Меня учили игре в чатурангу. Меня учили искусству править слонами и лошадьми, владению мечом и стрельбе из лука. Во всем этом я не знал неудач. Я научился посылать стрелы одну за другой, оттягивая тетиву до уха. Каждая моя стрела пробивала восемь кожаных щитов, и они лопались, как сухие листья баньяна!
— А твой отец? Он тоже не ведает забот?
— Не знаю… Отец сильный, он мог подбросить меня к верхушке мангового дерева. Мне говорили, что он защищает землю шакьев, как крепостная стена, а рука его всегда открыта для щедрых даяний. Мне говорили, что в нашей стране плачут только от дыма, копья только в руках стражников, беспорядок только в женских прическах, а удары наносятся лишь по литаврам. Мне говорили, что добрая слава о правителе Капилавасту растекается по землям, как масло по поверхности Ганги…
«Так и есть, — подумал брахман. — Он родился на севере, в стране шакьев, называющих себя потомками солнца, в городе Капилавасту, на склоне синеющих гор, уходящих в небо. Он не кто иной, как царевич Гаутама, сын раджи Шуддходаны, внук старого Сихахану. А я-то еще удивлялся его красоте! В его роду семь поколений чистокровных кшатриев как с материнской, так и с отцовской стороны. Его несчастную мать, кажется, звали Майей. Она родила сына в роще Лумбини, среди цветущих деревьев сал, и умерла на седьмой день». Но вслух брахман сказал другое:
— Тебя не обманывали, царевич. Твой отец достойно правит страною шакьев.
Царевич пожал бронзовым плечом.
— Может быть, — сказал он. — Но я ничего не видел, понимаешь? Я был подобен теленку, сосущему молоко матери. Я ничего не видел, кроме нашего дворца, увитого плющом и обсаженного гвоздичными и манговыми деревьями. Жаркое время года я проводил на террасах среди фонтанов. Гулял в тенистых садах, где дорожки были опрысканы благовонным сандалом. Купался в бассейнах для омовений. Нет, я не должен был знать печали, но она, наверное, родилась вместе со мной. Я часто убегал в дальний уголок парка, куда не долетали звуки флейт, барабанов и тамбуринов. Там рос баньян, уродливый старик со многими десятками высохших рук Я ложился на землю ничком и плакал. Мое счастье томило меня… А еще я любил дожди. Я бродил по саду и любовался радугой в каплях воды…
Юноша умолк, и маленький воспитанник брахмана, посчитав это сигналом к действию, бросил пест и решительно полез к царевичу на колени. Шарипутра позвонил в колокольчик Вбежавшая на террасу служанка ловко схватила ребенка поперек живота и унесла его во внутренние покои.
— Потом мне исполнилось четырнадцать… В тот день раджа Капилавасту привел во дворец сорок знатных девушек, украшенных гирляндами алых цветов. «Ты стал мужчиной, мой сын, — сказал отец. — Так выбери себе жену!» Девушки заполнили дворец, и от их смеха у меня стало легко и радостно на сердце. У одних кожа была золотистая, у других темная, у третьих красноватая. Все они были красавицы, умащенные благовониями, камфарой и соком черного алоэ; все они смотрели на меня призывными взглядами, и только одна стояла у самых дверей и, смущаясь, не могла сделать ни шагу… Я подошел к ней. Волосы ее были подобны черному агату, а браслеты на руках позванивали, как малые цимбалы. Тело ее было темным, как черная лиана калисара, а лицо светилось, как цветущая лиана мадхави. Я взял ее за руку и сказал: «Вот моя жена!»
«Это я знаю, — подумал брахман. — По случаю женитьбы царевича раджа Капилавасту воздвиг алтарь на площади перед дворцом и принес в жертву быка, барана, одиннадцать молодых козлов и одну овцу, вылепленную из теста. И это не считая великолепного масла, горячего молока и корзин с ячменными лепешками. Даже помощник жреца, певец-удгатар, получил тогда в подарок корову».
— Мою жену звали Яшовати, и ей тоже было четырнадцать, — продолжал царевич. — Во время брачной церемонии мы обменялись венками. Зажигая свечу, Яшовати обожгла себе палец, а я преждевременно вылил масло в огонь, но все это было неважно, потому что мы были созданы друг для друга. Внезапно дворец опустел, и мы остались одни. Перевязь из лотосов сама соскользнула с правой руки Яшовати. Я тронул жемчужное ожерелье на ее груди, нить оборвалась, и по полу запрыгали жемчужины. Я смутился и хотел поднять их, но девушка остановила меня. Я помню светильники, горевшие на высоких колоннах, помню свою возлюбленную в поясе из золота, помню сам воздух той ночи, наполненный звуками плясок… Пупок у Яшовати был неглубок, но вниз уже спускалась дорожка вьющихся волосков; руки моей жены были прохладными, как сандал, но они могли быть страстными, и ее ноготки глубоко вонзались в мою спину… Каждую ночь мы засыпали на крыше дворца, залитые лучами луны. Мы спали обнявшись, как дети. А потом… потом Яшовати понесла, и сосцы ее грудей стали темными, словно печати, охраняющие молоко. Через десять лунных месяцев она родила мне сына. Я дал ему имя Рахула.
— И ты по-прежнему тосковал?
— Служанки плакали от радости, глядя, как я иду к бассейну для омовений, посадив маленького Рахулу на плечо. Тело моего сына отливало темным золотом, а лицо сияло так, что ночью к изголовью его ложа слетались мотыльки. Недавно я был мальчиком, игравшим у родительских ног, а теперь сам познал счастье отца, но это новое счастье тяжким бременем легло на мои плечи. Если бы не колесничий Чанна, я однажды выпрыгнул бы из окна дворцовой башни.
— О, Сома, — вздохнул брахман.
— Мы с Чанной навещали Дхоту, моего дядю, который жил во дворце, оштукатуренном молотой скорлупой яиц. Этот дворец казался мраморным и сверкал на солнце, а дядя Дхота был самым веселым человеком среди шакьев. У него было пять сыновей, но особенно близок я был с Нандой. Нанда был чуть младше меня, цвет его лица был светлый, как у желтого ствола пальмы, а плечи и руки имели мягкие очертания. Один глаз у Нанды был серым, а другой карим, в нашей семье иногда рождались такие разноглазые люди. Детьми мы с Нандой, взявшись за руки, вместе гуляли по парку в Капилавасту, бегали наперегонки, лазали по деревьям и возвращались во дворец с лицами, перепачканными розоватой мякотью манго. Подростками мы совершали омовения в дворцовом бассейне, где вода благоухала шафраном, плели гирлянды из желтых бархатцев, забрасывали мяч в круглую чашу из сандала, установленную на верхушке бамбукового шеста. Нанда любил надевать венок из жасмина, наверное, воображал себя небожителем. Отец был не против, чтобы я виделся с братом, но он не знал, что по дороге мы навещали горшечника…
Брахман всплеснул руками.
— Сын Шуддходаны дружил с горшечником?!
— Это был знакомый моего колесничего, — пояснил царевич. — Он жил возле рынка, где сбывал свои глиняные сосуды. Его жена, сухощавая женщина с усталым лицом, приносила нам с Чанной пальмовое вино в кульках из банановых листьев. Вино было скверное, но я пил его с удовольствием. Хозяин, грузный человек, страдавший одышкой, выходил редко — он сидел в мастерской, весь перепачканный глиной. Натрудившись у гончарного круга, он горстями уплетал ячменную кашу… В его доме я садился у открытой двери. Мимо меня сновали носильщики-рабы, женщины несли на головах корзины с бананами, проезжали скрипучие повозки — у них были огромные, в человеческий рост, колеса. На рынке в лужах мочи стояли ослы и мулы, толкались люди, кто-то, невзирая на шум, спал на мешках с мукой. Среди торговцев, погонщиков, крестьян и прорицателей, толковавших о посмертной участи, бродили коровы с мокрыми от слюны мордами. Я видел торговца, который ловко разделывал рыбу и заворачивал ломтики в банановый лист; я наблюдал, как заклинатель змей заставляет кобру танцевать, теребя ей хвост и шею. Заклинатель наигрывал мотив, печальный и заунывный, а тонкий язычок кобры играл со струей воздуха, выходящей из флейты… Слушая разговоры людей, выросших у рукояти сохи, я понимал, что почти никто из них не был счастлив. Над улицами и рыночной площадью стоял запах распаренных зноем человеческих тел, запах мулов, запах подгоревшего масла, требухи и мусорных куч, и этот запах был для меня слаще самых изысканных ароматов дворца…
— В твоей жизни было слишком много радости, — заметил брахман. — А когда ее слишком много, она скатывается с человека, как вода с лотосового листа.
Царевич покачал головой.
— Ты не дослушал меня. Однажды из-под копыт наших коней взлетел черный ворон, справа на дорогу выползла змея, а мою левую руку стало ломить в плече. Все это были недобрые знаки… И вот я увидел старика — он просил милостыню на перекрестке. Это был безобразный горбун с высохшим телом, похожий на карлика-якшу, и его ребра торчали наружу, как балки старой хижины. «Что с ним?» — спросил я. «Он состарился», — ответил мне Чанна. Мы подъехали к дому горшечника. Переступив порог, я увидел хозяина мастерской. Голый, он лежал на земляном полу, жена поддерживала его правую руку, а толстый брахман, сидя возле жаровни, бормотал мантры. В жаровне горели лепешки коровьего навоза, и в доме было не продохнуть от едкого дыма. «Что с ним?» — спросил я. «Он заболел», — ответил мне Чанна. От дыма у меня закружилась голова, странная слабость одолевала меня, и все-таки мы отправились к Нанде…
Из восьми светильников на террасе четыре уже догорели, но Шарипутра, увлеченный рассказом царевича, этого не заметил.
— Возле дворца дяди было много людей. Женщины причитали и расцарапывали себе лица, а мужчины стояли молча, теребя перевязи мечей. К нам подошел пожилой кшатрий, он возбужденно говорил о какой-то змее, но я не стал его слушать: мне хотелось скорее увидеть Нанду. Люди расступались передо мной, и вдруг я увидел колесницу, и своих двоюродных братьев, и дядю Дхоту. Лицо дяди показалось мне незнакомым, таким суровым и отчужденным оно было. А на колеснице… на колеснице лежал Нанда, покрытый ворохом красных цветов. Нанда был бледен, его лицо было еще светлее, чем обычно, и он один из всех оставался невозмутимым. С края колесницы свешивалась его расслабленная кисть. Не знаю, сколько я так стоял — недоумевающий, растерянный, оглушенный. Мне очень хотелось поправить его руку, но я боялся… Я боялся прикоснуться к нему, ведь теперь он был другой Нанда, слишком спокойный, не тот, которого я знал. А потом я почувствовал на плече руку Чанны. «Твой брат умер», — сказал колесничий.
Сын раджи сжал кулаки.
— Понимаешь, брахман, в тот день я понял, что белый зонт наследника Капилавасту заслоняет от меня не только солнце, но и саму жизнь! Жизнь, полную страданий. Жизнь, в которой царствуют болезни, старость и смерть. А еще я понял, что однажды Царь Смерти явится и ко мне — верхом на черном буйволе, с петлей в одной руке и дубинкой в другой. К моему брату он пришел в обличье кобры… Нанда попробовал отбиться от змеи голыми руками и получил девять укусов в руки и ноги. Сбежались слуги, кобру убили палкой, но и Нанда уже не дышал! На моих глазах его опустили в воды реки, привязав к ногам запечатанные сосуды с сомой. Чанна объяснил мне, что так хоронят воинов-шакьев, погибших не в бою. Два дня просидел я на берегу, глядя на воду, которая взяла Нанду… А потом колесничий отвез меня во дворец. Я шел по ровным дорожкам нашего парка, они все так же были опрысканы благовонным сандалом, и все те же лотосы — голубые, белые и красные — цвели на прудах, и все та же музыка раздавалась под сводами дворца, и вода в священном бассейне все также благоухала шафраном. Мне хотелось кричать, кричать громче барабанов и тамбуринов, но я помнил, что меня зовут Львиноголосым и от звуков моего голоса лопаются горшки, оплетенные соломой… Поэтому я не кричал. В первую стражу ночи я взял веревку и спустился в сад через слуховое окно. Потом влез на манговое дерево и перебрался через стену. Никто не заметил, как я ушел!..
— И что же теперь? — тихо спросил брахман.
— Теперь я ищу путь к освобождению от страданий. Я слышал, что отшельники Урувеллы знают его.
— Я слышал, что бывают волшебные слоны, и они летают… — Шарипутра грустно улыбнулся. — Но сам никогда их не видел.
Гаутама вздрогнул.
— Ты смеешься надо мной?!
— Нет-нет, я не хотел тебя обидеть, — торопливо сказал брахман, отводя взгляд от лица с крылатым разлетом бровей, прекрасного даже в гневе. — О, Сома! Я невежественный старый жрец, но, поверь, о смерти я кое-что знаю…
«Что, что мне сказать ему? — подумал Шарипутра. — Он уверен в себе, словно юный слон, закончивший обучение и покидающий стойло. Мои рассуждения об устройстве государства и варнах его не тронули. Пожалуй, у него хватит сил принять посвящение у отшельников, а потом поставить все с ног на голову от подножия Хималая до южных окраин Магадхи. Вопрос в том, радость или беду предвещало нам его рождение».
— Ты хочешь избавить мир от страданий, — сказал старик. — Это поистине благородная цель. Но скажи: разве твоя семья теперь не страдает?
Юноша не ответил, но между его бровей пролегла чуть заметная складка. Тогда брахман мягко заговорил о том, что у человека нет иных спутников, кроме им же совершенных дел, прибавив, что в основе доброго дела не может лежать зло. Он намекнул, что раджа шакьев остался без наследника, как старая цапля на пруду, и в резких тонах обрисовал будущее государства, которое лишается управления, что в чатуранге равносильно потере фигуры мантрина. Потом он упомянул о страданиях молодой женщины, каковые она обязательно должна испытывать, лишившись мужа, и не забыл напомнить о маленьком сыне, который тоже будет скучать. «Жена — истинный дом», говорят веды, и это так же верно, как и то, что земля стоит на водах, а воды — на ветрах. Правильное решение никогда не приходит второпях, а если оно все-таки найдено, не стоит торопиться с его исполнением. «Даже осока, если за нее неумело схватиться, режет пальцы», — заключил он.
— Ты добрый человек, брахман. — Царевич приложил ко лбу руки со сложенными ладонями. — Я тронут твоим участием.
Шарипутра позвонил в колокольчик, но было поздно, и никто из слуг не явился. Тогда брахман сам отправился во внутренние покои. Он зажег лампаду с ароматным маслом и зачем-то натер руки благовониями. Ему казалось, что он говорил с царевичем вполне убедительно. Приготовив юноше ложе, он вернулся на террасу. Там никого не было.
Старик огляделся. Терраса была пуста, но в воздухе разливалось благоухание лотоса. Светильники потухли, лишь один еще слабо дымился, а над кромкой джунглей висел узкий серп месяца, напоминая о страданиях бога Сомы.
— Ты вернешься, — прошептал Шарипутра. — Я знаю это, Сиддхарта!
Глава III
БЕНАРЕС
Брожение умов наблюдалось по всей Арьяварте. Усилиями брахманского сословия древние веды обрастали толкованиями, давая жизнь сложным построениям — упанишадам. В упанишадах говорилось о жизни и смерти, о первопричине бытия, о сокровенной сущности человека, об Атмане.
«Ни один благородный воин не должен вступать на путь отшельника» — гласило жреческое правило, однако благородные воины все чаще отказывались подчиняться ему. Вслед за Вардаманой из Вайшали повязки аскетов надевали все новые и новые кшатрии. Этому немало способствовало учение о карме и переселении душ, согласно которому в новых рождениях шраманы имели преимущество перед остальными людьми, воплощаясь либо в мире богов — среди прекрасных танцовщиц-апсар небесного царства, либо на земле, но в самых богатых и знатных семействах.
Однажды возникнув в Магадхе, учение о сансаре распространялось теперь в долине Ганги, словно огонь, брошенный в сердцевину сухостоя.
Его обсуждали во дворцах правителей, в домах ремесленников, на рыночных площадях. Имя создателя учения никто не знал; утверждали, будто это древняя мудрость, явленная еще в ведах. Поговаривали, что брахманы ревниво оберегают эти истины от непосвященных, отчего симпатий к касте жрецов не прибавлялось.
Отшельники-шраманы бродили по дорогам с чашками из половинок кокоса в руках, бормоча им одним понятные мантры; они застывали в неудобных позах на перекрестках, воздев к небу коричневые руки и уставившись воспаленными глазами вдаль или на солнце; они просили подаяние на постоялых дворах; сидели, образуя кружки, в священных рощах и на городских площадях; лежали на земле, соблюдая обет воздержания от пищи. Повсюду были их тощие тела, едва прикрытые набедренной повязкой. Некоторые, подражая Махавире, ходили совсем обнаженными. У погребальных кострищ непременно стоял на одной ноге какой-нибудь безумный шраман с трезубцем, голый, испачканный пеплом и разрисованный охрой.
Часть аскетов питалась финиками, бананами, съедобными корнями и плодами хлебного дерева; другие принимали от добрых людей рисовые и ячменные лепешки; третьи уверяли, что поддерживают жизнь исключительно листьями и дымом. Разнообразие наблюдалось и в прическах: у лесных отшельников на шею свисали спутанные космы, проповедники собирали шевелюру в пучок на макушке, бывшие жрецы брились наголо, кшатрии и атхарваны[3] заплетали косы.
Нагие и полунагие, с почерневшими и высохшими телами, брели шраманы по долине Ганга, проповедуя идеи вечного круговорота рождений, и их глубоко запавшие глаза блестели в глазницах, словно вода в глубоких и темных колодцах.
Амбапали давно уже мучилась от неприятного сна. В этом часто повторявшемся сне она видела темно-коричневого слона с клочьями пены на смертоносных клыках. Спасаясь от него, она превращалась в кобылицу, но слон оборачивался жеребцом и летел за ней, отбивая по земле гулкую дробь. Она находила приют в подземном мире нагов, во дворцах, блистающих золотом и драгоценными камнями, но неутомимый преследователь являлся и туда в облике исполинской двенадцатиглавой змеи, обращая в бегство воинство царя нагов Васуки. Она искала спасения в мире гандхарвов, на горах, где гении неба услаждают слух Индры и других небожителей пением и звуками лютней, но неведомый враг в обличье косматого демона находил ее и там. Наконец к ней приходил на помощь мудрый отшельник риши с белыми волосами — он выкапывал для нее уютную землянку на берегу лотосового пруда. Старец покрывал землянку грязью и уходил, а она томилась внутри, ожидая юного раджу, кожа которого, во сне она была уверена в этом, имела золотистый оттенок. Но вместо раджи из чащи прибегал тигр и когтями разрывал кровлю землянки. Увидев тигра через образовавшуюся дыру, Амбапали с криком просыпалась и, прислушиваясь к биению сердца, медленно приходила в себя.
Все вещи в ее доме, даже сосуды с благовониями, были обрызганы камфарными духами, отчего в комнатах стоял сладковатый приторный аромат. Этот знакомый запах успокаивал Амбапали, как и вид служанки-рабыни, прибегавшей на крик госпожи. В облике темнокожей девушки с полными розовыми губами, неуклюжей и простоватой, не было ничего таинственного.
— К вам гость, госпожа, — доложила рабыня. — Сын начальника по слонам.
— Ах, он… — Амбапали повернулась к зеркалу. — Пусть войдет.
В зеркале отразилось юное лицо с открытым и властным взглядом, изогнутыми луками бровей и немного припухшими веками. Нежные щеки Амбапали были разрисованы сетью мелких узоров, а губы, ярко-алые от постоянного жевания бетеля, казались особенно чувственными.
Амбапали была танцовщицей. Однажды, двигаясь в паланкине вдоль берега священной реки, она увидела на месте для сожжения трупов бурую черепаху. Эта черепаха, ползущая по остаткам погребальных костров, была неуместна возле дарующей освобождение Ганги и как-то особенно безобразна. Черепаха словно бы знала некую ужасную тайну о смерти, и на обратном пути Амбапали вздрагивала от омерзения, припоминая хвост и короткие лапы, испачканные золой.
В тот же день она отправилась к ученому брахману. Крючконосый старик, сидя под стволом кокосовой пальмы, пересказывал всем желающим беседу знаменитого мудреца Яджнявалкьи с раджой Джанакой, повелителем Видехи. Беседа была посвящена вопросу посмертного воздаяния. Заплатив несколько монет, Амбапали прослушала ее дважды. Пот лил с нее градом; ей казалось, что крупные зеленые орехи, висящие под высокой кроной, вот-вот падут на ее голову и тем совершится воздаяние за ее нечистую плотскую жизнь. Амбапали была юна, ее грудь только-только округлилась, лишь недавно раздались бедра и расцвела красота, но, вернувшись домой, она повесила на свои ворота тяжелый засов. Теперь танцовщица, которую называли «жемчужиной Бенареса», слушала брахманов и проповедников, заказывала жертвоприношения и размышляла о воздаянии, а домогавшимся ее юнцам отвечала гордым и неприступным взглядом. Амбапали могла себе это позволить: она была богата.
В комнату вошел юноша в темно-красных одеждах знатного воина из рода шакьев, с мечом на левом бедре. У него были вьющиеся темные волосы и светлое, как у желтого ствола пальмы, лицо. Радужные оболочки его глаз были окрашены в разные цвета, причем один глаз был серый, а другой — карий. Взгляд юноши скользнул по танцовщице и остановился на ямке пупа. Ямка была глубока, как если бы бог, ваявший Амбапали, ткнул в этом месте пальцем.
— Победа тебе, о кшатрий, — улыбнулась Амбапали и потянулась за шелковой накидкой. Она давно не чувствовала влечения к любовной игре, но из какого-то врожденного коварства дала гостю оценить гибкость своего тела. — Сделай честь этой скамье, присядь на нее. Моя служанка омоет тебе ноги.
— Ты ждала меня, Амбапали?
— О да. Ты же знаешь, Девадатта: вместе с гостем в дом входят боги и счастье.
Слугам свойственно перенимать манеры своих повелителей, и рабыня старалась обслужить юного кшатрия, как раджу, подчеркнуто церемонно. Она омыла ему ноги, принесла на подносе фрукты, рис и вино и захлопотала вокруг, возжигая курения.
— Посмотри, что я принес тебе, Амбапали, — сказал Девадатта, вынимая из складок плаща изящный веер из слоновой кости. — Эта вещица сделана из бивня Маха Сундара.
— Маха Сундара?
— Помнишь, весной он передавил кучу народа? Он спокойно стоял в слоновнике, но вдруг до него донесся запах другого слона. Маха Сундар пришел в ярость, порвал путы и вырвался из стойла — погонщики плохо связали его. Я приказал высечь мерзавцев, но было уже поздно…
Танцовщица стала расчесывать волосы. Подобные разговоры она умела слушать вполуха. Начиная с пятого годя жизни Амбапали, по обычаям своей касты, не видела мужчин, включая родного отца, и изучала науки, имеющие отношение к любви. Она училась готовить сласти, составлять букеты, слагать стихи и петь, перебирая тонкими пальчиками струны вины[4]. О, в этих науках она превзошла многих! Амбапали танцевала так, что драгоценные серьги бились о ее щеки, браслеты на запястьях метались из стороны в сторону, а взгляды, которые она бросала из-под полуопущенных ресниц, сводили с ума благородных кшатриев. Она умела шутить, избегая грубости, владела игривой ловкостью разговора, искусством намека и тайного жеста. Амбапали знала, что любовь начинается с созерцания предмета своей любви, потом является задумчивость вместе с игрой воображения, дальше следуют стадии бессонницы, отощания, нечистоплотности, отупения, потери стыда, сумасшествия и обмороков. Таковы девять стадий любви, которые проходят люди, а десятая и последняя стадия — смерть. Именно поэтому Амбапали всегда питала к своим поклонникам только легкое расположение, никогда не переходившее в губительную страсть, и струйки пота редко размывали слой шафранных румян на ее лице, а тело не знало жара слишком усердных объятий. Впрочем, последний раз в объятьях мужчины она была очень давно, как раз накануне встречи с бурой черепахой на берегу Ганги.
— Какие у него были бивни! Настоящие тележные оси…
Девадатта говорил о том, как слон Маха Сундар с огромными бивнями и лбом, окрашенным суриком, носился по улицам, словно в него вселилось полчище ракшасов. С широких висков слона лились темные потоки мускуса, на шее подпрыгивал крюк погонщика. Спасаясь от слона, люди прыгали в сточные канавы. Избавление пришло неожиданно: Маха Сундар, желтый от густой пыли, застрял в проулке между двух стен, сложенных из каменных плит, где его добили копьями.
Дослушав эту историю, Амбапали зевнула.
— Скажи, Девадатта… А как ты вообще оказался в Бенаресе? Ведь ты же из рода шакьев, правда?
Девадатта удивленно посмотрел на нее.
— Ну да… Просто мой отец, еще когда жил в Капилавасту, очень любил белого слона по кличке Виджай…
— Тоже с большими бивнями?
— Еще с какими! Правда, их ему подпилили. Понимаешь, подпиленные бивни притупляют осязание слона, но зато на них можно надеть острые железные колпаки.
— А какой у него хобот?
Юноша задумался.
— Очень сильный, хороший хобот. Если Виджай возьмет в свой хобот железную цепь с парой шаров, утыканных ножами, врагу придется несладко. Виджай вообще очень сильный.
— Ты, кажется, рассказывал мне о своем отце. — Амбапали снова зевнула.
— Ну да. Понимаешь, отец очень любил этого слона. Он даже ночевал в слоновнике. Всегда выбирал его, когда выезжал поохотиться или просто покрасоваться на людях. А потом к царевне Капилавасту посватался раджа Бенареса. По обычаю, зятю всегда дарят слона. И раджа Шуддходана решил, что этим слоном будет Виджай. Отец, конечно, очень рассердился. Он хотел, чтобы взяли любого другого слона, только не Виджая. Но Шуддходана сказал, что все уже решено. Тогда отец объявил брату, что уходит в Бенарес вместе с Виджаем… Он ведь такой, мой отец — от своего не отступит.
— О, боги! Выходит, раджа Капилавасту — это брат твоего отца?
— Ну да! Мой отец — средний из братьев, он все равно не получил бы трона. Так вот он решил уйти в Бенарес. А здешний раджа отцу очень обрадовался и сделал его начальником слоновника. А кто в Бенаресе разбирается в слонах лучше отца? Никто. Ведь быть начальником слоновника не так-то просто, Амбапали. Даже ехать на слоне трудно, потому что очень качает. А начальнику слоновника нужно знать повадки диких слонов, чтобы их ловить.
«Выходит, Сиддхарта — двоюродный брат этого мальчишки! — с волнением подумала Амбапали. — Тот самый Сиддхарта, который провел шесть лет на берегах Найранджаны! Царственный отшельник, который учит освобождению от страданий!..»
— Лучше всего ловить двадцатилетних слонов, — рассказывал тем временем Девадатта. Он пересел на ложе и все ближе подвигался к Амбапали. — Эти слоны еще маленькие, ростом с лошадь, и без клыков. Знаешь, как их ловят? На тропе, по которой слоны идут на водопой, вырывают яму и легко прикрывают ее сверху. Если слон упадет в нее, два-три дня к нему никто не приближается. Затем приходят два махаута, и один бьет слона бамбуковой палкой, а другой отгоняет бьющего и бросает слону охапку травы. И так несколько дней: первый бьет, второй кормит. Неплохо придумано, а? С каждым разом второй погонщик подходит к слону все ближе, приносит ему фрукты и цветы тамаринда, которые слоны очень любят. Махаут гладит и трет слона, пока тот не привыкнет к путам…
— Зачем он трет слона, мне ясно, — сказала танцовщица, неудержимо зевая. — Мне неясно, зачем ты меня трешь. Я тоже похожа на слона?
Девадатта отдернул руку, которую уже почти положил ей на бедро. И сказал, запинаясь:
— Ты похожа на богиню зари, Амбапали.
— Вот как? А ты слышал об идее сансары?
— О чем?
— О круговращении душ, — объяснила она, забавляясь его растерянностью.
— Но почему ты спрашиваешь об этом?
— Хочется. Расскажи, что ты знаешь.
Девадатта пожал плечами.
— Ну, я слышал, что души переходят в другие тела, — сказал он. — После смерти, конечно. Это называется кольцом сансары…
— Кольцом? А может быть, ожерельем?
— Нет, кольцом. И в нем, то есть в ней, в этой сансаре, крутятся люди. Причем вор зерен становится крысой, вор мяса — ястребом, а… э… соблазнивший жену своего учителя — терновником. Так наш придворный жрец говорил.
— Умный мужчина ваш придворный жрец. А как быть, если негодник не только мясо, но и зерна воровал, да еще и жену учителя соблазнил? Кем он будет тогда — ястребом, крысой или терновником? Или ему придется быть ими поочередно? А если он еще отяготит свою карму будучи ястребом, то куда его твое кольцо занесет? Не знаешь? — Амбапали вздохнула. — И я не знаю. Я думаю над этим уже давно — с тех пор, как увидела черепаху на берегу Ганги. И чем больше думаю, тем меньше понимаю. О, если бы я была мужчиной! Говорят, отшельник Сиддхарта знает все о круговращении душ. Я ушла бы к нему в Джетавану и узнала правду, сидя у его ног…
Юноша облизнул языком сухие губы и сказал:
— Мне кажется, не стоит жалеть, что ты родилась женщиной.
— Вот как?
Кровь бросилась Девадатте в лицо.
— Да, не стоит, — повторил он. — Тебе не приходило в голову, что ты очень красива, Амбапали?
— А тебе не приходило в голову, что с тобой может быть очень скучно, Девадатта? Ты каждый день приходишь сюда и говоришь о своем слоновнике. А мне совсем неинтересны твои слоны! Я их боюсь, после твоих рассказов мне снятся ужасные сны… Уж лучше я буду думать о Сиддхарте, который когда-то прошел через наш город, направляясь в священную рощу. У него были царственные плечи, узкие бедра и такие красивые, сильные руки…
— А я? — Девадатта подсел на ложе и вдруг решительно обнял ее, хотя и густо покраснел при этом. — Разве у меня слабые руки?
Амбапали покачала головой и отстранилась.
— Сиддхарта двигался по улице легкой походкой, без меча и лука, загоревший под жарким солнцем. Он был сложен, как Индра, а лицо у него было мудрым, как у Брахмы…
«Зачем я говорю ему это?» — подумала танцовщица, но остановиться уже не могла.
— Он был прекрасен, и мне казалось, что вдоль дороги, где он идет, распускаются лотосы. А ты… Ты приходишь каждый день, болтаешь о своих слонах и пожираешь меня глазами, как молодой купец, проколовший уши, но не скопивший денег на золотые серьги! Ты даже о сансаре ничего толком не сумел рассказать… Не надо большого ума, чтобы наказывать слуг! Ты никогда не стал бы отшельником, как твой двоюродный брат!
Девадатта постоял немного, оглушенный, и вышел. Во дворе, в жидкой тени плетня сидели рабы — носильщики паланкина Амбапали. Девадатта, ссутулившись, быстро прошел мимо них. Рабы не были людьми, но сейчас он испытывал мучительное чувство стыда: ему казалось, будто рабы подслушали его разговор с госпожой. За воротами он перевел дыхание. Здесь стояла рыжая корова, меланхолично обмахивая хвостом тощие бока. Девадатта огляделся по сторонам, примерился и дал корове такого пинка, что она бросилась бежать по улице, высоко подкидывая зад.
Отец Девадатты полагал, что своенравие и своеволие должны быть развиты в каждом мальчике. Лет в семь Девадатта рубил деревянным мечом бурьян на задах усадьбы, играл со сверстниками, охотился на птиц и никого из взрослых, кроме отца, не слушался. Отец радовался, глядя на него.
Мать и сестры Девадатты жили в другом мире — на женской половине дома. Только изредка Девадатта сопровождал их на берег Ганги, где семья совершала омовения. Сестры росли иначе, их держали в строгости, и девочки не имели права выходить за ворота без родителей и слуг. Зато в игрушках все дети Амритоданы не знали недостатка: у них были маски лошадей, буйволов и быков, фигурки воинов, брахманов и слонов из обожженной глины.
Отец казался Девадатте богом, и если начальник слоновника обрушивался на кого-нибудь из слуг или рабов, Девадатта испытывал и ужас, и радость от своей близости к этому вершителю судеб. Из всех богов горы Химават отец больше других почитал воинственного Индру и часто повторял, что «только мышь складывает лапки».
После завтрака отец приказывал подать паланкин, обтянутый красным шелком, и отправлялся в слоновник. Отцу было за пятьдесят, у него часто болела спина, поэтому по городу кшатрий Амритодана всегда передвигался в паларкине и даже мочился, не слезая с него. Когда лучи начинали падать отвесно, отец возвращался домой и шел отдыхать в беседку из тростника.
Солнце было почти в зените, и Девадатта направился в слоновник. Ему хотелось побыть одному — он боялся, что отец догадается по его лицу о том, что произошло в доме Амбапали. Расспросов не хотелось.
В слоновнике было прохладно и привычно пахло сеном и слоновьим пометом. Слоны стояли по своим загонам с путами на ногах, привязанные за шею и заднюю часть тела. Девадатта вошел в загон к старому белому слону, стоявшему без всяких пут и веревок Слон дружелюбно качнул головой и подставил хобот.
— Я никуда не поеду, Виджай, — сказал юноша и повалился ничком на охапку травы.
Вообще-то он был не робкого десятка. Девадатта верховодил среди сверстников, его слушались погонщики в слоновнике, люди бывалые, и он без всякого смущения распоряжался ими. Однако рядом с Амбапали уверенность в своих силах его покидала, и он ненавидел себя за это. Не раз Девадатта обещал себе, что больше никогда не пойдет к этой красавице с чувственным ртом, но вновь нарушал свое слово.
В слоновник вошли махауты. Они не видели Девадатту, занятые разговорами и котлом со слоновьей едой.
— О, это отвратительные твари — черные, краснорожие, мордатые, да поразит их дубина Индры! — говорил старший погонщик. — Вечерами они поднимают шум в лесу, приплясывая, как скопцы. Могут они и вселяться в людей… А если у женщины под левой лопаткой родинка, значит ночью к ней ходит ракшас. Демон ложится к ней спящей и пьет кровь, присосавшись к спине…
— У моей жены нет родинки под левой лопаткой, — заметил молодой погонщик.
— Тебе повезло. А еще бывают ведьмы. Худшая из них — Арати, ведьма с короткими мочками ушей. Она подкрадывается к спящим мужчинам, присасывается и отнимает силу… Кстати, если у девушки короткие мочки, такая красавица любит гулять на стороне, не будь я Бхадра.
— Когда это ты стал таким знатоком женщин, Бхадра? Ты вроде бы холостяк.
— Я до сих пор не женился, потому что не женился мой старший брат. Ну и что? Я многое слышал от людей опытных, знающих в женщинах толк..
— Знал бы ты, какая у меня жена! Когда я впервые увидел ее, стрела бога Камы вошла в мое сердце по самое оперение. Она маленькая и стройная, моя девочка. А какая у нее легкая походка! Как позвякивают колокольчики на ее лодыжках!
Каждый вечер она вплетает в волосы цветы, красит ладони хной и сурьмит глаза. Она делает это, чтобы мне понравиться.
Лежа в своем загоне, Девадатта до боли стиснул зубы.
— А как она ладит с моей матерью! Когда я женился, я сразу понял, что песни и сказки — полная ерунда. Ведь в песнях свекровь мучает невестку, а в сказках наоборот. Но все это глупости!
Старший погонщик хмыкнул.
— Это не глупости, мой милый, — наставительно сказал он. — Просто песни поют молодые женщины, а сказки рассказывают старухи. В этом все дело.
Некоторое время Девадатта слышал только звук лопаты, которой перемешивали слоновью еду.
— А коса у моей жены черная, как перец, — сказал молодой погонщик. — Когда она расплетает ее, волосы рассыпаются по плечам. А кожа у нее нежного оливкового цвета…
Бхадра громыхнул котлом, вываливая еду.
— Кожа — это не главное.
— А что главное?
— Колено. Нельзя, чтобы колено было слишком маленьким или большим. Большое колено приносит несчастье и бедность, а маленькое… Знаешь, это будет похуже коротких мочек…
— Не знаю, что ты там говоришь о коленях. У моей жены замечательные колени.
— Не меньшее значение имеет зад, — продолжал старший погонщик. — Задняя часть у женщины должна быть круглой, мясистой и иметь правильную форму…
Девадатта тихонько застонал.
— Жена с таким задом будет приносить удачу, не будь я Бхадра. Однажды — это было в начале весны — я встретил именно такую вдову. Кстати, тебе и не снилась такая… Эта была настоящая женщина, а не какая-нибудь худышка. Она раздевалась передо мной, танцуя! А с каким желанием она раздвигала бедра! А как она стонала, когда я входил в нее!
Скрежеща зубами, Девадатта выскочил из загона. Он накинулся на бездельников, отчаянно бранясь и обещая в следующий раз, когда они забудут обмакнуть модаки в масло, распластать их на земле, как бычьи шкуры, обработать колючей плетью и натереть раны кирпичной крошкой. Вдруг он заметил, что погонщики смотрят на кого-то за его спиной. Девадатта обернулся.
Напротив открытых дверей слоновника стоял невысокий широкоплечий человек. Усы его топорщились, как у тигра.
— Так ты ушел? — У отца презрительно вытянулось лицо. — О, бык-громовержец! Ушел и признал себя побежденным?!
Девадатта мысленно поблагодарил громовержца и других богов за то, что их разговор никто не слышал. Они остались в слоновнике одни — отец отправил погонщиков к котлам. Не было сомнений, что в слоновьей еде будет довольно соли и сахара, шары модаки скатают по всем правилам и в масло тоже не забудут обмакнуть. Отец умел наводить на людей страх, даже не повышая голоса, а уж когда повышал… А еще отец умел узнавать все его тайны. Девадатге никогда не удавалось ничего скрыть.
— Но, отец… Неужели ты хотел, чтобы я…
— Нет! — Амритодана рубанул воздух ладонью. — Никогда не совершай насилие над женщиной. Будь властным, но насилия не совершай. Это противно заповедям кшатрия. Ты помнишь их, я надеюсь?
— Отец…
— Только не лги, что ты их забыл. — Взгляд отца стал колючим. — Твой наставник говорил, у тебя хваткая память.
Девадатта вздохнул.
— Для брахмана главное — мудрость, для вайшьи — достаток, для низкого шудры — удовольствие, а для кшатрия — храбрость и верность долгу, — начал он. — Война — благородное ремесло кшатриев, и ведется она ради захвата коров. Служение кшатрия состоит в защите родной земли, соль которой он ел, а также брахманов, коров и женщин.
— И еще детей, — поправил отец.
— Да, и детей. Кшатрий должен легко гневаться, быть стойким в борьбе, великодушным в победе. Кшатрий не пользуется тем, чего не приобрел своей доблестью. Кшатрий всегда податлив своей ярости. Кшатрий не убивает воина, упавшего с колесницы, и лучника, у которого лопнула тетива. Кшатрий не дерется чужим мечом. Кшатрий на коне не сражается с кшатрием на колеснице. В предсмертных корчах кшатрий цепляется за родную землю…
Начальник слоновника смотрел на Девадатту и думал о том, что его сын спит, спит беспробудным сном. И не его ли, отца, это вина? Может, он слишком долго удерживал Девадатту подле себя? Слишком часто направлял его и помогал ему?
— Довольно, — сказал Амритодана. — Все эти заповеди можно выразить короче: «Кто терпелив и безгневен, тот не кшатрий и не мужчина». Или так: «Только мышь складывает лапки».
Девадатта криво усмехнулся.
— Тебе легко говорить, отец. Эта танцовщица шуршание ящерицы в восточной половине дома слушает, а не меня.
— И ты будешь изображать муки человека, ужаленного змеею? Ты же кшатрий, Девадатта! Разве не ты побеждал в городских состязаниях? А кто был лучшим в игре «слоны и охотники»?
Девадатта против воли улыбнулся. Эту игру в Бенаресе особенно любили, и толпы людей наблюдали за ней в дни городских праздников. Соревнование проводилось перед дворцом раджи, на площадке, поделенной чертой на две равные части. Часть юношей раздевалась донага — они были «слонами». Другие, в повязках на бедрах — «охотниками». Под глухой рокот барабанов противники бросались друг на друга. Целью «слонов» было толчками свалить «охотников» на землю, «охотники» же старались затащить «слонов» на свою половину площадки. Как «слон», которого заставили пересечь черту, так и поваленный на землю «охотник» выбывал из игры и присоединялся к зрителям. Те вовсю подбадривали игроков, приветствуя удачные действия хлопками и возгласами. В день состязаний, счастливый для Девадатты, ибо именно тогда Амбапали обратила на него благосклонный взор, он был «слоном». Девадатта один остался в игре, когда все его товарищи уже побывали за чертой. Против него было четверо «охотников», и Девадатта летал по площадке, ускользая от их рук Улучив мгновение, он свалил одного из противников ударом локтя. Это был запрещенный прием, но зрители были за Девадатту, и незадачливый «охотник» покинул площадку. Еще одного юноша одолел хитростью, внезапно бросившись ему в ноги. Остались двое, и он под восхищенный рев расправился с ними: первому заплел ноги, а второго ловко бросил через себя, поймав за правую руку.
— А как бы ты поступил, отец?
— Я бы огляделся по сторонам — в Бенаресе немало красивых женщин. Но если бы мне нужна была эта танцовщица, я бы добился ее.
— А если бы она любила твоего брата?
— Я бы постарался понять, за что она любит его, и превзошел его в этом.
— А если бы не смог?
— Все равно я бы не сдался. Как-то мы с Шуддходаной столкнулись… Это было из-за Виджая. Брат не хотел, чтобы я уходил, ведь враг бежал от меня, как скот, почуявший льва. Двадцать лет назад, Девадатта, твой отец одним ударом перерубал слоновый бивень и по самую рукоять вгонял в землю меч! Но Шуддходана не мог изменить слову кшатрия и послать радже Бенареса другого слона, это стало бы для него позором. Мы стояли друг против друга, и он первым отвел глаза. Потом он послал ко мне нашего младшего брата, Дхоту, но я был неумолим. А теперь… Теперь я служу Бенаресу, хотя здешний раджа больше разбирается в гимнах и праздниках, чем в расстановке войска перед сражением. Но я ни о чем не жалею… Я младше Шуддходаны на восемь лет, но — клянусь быком! — я ни разу не уступил ему. В детстве он мог придавить меня к земле, мог заломить мне руки или сдавить горло, но я ни разу не прохрипел «сдаюсь». Почему? Меня не зря прозвали меднолобым. Я был упрямым и сильным. В жизни нужно быть сильным, Девадатта. Потому что сильный не сокрушается. И не укоряет себя. Никогда.
Девадатта задумался. Отец был для него тайной, как высшее существо, как бог, чьи слова и поступки никогда не поймешь до конца.
— Ты хочешь, чтобы я стал шраманом?
— О, бык-громовержец! Конечно, нет. Шраманы валяются в золе, сидят на солнцепеке, по-портновски скрестив ноги. Это дурни и бездельники, и, будь моя воля, они бы чистили водостоки и нужники.
— Но ты сам сказал, что я должен превзойти Сиддхарту, отец. А Сиддхарта — шраман.
Начальник слоновника покачал головой.
— Твой длинноволосый брат не просто шраман. Сиддхарта многому научился за те шесть лет, что ушел из Капилавасту. Очень многому. Даже старый маг Кашьяпа из Урувеллы пришел к нему со своими учениками. Полгода назад Сиддхарта был в Бенаресе. Говорят, он бросил на землю семечко манго и не успел омыть над ним руки, как выросло дерево в пятьдесят ладоней. Ходят слухи, что он зажигает огонь, потирая ладонь о ладонь, и создает из воздуха сверкающие золотые слитки. Но даже если это выдумки черни, что-то за этим кроется. Я не понимаю учения Сиддхарты, но, возможно, царевич готовится к завоеванию долины Ганги.
— К завоеванию? — протянул Девадатта.
— Чему ты удивляешься? Слово может быть прекрасным оружием. Проповедуя свое странное учение, Сиддхарта может преследовать тайные цели. Если бы ты отправился к нему, ты бы послушал, чему он учит, разузнал, чего добивается, а заодно поучился магическим трюкам.
— Но я все-таки кшатрий, отец.
— О, бык-громовержец! А разве Сиддхарта — не кшатрий? Разве одиннадцать благородных кшатриев не ушли из Вайшали с Вардаманой? И потом, я же не сказал, что ты станешь отшельником навсегда.
— Но мне хорошо и здесь. Я не хочу уходить!
— А кто тебя гонит? — Амритодана смотрел на сына, насмешливо щурясь. — Оставайся! Особенно если хочешь всю жизнь торчать подле нас с матерью, словно козел, привязанный за мошонку.
Юноша молча изучал свои сандалии. Это были хорошие сандалии из мягкой кожи. Он знал — шраманы таких не носят.
— Скажи, Девадатта, кого больше всего уважают люди? — спросил начальник слоновника, неожиданно смягчаясь и кладя руку на плечо сына.
— Раджу Кошалы?
— Неважно, раджа это или простой воин.
Девадатте вспомнились жестокие слова Амбапали.
— Кажется, они больше всего уважают тех, у кого царственные плечи, узкие бедра и красивые сильные руки, — с горечью сказал он.
— Что ж, кое в чем ты прав… — Отец усмехнулся и пригладил усы. — Люди и впрямь уважают того, у кого сильные руки. И твердые кулаки. И мускулистая шея. И крепкая спина. И все-таки есть люди, которых они уважают больше. Подумай хорошенько. Я уверен, на этот раз ты ответишь правильно.
— У кого живот втянутый? — выпалил Девадатта.
Начальник слоновника посмотрел на него долгим взглядом и вдруг громко расхохотался.
Девадатта лежал на своем ложе и не мог заснуть. Придворный жрец рассказывал ему, что спящий на животе обычно недоволен собой, спящий на боку привык искать у других сочувствия, и только счастливый и уверенный в себе человек спит на спине. Девадатта лежал на спине, но почему-то не ощущал себя ни счастливым, ни уверенным. На улице загулявший мастеровой затянул тоскливую песню игрока в кости:
«Был я кшатрий, а кем-то буду завтра?» — думал Девадатта. Разумеется, он знал, что времена изменились. Если прежде отшельниками становились только дряхлые брахманы, то теперь шраманство было в моде. Высокородные воины считали своим долгом участвовать в спорах об Атмане, любили блеснуть знанием вед, а некоторые отцы-кшатрии, заботясь об образовании сыновей, сами отправляли их учиться к отшельникам. Те, кто провел несколько месяцев у ног Вардаманы и его спутника Гошалы, смотрели на других важно и даже кичливо. Впрочем, и имя Сиддхарты уже знали многие. Девадатта понимал, что никто не будет пожимать плечами, если он на полгода уйдет в священную рощу, и все-таки колебался. В последнее время он делал успехи, объезжая слонов, перед ним маячила слава лучшего погонщика города. Здесь, в Бенаресе, все махауты знали его, здесь текла такая привычная и такая понятная жизнь, здесь было место на берегу Ганги, где он привык совершать омовения…
Тем временем пьяный голос на улице поведал о том, как кости мало-помалу похищают все имущество игрока, как несчастного бросает отчаявшаяся жена, а друзья отворачиваются от него и уже не дают в долг. Мать игрока умоляет сына опомниться, но все его мысли только о том, где бы раздобыть денег для новой игры. Каждый раз, направляясь в игорный дом, он надеется выиграть, но «проклятая стая костей» вновь оставляет его ни с чем. Отец, мать и братья отказываются от игрока, и он становится никому не нужен, как старый беззубый конь. Наконец песня смолкла, и за окном раздался удар в колотушку, возвестивший о начале новой стражи.
«А если я все же уйду? — размышлял юноша. — Но почему, хотел бы я знать, это так важно отцу? Неужели он и вправду думает, что какой-то шраман может захватить власть в долине Ганга, где столько укрепленных городов и обученных армий? По мне, сколько слов ни произноси, а когда слон возьмет в хобот железную цепь, ни один шраман с ним не совладает…»
Потом Девадатта провалился в сон — резко, словно ухнул в колодец. В этом сне он играл в кости с краснорожим ракшасом, мордатым и длинноруким. Костей было трижды по пятьдесят; они бросали их в ямку и поочередно выхватывали из нее взятки. Взятки раскладывали, и побеждал тот, у кого кости делились без остатка на четыре. Девадатте везло, и он раз за разом выигрывал, но ракшас не сдавался: он потирал ладонью о ладонь, создавая прямо из воздуха все новые блестящие желтые слитки. «О, рожденный в навозном дыму, как же это возможно?» — удивлялся Девадатта. «Когда-то я был отшельником, но соблазнил жену своего учителя, — отвечал демон. — Теперь я ракшас-чудотворец, первый из шраманОв нижнего ада». Понемногу демон отыграл все золото обратно. Девадатта потряс свой тюрбан, но из него не выпало даже мелкой монеты. «Играем на Бенарес! — обрадовался ракшас и оскалил клыки. — А чтобы ты не убежал, я привяжу тебя за мошонку».
Девадатта проснулся весь в поту и понял, что уже не заснет. Он до утра проворочался на своем ложе, а потом отправился к Амбапали.
— Ты правда решился на это? — Изящные брови танцовщицы взлетели вверх. — Ты хорошо подумал, Девадатта?
Сидя на скамье, юноша поигрывал новенькими четками из слоновой кости. Девадатта снял перевязь с мечом и темно-красный кшатрийский плащ, и Амбапали тут же увидела, какие у него мышцы. Им было тесно под лоснящейся кожей. Плечи у Девадатты были широкие и покатые, а в поясе его фигура заметно сужалась.
«В нем есть что-то от вепря с мощными клыками, — подумала Амбапали. — А эти глаза, один из которых серый, а другой — карий. Сколько же в них силы… Интересно, как я раньше ничего не замечала?»
— А ты не боишься? — спросила она.
— Я ничего не боюсь, Амбапали.
— Но ты все-таки кшатрий, Девадатта.
— Говорят, одиннадцать благородных кшатриев ушли из Вайшали с Вардаманой.
— Да, верно… Вот уж не думала, что ты знаешь о Джине-Махавире! Ты удивил меня. Тебе надоели слоны?
— Мне вообще надоел Бенарес, — сказал Девадатта и зевнул.
— Неужели?
— Здесь все пропахло корицей и камфарой.
Амбапали наклонилась к столику из бука, делая вид, будто ей понадобилось что-то в шкатулке, где лежали золотые заколки и бусины из граната и аметиста. Потом она выпрямилась, и улыбки на ее лице уже не было.
— Я была несправедлива к тебе, Девадатта, — сказала она. — Теперь я вижу, что ты и в самом деле из царского рода шакьев. Но ты не должен на меня обижаться. Понимаешь, я так боюсь, так боюсь… Каждый день я смотрю на себя в зеркало и вижу: да, мне семнадцать лет, я еще молода и красива. Но что дальше? Пройдут годы, и мое тело утратит свежесть, лицо покроется морщинами — ах, эти ужасные морщины! А потом старость. И смерть. Я боюсь старости, Девадатта, и боюсь смерти. Я каждый день говорю себе, что не надо думать об этом, и все равно думаю… Все мужчины смотрят на мое тело, но никто не знает, что творится в моем сердце. Я все время вспоминаю черепаху на берегу Ганги… Не хочу, но вспоминаю. О, это такая гадкая и уродливая черепаха! Она — как сама смерть…
Девадатта накинул плащ и опоясался мечом.
— Прощай, Амбапали, — сказал он.
— Постой, Девадатта, — прошептала танцовщица, подходя к нему и обвивая руками его шею. — Я не знаю, что будет дальше, но один поцелуй ты уже заслужил.
Когда Девадатта возвращался домой, в ушах его раздавался гром литавр и трубные звуки раковин. Солнечный бог ослепительно золотил спину небосвода, стоя на своей колеснице, а птицы майны щебетали в кокосовых пальмах с таким воодушевлением, словно спешили доложить своему повелителю Гаруде, что в земле Гвоздичного дерева им живется исключительно хорошо. Вдруг из какого-то дома на Девадатту вылили мочу, обдав его сверху донизу. Юноша остановился. Домик был неказистый и, судя по всему, принадлежал вайшье. Под навесом из камыша не было ни коней, ни колесницы — похоже, хозяин был небогат. Зато осел у него имелся, он был привязан к чахлому манговому деревцу. Девадатта поднатужился и повалил один из столбов, подпиравших навес. Обитатели домика не показывались. Тогда он взял палку и занялся щербатыми горшками, стоявшими у открытой террасы. В трех горшках было прокисшее молоко, а в четвертом — шафранный настой, смешанный с соком хны. Немного поразмыслив, Девадатта отбросил палку, взял последний горшок и выплеснул краситель на спину осла.
Вернувшись домой в приподнятом настроении, юноша прошел на мужскую половину. У отца болела спина, и он был мрачен. Молча выслушав сына, Амритодана пригладил усы и отправил в рот свернутый лист бетеля.
— Тебе придется несладко, сынок, — сказал он. — Ты будешь лазутчиком во вражеском лагере.
Юноша ухмыльнулся:
— Ты же знаешь, я побеждал в игре «слоны и охотники».
Начальник слоновника добавил в рот щепотку порошка арековой пальмы и сплюнул на серебряное блюдо ставшую красной слюну.
— Говорят, любовь к родине проникает плоть, жилы и кости, — задумчиво проговорил он. — Обещай мне только одно, Девадатта: если в воздухе запахнет битвой и Бенаресу будет угрожать враг, ты вернешься.
— Я вернусь, отец, — сказал Девадатта. И прибавил: — Клянусь быком-громовержцем.
Глава IV
РОЩА ДЖЕТАВАНА
Джетавана была подарена общине Сиддхарты богатым ювелиром Судаттой из города Шравасти. В Кошале рассказывали, будто ювелир, выкупая рощу у царевича Джеты, отдал по золотой монете за каждое дерево. В Джетаване были ручьи, где водились рыбы и черепахи, пруды, окруженные черной акацией, дорожки, посыпанные белым песком, высокие бетелевые пальмы, манговые деревья, увитые жасмином, кустарник марувака и лианы, зеленые, как оперение молодых попугаев. Сюда забредали лани, пятнистые олени и длиннохвостые голубые антилопы.
Достигнув священной рощи, Девадатта отдал слуге деньги, браслеты, серьги и перевязь с мечом, оставив себе только несколько монет. Придерживая поводья второго коня, слуга ускакал, и юноша остался один. Девадатте было не по себе. По дороге в Кошалу они остановились в Сарнатхе. Там он увидел странного отшельника, здоровенного парня, похожего на кузнеца, с глуповатым сонным лицом. Вокруг парня толпились любопытные, а он раз за разом протыкал себе шею толстой железной иглой. «Как тебе это удается?» — воскликнул Девадатта. «Не знаю, — пожал плечами парень. — Я могу проколоть себе язык, шею и грудь, но почему — не знаю». В окрестностях Айодхьи Девадатту неприятно поразили четверо шраманов. Совершенно голые, с искаженными лицами, перемазанные пеплом и сажей, они стояли у погребальных кострищ в причудливых позах, словно во время танца их поразила молния Индры. «Свага!» — изредка вскрикивал старший из них, меднобородый человеке трезубцем в одной руке и черепной костью в другой. «Свага! Свага!» — хриплыми голосами подхватывали другие. «А что, если Сиддхарта тоже заставляет своих учеников стоять голыми под палящим солнцем?» — подумал юноша, и у него неприятно заныло в груди.
Впереди на дорожке показался молодой отшельник, судя по длинной косице — из касты воинов, и Девадатта с облегчением отметил, что бедра шрамана обернуты дхоти, а его лицо не выглядит изможденным. Значит, Сиддхарта не требует, как Джина-Махавира, чтобы его ученики ходили нагими или терпели полуденный зной. Без удивления выслушав Девадатту, молодой отшельник провел его в дальний уголок рощи, где в тени манговых деревьев стояла одинокая хижина. Внутри хижины был полумрак, курились благовония, пол устилала циновка из редкого узорчатого бамбука. Сиддхарта, загадочный как раджа, сидел на циновке, и от кончиков его пальцев исходило голубоватое сияние. Когда Сиддхарта соединил руки в приветственном жесте, сияние усилилось.
Сердце Девадатты гулко билось. Этот человек, его двоюродный брат, превосходил его мудростью и телесным совершенством. Сиддхарта не только отличался прекрасной осанкой и благородными движениями рук, но и обладал магической силой. У него были очень черные, глубоко посаженные глаза; между бровей золотился пушок; ухоженные длинные волосы изящно, словно фазаний хвост, закручивались вправо. Робея и злясь на самого себя за эту робость, юноша спросил о крысе, ястребе и терновнике.
Сиддхарта улыбнулся.
— Ты беспокоишься о душе, воин из Бенареса. Но где находится душа Девадатты — в теле, в чувствах, в сознании?
Юноша припомнил разговоры с Амбапали.
— В том, и в другом, и в третьем.
— А тело постоянно или подвержено переменам?
— Подвержено переменам.
— Хорошо. А непостоянное приятно?
Девадатта снова подумал о танцовщице.
— Мучительно.
— А чувства? Сознание?
— Тоже непостоянны и мучительны.
— Тогда стоит ли говорить о том, что непостоянно, мучительно, подвержено переменам: «Это я, это моя душа»?
— Значит, души не существует?
— Некоторые говорят: отшельник Сиддхарта учит, что души не существует. Другие говорят: отшельник Сиддхарта учит, что душа существует. Но отшельник Сиддхарта не учит ни тому, ни другому. Он учит освобождению от страданий и избавлению от сансары.
Девадатте почему-то вспомнился случай из той давней поры, когда его, восьмилетнего, послали к ученому жрецу, чтобы он подготовился к обряду второго рождения. Мальчиков было несколько; всем обрили головы и помазали лбы пеплом сожженной в огне коровьей лепешки. Потом они расселись на земле, поджав под себя ноги, а брахман, толстый обрюзгший старик, стал разъяснять им обязанности рожденных дважды. Один из мальчиков, Бхим, щелкнул языком, и брахман выбранил его. Опасаясь, как бы тоже не произнести запрещенного звука, Девадатта сосредоточил на этом все силы, и рот его наполнился слюной. Ему пришлось проглотить ее, он громко щелкнул языком, и его наказали. Сейчас Девадатте казалось, что он снова готовится к обряду второго рождения. Наверное, всему виной было странное голубоватое сияние, исходившее от рук Сиддхарты.
— Я не понимаю тебя, — твердо сказал юноша.
— Мой путь, как и путь журавля в небе, труден для понимания. У меня уничтожены желания, я не привязан к пище и удовольствию; мой удел — освобождение.
— Носансара…
— Сансара — вечная подкладка жизни. Вверх и вниз, приводимая в движение валом сансары, поднимается и опускается бадья, а мы, совершенствуясь путем страданий, предписываемых нам кармой, то освобождаемся от материи, то вновь в нее погружаемся. Отшельник Сиддхарта учит не о сансаре, а о том, как от нее избавиться.
— А кто-нибудь учит о сансаре?
Царевич-шраман снисходительно улыбнулся.
— В этом мире благородных учителей мало, как мало и настоящих колесничих — большинство просто держит вожжи, — объяснил он. — Чаще всего учителя говорят о том, что человеку вовсе не нужно знать; их учения подобны цветкам с приятной окраской, но лишенным аромата. Я же учу только освобождению от желаний.
— Но ведь желания бывают разные?
— Желания — это только желания. И пока они управляют нами, ум наш на привязи и подобен теленку, сосущему молоко матери.
Девадатта почувствовал, что голова у него идет кругом.
— Первое время тебе будет трудно, но ты привыкнешь, — заметил Сиддхарта. — Я скажу Кашьяпе из Урувеллы, чтобы он помог тебе освоиться.
Кашьяпа из Урувеллы, тщедушный пожилой шраман с голым черепом и волосатой грудью, был магом-огнепоклонником, обращенным Сиддхартой на берегах реки Найранджаны. Голос у Кашьяпы был вкрадчивым, взгляд — пронзительным. Он родился в низкой касте ловцов рыбы, но выдавал себя за брахмана.
В первый же день Кашьяпа объяснил Девадатте правила общины: ученикам Сиддхарты не разрешалось держать соль в роге, есть мясо животных, забитых мясником, пить молоко, которое прокисло, но еще не створожилось, начинать дневную трапезу, если тень не прошла с полуденного времени расстояние, равное двум пальцам, а главное — даже случайно касаться женщины. Девадатта сразу возненавидел этого злобного и мелочного старика.
В Джетаване никто не удерживал учеников, если они хотели оставить рощу. Однако на тех, кто провел здесь меньше полугода и все же уходил, смотрели с легким презрением. Девадатта помнил о Амбапали и словах отца. Он знал, что не может вернуться.
С каждым днем он все сильнее скучал по хорошей еде, по дому, где его никто не будил с первыми лучами солнца, по запаху слоновника, по улицам Бенареса, по разливу Ганга, по разговорам с отцом. Роща казалась ему темницей, куда он попал по глупому недоразумению.
Хуже всего было то, что Кашьяпа из Урувеллы непонятным и колдовским образом вытягивал из него самые сокровенные признания. К счастью, старик придерживался хронологического принципа, выведывая, какие проступки Девадатта совершил начиная с той поры, когда дитя расхаживает нагим. В этом было мало приятного, но юноша дрожал от одной мысли о том, что однажды Кашьяпа заставит его рассказать о танцовщице.
Каждую ночь, засыпая, Девадатта думал о ней. Однажды ему приснилось, что Амбапали сама приходит к нему — пронзенная жгучей болью внизу живота, с пересохшим ртом, мягкая, ласковая, покорная. Он встал и начал прогуливаться по дорожке. Он был взволнован, и даже привычное чувство голода отступило. Луна сияла в небе как начищенная до блеска кшатрийская чакра; в ее неярком свете пальмы отбрасывали благородные длинные тени, а звездное небо над головой Девадатты было темно-синим, как спина коровы Камадхену, исполняющей желания. В воздухе стоял густой аромат олеандров и камфары.
«О боги, — шептал Девадатта, — сделайте так, чтобы Амбапали бродила без меня как человек, потерявший воду. Сделайте так, чтобы, когда я вернулся, она сама приползла ко мне».
Внезапно на дорожке показался Кашьяпа. Он обругал юношу, назвав его «обжорой, который, лежа, вертится, как боров, перекормленный зерном», и велел ему спать.
Нет, Девадатте не нравилось в роще. И если бы ему тогда сказали, что вскоре он сам захочет обучаться шраманской науке, он бы ни за что не поверил.
— А когда ты впервые ощутил себя мужчиной? — спросил Кашьяпа.
— Не помню.
Они сидели в тени тридцатилетней финиковой пальмы, Девадатта — на корточках перед стволом, Кашьяпа — по-паучьи скрестив ноги, прислонившись к пальме спиной. Когда тень отползала в сторону, они пересаживались. Девадатте приходилось двигаться чаще.
— Нерадивых и своевольных здесь не терпят, мой милый. Так ты будешь говорить или нет?
— Что говорить?
— Я спрашиваю, когда ты почувствовал мужскую силу.
Девадатта сморщил лоб.
— Точно не знаю, — сказал он. — Наверное, когда убил гуся…
Гуся он подбил лет в шесть, еще из детского лука. Раненный в крыло, гусь беспомощно бился, а Девадатта в ужасе помчался к дому. Не пробежав и трех десятков шагов, он налетел на отца. «Что ты плачешь, охотник? — грозно спросил отец. — Вот тебе нож. Иди и отруби гусю голову». Если бы Девадатта мог убежать, он бы убежал, но отец был богом, а от бога не убежишь. Девадатта взял нож и пошел обратно. Раненый гусь оказался крупной птицей с тяжелым клювом. Девадатта был маленьким мальчиком, но в руке у него был нож. Когда все кончилось, он без сил лежал на земле, покрытый синяками, с заплывающим глазом, перемазанный в крови гуся и собственной рвоте.
— Отец сек тебя? — спросил Кашьяпа.
Юноша пожал плечами.
— Почему ты не скажешь правду? Я хочу помочь тебе.
— А я просил тебя?
— Моя помощь понадобится тебе, еще как понадобится, — забрюзжал старик. — Если, конечно, ты хочешь остаться в общине. Ты же хочешь остаться, сын благородного кшатрия?
Сын благородного кшатрия не ответил.
— Вступая на путь отшельника, ты испытываешь муки, подобные тем, которые бывают у рожениц, — продолжал Кашьяпа. — Ты всех ненавидишь, ненавидишь самого себя, тебе хочется убежать и быть далеко-далеко. Мы все через это прошли, мой милый. Даже твой двоюродный брат Сиддхарта прошел через это. Однажды эту грязную, трудную дорогу нужно пройти.
— Я не хочу отвечать на гадкие вопросы.
— Мои вопросы могут показаться гадкими, но только так ты вспомнишь, поймешь и проживешь заново свою жизнь. Это нужно, чтобы воскресить в тебе память о прежних рождениях. Ты узнаешь, кем ты был, какие проступки совершил, за что в этой жизни наказан, за что вознагражден. В конце концов ты поймешь, что такое сансара.
Девадатта зажмурился.
— Однажды отец здорово высек меня за чакру…
Чакрой назывался дисковый нож с остро заточенной внешней кромкой. Такой нож раскручивали на железном пруте или на пальце с помощью специального кольца. В бою это было страшное оружие. Чакра поражала незащищенные участки лица и тела, отрубала руки. Если диск бросали вертикально вверх, он падал на врагов с неба и надвое рассекал тела. У отца было четыре диска, и Девадатта решил, что один он вполне может взять для игры. Расплатой стала порка прутом на глазах всего дома. Ослепнув от позора и боли, Девадатта убежал за ворота, и только утром следующего дня его отыскали в нише городской стены. Амритодана остался доволен. «Мой сын не прощает обид, — сказал он. — В нем говорит кшатрийская гордость».
— А теперь расскажи об отряде мальчиков-кшатриев.
— Зачем?
— Ты не хочешь рассказывать? Ты с кем-то не ладил? — заинтересовался Кашьяпа.
Девадатта и в самом деле не ладил с Бхимом, сыном обедневшего бенаресского кшатрия. Под руководством старца-наставника Девадатта, Бхим и еще два десятка мальчиков играли в «слонов и охотников», в плетеный мяч, бегали наперегонки, метали бамбуковые копья в глиняную кучу, учились обращению с конями. Каждый из них должен был подобно кошке взлетать на неоседланного жеребца и соскакивать с него на полном скаку, уцепившись за ветку дерева. Девадатта и Бхим были лучшими в этом опасном упражнении, но только один мальчик мог быть старшим в отряде, и они враждовали. Девадатта был выше ростом, сильнее, у него был лучше подвешен язык, а его отец как-никак управлял слоновником. Но маленький и настырный Бхим не сдавался. Однажды Бхим вышел победителем, и вспоминать об этом юноша не любил.
— Ты устал? — спросил Кашьяпа. — Если так, хлопни в ладоши, потри мочки ушей и разомни пальцы.
— Все равно я не буду рассказывать.
— Придется, мой милый.
Девадатта застонал.
— Оставь меня в покое, старик…
Блеклые зрачки мага впились в его лицо, и у Девадатты потемнело в глазах. Ему почудилось, что он видит черный зев птицы, и вдруг он услышал свой голос. Это было наваждение. Прекрасно все сознавая, Девадатта не мог противиться воле старика. Так случалось и прежде: его язык становился послушным Кашьяпе и выбалтывал тайны одну за другой. Постыдные тайны, которые он прятал глубоко внутри.
— Как-то Бхим поймал двух рогатых жуков и решил научить их драться, а я наступил на жуков ногой. Бхим молча смотрел на меня — первым он в драку не лез. И тут сзади раздался голос: «Кто терпелив и безгневен, тот не мужчина». Обернувшись, я увидел нашего наставника. Старик любил, когда мы дрались: считалось, так пробуждается «кшатрийский дух». Бхим бросился на меня. Он вцепился мне в горло и повалил, но я был сильнее и скоро подмял его под себя… После той драки наставник назначил старшим меня. Я был рад, но мне казалось, Бхим что-то замышляет за моей спиной. Тогда нас учили владению копьем, хотя настоящего оружия еще не дали, только тупые древки без наконечников. Каждый по очереди становился в круг и учился отражать удары. Когда в круг становился Бхим, я старался больнее достать его палкой… Потом мы получили луки, стрелы и кожаные нарукавники, защищавшие левую руку от удара тетивы, но только мне достался колчан, украшенный бархатом…
Девадатта чувствовал, что приближается к самой мучительной из своих детских тайн, но ему некуда было деваться от глаз Кашьяпы. Эти глаза прожигали насквозь. И он рассказал, как однажды мальчики во главе с наставником отправились в лес охотиться на птиц, чтобы потом, освежевав добычу бамбуковыми ножами, зажарить ее на углях. В тот день Девадатта подстрелил двух голубей, сойку и попугая, а Бхим — только сойку и попугая. Пока разводили костер, наставник говорил о правилах войны и о священном коне, которого отпускает на волю могучий раджа: если конь убежит в земли соседних царств, их правители должны покориться радже либо с оружием в руках защищать свои владения. Костер разгорелся, Девадатта пересел на мшистую кочку и тут же с криком вскочил, а на кочке остался лежать раздавленный скорпион. Стоял месяц чайтра, самое начало весны, когда укус скорпиона бывает смертелен.
— Я еле справился с повязкой, так дрожали у меня руки. «Нужно высосать яд, — сказал наставник и велел мне повернуться спиной. — Кто из вас сделает это?» Я не видел лиц, но кожей чувствовал враждебное молчание. Потом кто-то пробурчал, что я сам виноват и надо было смотреть, куда садишься, а один мальчик объяснил, что помог бы, да только у него ранка во рту. А потом… потом ко мне подошел Бхим и, ни слова не говоря, избавил мои чресла от яда. С тех пор мы опять стали разговаривать, но я возненавидел Бхима еще сильнее…
Взгляд колдуна потух. Девадатта несколько раз судорожно вздохнул и обмяк.
— Когда это случилось, ты уже был мужчиной? — спросил Кашьяпа.
— Что?
— Ты уже занимался рукоблудием?
Лицо Девадатты стало похожим на лепешку, которую только что испекли на огне.
— Как ты сказал? Нет? Значит, ты начал заниматься этим позже?
— Что ты хочешь от меня? — выдавил из себя Девадатта.
Кашьяпа почесал под ребром.
— Я хочу, чтобы ты рассказал, как начал заниматься рукоблудием.
— Замолчи, старик. Замолчи, или я… — Юноша сжал кулаки.
— Мне снова прибегнуть к магии? — В улыбке Кашьяпы обнажились зубы, черные, как ягодки джамбу. — Не вынуждай меня, мой милый. Наш учитель Сиддхарта Львиноголосый не слишком-то одобряет такие меры. Правда, даже он признает, что в некоторых случаях это необходимо.
Юноша облизнул языком пересохшие губы.
— Я… я расскажу тебе. Дай мне передохнуть.
— Только не пытайся хитрить со мной.
Хлопнув несколько раз в ладоши, Девадатта потер мочки ушей и размял пальцы. Если со всего маху ударить колдуна в лицо, тот отлетит локтей на пять, думал он. Или даже на десять. Стараясь не попасть под магию взгляда, он начал подниматься, делая вид, что хочет размять затекшие ноги. И, резко развернувшись, ударил. Когда-то давно этот хитрый удар принес ему победу в игре «слоны и охотники». Увы, теперь у Девадатты был другой, куда более серьезный противник. С колдовской ловкостью Кашьяпа нырнул под рукой и оказался за стволом пальмы.
— Шиншапа, — прошипел он из-за пальмы. — Дерево шиншапа и то умнее тебя. Чего ты этим добьешься?
— Я добьюсь твоей смерти, гнусный убийца рыб.
Издав горлом пронзительный звук, Кашьяпа бросился бежать, но сил у него было мало. Девадатта легко догнал его, ухватил за голень, и старый отшельник шлепнулся оземь. Оказавшись на траве, маг из Урувеллы обхватил руками затылок, вытянулся и замер.
Девадатта легонько пнул его ногой.
— Эй, — позвал он. — О чем ты хотел спросить? О рукоблудии?
— Холощеный осел! — взвизгнул старик. — Похотливая шудрянка!
Извернувшись, он с неожиданным проворством откатился в сторону. Девадатта почувствовал, как в его голове закипает кровь. По законам кошальского раджи Прасенаджита все шудры (а Кашьяпа был шудрой) приравнивались к животным, и за смерть представителя этой касты выплачивался выкуп, равноценный штрафу за убийство чужого козла или барана. Монет, припрятанных под корнем дерева, хватило бы на штраф за четверых шудр. Испустив боевой клич, Девадатта одним прыжком оказался рядом с мучителем. И тут Кашьяпа сказал:
— Рыба.
Гнев помешал Девадатте — он забыл зажмуриться и увидел, как сверкнули глаза старика. Ноги стали медленно наливаться тяжестью.
— В прошлой жизни ты был рыбой, — еще тише сказал Кашьяпа.
Мысли лихорадочно прыгали в голове Девадатты, но среди них не было ни одной спасительной.
— Вспомни, как ты был рыбой, — почти шепотом приказал старик.
В то же мгновение мир покачнулся, и в грудь Девадатты ударила земля. Удар разбил вселенную на тысячу мелких частиц и осколков. Частицы кружились, как пылинки в солнечном свете, и медленно оседал и. Осколки падали с хлюпающим звуком. Когда вселенная собралась заново, Девадатта уже не был человеком. Перед его глазами колыхались зеленые водоросли. Это было ужасное, колдовское превращение! Юноша извивался, лежа на земле, бил «хвостом», махал «плавниками» и «плавал» в «воде».
Кашьяпа, кряхтя, встал и отряхнулся.
— Вспомни, как ты был ракшасом.
Девадатта вскочил, свирепо вращая зрачками.
Из его груди вырвался рев темного демона. Рев был ужасен, и можно было подумать, что это ревет бык навстречу вожделеющей корове. Девадатта подбежал к финиковой пальме, широко расставил ноги и обхватил ствол. Теперь он пытался вырвать дерево из земли, и от натуги из-под его ногтей едва не потекла кровь.
Старик заставил его «вспомнить» воплощения в виде гадюки, обезьяны, собаки, осла и копьеносого демона канвы. Когда пытка закончилась, Девадатта лежал на земле и хватал воздух ртом. Ребенком он ловил мотыльков и подбрасывал их в паутину, где сидел паук Убив мотылька внезапным наскоком, паук пил его кровь. Теперь Девадатта знал, что чувствовал тогда мотылек.
— Глупец, сознающий свою глупость, уже мудр, — сказал Кашьяпа. — Глупец, мнящий себя сильным и хитрым, воистину глупец. Ты — глупец, Девадатта. Ты подобен мухе, которая прилипла к рогу быка и думает, что победила его.
Девадатта со стоном поднялся на ноги. Мышцы ныли, словно он весь день дробил камни, а кожа саднила, как будто его полоскали в осоке.
— Сегодня ты получил урок Теперь ты знаешь, что у тебя нет ничего, кроме тела. Тела грубого и бесполезного, как чурбан!
Пошатываясь, Девадатта побрел прочь.
— До завтра, мой милый, — бросил ему вслед Кашьяпа.
Закусив губу, юноша кинулся в заросли. Колючки терновника рвали кожу, и он вытянул перед собой руки, чтобы защитить глаза. Внезапно заросли кончились, и он оказался на берегу маленького пруда. Пруд обмелел, от воды несло гнилью и тиной. Ползучие растения сплетали кроны деревьев в плотную крышу, сквозь которую пробивался зеленоватый свет. Девадатта упал на землю ничком и разрыдался.
— Что тебе нужно? Уходи!
Но Сиддхарта и не подумал уходить, он присел рядом на корточки.
— Однажды я пришел в Урувеллу и попросился в ученики к одному из аскетов, — задумчиво сказал он. — Эти подвижники неделями сидели в одной позе, терпели жар костров, разожженных вокруг, вонзали в свои тела деревянные гвозди. Некоторые вставали ногами на горящие угли, и от жара на их лицах облупалась кожа. Мой учитель велел мне сунуть руку в огонь. Не задумываясь, я сделал это и громко закричал от боли. И все же я никуда не ушел. «Кожа, жилы и кости могут иссохнуть, — сказал себе я. — Моя плоть высохнет, высохнет кровь, высохнут желчь и слизь, но пока я не постигну лесную науку, я не покину Урувеллы».
Сиддхарта поведал, что по совету учителя он ел лишь столько бобов и гороха, сколько могло уместиться в горсти. Через год его кожа потемнела и зашелушилась. Еще через год она потрескалась и увяла, как ободранная ножом кожура горькой тыквы. Через три года он касался рукой живота, но ему представлялось, что он касается спины, потому что кожа его живота приклеилась к позвоночнику. Когда он вставал, даже слабый ветерок мог повалить его. А однажды деревенские жители, приняв его за сидящий труп, заткнули ему уши и нос хлóпком, словно покойнику. Он вынул затычки и рассмеялся. Его смех был таким громким и страшным, что они бросились прочь, подумав, что в него вселился дух ветала…
— Зачем ты пришел? — простонал Девадатта.
— Тогда я целые дни проводил в созерцании. Внезапно мне открылось, что и расстояние — не преграда. Я мог воспринять мысль человека, удаленного от меня на несколько дней пути, чей-то гнев, чью-то боль, чье-то страдание. Вот и сейчас я почувствовал, что кто-то в Джетаване очень несчастен, и поспешил сюда…
Сиддхарта признался, что в Урувелле он тоже страдал. Ему казалось, что все страдание, какое только есть в мире, обрушилось на него. Изнемогая, он бил по своим членам рукой, и погибшие волосы сыпались с его тела. Когда шестой год подошел к концу, он подумал: что пользы в том, что он мало ест? Он умрет, и кому станет от этого лучше? Он совершил омовение и выстирал свои лохмотья в реке. Потом отправился в селение, где добрая жена брахмана накормила его рисовой кашей со сливками. Умастив и расчесав волосы, он сбрил их с подбородка и над верхней губой. В деревне росла смоковница, ее еще называют ашваттхой; он сел под ней и погрузился в созерцание. Его члены расслабились, его охватило чувство благополучия, необычное состояние покоя.
— Я готов был затрепетать… Внезапно я ощутил внизу, под моими ногами, огромную силу. Я не мог противостоять этой силе, я испытывал страх. Мое тело стало легким, словно пушинка, оно как будто совсем не имело веса. Через мгновение я парил в воздухе на высоте трех-четырех локтей…
Девадатта повернул голову и уставился на Сиддхарту.
— Я сам не понял, сколько продолжалось это парение. Кажется, довольно долго. Не знаю, как я опустился на землю. Я был возбужден, изнурен; мне казалось, что я подвергся ужасной опасности… Вокруг меня уже собрались деревенские жители. Двое купцов, проезжавшие мимо, остановили коней. Пятеро отшельников, и среди них Кашьяпа, пришли с берега Найранджаны. Все они ждали проповедь, и даже деревенская буйволица и та смотрела на меня карими, с поволокой, глазами. Я сказал, что желания губительны, и неважно, какие они. Я сказал, что отшельники Урувеллы, страстно желающие обрести магическую силу и изнуряющие себя постами, только сильнее привязывают себя к бытию. Я сказал, что главные преграды на пути к освобождению — это ассавы, желания. На следующее утро я поел рису, сдобренного медом и тростниковым сахаром, и снова сел под смоковницей. Закрыв глаза и стиснув зубы, я прижал язык к нёбу, сдерживая вдохи и выдохи. Пот струился у меня из-под мышек, горячие ветры взвихрялись в моей голове. Постепенно боль проходила, уступая место волнующему ощущению нового дыхания, более глубокого и полного, чем дыхание легкими. У основания позвоночника я почувствовал пробуждение силы. Эта сила копилась во мне, превращаясь в ручеек, потом в горный поток, и вдруг пошла кверху упругим волнообразным движением, подобно змее. В это мгновение я произнес «Аум»[5] и на выдохе выскользнул через горло.
Девадатта рывком сел. Он смотрел на Сиддхарту широко раскрытыми глазами.
— Я взмыл над развесистой кроной смоковницы, над деревней, над сверкающим руслом реки Найранджаны, над дымившими внизу кострами отшельников. Взлетел свободно, как птица, и стал опускаться в долину, опускаться стремительно и плавно, словно кто-то бросал мне землю и она сама летела мне навстречу. Там рос баньян, похожий на небольшую рощу. Главный ствол баньяна давно погиб, но дерево продолжало жить: от мощных пологих ветвей шли вниз воздушные корни, становясь новыми стволами и подпирая зеленую кровлю… Среди воздушных стволов баньяна я увидел духов растений. Вначале они возникли передо мной, как небольшие ярко светящиеся пятна, но постепенно я стал различать их очертания. Я говорил с ними, и они отвечали мне. В это же время мое тело продолжало сидеть под смоковницей, и тонкая серебряная нить соединяла меня с ним. Вернувшись в него, я ощутил боль в занемевших членах и зуд от укусов насекомых…
— Выходит, душа все-таки есть! — не выдержал Девадатта.
— Она есть, но не у всех, — улыбнулся Сиддхарта. — У многих людей только зачаток души.
— Зачаток?
— Да. Такие люди бесцветны и лишены аромата. Сердца их трусливы, они не стремятся к Истине и бесконечно далеки от нирваны. Они с уверенностью судят о многом, почитая одни поступки — благородными, другие — низкими и постыдными, а в глубине души у них просто не хватает смелости совершить те поступки, которые они на словах отрицают. У них нет настоящей души, и они обречены на мучительное блуждание в сансаре. Это слепые посредственности, существа, подобные мусору.
У Девадатты захватило дух. Сейчас он не чувствовал ни усталости, ни боли.
— А я… могу научиться летать?
— Думаю, можешь.
— У меня есть душа?
— Это знаешь только ты.
— Я не знаю этого.
— Значит, ты должен понять себя. Поймешь себя — поймешь все. Строители каналов подчиняют воду, лучники — стрелу, плотники — дерево, а мы, шраманы, самих себя. Месяц назад я велел Кашьяпе заняться тобой. Он помог тебе?
— Сегодня я чуть не убил его, — с отвращением сказал Девадатта.
— Тогда он достиг цели. Пойми: люди, приходящие сюда, слепы. Они хотят для себя блага, которое понимают как удовольствие. Они не знают, что удовольствие неразрывно связано со страданием, радость — с болью, добро — со злом, правда — с притворством. Кашьяпа — грубый старик, но он знает, что делает. Если бы мы не лишали людей иллюзий о них самих, не было бы никакого роста. Сегодня ты почувствовал стыд, боль, ярость, отчаяние. Ты дошел до крайней точки падения и только теперь можешь двигаться дальше. Если ты очистишь от скверны свой ум и поборешь лихорадку страсти, то увидишь свою душу, своего внутреннего господина.
— И я смогу летать?
— Возможно.
— И на выдохе выскальзывать через собственное горло?
— Пожалуй.
— И путешествовать вне тела?
— И путешествовать вне тела.
— А ты… согласен учить меня?
Сиддхарта бросил на него оценивающий взгляд.
— Когда я сменил одежду царевича на запыленную повязку вокруг бедер, я готов был идти до конца.
— Я готов идти до конца.
— Настоящий ученик хладнокровен и бдителен.
— Я стану хладнокровным и бдительным.
— Настоящий ученик упорен и вдумчив.
— Я стану упорным и вдумчивым.
— Ты должен смирить свое «я».
— Я согласен, если… Если ты будешь моим учителем.
— Тебе потребуется сдержанность зрения, сдержанность слуха, сдержанность речи, сдержанность тела и сдержанность мысли. Если твоя мысль будет направлена на страсть, тебя унесет потоком желания.
— Я буду сдержанным.
Сиддхарта Львиноголосый тряхнул головой, отчего его черные волосы рассыпались по плечам.
— Завтра я собираюсь покинуть Джетавану, дабы вкусить сладость уединения.
— Ты уходишь? — поразился Девадатта.
— Кашьяпа и без меня тут управится. Я пойду на юг, и это не будет прогулка по дорожкам, посыпанным белым песком. В Магадхе немало вратьев[6], в джунглях юга скрываются племена курчавых дикарей, там не перевелись нечестивцы, приносящие в жертву людей. Ты готов стать моим спутником?
— Я не трус, Сиддхарта. — Девадатта нерешительно улыбнулся. — А правда…
— Что?
— Что ты умеешь создавать из воздуха золотые слитки?
Сиддхарта тихо рассмеялся.
— Этому я тебя учить не стану.
Его голос был сильным и нежным, как зов кукушки.
Глава V
ДЖЕТАВАНА-ПАТАЛИГАМА
Путешествовать с Сиддхартой Львиноголосым оказалось куда увлекательнее, чем слоняться без дела по Джетаване или вместе с Кашьяпой копаться в своем прошлом и вспоминать прежние воплощения. В один день все переменилось. Из рядового ученика, который уже помышлял о бегстве, Девадатта стал спутником учителя, его единственным спутником! Сиддхарта явно питал к нему, Девадатте, расположение. Это было странно и не очень-то вязалось с загадочными речами брата о желаниях и привязанностях, но Девадатта не мучил себя раздумьями на этот счет. Главное — все изменилось.
Их путь лежал на юго-восток. Возле Шравасти они встретили процессию из шести слонов. Слонов сопровождали конные ратники — это Видудабха, наследный принц Кошалы, возвращался с прогулки. Девадатта с восторгом разглядывал могучих животных, однако ни слоны, ни зонты царства, ни стяг с темно-синим лотосом, ни сам наследный принц Видудабха, тучный человек с угрюмым лицом, не привлекли внимания Сиддхарты. Погруженный в свои высокие думы, он даже не поднял голову.
Впереди лежали земли маллов и ваджей. Кушинар, главный город племени маллов, маленький, захолустный, похожий на большую деревню, не понравился Девадатте. На постоялом дворе, где они остановились на ночлег, юноша до утра не сомкнул глаз, слушая спор двух жрецов о засухе. Один из жрецов полагал, что засуху можно победить с помощью змей. Он утверждал, что у змей существуют свои варны, причем кобры — это брахманы, удавы — кшатрии, травяные и водяные змеи — вайшьи, а гадюки — шудры. Дождь, по его мнению, вызывался с помощью водяных змей. Его оппонент уверял, что прекращению засухи может способствовать свадьба двух лягушек, помазанных куркумой и торжественно сожженных на костре из сандаловых поленьев со множеством цветов. К концу ночи сторонник лягушачьей теории стал медленно одолевать своего противника, сделав упор на том, что его способ надежнее и древнее, поскольку лягушки существовали с начала кальпы, а змеи возникли гораздо позже от копания земли.
Наутро они двинулись через рощу деревьев сал к реке Хираннавати, где женщины камнями разбивали тростник для подушек Они совершили омовение и целый день шли до деревни Пава. В пути они встретили двух шраманов, один из которых кричал петухом, а другой лаял собакой. Сиддхарта произнес речь о том, что легкомыслие и приверженность ложным взглядам губят отшельника подобно тому, как вьющееся растение малува губит дерево сал.
Ночевали в манговой роще кузнеца Чунды. Рощей эти несколько чахлых деревьев с побуревшей листвой можно было назвать только в приступе благодушия, но поскольку хозяин-кузнец угостил их парной свининой, Девадатта остался доволен. Отсюда начиналась дорога на Вайшали, столицу личчхавов. Они прошли несколько деревень, которые отличались только названиями (деревня Джамбу, деревня Манго и деревня Слонов), где в тени тростниковых хижин сидели черные старухи, обмахиваясь пальмовыми листами, а голые дети, строившие на дороге шалаши из палочек и камней, смотрели на них вытаращив глаза.
Дальше была деревня Бханда. Здесь им встретился мошенник, продававший порошок из красной глины под видом лекарства от лихоманки, а Сиддхарта сказал речь о четырех вещах, которые уничтожают перерождения, — о нравственности, сосредоточении, постижении и освобождении. На следующий день они пришли в Вайшали.
Столица личчхавов и родина Махавиры запомнилась Девадатте большим количеством смуглых мужчин с обнаженными торсами. Воины с кинжалами у пояса щеголяли друг перед другом рубцами от неприятельских стрел. В южной части города кипела работа. Здесь строили стену из камней, скрепляя их известью, как сказали Девадатте — для защиты от враждебных магадхов.
Потом была роща, где они повстречали крестьянина, искавшего потерявшегося вола, девочку, копавшую землю деревянной мотыжкой в поисках целебного корня, и обнаженного юношу, сидевшего под смоковницей-ашваттхой. Юноша прятал лицо в коленях; своими распущенными волосами он напоминал духа дерева, покинувшего свое убежище. Это оказался сын ювелира из Вайшали. Он забавлялся в роще с танцовщицей, но та сбежала, украв его одежды. Сиддхарта ободрил несчастного, прочитав ему наставление о том, что человек сам совершает зло и сам оскверняет себя, ибо чистота и скверна связаны между собой и одному не очистить другого.
Потом была брахманская деревня, название которой Девадатта не запомнил, где Сиддхарта поведал ему о четырех благородных истинах. Эту речь подслушал маленький жрец с оттопыренными ушами. «Истины — это истины, почему ты называешь их благородными?» — спросил он, когда Сиддхарта закончил. «Низким людям открываются низкие истины, а благородным — благородные», — отрезал Сиддхарта. На следующий день они достигли Ганга.
Вода стояла низко по причине засухи, они отыскали брод и перешли на другой берег. На другом берегу начинались владения магадхов. Здесь трудились строители, возводившие крепость, как объяснили путникам — для защиты от коварных личчхавов.
Вельможа, наблюдавший за строительством, почтительно попросил золотистого отшельника, видом подобного Брахме, рассказать о будущем крепости. Сиддхарта согласился и ушел в глубокую медитацию.
Пока он предавался созерцанию, Девадатта гулял по окрестностям. В лесу он набрел на святилище под корнями дерева нигродха. Гладкие коричневые корни, возвышаясь над землей, образовывали подобие пещеры. Внутри обнаружились пальмовые листья с магическими письменами, закопченные бамбуковые и глиняные сосуды, пучки травы дарбхи, решето с высохшими зернами риса, посох, увенчанный изображением черепа, гирлянды из змеиных костей, берцовая кость человека и алтарь, сложенный из камней.
Все это были недобрые, внушающие страх находки. Девадатта решил, что попал в заброшенное святилище вратьи, одного из тех колдунов, что разбрасывают на дорогах гнилые веревки, протыкают заговоренным кинжалом следы и насылают болезнь, намазав лист пальмы смесью испражнений осла, человека и свиньи. Убедившись, что поблизости никого нет, он взял палку, переколотил горшки, разметал пальмовые листья и обратил в труху гирлянды из змеиных костей.
Когда он вернулся, золотистый отшельник, видом подобный Брахме, говорил о пяти дурных последствиях безнравственности, а вельможа восхищенно прищелкивал языком. Унося с собой подарок вельможи — ячменные лепешки с медом, масло из молока буйволицы и сладкое печенье из пшеничной муки с добавлением пряностей, — они прошли вниз по течению и остановились в манговой роще неподалеку от деревни Паталигамы. Здесь во множестве водились маленькие зеленые змейки, но Сиддхарта объявил, что змея не кусает шрамана, погруженного в созерцание, а роща — лучшее место в земле Гвоздичного дерева, где только и можно в полной мере вкусить сладость уединения.
— Огонь не разжигается трением палочки о сырое полено. Отшельник, покорный страху, зависти или сомнению, подрывает свой собственный корень. Он далек от освобождения, как муха, увязшая в паутине, — запомни это хорошенько, мой друг. Кто облачается в одеяние шрамана, не очистив себя от грязи, тот недостоин быть шраманом.
— Что же мне делать?
— Учиться созерцанию. Ты должен установить тишину внутри себя, собрать воедино разбегающиеся нити сознания.
— Я пробую, но ничего не получается.
— Значит, ты пробуешь без старания.
— Послушай, Сиддхарта! Я до полудня сидел на корточках, закрыв глаза и зажав пальцами уши.
— И чего ты добился?
— Ничего.
— Ты обещал быть упорным и вдумчивым, но пока я замечаю в тебе только лень и легкомыслие.
— Но мне не удается не думать!
— Сядь, как я тебя учил: ноги скрещены, правая на левом бедре, левая — на правом, а пальцы рук на коленных чашечках.
— Так сидят портные.
— Так сидят отшельники, которым завидуют боги.
— Но мысли все равно лезут мне в голову.
— Чтобы войти в созерцание, ты должен научиться свободно дышать. Сядь и сделай глубокий вдох, потом задержи дыхание.
— Это я тоже пробовал.
— Ты должен понять, что мысли и желания не рождаются в голове или в сердце. Они приходят извне. Попробуй представить над собой бронзовый щит. Только усилием и серьезностью ты сотворишь остров, который нельзя сокрушить потоком.
— Скажи, Сиддхарта, а почему ты ушел из дворца?
— Это долгая история, Девадатта.
— И все же?
— Однажды я постиг тщету жизни. Постигнув же, испытал отвращение к телу, к чувствам. В ту самую ночь я разорвал путы и вступил на путь Великого Отречения.
— Разве тебе не хочется повелевать, вести войско в битву?
— Если воин победит в битве тысячу врагов, то лучше его будет шраман, победивший только одного человека — самого себя. День самоуглубления лучше ста лет прозябания в невежестве.
— Но быть шраманом так трудно!
— Странствуя, я пришел однажды на берег Ганга, где росла огромная смоковница. Возле ее корней сидели люди. Три дня они постились, совсем не вкушая пищи, а потом прыгали с ветвей в воду и тонули. Некоторые привязывали к ногам запечатанный сосуд, наполненный водой. Эти люди верили, что смерть в священном месте принесет им лучшее рождение.
— А можно мне совершить омовение? Я вернусь и снова попробую.
— Можно, но ты задаешь много вопросов. Ученик, находящий удовольствие в пустословии, подобен вороне, которая бросилась к камню, думая, будто перед ней кусок сладкой лепешки. Будь серьезнее и не пренебрегай своим благом, пока я не разочаровался в тебе.
— Теперь мне удается не думать.
— Тогда ты на верном пути.
— Я чувствую в теле жар.
— Этот жар называется тапас. Ты поймал нить сознания. Теперь ты должен перейти границу чувств и углубиться в себя.
— Я уже сделал это, Сиддхарта.
— Значит, ты понял, что вокруг ничего нет?
— Нет ничего вокруг меня, но и внутри меня ничего нет. Я нисходил внутрь себя, как в глубокий и темный колодец. Я видел лишь пустоту, ужасную бездну без малейшего проблеска света.
— Не поддавайся отчаянию. Вредное для себя делать легко, хорошее и полезное — трудно. В человеке тридцать шесть потоков, направленных к удовольствию, и только два ведущих к освобождению.
— Сегодня я чувствовал себя маленькой песчинкой в огромной Вселенной. Все было бессмысленным, и бессмысленным был я…
— Когда-то я тоже испытал это, Девадатта. Я уходил в созерцание, и мир представлялся мне бесчувственным танцем духа. В этом танце не было ни смысла, ни любви, ни радости. Дух был бесстрастным, равнодушным и наводил ужас, ибо не оставлял ни надежды, ни выбора. Я был растерян, опустошен и долго сидел, приходя в себя. Все страхи восстали на меня, я был охвачен ужасом…
— Я чувствую это сейчас! Я еле справляюсь с собой, Сиддхарта.
— У тебя все получится.
— Мне хочется все бросить и бежать.
— Смири свой страх, как погонщик — слона.
— Я так устал, Сиддхарта. Я все меньше сплю, я становлюсь прозрачным и тонким. Я чувствую натиск враждебных сил, от которых у меня нет защиты.
— Наберись терпения. Даже молоко не сразу свертывается, а упражнение в созерцании не тотчас приносит плоды.
— Но мне кажется порой, что я умираю!
— Стой твердо, не ослабляй усилий. Тогда страху будет не удержаться в тебе, как не удержаться горчичному зерну на острие шила.
— Я приступил к упражнению еще на заре, когда павлины переговаривались с лесными голубями. Я сдерживал вдохи и выдохи, и пот лил у меня из-под мышек Мне казалось, будто два палача держат меня над раскаленными углями, а третий вонзает мне в голову острие меча. Я терпел эту боль, терпел, хотя она становилась невыносимой, и это… это случилось.
— Ты почувствовал давление вокруг головы, потом нисходящий ток силы, подобный тоненькой струйке? Ток поначалу почти незаметный, но потом все более и более ощутимый?
— Да, именно так.
— То была сила иддхи, Девадатта.
— Я не сразу догадался, что головная боль была вызвана моим непониманием этой силы, моим желанием ей препятствовать. Я позволил силе войти сначала в голову, потом в сердце, потом в область пупа, потом еще ниже… И боль исчезла, мне стало легко.
— Иддхи движет всем живым на свете. Даже лебеди, путешествующие тропой солнца, держатся в небе с помощью иддхи.
— Сила действовала мягко, и ее ток становился естественным и непрерывным, проникая во все слои существа, от головы до пят. А потом…
— Потом ты почувствовал другую силу?
— Да, другую. Она появилась в области крестца, потом стала быстро подниматься вдоль позвоночника. Эта сила была грубее, чем нисходящая, она хотела излиться наружу.
— Ты дрожал?
— Я дрожал.
— Ты кричал?
— Я кричал.
— Ты бился, как рыба, выброшенная на сушу?
— Я бился, как рыба. Но это было радостно.
— Ты уже на пути к себе, Девадатта.
— А магические способности?
— Ты уже приобрел их.
— Я чувствовал жар, как при сильной лихорадке. У меня жгло в области пупа.
— Это место власти и самости в человеке. Будь осторожен — страсти мешают освобождению.
— А почему я не выскользнул через горло?
— Ты сможешь и это — позже.
— А подавлять людей взглядом? Парить на высоте деревьев?
— Запомни, Девадатта: тот, кто считает чужих коров, непричастен к мудрости. Не стремись к магической силе, стремись к совершенству.
— А в чем оно, совершенство?
— В том, чтобы отказаться от победы и поражения. Побежденный живет в печали; победа порождает ненависть. Нет беды большей, чем ненависть, нет огня большего, чем страсть, нет счастья, равного спокойствию.
— О, почему ты всегда так серьезен, Сиддхарта!
— Серьезность — путь к бессмертию. Легкомыслие — путь к смерти. Только серьезный и вдумчивый достигает великого счастья.
Как-то утром они сидели и разговаривали.
— Все в мире взаимосвязано, и каждый поступок порождает следствие, — рассуждал Сиддхарта, обмахиваясь банановым листом. — Так и камень, брошенный в воду, вызывает крути.
— Ты думаешь? — рассеянно откликнулся Девадатта.
Они уже третий месяц предавались аскетическим упражнениям в Паталигаме. Мало кто узнал бы теперь в Девадатте того юношу, умащенного благовонным сандалом, что когда-то покинул Бенарес. Кусок тряпки, обернутый вокруг бедер, заменял ему дхоти, кожа потемнела, над верхней губой пробивались жесткие волосы. Он многому научился, однако ему по-прежнему не удавалось совершить путешествие вне тела.
— Да, я думаю именно так, — веско произнес Сиддхарта. — Некий человек легкомысленно уводит коня, присваивает манговую рощу вдовы, плетет заговор против раджи… Такой глупец не понимает, что сам уготовляет себе сеть. Впрочем, не менее легкомысленно поступает тот, кто убивает раба, не платит торговцу или разоряет святилище атхарванов…
— Святилище атхарванов? — Девадатта покраснел.
— Ты не знаешь, кто такие атхарваны? Изволь, я тебе расскажу. Эти знатоки четвертой веды за умеренную плату делают амулеты из дерева удумбары, а также из лягушачьих и змеиных костей.
Они знают заклятья против крыс, червей и демонов урунда, карума и кукурабха; они привораживают, заговаривают от болезней, насылают порчу и избавляют от сглаза. Если одному магу-атхарвану противостоит другой, между ними начинается колдовской поединок, и побеждает в нем тот, у кого больше внутренней силы. Вот почему многие атхарваны ведут жизнь отшельников. Не скажу, чтобы их образ мыслей был мне по душе. Что за польза в спутанных волосах и одежде из шкуры, если ты служишь своей жалкой самости? Что за польза в самоистязаниях и медитациях, если внутри тебя — джунгли? Ни лесная жизнь, ни грязь, ни сиденье на корточках не очистят такого аскета.
— Ты говорил о святилище, — напомнил Девадатта.
— Верно, о нем. Мне кажется, жрецы собрались покарать тебя.
— Меня?
— Тебе не стоило разбивать их сосуды и портить листья с магическими письменами. Теперь ты поймешь, что несделанное лучше плохо сделанного, ибо, не сделав что-то, не испытываешь сожаления. Зло же всегда возвращается, словно тончайшая пыль, брошенная против ветра; прикатывается обратно, как легкая колесница к подножию холма.
Юноша несколько раз моргнул.
— Откуда ты знаешь?
— Я наблюдал за людьми. Человеку трудно скрыться от последствий своих злых дел. Иной думает легкомысленно: «Зло не придет ко мне», но зло, совершенное им, никуда не исчезло. Оно тлеет на алтаре возмездия подобно огню, покрытому пеплом.
— Я не об этом, Сиддхарта! Откуда ты знаешь, что они хотят покарать меня?
— Сегодня на заре я путешествовал вне тела и слышал их разговор.
Девадатта заерзал.
— Надеюсь, они не собираются приносить меня в жертву?
— Сперва они использовали заклинания, но ты так усердно предавался аскезе, что тапас защитил тебя, — объяснил Сиддхарта. Лицо его приняло мечтательное выражение. — Как же все-таки велика сила углубленного созерцания! А теперь… теперь к нам в рощу направляется процессия жрецов. Лица у них решительные, в руках — заточенные бамбуковые палки. Какой позор, какое падение! — Он грустно покачал головой, и его длинные волосы заколыхались из стороны в сторону. — Поистине, хватающий копье — не отшельник, обижающий другого — не жрец…
— Нам нужно бежать? — нетерпеливо спросил Девадатта.
— Боюсь, уже поздно! — Сиддхарта со вздохом отложил банановый лист. — Жрецов много, около двадцати человек К тому же они разбились на несколько групп и заходят с разных сторон. Сейчас они примерно в трех-четырех полетах стрелы отсюда. А может быть, и ближе.
Девадатта испустил вопль и заметался среди манговых деревьев. Он бросился в заросли кустарника и чуть не наступил на тонкую, как плеть, ярко-зеленую змею — та пробиралась через траву, высматривая добычу блестящими холодными глазами. Девадатта кинулся к роднику — он помнил, что там был камень. Ужас стоял перед его глазами, как тысячерогий бык. О, зачем он стал шраманом! Камень не выдирался, и он только обломал себе ноготь. Девадатта застонал. Наконец, отыскав увесистый сук, он бегом вернулся обратно. Сиддхарта, ресницами полузакрыв глаза, сидел под деревом в той же позе.
— Послушай, мой друг, — нахмурился он, выслушав возбужденную речь Девадатты. — Человек, видящий бессмертную стезю, не будет наказывать себе подобных. Только безумец решается перерезать чужой жизненный корень, словно это корешок тыквы! Поставь себя на место другого — все дрожат перед смертью, все боятся. Поэтому нельзя убивать и понуждать к убийству… А если кто-то, ища для себя счастья, налагает наказание на существа, желающие счастья, тот после смерти сам не получит счастья. Неужели ты до сих пор не понял этого?
— Но они убьют меня, Сиддхарта! — задыхаясь, воскликнул Девадатта. — Или ты собираешься драться голыми руками?
Сиддхарта пожал царственными плечами.
— Драться? — удивленно повторил он. — Почему ты решил, что я буду драться?
— А ты не будешь?
— Конечно же, нет! Только дикарь кидается на людей, подобно потревоженному удаву… Настоящий шраман сдерживает пробудившийся гнев, как сошедшую с пути колесницу; он остается невозмутимым среди поднимающих палку, он непоколебим, как утес.
Девадатта побледнел.
— Значит, ты отдашь меня этим колдунам-людоедам?
Сиддхарта посмотрел на него взглядом, полным сочувствия.
— Я не отдам тебя, Девадатта. Чего ради тогда я принял в тебе столько участия? Неужели ты думаешь, что тот, кто с помощью знания освободился от сомнений и достиг погружения в высшее благо, запятнает себя таким нелепым и низким поступком? Неужели ты думаешь, что на это способен человек, свободный от страстей, устранивший препятствия, разорвавший ремень, плеть и цепь с уздой, вдумчивый и серьезный, в ком уже почти угасла радость существования?
— О-о-о! — Девадатта без сил рухнул на землю. Когда-то давно он видел на рынке в Бенаресе безумца с колодкой на шее, не переставая выкрикивавшего: «Чар-мар! Шриум-риум… Чар-мар! Шриум-риум…» Сейчас подобное же безумие было к нему близко, как никогда. Внезапно Девадатта ощутил у себя на темени прохладную ладонь.
— Не тревожься, брат, — промолвил Сиддхарта. — Я скажу им проповедь.
Глава VI
ПАТАЛИГАМА — РАДЖАГРИХА
Они шли на восток по берегу реки. Селения магадхов встречались все чаще и были все более многолюдными. Девадатта жадно смотрел по сторонам: эти места по берегу Ганги напоминали ему окрестности Бенареса. Сиддхарта и атхарван по имени Могталана, сухощавый человек в антилопьей шкуре на бедрах, шли впереди, беседуя о Срединном пути. У Моггаланы было гладкое безволосое лицо; быстрые нервные движения и маленькие подвижные глаза выдавали в нем человека деятельного и тщеславного.
— Я отверг золото и серебро, — втолковывал ему Сиддхарта. — Я отверг яхонты, камни, словно бы налитые алой кровью печени. Я отверг могучих слонов и быстроногих коней. Отверг, потому что освобождения добивается лишь тот, кто победил алчность, кто отказался от всех страстей и желаний. Желания губят человека, и он, подобно бамбуку, гибнет от своих же плодов…
— Ты сказал — от всех страстей и желаний? — переспросил Моггалана.
— Да, от всех.
— Но, клянусь богами на небе и на земле, ведь желания бывают разными?
— Желания — это только желания. Пока они управляют нами, наш ум на привязи и подобен теленку, сосущему молоко матери.
— И только желания губительны?
— Губительны желания, а также губительны ревность и лихорадка страсти, — терпеливо разъяснял Сиддхарта.
Братья Нагасамала и Мегия замыкали шествие. Вчера, когда Сиддхарта произнес проповедь, копья сами выпали из рук жрецов. Маги почтили отшельника заклинаниями, призывая на него счастье в четырех четвертях мира и под двадцатью семью лунными созвездиями, а трое из них попросились в ученики. Жрецы, идущие позади Девадатты, были увешаны амулетами из змеиных костей, сухо бренчавшими при ходьбе.
— Ревность изгоняют, опуская в воду раскаленный топор, — заметил Нагасамала.
— А лихорадку переводят на шудрянку, — откликнулся Мегия. Он был очень похож на брата, только коса у него была чуть покороче.
Позади осталось несколько больших селений, где в зарослях пальм и бамбука прятались хижины с соломенными крышами. Дальше начались площадки для сожжения трупов. Усопшие, лежа в ряд на бамбуковых носилках, дожидались своей очереди на сожжение, а пока священная Ганга в последний раз омывала их ноги. Брахман с несколькими подручными складывал на берегу костер, чтобы потом развеять пепел мертвецов по реке. Жрец и его слуги не казались печальными, напротив, они выглядели довольными и даже подтрунивали друг над другом.
Ниже по течению десятки людей совершали омовение в мутной, серо-зеленой воде Ганги. Паломники были в белых одеждах. Внезапно послышались крики и хохот: тощая корова, то ли оступившись, то ли решив напиться любой ценой, заскользила по крутому склону и съехала в воду. Девадатта заметил среди купающихся двух прокаженных — они старательно поливали водой разлагающиеся части тела. Рядом женщины наполняли сосуды, тут же голышом плескались дети, кто-то набирал в рот воду и, дурачась, пускал ее струей. А по реке плыл пепел трупов, сожженных выше по течению…
Девадатте вспомнились широкие разливы Ганги, когда в период дождей река превращалась в бурный поток, подмывая берега, затопляя и забивая илом дома на окраине Бенареса. К счастью, это не отражалось на процветании города: стоило воде спасть, и люди вновь наполняли святилища и подступы к священной реке.
Сердце юноши забилось — к Ганге приближалось шествие празднично одетых жителей Магадан. Купальщики преградили им путь, но Девадатта был этому даже рад. Он с удовольствием разглядывал могучего слона со лбом, разрисованным суриком, который, подобно кораблю, плыл впереди толпы; он всматривался в лица паломников, несущих на плетеных подносах ароматные горы жасминовых венков, вслушивался в слова гимна, который распевали юные брахманы-ученики, и даже дряхлые кони, на которых сидели жрецы, были ему чем-то приятны.
Сиддхарта остановился.
— Взгляните на сей мир, подобный пестрой колеснице! — Он обращался ко всем четверым, но его глаза смотрели только на Девадатту. — Там, где барахтаются глупцы, у мудрого нет привязанности.
— А мне здесь нравится, — пожал плечами Девадатта. — Я вырос на берегу Ганги.
Сиддхарта нахмурил брови.
— Ты забыл, Девадатта: лишь тот, кто не оглядывается на свое прошлое, поистине благороднейший человек. В него не просачиваются ни страх, ни сомнение, как в дом с хорошей крышей не просачивается дождь.
— Это Срединный путь, о котором ты говорил? — уточнил Могталана.
— О да, — подтвердил Сиддхарта. — О да! — повторил он. — Мудрые идут этим путем; для них нет наслаждения в родном доме. Как лебеди, оставившие пруд, покидают они свои жилища. Где бы они ни жили — в деревне или в лесу, в долине или на холме, — любая земля им будет приятна… Мудрый никогда не привяжется ни к дому, ник родителям, ни к женщине, ни к ребенку, ибо любить чье-то тело с его слизью и мерзостью — значит подражать мухе, липнущей к падали.
Среди купальщиков были воины-кшатрии, почтенные служители Сомы с витыми шнурами через плечо, темнолицые крестьяне, худые, перемазанные золой аскеты и тучные старшины купцов; женщины, дети и старики; люди изящно одетые и абсолютно голые. Вся эта толпа, предвкушая купание, пела, смеялась и наблюдала за коровой, которая пыталась взобраться обратно на берег, но с протяжным мычаньем сползала в воду. Рослый кшатрий, толстый, с мясистым лицом и глазами навыкате, устал ждать своей очереди и с решительностью буйвола направился к воде, расталкивая людей. Большинство из них не доходило ему до плеча, и Девадатте подумалось, что такой здоровяк, взяв в руки палицу, сокрушит даже череп слона.
— Легко жить тому, кто нахален, как ворона, дерзок, безрассуден, испорчен, — изрек Сиддхарта, указывая на гиганта ученикам. — Цвет одежд этого человека белый, но внутри него — большое болото, полное грязи.
Рослый кшатрий услышал его слова.
— Что тебе нужно, незнакомец? — сердито спросил он. — Почему бы тебе не пойти своей дорогой?
Сиддхарта благожелательно улыбнулся.
— Ни с кем не говори грубо, мой друг. Ибо те, с кем ты говорил грубо, ответят тебе тем же. Ведь раздраженная речь неприятна, и возмездие может коснуться тебя.
Магадх еще сильнее выпучил глаза, и Девадатта понял, что кисть кшатрия по привычке ищет рукоять кинжала или меча. Сообразив наконец, что оружия при нем нет, здоровяк устремился вверх по склону.
— Посмотри на эту корову, — продолжал, не смущаясь, Сиддхарта. — Она попала в затруднительное положение, но между тем это существо достойно подражания. Не зря говорят, что сияющий прародитель Брахма одновременно сотворил первую корову и первого человека. Коровы спокойны и незлобивы, они никого не ударяют ни копытами, ни рогами…
Разъяренный кшатрий был уже совсем рядом.
— Клянусь всеми богами горы Химават, ты мне не нравишься, пришелец, и я преподнесу тебе урок! — вскричал он, поднося к лицу Сиддхарты кулак, похожий на молот, и раздуваясь от злости, словно кобра, которую ударили палкой. — Если ты напялил повязку аскета, это еще не значит, что ты можешь не кланяться высокородным кшатриям, как велит обычай Магадхи!
Моггалана, Нагасамала и Мегия незаметно отступили в сторону. Это было правилом учеников любого отшельника — если учитель вступал с кем-либо в спор, ученик обязан был молча ожидать исхода, не привлекая к себе внимания. Девадатта остался стоять рядом с Сиддхартой, хотя его сердце билось, как рыбешка в руках ловца. Их окружили плотным кольцом.
— По обычаю Магадхи высокородных кшатриев надлежит приветствовать низким поклоном, — хладнокровно сказал Сиддхарта. — Все дело в том, кого следует называть высокородными кшатриями…
— И кого же? — еле сдерживаясь, спросил магадх.
«Если он закричит "Аум", — пронеслось в голове Девадатты, — половина этих паломников посыплется в воду вслед за коровой».
Но Сиддхарта и не думал кричать.
— Я называю высокородным того, кто безмятежен, бесстрастен и чист, — сказал он. — Я называю высокородным того, кто говорит правдивую речь и остается невозмутимым среди поднимающих палку…
Здоровяк вдруг икнул — один раз, потом другой. Глаза его закатились, так что показались белки, кровь отхлынула от лица, и оно стало пепельно-серым. Магадх схватился руками за горло, словно ему стало трудно дышать.
— Я называю высокородным того, кто не лжет и свободен от гнева; того, кто не льнет к чувственным удовольствиям, подобно лиане, обвивающей ствол. Того, кто, будучи юношей, ничего не присвоил себе в доме наставника: ни серебряного блюда, ни статуэтки Индры, ни хрустального кубка с ручкой в виде рыбы…
Несчастный опять страдальчески икнул и вдруг, сложившись пополам, ткнулся лбом в землю у ног Сиддхарты.
— А кроме этого, — продолжал Сиддхарта, обращаясь уже к зрителям, — я называю высокородными тех, кто отбросил зло…
— Колдун! — закричали в толпе. — Зачем ты пришел? Ты сам-то отбросил зло?
Сиддхарта улыбнулся.
— Знайте, люди Магадхи: я пришел, чтобы напоить водой саженцы вашего бытия. Не только зло, но и добро уже отброшено мною.
В ответ раздался хор негодующих криков.
— Кто это? Кто его учитель?!
— Слыхали? Он отбросил добро!
— Изгой! Вратья!
Девадатта почувствовал, что еще мгновение, и толпа разорвет их на куски.
— Учась у самого себя, кого назову учителем? — холодно вопросил Сиддхарта, и в голосе его зазвучала звонкая медь. — Кто в этом мире победил землю, мир Ямы, мир духов и мир богов? Кто нашел верную стезю, как ребенок — прекрасный цветок? Нет, люди Магадхи, я следую только себе и Истине, следую подобно тому, как луна следует звездным путем…
Сиддхарта сделал широкий жест, показывая, как луна следует звездным путем, и крики смолкли.
— Слеп этот мир, и немногие видят в нем ясно, и немногие свободны от страха. Ко всякому прибежищу обращаются люди, мучимые страхом: к горам и лесам, к деревьям в роще, к берегам омовений. Жизнь человека проникнута страданием, как великое море — вкусом соли, и нелегко принять Истину, однажды услышав ее…
— Да в чем она, твоя истина? — выкрикнул кто-то.
— Взгляните на мир, где вы рождаетесь снова и снова, — невозмутимо продолжал Сиддхарта. — В этом мире рождение приносит страдание, и старость приносит страдание, и болезнь приносит страдание; неутоленная страсть, соединение с немилым, разлука с милым — все приносит страдание… В этом мире вы плачете о том, что вам досталось в удел зло, которое вы ненавидите, и не досталось добро, которое вы любите. Взгляните на свой разум, на мысли, что скачут, как обезьяны с ветки на ветку, и нет в них определенности и постоянства. Взгляните на свое тело, бренное, полное изъянов, составленное из частей. Изнашивается колесница, хворост сгорает в костре, а тело приближается к смерти. Вы боитесь смерти, вы плачете, вы стоите на коленях, но никто не спешит поднять вас. Но я, отшельник Сиддхарта, говорю вам: встаньте! Будьте выше добра и зла; откажитесь от любви и ненависти; возрадуйтесь, лишенные страсти! Пусть ваши чувства будут спокойны, как кони, обузданные возницей! Смотрите на мир, как смотрят на мираж, и вас не увидит Царь Смерти! Добрые снова войдут в материнское лоно, злые будут гореть в преисподней, и только лишенные желаний достигнут нирваны…
Толпа молча внимала ему. Лик Сиддхарты сиял, каждый его жест был исполнен силы, каждое слово сверкало, как поворот колеса с золотыми спицами.
— Сегодня я предлагаю вам Путь… Мой путь не похож на жизнь лесного аскета, жизнь мрачную, недостойную и ничтожную. Мой путь не похож на жизнь наслаждений, жизнь, преданную похотям и удовольствиям, ибо это жизнь низменная, противная духу, ничтожная, недостойная, гадкая… Мой путь — Срединный, такова благородная истина. Вы спрашиваете, труден ли он? Да, люди Магадхи, он труден, ибо это путь отречения, и не многие достигнут противоположного берега! Крепки узы, тянущие ко дну, и трудно от них освободиться, но, разрубив их, вы станете свободными, ибо кто в мире побеждает желание, у того исчезают печали…
Расправив плечи, Девадатта надменно смотрел на толпу. От восторга у него перехватывало дух.
Сиддхарта повернул на юг, к Раджагрихе. После проповеди в местах священных омовений число его учеников выросло до двадцати человек Большей частью это были молодые аскеты, оказавшиеся в числе паломников, но был среди них и сын ювелира по имени Яса, и Кокалика, выходец из низкой касты слуг-опахальщиков, гоготавший по всякому поводу словно гусыня, отведавшая цветочного меда, и хромой старец Тисса, уроженец Шравасти, и рослый магадх Кимбила с лошадиным лицом, очень гордившийся тем, что его отец — махаматра[7].
На пути шраманов лежали бесконечные рисовые поля и деревни в густой листве банановых пальм. В одном из таких селений на дорогу выскочил крестьянин-вайшья. Волосы его были в беспорядке, он кричал, что на его дочку обрушился ткацкий станок и убил ее. Сиддхарта утешил крестьянина соображениями, что смерть — обычное дело, и они двинулись дальше.
Неподалеку от деревни Колиты им встретился толстый брахман-отшельник в повязке из человеческих волос. Брахман оказался проповедником, причем довольно речистым; он утверждал, будто все труды на земле лишены смысла, ибо смерть неизбежна, и призывал наслаждаться земными радостями.
Сиддхарта, повернувшись к ученикам, сказал краткую проповедь о том, что невоздержанные предаются печали на склоне лет, а нечестивые рождаются в одном из нижних адов. Брахман попытался дать Сиддхарте пощечину, но рука прилипла к мочке его собственного уха, и, как он ни старался, ему не удалось отлепить ее.
Шраманы заночевали в ашоковой роще неподалеку от столицы магадхов. Ранним утром, когда солнце высветило верхушки пальм и пять скалистых утесов, они подошли к городу.
В величии Раджагрихи, окруженной рвом с укрепленным валом и стеной из обожженного кирпича высотой в восемнадцать локтей, было что-то пугающее. Ширина стены была такова, что по ней легко могла проехать колесница, запряженная четверкой коней; проникнуть в город можно было лишь по подвесному мосту через опускающийся и поднимающийся створ железных ворот. По сторонам от ворот высились боевые башни; центральные ворота украшали медные арки, под которыми легко проходили большие слоны с паланкинами-хоудами на спинах.
Каменные здания за крепостной стеной (дворец раджи Бимбисары, зал собраний, тюрьма и дома вельмож) показались Девадатте творениями асуров. В каждом таком доме поместилось бы немало коней и колесниц, а в середине еще осталось бы место для двух слонов, танцующих брачный танец. Пожалуй, в долине Ганги только город Шравасти мог поспорить в величии с Раджагрихой. Бенаресу, увы, было до нее далеко.
В то же время Девадатта замечал, какие почтительные взгляды бросают на него люди — эти заурядные, ничего не понимающие жители Магадхи, глупо прозябающие в сансаре, — и невольно чувствовал радость от сознания своей избранности. К отшельникам подошел усатый кшатрий с коротким мечом на левом бедре. Судя по одеждам шафранного цвета, это был уроженец Чампы, столицы ангов, недавно покоренных Бимбисарой. Воин-анг опустился на одно колено и краем шелкового плаща вытер ноги сперва Сидахарге, а потом Девадатте.
— Зачем ты сделал это? — спросил изумленный Девадатта.
— Прикосновение к благочестивым отшельникам очистит меня, — смиренно отвечал уроженец Чампы.
И Девадатта в который раз подумал, что быть шраманом не так уж плохо.
В Раджагрихе уже несколько дней толковали о том, что Магадху осчастливил своим прибытием новый учитель, перед которым все прочие отшельники, маги и проповедники меркнут, как светлячки при ярком дневном свете. Сиддхарту называли Достойным Имени Совершенного, Великим Шраманом, Торжествующим Бхагаваном. Говорили, что он молод и строен, отличается чинной походкой, прекрасной осанкой и благородными движениями рук; стоит ему возвысить голос, и сойки и горлицы замертво падают с веток Его сопровождает двоюродный брат, молодой аскет, железноногий и взнузданный Великой Решимостью.
Ходили слухи, что отшельник Сиддхарта знает прошлое, настоящее и будущее; он способен приручить тигра; он видит в небе гандхарвов, а под землей — нагов; он умеет входить через запертые двери, проникает сквозь каменные стены, становится невидимым, в одно и то же время появляется в разных местах. По его слову деревья нагибаются так низко, что плоды можно срывать с самых высоких ветвей.
О стычке с кшатрием на берегу Ганги рассказывали, будто Укротитель Косматых Подвижников, не сходя с места, испепелил его взглядом. По другой версии, человек, вздумавший перечить Совершенному, провалился под землю, в самый ад Авичи. Кое-кто прибавлял, что при этом отшельник Сиддхарта поднялся в воздух на высоту кокосовой пальмы. Через пару дней очевидцы уверяли, что Сиддхарта поднялся на высоту семи пальм, причем из его груди вырывался огонь, а из бедер лились потоки воды. Другие, правда, настаивали, что все было наоборот, и языки пламени вырывались из нижней части тела, а вода шла из верхней; иные же и вовсе склонялись к тому, что огонь и вода попеременно выходили то из правого, то из левого бока отшельника Сиддхарты.
Неудивительно, что когда отшельник Сиддхарта пришел в Раджагриху и сел, скрестив ноги, на площади возле тюрьмы, любопытные потекли к нему полноводной рекой.
«Зло не приносит счастья и не дает покоя, — говорил Сиддхарта. — Избегайте зла, как купец без спутников, но с большим богатством, избегает опасной дороги. Если вы сделали зло, не делайте его снова и не стройте на нем свое благополучие. На небе и среди океана, в лесу и в горной расселине не скроется человек от последствий злых дел».
«Добро не приносит счастья и не дает покоя, — говорил Сиддхарта. — Добро лучше, чем зло, и накопление его приятно, тогда как накопление зла — горестно. На небе и среди океана, в лесу и в горной расселине не скроется человек от последствий добрых дел».
«Зло и добро не приносят счастья и не дают покоя, — говорил Сиддхарта. — Добрые снова войдут в материнское лоно, злые будут гореть в нижних адах, но только лишенные желаний достигнут нирваны».
Он учил юношей побеждать тягу к женщинам, купцов — к накопительству, брахманов — к священным ведам, воинов — к оружию, певцов — к музыке, а родителей лечил от страсти, привязывавшей их к детям, ибо все это были желания, приводившие к новым страданиям. Люди целовали ему ноги, и многие падали от воздействия силы, которой он обладал.
— Как нам жить, Возвышенный? — спрашивали они.
— Бегите суеты, бегите желаний, стремитесь к покою и недеянию, — отвечал Сиддхарта. — Спешите, ибо пастух гонит коров на пастбище, а старость и смерть гонят жизнь живых существ. Учитесь останавливать течение мыслей и тем побеждайте любое страдание. Если вы устали от трудов, оставьте их. Если семья мешает освобождению, оставьте ее.
— Учитель, я хочу пойти с тобой, — говорил ему юноша-кшатрий. — Но у меня семь братьев, один меньше другого. Когда я возвращаюсь домой, они все выбегают мне навстречу. Я к ним очень привязан.
— Из приятного рождается печаль, из привязанности рождается страх, — отвечал ему Сиддхарта. — Оставь своих братьев — и обретешь свободу. Ибо если нет приятного, откуда взяться печали и страху?
— Я хочу жениться.
— Из «хочу» возникает страсть, а нет несчастья большего, чем страсть. Беги в горы и леса, к деревьям в роще…
— Но я полюбил.
— Никого не люби, ибо любовь — это узы, а расставание с любимым болезненно и неизбежно. Отказ от маленькой радости позволит тебе узреть великое счастье.
— Но я мечтаю о ней…
— Горе тебе! Как ступица к ободу, так мысль похотливого мужчины привязана к женщине. Пока не победишь свою страсть, до тех пор ум твой на привязи и подобен теленку, сосущему молоко матери.
Сиддхарта также советовал представлять тела возлюбленных женщин наполненными мочой и калом, чтобы не было желания не только лобзать, но даже дотронуться до них ногой. К нему приходили мужчины с натруженными руками, уставшие от забот, с черными от зноя лицами.
— У нас дома, жены, дети, — говорили они.
— Смотрите на свой дом, как на мираж, — отвечал Сиддхарта. — Смотрите на жен и детей, как на пузыри на поверхности Ганги.
— Мы боимся…
— Вы боитесь оставить близких, боитесь уйти. Вы видите в уходе из дома зло, потому что еще не созрело благо. Но когда благо созреет, тогда вы увидите благо.
И многие решались уйти. Были среди них брахманы и кшатрии, купцы и землепашцы, и даже шудры с пыльными головами, потому что Сиддхарта принимал всех, утверждая, что грязнее всего грязь невежества, но благие ученики, несмотря на запущенный вид, сияют издалека, как вершины заснеженного Хималая. Иногда приходили отцы юношей, пожелавших навсегда стать отшельниками. Переминаясь с ноги на ногу, они спрашивали:
— Не кажется ли тебе, учитель, что путь воздержания слишком труден? По силам ли он моему сыну?
— Золото, пока не очищено через огонь, не обретает полного блеска, — отвечал Сиддхарта.
— Но он так молод! Готов ли он сердцем принять твое учение?
— Родители любят навязывать детям свои услуги, даже против их води, — отвечал Сиддхарта. — Они часто мучают детей под предлогом, что желают им добра. Кто видит опасность, когда не должно бояться, и не видит опасность, когда должно бояться, — тот идет дурной тропой и никогда не достигнет нирваны.
А потом приходили разгневанные женщины Раджагрихи, требуя вернуть им мужа, отца или сына.
— На беду ты пришел в наш город, лесной отшельник! — голосили они. — Да изведаешь ты сам страдания вместо нирваны! Ты, мнящий себя умнее других!
— Мнящие суть в несути не достигнут сути, а мнящие несуть в сути достигнут несути, — отвечал Сиддхарта. — Мнящие суть в сути и несуть в несути — только они достойны нирваны!
И люди смеялись над женщинами, говоря:
— Вот, хотели запустить в луну навозной лепешкой, а что получилось?
И женщины Раджагрихи уходили прочь, смахивая слезы с ресниц.
Девадатта получал удовольствие от этих сцен. Сидя рядом с Сиддхартой и Моггаланой, он хранил глубокомысленное молчание и оттого казался и самому себе, и жителям Раджагрихи если не равным Сиддхарте, то мало в чем уступающим ему мудрецом.
Когда же Сиддхарта объявил, что они остаются в Магадхе, чтобы основать общину в роще Велуване, подаренной им лекарем раджи Бимбисары, Девадатту охватила радость. К старому возврата не было. Мучитель Кашьяпа оставался в прошлом, как дурной сон.
Когда Сиддхарта покидал город, вместе с ним пустились в путь две сотни юношей и зрелых мужчин, отказавшихся от привычных трудов и взявших в руки кокосовые скорлупки для сбора милостыни. Среди провожающих не все желали им счастливой дороги. Находились такие, кто осыпал Сиддхарту проклятьями, а иные бросали в его учеников слоновьим пометом.
Глава VII
РОЩА ВЕЛУВАНА
Взыскуя лучшего рождения, все новые люди из самых разных варн облачались в повязки аскетов. Жрецы отчаянно сопротивлялись наступлению шраманов, но ход истории не остановить, и странствующие от селения к селению отшельники приобретали все большее влияние. Жители долины верили в мудрость этих истощенных, обугленных солнцем людей и все реже обращались за помощью к брахманам, которые не могли предложить ничего, кроме поднадоевших ритуалов и жертвоприношений.
Самые сильные страсти кипели в Магадхе. Именно здесь расцветали учения, заимствованные благородными собирателями коровьих лепешек у темнокожих дикарей-ванавасинов. На юге многие полагали, что душа со смертью человека взмывает к луне, которая то увеличивается от жизненного дыхания земли, то уменьшается, отдавая излишки обратно на землю. Согласно этой теории души возвращались обратно вместе с дождем, обретая новую жизнь в травах, буйно растущих после тропических ливней.
В Магадхе уже проповедовал Махавира из Вайшали, учитель джайнов, со своим спутником Гошалой; здесь бывал учитель Каччаяна, отрицавший существование души и покрывавший лицо марлей, чтобы ненароком не проглотить и не погубить какую-нибудь мошку; здесь с сотней учеников предавался аскезе Кашьяпа из Гаи, учивший о пребывающем в человеке внутреннем огне, который можно услышать, если зажать пальцами уши; сюда же пришел и Сиддхарта Львиноголосый со своей проповедью недеяния.
Среди шраманов Магадхи попадались такие, кто призывал к возрождению человеческих жертвоприношений, другие почти открыто исповедовали темный культ Махадэви, пожирательницы детей. Одного из самых зловещих учений этого толка придерживались бхайравы. Они почитали злых оборотней-бхутов, живущих на кладбищах и питающихся трупным мясом; с леденящими душу криками бхайравы нападали на брахманов во время жертвоприношений, опрокидывали котлы с жертвенной пищей, мочились в еду, приготовленную для богов, и ножами, похожими на жатки, вспарывали жрецам животы и грудные клетки. Эти ножи, как и заступы для закапывания тел, они получали в день своего посвящения.
Впервые о бхайравах заговорили после убиения Моггаланы Колитского, девяностолетнего брахмана, добившегося отменных успехов в лесной науке. Его душу отправил к луне бхайрав по имени Ангулимала, некогда ученик Джины-Махавиры, рассорившийся со своим учителем. Рассказывали, что когда бхайрав бросился на старого шрамана, тот вознесся в воздух при помощи накопленной силы иддхи, однако поднялся невысоко, и Ангулимала сбил его бамбуковым шестом, предназначенным для сбора плодов. Прежде чем вырвать сердце, бхайрав заступом переломал Моггалане Колитскому бедренные кости и отрубил ему пальцы.
По слухам, бхайравы были одним из темнокожих племен, живших в джунглях южнее Магадхи. Племя практиковало кровавые обряды, причем в жертву приносили по преимуществу мужчин из трех высших варн и мальчиков, купленных или украденных, которых вскармливали лет до восьмидесяти, а потом натирали душистыми мазями, украшали красными цветами патали, разрубали на куски и хоронили в рисовых грядках или на поле куркумы. Когда же во главе племени стал аскет, носивший на груди ожерелье из человеческих пальцев, число бхайравов стало расти. Теперь к учению Ангулималы примкнули некоторые отшельники-арии и вратьи, люди, по каким-то причинам изгнанные из своих каст. Так из племени-карлика бхайравы стали воинственной сектой, провозгласившей своей целью уничтожение брахманов в долине.
Новизна учения Ангулималы заключалась в том, что оно призывало людей отказаться от рабского служения богам горы Химават и посвятить себя поискам внутреннего «я». Согласно Ангулимале светлые боги, подобные Индре, Агни и Соме, оказались слабыми, их мир захудал и подлежит забвению. Божество, утверждал Ангулимала, составляет глубинную основу мира и находится внутри каждого человека. К слиянию с ним ведет особая духовная практика, состоящая в аскетизме, медитации, поедании мяса, поклонении «небесным защитникам» и принесении им в жертву мужчин-ариев и мальчиков, не достигших половой зрелости. Жертвоприношение — божественный акт, цель которого — превращение человека в бога.
Главное божество секты, чудовище со спутанными красными волосами, торчащими изо рта клыками и черепом в руке, считалось воплощением Рудры. Его божественную супругу, Великую Мать, черную Махадэви, представляли кружащейся на площадке для сожжения трупов, с запястьями, обвитыми кольцами змей, и ожерельем из детских головок.
— Скажи, Тисса, по-твоему, Ангулимала — разбойник?
— По-моему, разбойник, о Совершенный.
— А скажи, легко ли разбойникам вломиться в дом, где много мужчин и нет женщин?
— Мне кажется, довольно трудно, о Совершенный, — ответил Тисса.
Только что он рассказал Сиддхарте о двух вдовах. Рано утром эти несчастные женщины пришли в рощу из Раджагрихи — покрытые пылью, с опухшими ногами и заплаканными лицами. Вдовы просились в ученицы к Возвышенному, и кошалец полагал, что их можно принять.
— А легко ли разбойникам вломиться в дом, где много женщин и мало мужчин?
— Мне кажется, что легко, о Совершенный, — вздохнул старец.
— Вот видишь, — сказал Сиддхарта. — Не всякий водоем нуждается в укрепленных берегах, но всякая община нуждается в уставе. Ты помнишь устав нашей общины, Тисса?
— Кажется, помню, о Совершенный.
— Тогда ступай и скажи этим вдовам, что им здесь не место.
Тисса вздохнул и медленно побрел прочь, чуть приволакивая правую ногу. Девадатта удивленно смотрел ему вслед. Этот хромой старик с взлохмаченной седой головой и смешной привычкой чмокать губами почему-то пользовался всеобщим уважением в Велуване. Девадатта потер мочки ушей и сказал:
— Я не нахожу себе места, Сиддхарта.
— Но почему?
Они сидели рядом на небольшом холмике из белого песка. Над их головами шелестели продолговатые листочки сандала; легкий ветерок разносил запах померанцев, лесных яблок и камфары. Красотой Велувана нисколько не уступала священной роще царевича Джеты, и — странное дело — тигры не преследовали здесь оленей, а змеи не трогали мышей и лягушек.
— Я не уверен в себе, — сказал Девадатта. — Словно я жил одной жизнью, а теперь живу другой.
— Так оно и есть: ты покинул темную дхарму и постигаешь светлую, и твой ум постепенно очищается от скверны.
— Может быть, он и очищается. Но порой мне кажется, что я забыл нечто важное, потерял самого себя.
— Поверь мне, самое трудное уже позади. Ты перестал отождествлять себя с именем, с телом, со своим прошлым; ты опорожнил свою лодку. Твой разум на пути к развеществлению, и скоро ты по крупице соберешь себя заново.
— Ты уже говорил это… — Девадатта уныло посмотрел на брата. — Но у меня такое чувство, что я пытаюсь из рога надоить молока… или раздуть из светлячка огонь.
Сиддхарта взял в руки жезл из черного дерева, подарок цирюльника Упали из Раджагрихи, и воткнул его в землю острым концом.
— Стой твердо, как этот жезл. Строители каналов подчиняют себе воду, лучники — стрелу, плотники — дерево, а мы, шраманы, самих себя. Подумай, какой еще жребий лучше нашего? По всей долине уже не читают мантры и не славят богов, заброшены приношения огню. Никто не соблюдает посты в дни полнолуния и новолуния, люди отрекаются от вед, не омываются в священных ключах, не верят брахманам, воспевающим дойное вымя. Будущее за нами, за шраманами.
— Быть шраманом, конечно, неплохо, — вздохнул Девадатта. — Но если ты топчешься на месте, как опутанный веревками слон… — Он ткнул жезл ногой, и тот упал, вывернув черную землю.
— Что с тобой? — удивился Сиддхарта. — Разве в Паталигаме не ты овладевал лесной наукой быстрее, чем язык знакомится со вкусом плода? Разве не ты научился подчинять себе мысль — бестелесную, блуждающую в зарослях прошлого, сокрытую в сердце, легко уязвимую, трепещущую, дрожащую? Разве не ты собрал в луч силу иддхи, рассеянную по разным уголкам твоего существа?
— Да, собрал, и что толку? Мне не удается выскользнуть через собственное горло. А вдруг у меня только зачаток души?
— Ты слишком страстно желаешь покинуть тело, Девадатта. Это тебе и мешает.
— Что же, я сам виноват?
— Если подбрасывать в костер вязанки хвороста и кизяк, костер не потухнет. Напрягая все силы, ты только укрепляешь привязь.
Девадатте вспомнилась череда однообразных дней, проведенных в Велуване. Каждое утро он погружался в созерцание, ощущая, как вдоль его позвоночника разгорается пламя. Сила наполняла область пупа, затем сердце, а потом волнообразным движением устремлялась вверх. Когда сила подходила к горлу, Девадатта произносил «Аум», но… В последнее мгновение он всякий раз терял сознание.
— Тебе пора прекратить упражнения, дабы вкусить сладость успокоения, — продолжал Сиддхарта. — И потом, почему бы тебе не заняться учениками? Ты уже можешь многому научить.
— Зачем мне это?
— Праведный в поведении, исполненный глубоких мыслей, шраман обязан делиться знаниями со всяким, алчущим их приобретения. У нас в Велуване две сотни отшельников, но многие не умеют даже правильно сидеть, не то что входить в углубленное созерцание. Почему бы тебе не напоить знанием саженцы их бытия?
Девадатта молча разглядывал свои ступни. Кожа на подошвах огрубела, а ногти отросли и загибались, как у злого духа кушманды.
— Возможно, именно здесь и корень твоих неудач, — промолвил Сиддхарта. Он встал и отряхнул дхоти от налипших белых песчинок. — По законам лесной науки только тот, кто поставил ученика на свою ступень, может шагнуть еще выше.
— Это правда? — поднял голову Девадатта.
Глаза Сиддхарты, черные, как у богини Кали, блеснули.
— А я когда-нибудь тебе лгал?
В Велуване была только одна хижина, и Девадатта делил ее с учителем; он был двоюродным братом Сиддхарты и его постоянным спутником. Однако для учеников он был загадкой. О чем он думает? Как далеко он продвинулся в постижении Истины, возвещенной Сиддхартой? Почему он так мрачен и молчалив?
Когда Девадатта подсел к группе молодых отшельников, оживленно беседовавших под сливовыми деревьями, их разговор тотчас утих. Молчание прервал Кокалика, худосочный юноша из касты слуг-опахальщиков:
— И что же дальше, Яса? Ты ушел из дому?
— Еще бы, — снисходительным голосом сказал Яса. У него было довольное круглое лицо. — Тогда я уже сам сочинял песни. В Бенаресе у нас большой дом со множеством слуг. Как-то ночью я проснулся; в доме все спали, у певицы изо рта тянулась струйка слюны, а музыкант храпел, держа в руке зеркало. Мне стало тошно, словно я наглотался кусков тростника для вызывания рвоты. Зная, что отец станет искать меня по следам сандалий, вышел из дома босым. На рассвете я добрался до оленьего парка, где нагие Махавира и Гошала, обнявшись, пели о карме и воздаянии…
Девадатта почувствовал, что пора вмешаться.
— А кто из вас знает, что такое карма? — спросил он.
Ученики недоуменно переглянулись.
— Карма — это деяние или поступок, — объяснил Девадатта. — А еще это любые помыслы… одним словом, все, что имеет последствия. Совершенствуясь путем страданий, предписываемых нам кармой, мы то освобождаемся от материи, то вновь в нее погружаемся.
Никто не заинтересовался этим витиеватым рассуждением, а Кокалика ткнул локтем Ясу и нетерпеливо спросил:
— Так что же дальше? Ты стал джайном?
— Да, и целых три лунных месяца странствовал с Вардаманой. С ним и Гошалой. Джина-Махавира доверял мне подметать траву, но потом я разочаровался в его учении.
— Сын богача стал подметальщиком? — засмеялся Кокалика.
— Зато не опахальщиком, — парировал Яса. — Если хочешь знать, у Джины-Махавиры сердце садху, сердце святого. Он переживает за самую ничтожную букашку. Прежде чем он садился, я подметал траву павлиньими перьями. Джина-Махавира говорил, что причиняющий вред насекомым умножает свою карму, а Гошала учил, что раздавить жука — все равно, что убить родного отца.
— А верно, что Махавира и Гошала поссорились? — спросил кто-то.
— Еще бы, — усмехнулся Яса. — Они схватились из-за плодов хлебного дерева. Гошала говорил, что плоды нужно подержать у огня, чтобы маленькие жучки, которые в них живут, смогли выползти наружу. А Махавира не позволял разжигать костер, потому что в пламени сгорают всякие мошки, букашки и мотыльки. В пылу спора Гошала нагнал на него лихорадку, но Махавира почувствовал это, прочитал заговор, и лихорадка вернулась к Гошале. К утру Гошала умер. У Джины-Махавиры оказалось больше магической силы иддхи!
Девадатта встрепенулся.
— Иддхи — это энергия, — сказал он. — Она входит сначала в голову, потом в сердце, потом в область пупа, потом еще ниже… Она движет всем живым на свете. Даже лебеди, путешествующие тропой солнца, держатся в небе с помощью иддхи.
И снова почему-то повисло молчание.
— Чтобы обрести иддхи, нужно быть упорным и вдумчивым, — продолжал Девадатта. — Упорным, как… — Он замолчал, подыскивая подходящее сравнение. — Как слон. Да, отшельник должен быть похож на слона. На слона, у которого из висков выделяется едкая жидкость. Такой слон, даже связанный, не ест ни куска.
— А как ты разочаровался в учении джайнов, Яса? — спросил Кокалика.
— Ну, однажды я плохо подмел траву, и… Джина-Махавира, садясь, раздавил улитку, которая пряталась под листом лопуха. Он пришел в ярость и сказал, что я — убийца улитки, а убийца улитки не может быть джайном. Тогда-то я и разочаровался в нем.
Все засмеялись, и громче всех — Кокалика.
— Ну, Яса! Ну, хитрец!
— Махавира же просто выгнал тебя!
Круглощекий сочинитель песен улыбался, нисколько не опечаленный тем, что его вывели на чистую воду. Девадатта встал и, ни с кем не прощаясь, побрел прочь. Его проводили равнодушными пустыми глазами.
Он забрел в самую чащу, в темно-зеленую сырость, и гигантская крыша из листьев, сквозь которую почти не пробивались солнечные лучи, сомкнулась над его головой. Под этой крышей росли деревья и пальмы поменьше, а также кусты и тенелюбивые травы. Здесь царил удушливо-влажный полумрак, ползучие растения обвивали стволы и переплетались, стоял дурманящий запах орхидей, качались длинные стебли джали. Девадатта не видел птиц, скрытых в высоких кронах, но слышал их гомон и пение.
Уход из Бенареса круто повернул поток его жизни, в которой раньше все было так понятно, ясно и определенно. В той давней, уже начинавшей забываться жизни, был родной город, отцовский дом, состязания юношей-кшатриев, слоновник и Амбапали. Как получилось, что он отказался от всего этого? События последних месяцев — мучительные беседы с Кашьяпой, неожиданное участие Сиддхарты, их совместное путешествие по землям маллов и личчхавов, дни, проведенные в созерцании в Паталигаме, проповеди в местах священных омовений, шум площади перед тюрьмой — все это оживало в его памяти. Кто же он теперь? Шраман, как утверждает Сиддхарта? Но если он шраман, то почему, открыв в себе энергию иддхи, не в состоянии сделать следующий шаг вперед? Почему он не чувствует себя ни учеником, ни учителем? Почему до сих пор не смог выйти из тела? Может быть, у него нет души, а только зачаток ее? Или Сиддхарта лукавит, и выйти из тела невозможно?..
Впереди был мутный ручей с зарослью бананов у самой воды. Распугав уток, Девадатта перешел его вброд и выбрался на тропу, утоптанную ногами слонов. Он знал, что тропа выведет его к лесному озеру, а оттуда — рукой подать до Велуваны.
А может быть, ему стоит вернуться домой? Он почти год провел в отшельничестве; никто не упрекнет его в малодушии. Конечно, он не научился магическим трюкам, зато теперь он способен хоть три стражи подряд рассуждать о сансаре, о страдании и воздаянии, о добре и зле… У него хватит сил поспорить даже с придворным жрецом или с Амбапали. Да, с Амбапали… Но он так свыкся со шраманской жизнью! Он давно уже не стрижет волосы и ногти, носит на бедрах пыльную повязку, не встает перед брахманами и не удивляется, когда люди кланяются ему и вытирают его ступни краем своих одежд. Сиддхарта научил его по-другому смотреть на мир.
Уже подходя к озеру, Девадатта заметил яму, прикрытую ветками, назначение которой ему было отлично известно. Неподалеку от ямы, у корней пиппала отдыхали люди в одеждах погонщиков. Юноша тотчас вспомнил хитрость, с помощью которой приручают дикого слона. И он подумал: а вдруг Кашьяпа и Сиддхарта разыграли перед ним представление, словно два махаута? Мысль была остра, как укол дротика, и Девадатта остановился.
— Что, святой человек? Не видал, как ловят слонов? — усмехнулся кто-то из погонщиков.
— Слонов? — переспросил Девадатта. — Как ловят слонов, я знаю не хуже вас…
Махауты засмеялись.
— Ну, а коли знаешь, так может и поймаешь? А то мы уже умаялись с нашим красавцем.
— Может и поймаю, — мрачно согласился Девадатта. — А что за красавец?
Погонщики, не переставая шутить, рассказали ему о Налагири, белом в пятнышках бурого цвета слоне, любимце раджи Бимбисары. Это был самый крупный слон в Раджагрихе, сметливый, бесстрашный и добродушный. Как-то радже вздумалось прокатиться, но Налагири почуял запах слонихи и помчался, не останавливаясь. Бимбисара схватился за ветви дерева, а слона и след простыл. С того дня Налагири вернулся к дикой жизни, но раджа не желает мириться с его потерей, и теперь махауты каждый день караулят слона в лесу.
— Мы вырыли уже вторую яму на этой тропе, а что толку? — толковали погонщики. — Налагири ходит с длинным бревном в хоботе. Этим бревном он тычет перед собой, проверяя землю. Ну как, святой человек, поймаешь такого слона?..
Не обращая внимания на смех махаутов, Девадатта обошел яму и быстро зашагал к Велуване. Нет, это невозможно. Человек, в жилах которого, как и в его собственных, течет кровь древнего раджи Махасамматы, не лжет. Сиддхарта не обманывает его, если только не обманывается сам. Но может ли Сиддхарта ошибаться? Сиддхарта, который сделал жрецов-атхарванов своими послушными учениками? Сиддхарта, которому внимали сотни людей в Раджагрихе?
Вихри видений проносились перед Девадаттой. Он был улиткой, сидящей под листом лопуха, потом леопардом, упруго бегущим по мокрой от росы опавшей листве, потом слоном Налагири, белым крапчатым слоном, высоко поднявшим хобот клуне… Да, он был слоном! Он изо всех сил пытался дотянутся хоботом до луны, он знал, что луна — гладкий сверкающий череп, который дает магическую силу и власть над духами. Ему почти удалось достать луну, но ее вдруг заволокло облаком дыма. Нет, это было не облако, это были летучие демоны-ракшасы. Черные, краснорожие, мордатые, они обернули луну синим плащом и теперь дрались за право нести ее. «Оставьте луну!» — хотел затрубить Девадатта, но не смог, потому что был уже не слоном, а лодкой, изогнутой лодкой. Он качался на волнах, а река кишела огромными рыбами, змеями, ящерицами и толстыми карликами-якшами с хвостами вместо ног. Было темно, и он ничего не видел. «Куда же подевалась луна? Или ракшасы все-таки украли ее?» — подумал Девадатта. Завернутый в белое полотно, он лежал на погребальном костре из манговых поленьев, обложенном вязанками хвороста. «Если подкладывать кизяк, костер не потухнет», — сказал уверенный низкий голос. К Девадатте приблизился человек с горящим пучком джутовой соломы. «Ты плохо подмел траву! — сказал он. — Кто плохо подметает, тот недостоин одеянья отшельника». — «Не поджигай меня!» — взмолился Девадатта. Сиддхарта засмеялся и пригладил усы. «Только мышь поджимает лапки, — сказал он. — В следующей жизни ты родишься мышью, мой брат».
Девадатта проснулся в бамбуковой хижине на подстилке из травы куша. Что за нелепый сон? Им овладело тягостное и томительное чувство. Казалось, в этом сне было нечто важное, но он не мог понять, что же именно: нить мысли рвалась, ускользала. Девадатта подумал о слоне Налагири, который ходит, ощупывая тропу бревном. Потом ему вспомнился рассказ того юноши, Ясы. Да, ученик джайнов тоже родом из Бенареса. Перед глазами Девадатты возникла яма, накрытая ветками и травой. Ловушка. Слон и махауты. Бенарес.
И вдруг его с силой потянуло вниз, в землю. «Аум!» — выдохнул Девадатта и вдруг Ощутил толчок. В следующее мгновение ему стало легко — это было внезапное, резкое освобождение.
Девадатта оказался во тьме. Далеко впереди горел крохотный огонек, размером с наконечник стрелы, не больше. Девадатта устремился к нему. Вблизи огонек оказался изящной серебряной лампадой; юноша увидел раскрытые сундуки, сосуды, ковши, корзины, плетеные опахала на длинных ручках и кувшины с водой из мест священных омовений. В углу был поднос с притираниями и шафраном, а рядом, прислоненная к стене, стояла рама, перетянутая веревками, — на такую раму, ложась спать, кладут циновку. Циновки, на любой размер и вкус, валялись тут же. Посреди всего этого хаоса орудовала толстогубая девка-рабыня. Стоя на коленях, она рылась в ларце, перебирая шелковые ткани. На ее лице, покрытом росинками пота, плясали блики света от масляной лампады.
Приблизившись к рабыне, Девадатта шлепнул ее ладонью по жирной спине. Девушка испуганно подняла голову, прислушиваясь, но потом снова занялась своими тканями.
— Поди-ка сюда, Чинча! — позвал кто-то из дальних покоев.
Девадатта узнал голос — это был голос Амбапали.
ЧАСТЬ ВТОРАЯ
Глава VIII
БЕНАРЕС
— Поди-ка сюда, Чинча! — повторила Амбапали.
В шелковой накидке цвета алой сливы и поясе из золота она полулежала на ложе, ножки которого изображали спящих львов. На столике из бука стояла клетка с попугаем — светло-зеленой птицей с массивным коротким клювом и красным ожерельем вокруг шеи. Амбапали была возбуждена, ее щеки горели от бетеля, и даже сандаловые умащения не могли скрыть румянца.
— Ты зажарила зерна в меду, как я просила, Чинча?
— Да, госпожа.
— Принеси… И яблоки с орехами. Джина голоден.
Амбапали повернулась к жрецу, сидевшему на скамье подле нее. Седые усы, заложенные за уши, и широкая борода этого старца сделали бы честь самому Пушану — богу, знаменитому своей исключительной волосатостью.
— Мой Джина — самый умный попугай в Бенаресе, — сказала танцовщица. — Когда я выпускаю его из клетки, он садится мне на плечо и перебирает клювом волосы. Еще он пощипывает мне мочки ушей, но так осторожно!.. Однако вернемся к нашей беседе, дорогой брахман. Ты поведал мне о карме и воздаянии. Я готова согласиться с тобой: зло берет начало из злых дел, а добро произрастает из добрых. Но объясни мне, как возникло первое зло? Когда-то же оно возникло? И кто его совершил?
Брахман пропустил бороду между толстых коротких пальцев и важно сказал:
— Ты права, Амбапали. Зло и вправду однажды возникло. Его совершил Дакша.
— Поведай мне об этом, достойный.
— Это случилось давно, на исходе Золотого века. У Дакши было двадцать семь дочерей, и они были богинями созвездий лунного неба. Перед тем как отдать дочерей Соме, Дакша преследовал их нечестивыми домогательствами и однажды, обратившись козлом… э-э… овладел одной из них, принявшей при этом вид антилопы.
Амбапали всплеснула руками.
— Как опрометчиво, как необдуманно поступил Дакша!
— От этого соития родился Рудра, рыжий вепрь небес, покровитель скота и отшельников, бог грозы, смерти и разрушения…
Жрец рассказал о том, как мрачный и свирепый бог скрылся в далеких северных горах, в дебрях, полных тигров и обезьян. В облике охотника, одетого в шкуры, красный, с иссиня-черными волосами, стянутыми в узел, Рудра скитался по лесам. Когда боги задумали совершить жертвоприношение, никто не позвал на него Рудру: о нем просто забыли. Пылая гневом, Рудра направился к горе Химават. Концом лука он выбил зубы доброму богу Пушану, хранителю дорог, ослепил Бхагу, покровителя людей, а своему отцу Дакше снес палицей голову. Сколько боги ни искали голову, она так и не нашлась. Пришлось приставить Дакше голову козла…
— С того дня добродетель и счастье поколебались не только в мире богов, но и в мире людей, — объяснил жрец. — Вот почему мы, брахманы, совершаем искупительные жертвоприношения.
— Вы режете козлов в память о Дакше?
— Видишь ли, Амбапали… Лучше, конечно, совершить тройную жертву, закалывая одновременно быка, коня и барана. Однако такая жертва обходится недешево, а у козла раздвоенные копыта, как у быка, грива, как у коня, а величиной он с барана.
— По-твоему, боги не отличат козла от барана?
— Боги будут думать, что перед ними и конь, и бык, и баран, хотя по всем признакам это будет козел. В лице козла приносятся сразу три жертвы, и в этом нет ничего дурного. Гораздо хуже, если народ вовсе прекратит приношения… Как ты знаешь, Амбапали, ворон ночного мрака уже расправил над Арьявартой крыла: люди скупятся на жертвы, не омываются в священных источниках, не соблюдают посты. Кроме того, в лесах расплодились — да поразит их дубина Индры! — грязнорылые патлатые аскеты…
Жрец пустился в долгие рассуждения о том, что мир катится в бездну ада Авичи. Скоро он будет разрушен, и начнется новая кальпа. Сначала великий океан высохнет и дно его обнажится; горы обрушатся, а земля сгорит в жарком пламени. Это будет махапралая, великое уничтожение. Наступит ночь Брахмы, возникший хаос сгустится под воздействием ветра, высушится и, омоченный дождем, превратится в новую землю. Амбапали тем временем, взяв у рабыни блюдо с зернами, орехами и мелконарезанным яблоком, кормила попугая.
— А скажи мне, почтенный, — сказала она, снова поворачиваясь к жрецу. — Вы учите, что человек несет наказание за поступки в прежних рождениях, не правда ли?
— О да.
— И это идет с начала кальпы?
— С самого начала.
— В ту пору все люди были в равных условиях, так? Уже потом, на исходе Золотого века, когда добродетель поколебалась, кто-то выбрал зло, а кто-то — благо. Я права?
— Ты права, Амбапали.
— И тот, кто предпочел благо, стал возрождаться в высших варнах или на небесах?
— Разумеется.
— А кто выбрал зло — в обличье животных?
— Еще в обличье гадов, деревьев и насекомых.
— Согласна. А теперь объясни мне, уважаемый, как жили люди в начале кальпы? Ведь получается, что тогда не было ни злаков, ни плодовых деревьев, ни животных? Что же эти люди сеяли? Как обходились без коров и коней?
Брахман возвел глаза к потолку, словно ожидал увидеть на нем письмена, рассказывающие о том, как жил человек в начале кальпы. Некоторое время он задумчиво гладил бороду, потом пошептал губами и сказал:
— Видишь ли, Амбапали… Во времена Золотого века, когда добродетель еще не поколебалась, жизнь была не похожа на нынешнюю. Разумеется, тогда тоже были злаки, и скот, и плодовые деревья, но в них еще не было духовной материи, которую теперь принято называть душою. Это были бездушные существования.
— Вот оно что… Я не знала… — протянула танцовщица.
Она взяла из вазы финик и стала совать его попугаю. Но попугай уже насытился и проявил равнодушие.
— Хватит о Золотом веке, — решительно сказала Амбапали. — Я слышала, вор мяса становится ястребом, пьяница — молью, а убийца жреца или его сына — ослом. Это правда?
— Пьяница становится молью или ужом, — уточнил старец.
— Допустим. Но неужели каждый осел в прошлой жизни убил брахмана или его сына? Понимаешь, в это очень трудно поверить… Брахманов убивают бхайравы, но они появились совсем недавно. Если бы убийцы жрецов превращались в ослов, боюсь, ослы бы уже перевелись на земле.
На этот раз брахман молчал еще дольше. Ему мешал сосредоточиться попугай, выпущенный Амбапали из клетки: несносная птица порхала над самой его головой.
— Твое рассуждение об ослах не лишено истины, — с некоторым раздражением заметил жрец. — Но ты забыла, что не только деяния имеют значение для будущего рождения.
— Что-то еще?
— В момент умирания жизненная сила человека, прежде рассеянная в дыхании и внутреннем огне, собирается в едином стремлении. Решающим в определении будущего рождения является именно оно. Иначе говоря — последнее желание умирающего.
— Вот как? Ты хочешь сказать, что в момент смерти люди желают превратиться в ослов? Ни за что не поверю. Если бы твои слова были правдой, все рождались бы богами или — на худой конец — раджами. И где бы тогда, интересно, правители брали себе под данных? И кто бы стал по доброй воле крысой или червем?
— Ты недослушала меня, Амбапали. Также очень важно, приносил ли умерший жертвы, чтил ли брахманов, как был погребен. Если его сожгли на берегу Ганги в Бенаресе, соблюдая все обряды, а пепел развеяли по реке, такого счастливца ждет рождение в мире богов, в светлом мире Брахмалоки. Ибо река Ганга берет начало в небе и, совершив свой путь по земле, на небо же возвращается, доставляя туда души умерших.
Говоря это, старец с опаской наблюдал за попугаем. Тот, вцепившись в край вазы, лупил клювом по гранату. Столик из бука уже был забрызган красноватым соком.
— Ты не хуже меня знаешь, что сейчас грозит Бенаресу, — сказала Амбапали. — Воины-победители не трогают брахманов, но они редко проявляют милосердие к тем, кто имел несчастье родиться в моей касте. Недавно я купила дом в Шравасти и собираюсь перебраться туда насовсем. Так ты считаешь, я лишена надежды на лучшее рождение?
— Ну конечно же нет, Амбапали! Даже если ты умрешь в Кошале, обряд все равно можно совершить в Бенаресе. Для этого потребуется сущая мелочь — твое одеяние. Мы прочитаем все положенные правила и сожжем его на костре из сандаловых поленьев. Подобный обряд называется обрядом замещения…
— Понимаю. Как с козлом, который замещает быка, коня и барана.
— Поверь, тебе не стоит печалиться. Ты всегда заказывала много жертвоприношений и была щедрой…
Она вздохнула.
— Беседа с тобой, почтенный, помогла мне стряхнуть с себя пыль горестей и уныния. — Амбапали раскрыла тугой мешочек. — Не откажись принять от меня этот скромный дар — в счет твоих будущих молитв и приношений богам.
Жрец спрятал монеты в тюрбан, соединил ладони и с достоинством поклонился.
— Да будут Небо и Земля милостивы к тебе, благородная Амбапали.
— Пусть окропят тебя небесные воды, богатые маслом, достойный служитель Сомы. Моя служанка проводит тебя.
После ухода жреца Амбапали некоторое время разглядывала в зеркале свое лицо, морщила нос и подмигивала своему отражению. Потом она стала стирать с лица сандаловые умащения.
— Дурак, — пробормотала она. — Еще один напыщенный жадный дурак.
Девадатта все видел, все слышал, но дать знать о себе не мог. Он дотронулся до головы Амбапали, но рука прошла насквозь, как через пустоту, и ни один волосок не шевельнулся от его прикосновения. Он попробовал взять финик из вазы, но ничего не вышло. Потом юноша с испугом понял, что его засасывает в круглое отверстие в потолке. Легко, как дым, он проскользнул в эту дыру. Перед ним смутно, как в тумане, обозначились очертания ночного города, за башнями Бенареса в лунном свете блеснула Ганга, затем показалась знакомая улица с высоким каменным домом. Спустя мгновение он очутился в покоях отца.
Человек, сидящий напротив Амритоданы, отличался гордой осанкой. Он был сухопар и казался молодым, хотя ему, пожалуй, уже перевалило за сорок. На его подбородке не было никакой растительности, а щеки покрывал легкий пушок Волосы, по обычаю кшатриев забранные в узел на темени, были легко тронуты сединой. Это мог быть только вельможа, привыкший повелевать.
— Мой слуга накрыл спину твоему гнедому, — сказал Амритодана.
— Благодарю. Так что передать правителю?
— О, бык-громовержец… Передай, что я сказал «нет».
— Ты отказываешься? Но почему?
Начальник слоновника поправил фитиль у лампы с горящей камфарой. Его лицо, с набухшими под глазами мешками, было угрюмо.
— Потому что дерево удумбара не дает цветов, — твердо сказал он. — Раджа, направляя тебя ко мне, послал тебя за цветком удумбары.
Гость откинулся на спину, положив под голову руки.
— Знаешь, по дороге сюда я остановился передохнуть в Айодхье. Двое кшатриев на постоялом дворе толковали о битве за Чампу. Они говорили, что пальцы лучников-ангов были стерты в кровь, а погибшие лежали вокруг города, как коровьи лепешки на поле крестьянина. И все-таки Чампа не устояла.
— Почему ты вспомнил об этом?
— Не знаю… Может быть, потому, что, въезжая в Бенарес, я увидел редкое зрелище. Все дома в городе освещены сотнями тусклых огоньков. У вас завтра праздник?
— У нас что ни день, то праздник, — хмуро ответил хозяин.
— Что ж, Бенарес — это город жрецов, не так ли?
Амритодана пожал широкими плечами.
— Говорят, Ганга смывает грехи, вот сюда и бредут все, кому не терпится взлететь к небу с дымом священного костра… А наши брахманы греют на этом руки. Однажды я напомнил правителю, что его власть держится не только на гимнах Ригведы, но и на кшатрийских копьях. Знаешь, что он сделал? Повелел устроить для юношей Бенареса день состязаний! Так у нас стало одним праздником больше.
— И даже теперь он не входит в разум?
Хозяин покачал головой.
— Боюсь, светильник его разума лишился блеска и скоро потухнет. Как ты знаешь, освященный купаньем синдхский жеребец был выпущен из Шравасти в сопровождении полусотни кошальских юношей. Не думаю, чтобы на то была воля богов, однако вскоре жеребец уже пасся на наших лугах. И что же сделал наш раджа с человеком, который первый предупредил его о войне? Он назвал этого несчастного торговца пряностями изменником и приказал ему, в подтверждение его слов, достать монету из сосуда с кипящей водой!
— И тот достал?
— Обварил руку. Правда, через пару дней я добился его освобождения.
Вельможа улыбнулся.
— А ты ничуть не изменился… справедливый кшатрий Амритодана.
— Скажу тебе правду: здесь в Бенаресе мы беспомощны, как коровы, у которых привязаны телята, — глухим голосом сказал начальник слоновника. — Что случилось в долине Ганги за последние полгода? Раджа Магадхи треплет царство ангов, как волк — овцу; раджа Вайшали готовится к бою и окунает свой меч в смесь из жертвенной крови и слоновьего молока; раджа Кошалы отстроил крепость и высматривает слабых соседей, как ястреб, парящий кругами… И в это время раджа Бенареса советуется со жрецами, какие кольца носить, чтобы уберечься от злых сил, и собирается совершить возлияние масла из двух тысяч сосудов!
— Клянусь Индрой, откуда такая щедрость?!
— Видишь ли, ему приснился ребенок, скрытый в тайной пещере.
Гость отправил в рот сразу три свернутых листа бетеля.
— И что сказали жрецы? — спросил он, жуя.
— Первый жрец-толкователь предположил, что ребенок — это великий воин, который пока скрыт от мира, но вскоре явится на помощь Бенаресу и обеспечит ему победу. Второй толкователь возразил, что ребенок — это сам правитель Бенареса, а пребывание в пещере означает тайное возрастание могущества и славы раджи. Первый толкователь тут же согласился со вторым, дескать, его слова следует понимать иносказательно: конечно же, другого великого воина, кроме раджи Бенареса, нет и не может быть в Арьяварте… Но это еще не все. В следующем сне раджа оказался в дремучем лесу, где ему встретился голый мальчик, оседлавший льва. Толкователи объявили в один голос, что сон очень благоприятен, ибо мальчик — это сам раджа, а лев с царственной гривой возвещает грядущее величие Бенареса. В третьем сне на мальчике было дхоти, и он преспокойно спал на ветке баньяна. «Дитя ходит нагим, но потом надевает повязку, а царство, повзрослев, облачается в одежды державы, — сказали толкователи. — Твое царство, о раджа, будет великим и сильным, подобно многорукому баньяну из твоего ночного видения. Ветви баньяна — это жертвоприношения, совершаемые нами, брахманами, и каждая из ветвей поддерживает тебя на троне». После столь обнадеживающих знамений раджа обнародовал указ, вдвое увеличивающий число ежегодных праздников, наградил брахманов шелковыми одеждами и вознамерился совершить возлияние масла, какого еще не знали боги.
Вельможа уже хохотал, держась за бока и брызгая во все стороны красной от бетеля слюной. Глядя на него, Амритодана тоже начал смеяться.
— Ты тоже ничуть не изменился, Дхота, — сказал он.
Они помолчали.
— Знаешь, брат, раджа Шуддходана мог послать меня за цветком удумбары, но я бы не сошел с места, — заговорил Дхота, вытирая ладонью губы. — Кровью клянусь, я никогда не прискакал бы умолять тебя о помощи, если бы стране Шака не угрожала беда.
— О, бык! Что еще за беда?
— Сын Прасенаджита по имени Видудабха. Он будет косить врагов, как прошлогодний тростник.
— Видудабха угрожает славному городу Капилавасту? Да неужели? Кажется, ты обнаружил крокодила в чашке воды?
— Но это правда, брат. Кошала наводнена нашими лазутчиками. Кстати, ты знаешь, что Видудабха сын шакийской рабыни?
— Первый раз слышу. Мне говорили, его мать — дочь кшатрия Маханамы из Капилавасту.
— Его мать — дочь кшатрия Маханамы и простой рабыни. Она низкого происхождения. Когда раджа Прасенаджит решил породниться с шакьями, у нашего старшего братца взыграла родовая гордость. Как-никак, шакьи еще никогда не отдавали своих дочерей за кошальцев. Гонцы были настороже, но их провели, заставив поверить, что девушка ела с одного блюда с отцом, а значит, кровь ее чиста. Теперь обман раскрылся, и Видудабха решил отомстить шакьям.
— Ну, до этого еще далеко. Пока еще на троне Прасенаджит, и он угрожает не Капилавасту, а Бенаресу.
Маленькие глаза Дхоты сверкнули.
— Так ты не знаешь? Раджи Прасенаджита больше нет. На троне Кошалы — раджа Видудабха.
— Как? — вздрогнул Амритодана. — Этот раб стал раджой?
— Ты слышал, что военачальником у Прасенаджита был Бандхула? Этот человек имел знак лотоса на пятке и потому считался непобедимым, хотя ни разу не ходил в битву. Боясь его растущей власти, Прасенаджит умертвил Банд хулу и поставил во главе войска Дигху. Но он не знал, что Дигха — дальний родственник казненного…
По словам вельможи, все случилось мгновенно. Дигха вошел в покои раджи — якобы для доклада. В руках новый начальник войска держал блюдо с листьями бетеля, под которыми он схоронил короткий меч. После нескольких сильных ударов Прасенаджит свалился за трон. На следующий день жрецы возвели на престол Кошалы наследного принца Видудабху.
Выслушав этот рассказ, начальник слоновника встал и в задумчивости прошелся по комнате, держась за поясницу рукой. Гость внимательно наблюдал за ним.
— У тебя, кажется, боли в спине?
Амритодана поморщился и не ответил.
— И что же теперь, брат? — спросил он, останавливаясь перед Дхотой. — Они не пойдут на Бенарес?
— Увы. Видудабха не отменил поход, ведь путь войску указан священным конем. Армия уже собирается у южных окраин Шравасти. Недели через три, как и было задумано Прасенаджитом, Видудабха двинется на Бенарес со своими слонами, колесницами, пешими и конными воинами. Потом он поднимет знамя военного похода на землю шакьев. Поэтому я прошу тебя, брат: вернемся в Капилавасту. Шакьям нужны твой меч и твои кшатрийские навыки.
— В том, что радже подсунули дочь рабыни, моей вины нет.
— Не время вспоминать старые размолвки. Да, Шуддходана виноват, и он признает это.
— Нет, Дхота, я не поеду.
— Но почему? Мы разобьем их армию, как брыкающаяся корова — глиняный горшок!
— А почему бы Шудцходане не послать войско на помощь Бенаресу?
— И оставить Капилавасту без защиты? Раджа на это не пойдет.
Начальник слоновника пригладил усы.
— Раджа Шуддходана волен поступать, как ему угодно. Я же не сделаю и шагу из Бенареса.
— Но пойми, меднолобый: Бенарес тебе не спасти!
— Знаешь, Дхота… Если бы эти слова произнес кто-то другой, я развернул бы его туда, откуда он пришел, и дал ему хорошего пинка.
Посланец шакьев рассмеялся, но смех его был невесел.
— О, узнаю брата Амритодану, узнаю его храброе сердце, словно бы покрытое волосами… Однако скажи на милость, как ты намерен сражаться — с вашим-то сновидцем-раджой? Разве ты не знаешь, что при виде правителя, терзаемого страхом, все разобщаются — и советники, и воины, и все подданные? А ваши кшатрии? Проезжая по городу, мне казалось, что они думают только о пышности усов и бород!..
Дхота заговорил о слабости укреплений Бенареса, о недостаточной высоте глинобитных стен, о малочисленности войска, о грозных осадных машинах, о силе кошальской рати. Амритодана оставался невозмутим, словно эти убедительные доводы значили для него не больше, чем сотрясение риса в решете.
— Здесь есть воины, которые думают не только о пышности бород, — заметил он. — Как-то я сказал сыну, что любовь к родине проникает плоть, жилы и кости. Теперь моя родина — Бенарес. Пока птица жизни не покинула гнездо моего тела, я буду защищать этот город.
— Но как ты собираешься его защищать?!
— Ловить ядовитых змей и сажать их в корзинки. Готовить глиняные банки с растительным маслом, которое хорошо горит. А потом сбрасывать все это со стены на головы кошальцам.
— Они сломают ворота.
— Что ж. Я окроплю себя водой Ганги и натру руки до плеч сандаловой пастой. И пусть пожалеют глупцы, что встанут на пути моего Виджая.
Гость из страны Шака долго молчал.
— Да помогут тебе Индра и бессмертные боги! — Немного помедлив, словно бы ожидая, что Амритодана скажет что-то еще, Дхота встал и опоясался мечом. — Ты видел лук, что я оставил у входа? — спохватился он вдруг.
— С двумя изгибами?
— Да. Это составной персидский лук, очень мощный, с тетивой из сыромятной кожи. Бьет в полтора раза дальше обычного. Я привез его тебе, защитник Бенареса.
— Благодарю, — буркнул Амритодана.
— Я думаю, мой гнедой хорошо отдохнул.
Начальник слоновника кивнул.
— О нем позаботились, поверь мне. В моем доме понятливые слуги.
— А твой сын? Я что-то не видел его. Он в Бенаресе?
— Я жду его со дня на день.
Шагнув к Амритодане, Дхота положил руку ему на плечо.
— Прошу тебя: подумай в последний раз. Если все дело в давней ссоре, то ослабь гнев своего сердца, как после охоты ослабляют тетиву. Шуддходана не будет поминать старое. Он примет тебя с радостью.
— У Шудцходаны на конце языка мед, а в корне языка — яд.
— Ты не можешь забыть эту историю с Виджаем?
— Ах, Дхота, Дхота… — Амритодана горько усмехнулся. — Клянусь быком, ну при чем здесь Виджай!
— Брат, ведь я был еще мальчиком, когда это случилось… Я смутно помню, как об этом толковали наши придворные дамы. Значит, виной вашей ссоры… значит, всему виной была она?
Начальник слоновника не ответил.
— Но послушай, брат, она же давно умерла! — заволновался Дхота. — Даже если ты ее любил, даже если Шуддходана перешел тебе дорогу… Ее давно нет, царица Майя умерла на седьмой день после рождения первенца в роще цветущих деревьев сал!
— Тем более, Дхота, — медленно сказал Амритодана. — Я не прощу его.
Глава IX
ВЕЛУВАНА
Снова оказавшись в хижине, он увидел, что его голова сползла с подстилки, шея неестественно изогнута, а кадык торчит кверху. Девадатта попытался войти в тело через ноги, но это ему не удалось. Он пробовал снова и снова, но всякий раз, дойдя до колен, соскальзывал обратно: упругая сила выталкивала его, как бычий пузырь. Сиддхарта преспокойно спал. Девадатта был совершенно одинок, его охватило смятение.
«Отец, отец!» — позвал он.
И тут кто-то ударил его по затылку, и вместе с ударом Девадатта ощутил разлившееся по всему телу чувство тяжести.
— Что с тобой, брат? — спросил Сиддхарта, поднимая голову. — Тебя укусил муравей?
Девадатта прыгал, словно ужаленный змеей, и растирал затекшую шею.
— Путешествие, — сказал он. — Я совершил путешествие.
Услышав о неудачных попытках вернуться в тело, Сиддхарта улыбнулся.
— Я же говорил, у тебя все получится. Тело — это платье, которое мы носим, если, конечно, оно вообще существует. Человек, понимающий это, свободен; его можно посадить на кол — он только улыбнется, ему можно отрубить голову — и он вместе с палачом будет смотреть, как она катится. Но напрасно ты пытался войти через ноги. Древние риши покидали тело через сердце и возвращались через макушку. Впрочем, этот способ я тебе не навязываю: он не вполне надежен, а для начинающего — труден. Мудрые выходят на выдохе и возвращаются с вдохом…
Но Девадатта едва слушал его. Он, как наяву, видел стены Бенареса, невысокие глинобитные стены в семь-восемь локтей. У главных Восточных ворот, касаясь друг друга боками, стояли слоны в железных доспехах. На их спинах, гордо выпрямившись, восседали погонщики, широкогрудые люди, покрытые боевыми рубцами. Позади слонов начинались бесчисленные ряды пеших воинов, и копья в их руках напоминали бамбуковый лес. Он видел колесницы, возле которых стояли лучники, видел всадников на благородных синдхских конях и кошальских ратников в шкурах черных ланей; видел дротики, палаши, тесаки, кожаные щиты, палицы и топоры, видел стяг раджи Видудабхи на бамбуковом древке, огромный белый стяг с темно-синим лотосом. Вся эта военная сила волновалась и колыхалась, как неспокойное море.
— Воздух содержит тончайшие частицы, обязательные для существования всего живого, поэтому дыхание, или прана, — один из основных носителей жизни, — рассуждал тем временем Сиддхарта. — Можно сказать, что прана — это и есть сама жизнь, основная, первичная сила мира. Даже во сне дыхание не оставляет человека, хотя все прочие жизненные силы засыпают, одолеваемые усталостью. Воздух по особым каналам проникает в область пупа, в грудь, в желудок, в мочевой пузырь, в мышцы и кости. Благодаря дыханию совершаются пищеварение, кровообращение, мышление. Лишение воздуха приводит к смерти, и с последним выдохом тело превращается в труп. Иначе говоря, человек жив, пока он дышит. В каком-то смысле сансара — это кругооборот праны, жизненного дыхания…
Девадатта сжал руками виски. У стен города кипело сражение. Он слышал крики раненых, ржание коней, рокот барабанов, рев труб и пронзительное визжание раковин. Раджа Бенареса бежал еще накануне, прихватив казну, и защитников города возглавил шурин правителя — широкоплечий кшатрий с торчащими, как у тигра, усами. Бенаресцы сражались отчаянно. Они скидывали на кошальцев ядовитых змей, лили вниз горящее масло и кипящую липкую патоку, засыпали врагов камнями. Но вот деревянные ворота, разбитые тараном, затрещали…
— Некоторые учителя в Магадхе учат, как стать хозяином своей праны. Как известно, прана проникает в тело тремя путями: через левую ноздрю, через правую, а также через горло. Однако именно через ноздри прана попадает в область пупа, откуда распределяется по всему телу. Поэтому наставники учат затыкать языком горло и дышать одними ноздрями. Существуют специальные упражнения, удлиняющие язык…
…Кошальцы ворвались в Бенарес, и им навстречу выехал пожилой воин из рода шакьев на огромном белом слоне. Могучий красавец слон размахивал цепью с тяжелыми шарами. Виджай расшвыривал нападавших, убивая и раня всех, кто вставал на его пути. От толкотни, крови, летящих стрел он пришел в неистовство и сражался бешено, прокладывая путь к тому месту, где стоял, окруженный ратниками, слон раджи Видудабхи. Амритодана метнул дротик и сразил махаута раджи. Видудабха в страхе закрылся зонтом; начальник слоновника поднял руку с копьем, но туг в спину ему ударила вражеская стрела…
— Поскольку правая сторона человеческого тела наиболее благоприятна, наставники учат вдыхать через правую ноздрю, а выдыхать через левую, причем внимание нужно удерживать на кончике носа. В этих учениях есть горчичное зерно истины, но в целом они подобны цветам с приятной окраской, но лишенным аромата…
— Ты знаешь о войне, Сиддхарта? — тихо спросил Девадатта.
— О какой войне? О войне магадхов и анггов? Или магадхов и личчхавов?
— Нет, о походе раджи Видудабхи на Бенарес. О походе, который вот-вот начнется.
По лицу Сиддхарты пробежала тень.
— Знаю ли я об этом походе? Да, знаю.
— Почему ты мне ничего не сказал?
— Я хотел блага для тебя, Девадатта.
— Откуда ты знаешь, что для меня благо?
Сиддхарта вздохнул.
— Я помню, каким ты пришел в Джетавану. Ты был необуздан в своих чувствах и бесконечно далек от понимания Истины. Теперь ты стал другим, и твой разум уже на пути к развеществлению. Ты почувствовал, что значит жить на ниве благородных стремлений, освободившись от страсти, ненависти и невежества, не имея привязанностей ни в этом, ни в ином мире. Стоило ли мне рисковать, зная, что тебя может унести потоком желания?
Девадатту осенила неожиданная мысль. А что, если навстречу кошальскому войску выйдут шраманы, мудрые шраманы с посохами в руках? Полунагие, обожженные солнцем, косматые? Вот они бредут, бормоча мантры, их много, полторы или две сотни, а впереди всех — Сиддхарта Львиноголосый. Его царственная рука делает властный жест, его голос звенит подобно гонгу. И вот уже неприятельская рать остановлена; Видудабха сходит на землю и низко кланяется, соединив ладони.
— А ты можешь отговорить кошальского раджу, Сиддхарта?
— Я многое могу, но не многое делаю. Тот, кто делает, умножает карму своих деяний, привязывает себя к бытию и застревает в паутине рождений подобно беспомощной, обреченно жужжащей мухе. Тот, кто не делает, кто вкушает сладость успокоения, тот освобождается от желаний. Он смотрит на мир, как на пузырь, и его не видит Царь Смерти. Это куда важнее…
— Чем все войны на земле?
— О да! И что бы ни сделал Видудабха твоему Бенаресу, неверно направленная мысль сделает тебе самому еще хуже. Если твой удел — ложные намерения, ты никогда не достигнешь счастья.
— Мне не нужно твое счастье, — твердо и раздельно сказал Девадатта. — Я не хочу, чтобы погиб город, где я родился, и страна, соль земли которой я ел.
— Ты мог родиться в другой стране и ел бы там другую соль… А что, если бы ты родился в Шравасти? Ты бы сам командовал походом на Бенарес и с той же страстью, с какой говоришь теперь о защите города, говорил бы о его разрушении. Любовь к родине, преданность правителю — это пустые слова, Девадатта. Это слова глупцов, далеких от истины. Да, в этом мире порой случаются войны, но мудрый непоколебим, как утес, и взирает на них спокойно. Мудрый знает: царство внутри него, а собственное «я» — единственный господин. Нет другого господина на троне, Девадатта! Кто еще может быть господином?
— Клянусь быком-громовержцем, — пробормотал Девадатта.
— Пойми, брат: у Видудабхи своя карма, у Бенареса — своя. У каждого из людей своя карма, а их совокупность создает карму народа. Сейчас пришел срок платить Бенаресу, потом придется платить Кошале, но не нам с тобой участвовать в этом.
— Ладно, — сказал Девадатта.
Он наклонил голову и вышел из хижины, не глядя на брата.
День обещал быть знойным; в роще стоял сухой стрекот цикад. Девадатта брел по дорожке мимо кустарника, в котором, словно зонты, торчали невысокие пальмы. Чуть в стороне от тропинки росло гранатовое дерево, и земля под ним была увлажнена розовым соком от расклеванных голубями плодов.
За гранатом был небольшой пруд. Юноша встал на колени и напился пахнущей илом воды. На берегу росли пальмы тала, увешанные плодами, похожими на козлиные черепа, и странные деревья с орехами, напоминающими бритые головы. Здесь красовались цветы патали и бутоны кимшуки, алые, как залитые кровью когти тигра. На пруду был один-единственный лотос, но и тот уже почти отцвел.
Девадатте вдруг вспомнился рассказ придворного жреца о том, как бог Индра прятался в лотосе, когда демон Вритра заточил в своем чреве небесных коров. Каждая из коров была дождевым облаком, и на земле началась засуха. Огромный змей возлег на горах, свернувшись в девяносто девять колец, и боги попрятались кто куда. Светло-русый бог Индра, сын пресветлой Адити, вскормленный сомой, приблизился к Вритре, но змей зашипел и разинул пасть. Трепет объял бога; он убежал на край света и спрятался на маленьком лесном озере в бутоне лотоса. С каждым днем Вритра глотал новых небесных коров и распухал все больше. И тогда сияющий Агни, бог очага и священного костра, понял, что еще немного, и Вритра погубит Вселенную. Быстрый, как мысль, Агни промчался повсюду, отыскивая убежища богов. Он уговаривал их вступить в единоборство с Вритрой, но боги дрожали за свои жизни. Наконец Агни отыскал царя богов. «Я сам знаю, что должен сразиться с ним, — ответил ему Индра из бутона. — Но я боюсь, Вритра проглотит меня». И Агни сказал: «Я никуда не уйду, пока ты не пересилишь свой страх». На следующий день Индра осторожно выглянул из бутона и увидел, что Агни по-прежнему сидит на берегу. Так было и на второй день, и на третий. Тогда Индра вылез из лотоса и сказал: «Я готов». Никто из богов не присоединился к нему, только Агни следовал за ним. Индра не дрогнул и железной палицей рассек змею голову. От громового удара содрогнулось небо, коровы-облака вырвались на волю, и на землю хлынули освобожденные потоки вод…
Совершив омовение, юноша отжал мокрые волосы и решительно зашагал к сливовым деревьям. Девадатта знал, что по утрам Сиддхарта в одиночестве гуляет по дороге, ведущей в Раджагриху, а потом долго не выходит из хижины, предаваясь углубленному созерцанию. Сейчас это было на руку ему.
Никто не обратил на Девадатту внимания: молодые отшельники слушали Кимбилу. Тот рассказывал, что ребенком входил в лавки Раджагрихи и брал себе любую вещицу, которая ему приглянулась. За ним по пятам следовал отцовский раб и платил цену, которую называл хозяин. А когда Кимбиле исполнилось семнадцать, отец, первый вельможа при дворе Бимбисары, вдруг перестал давать ему деньги. Махаматре не нравилось, что его сын либо целыми днями бросает в стену ножи, либо не вылезает из квартала танцовщиц. Тогда Кимбила продал своего ездового слона. Вельможа выкупил его и отдал племяннику. Кимбила забрал у двоюродного брата слона и опять продал его. Отец снова выкупил слона, а он снова продал. И только на четвертый раз отец не стал выкупать слона.
Кокалика, слушая эту историю, вовсю хихикал.
— Потом я пришел к отцу и сказал: «Отец, я продал слона, которого ты мне подарил». А отец мне в ответ — дескать, я правильно поступил, что сказал ему правду. Только по его подсчетам, у меня, мол, осталось еще три слона.
Теперь уже смеялись все.
— Он лишил тебя наследства, так? — спросил Яса.
— А вот и нет, — ухмыльнулся Кимбила. — Тогда еще не лишил. Тогда он дал мне денег на паломничество в святилище Сомы, а я решил позабавиться и взял танцовщицу… Тут отец рассвирепел не на шутку. Но потом он встретил Сиддхарту на берегах омовений и сказал мне: мол, если я проведу полгода в учениках у этого добропобедного шрамана, он о старом забудет. По мне, что Сиддхарта, что какой-нибудь Джина, Каччаяна или даже Ангулимала — все едино. Не люблю я этих заумных речей: деяние, недеяние…
Кое-кто из слушателей вздохнул, другие поморщились. Один лишь Яса благодушно улыбался.
— Ты не отшельник, — сказал Кокалика, с возмущением глядя на сына махаматры. — И ты не магадх. В твоей груди сердце шакалихи. Я лучше вплету в косу шипящую кобру, чем назову тебя другом.
Яса покачал головой.
— Постой, Кокалика! Ты несправедлив, ведь Кимбила стал таким не сразу. Я прекрасно помню день, когда его сердце охладело к шраманской науке… Это случилось вскоре после того, как мы повстречали Совершенного на берегах омовений. Помнишь, мы проходили деревню Колиту? Там Кимбила полез за бананом, и обезьяна — понимаешь, противная маленькая мартышка с желтой клочковатой шерстью и красным задом — расцарапала ему нос.
Дружный хохот заглушил брань Кимбилы. Кокалика долго икал, всхлипывал и утирал слезы. Потом он сказал:
— Расскажи про Махавиру, Яса.
Яса пожал плечами.
— А что тут рассказывать? Это странный человек, Джина-Махавира. Часто он поступает не так, как учит сам…
Девадатта понял, что его час настал.
— Надо же, — обронил он, — совсем как наш Сиддхарта.
После его слов повисло молчание. Правда, теперь это было другое молчание, и лица молодых шраманов обратились к нему. Даже Кимбила уставился на него, тупо разинув рот.
— При чем тут наш учитель? — спросил кто-то.
Девадатта смущенно улыбнулся.
— Ну… просто я подумал сейчас, что мой брат Сиддхарта тоже говорит одно, а делает нечто иное.
Кокалика хихикнул, но остальные были серьезны.
— И что же делает Совершенный? — осведомился Яса.
— Тихо! — Девадатта прижал палец к губам. — Вы ничего не слышали.
— А все-таки?
— Хорошо, я скажу… Но не здесь. Отойдем к холму Гаясиса.
С некоторым недоумением все, и даже Кимбила, последовали за ним. Девадатта чувствовал прилив сил. После ночного путешествия все изменилось. Теперь он знал, что говорить и как говорить, причем нужные слова без всякого усилия рождались в его уме. Все эти молодые шраманы, за исключением Ясы, были магадхами, и он готовился сказать им, что учитель — лазутчик шакьев, тайно готовящий завоевание долины Ганги. Нет, Сиддхарта не просто так проповедует недеяние — он сознательно подрывает устои Магадхи. Когда местные кшатрии станут его последователями, шакьи возьмут Раджагриху голыми руками. «Почему ты рассказываешь нам это? — спросят, должно быть, эти глупцы. — Разве ты сам — не шакья?» — «Я родился в Бенаресе, — ответит он. — Сегодня я понял нечестивые замыслы брата и больше не хочу в них участвовать». Потом он уговорит их последовать за ним в Кошалу, где проповедует мудрый учитель созерцания Кашьяпа из Урувеллы, а потом… потом он встанет на пути Видудабхи и заставит его повернуть назад.
Голос был подобен шуму, с которым воздух вырывается из кузнечных мехов. Так говорил только один человек в долине Ганги, и Девадатта этого человека отлично знал.
— Оставьте нас, — приказал Сиддхарта ученикам. — Это касается только меня и его.
Яса и остальные повиновались. Теперь Сиддхарта и Девадатта стояли друг против друга: два брата, два кшатрия из рода шакьев, два отшельника.
— Кажется, ты собирался оговорить меня? — холодно спросил учитель недеяния. Его глаза покалывали Девадатту. — Или ты забыл, что человек, затевающий злое, недостоин одеяния отшельника?
Сражение было проиграно. Девадатте оставалось одно — покинуть поле битвы с гордым и надменным лицом, как и положено настоящему кшатрию.
— О, бык! — скривился он. — Ты намерен лишить меня повязки на бедрах? Хочешь, чтобы я ушел голым?
— Кто пытается расколоть общину, сам лишает себя благородных одежд… Как ржавчина, появившаяся на железе, поедает его, хотя она из него и возникла, так и собственные поступки приводят такого человека к несчастью. О, в мое сердце словно бы вошло острие! Сегодня ты преступил черту, совершил дурное деяние.
— Что я слышу? — Девадатта повел плечами. Его вдруг охватило злое веселье. — Не ты ли, Сиддхарта, говорил о том, что нужно быть выше представлений о добрых и недобрых деяниях? Не ты ли всегда учил, что они не приносят счастья и не ведут к покою? Мне кажется, в тебе говорит голос страсти, от которой ты так и не избавился. Будь осторожен: человек, не изживший своих страстей, утративший сдержанность, находящий радость в иллюзиях, — такой человек будет унесен потоком желания!
Сиддхарта отшатнулся.
— Ты лоснишься от самодовольства, Девадатта. Так лоснятся только перья на груди попугая. Когда-то ты уверял, что будешь упорным и пойдешь до конца, ты клялся, что смиришь свое «я». Твой ум бродил, блуждая, где ему хочется, как ему нравится, как ему угодно, а я… Я учил тебя сосредоточению, внимательности, углубленному созерцанию… Теперь ты играешь словами и плетешь хитрые сети обмана! Но знай — этим ты подрываешь свой собственный корень. Кто говорит неправду, кто хватает то, что ему не дано, кто выискивает чужие грехи, как камешки в крупе, а свои скрывает, как искусный мошенник несчастливую кость, — тот понесет суровое наказание и в том мире, и в этом… Человек низких деяний будет похищен Марой, как наводнением — спящая деревня!
Девадатта насмешливо улыбнулся. Неужели еще вчера эти движения рук, такие изысканно благородные, имели над ним власть? Неужели его ослепляли эти глубоко посаженные глаза?
— Побереги свои силы для проповеди, достойный брат, — посоветовал он. — Мы ждем паломников из земли маллов.
Сиддхарта вздрогнул.
— Берегись, низкий человек! Жизнь еще перевернет тебя, как кувшин на водяном колесе!
Но Девадатта уже не слушал его, он шагал прочь — прочь с холма Гаясиса, прочь из рощи Велуваны, прочь от учителя недеяния.
Девадатта двигался по тропе, утоптанной ногами слонов. В его голове уже брезжил новый план. План был рискованный, но вполне осуществимый. Сейчас, когда он наконец-то понял себя, для него не было ничего невозможного.
Погонщики сидели на прежнем месте, у корней пиппала, лениво отгоняя ладонями мух. Значит, белый слон Налагири еще не прошел на водопой. Девадатта без лишних слов приступил к делу:
— Дайте мне анкуш и крепкую узду.
— Зачем тебе это, святой человек? — устало удивились махауты.
— Крюк погонщика и крепкую узду, — повторил он. — Не смотрите, что я одет, как отшельник. Я знаю, что делаю.
Девадатта и вправду знал, что делает. В первый раз он побывал в слоновнике лет в шесть. В паланкине отец жевал бетель и рассказывал, сплевывая жвачку на серебряное блюдо: «Слоны — это умные и благородные животные, мой сын. Слон любит сильных погонщиков — сильных и смелых. Если погонщик труслив или слаб, разъяренный слон может убить его, изничтожив ударами ног, хобота и бивней». — «А можно спастись из-под ног слона?» — спросил Девадатта. «Такого я не припомню, — ответил отец. — Но как погонщик укрощает бешеного слона, я могу тебе рассказать».
Этот рассказ и вспомнился теперь Девадатте. Получив от махаутов узду и анкуш на крепкой рукояти, он забрался на пиппал и оседлал толстый сук прямо над тропой. Вид сидящего на дереве отшельника развеселил махаутов, но Девадатте было не до них. Боль в голове, связанная с видением осажденного города, прошла без следа, он испытывал дивное чувство легкости и наконец-то был уверен в себе. Нет, сегодня ночью он не просто узнал, что у него есть душа. Он приобрел нечто большее, его внутренняя сила возросла, у него словно бы приоткрылось внутреннее око. Глядя на погонщиков, Девадатта замечал что-то вроде радуги над головами и верхней частью их тел. Временами ему казалось, что в этой радуге он различает умерших предков каждого из них и здравствующих родных. Еще немного, и он увидит их прошлое, прочитает имена, начертанные в воздухе, словно письмена на пальмовых листьях…
Удача сопутствовала ему. Его дхоти не взмокло от пота, тело не утомилось от неудобной позы, а на тропе уже показался Налагири. На лбу и ушах слона красовались знаки Магадхи, нанесенные киноварью. Погонщики говорили правду: в хоботе слон держал ствол молодой пальмы, ощупывая дорогу.
Девадатта дождался, когда слон окажется под ним, спрыгнул на крапчатую спину и, схватившись за канат, которым все еще была обвязана грудь животного, что есть силы ткнул Налагири анкушем пониже правого уха. Слон выпустил бревно, шарахнулся в сторону и взмахнул хоботом. Махаутам показалось, что сейчас последует сокрушительный удар и с молодым отшельником будет покончено. Но слон, почувствовав анкуш и опасаясь поранить хобот, поступил иначе: он упал на землю и стал перекатываться с боку на бок Об этой слоновьей хитрости Девадатта знал. Держась за канат и кошкой перескакивая с одного бока слона на другой, он стал наносить Налагири уколы анкушем. Борьба была недолгой; смирившийся слон вытянул хобот и затрубил — затрубил оглушительно и в то же время жалобно. Эта была мольба о пощаде, и Девадатта надел на него узду.
— О, благодарим тебя, святой человек! — вскричали погонщики. — Раджа Бимбисара щедро вознаградит тебя!
— Глупцы, — усмехнулся Девадатта. Тяжело дыша, он разворачивал слона, понукая его крюком. — Мне не нужна награда вашего раджи.
Махауты что-то кричали за его спиной, но Девадатта уже гнал Налагири к дороге, ведущей в Раджагриху.
Глава X
ДОРОГА НА РАДЖАГРИХУ
На что он надеялся?
Если бы это случилось год назад, Девадатта просто вернулся бы в Бенарес. Вставая каждый день с рассветом, он добрался бы туда за шесть-семь дней и успел бы погибнуть рядом с отцом, защищая город.
Однако минувший год все изменил. Сейчас Девадатта был другим, он кое-что понял. Сиддхарта, умеющий побеждать толпу своим голосом, своим словом, которое сверкало, как поворот колеса с золотыми спицами, многому его научил. Теперь Девадатта понимал, что отец был прав, слово — это оружие, и он уже точно знал, какие слова нужно произнести, чтобы поход Видудабхи на Бенарес был отменен. Он верил, что у него все получится.
На его пути было только одно существенное препятствие. Этим препятствием был его двоюродный брат. Сиддхарта его плану мешал, но выбора у Девадатты не было, потому что на другой чаше весов был Бенарес, разливы Ганги, родной дом, запах слоновника и пожилой кшатрий Амритодана.
Все сомнения отлетели прочь, как рисовая шелуха. Он будет действовать, и действовать яростно. Если его отцу и Бенаресу будет нужно, чтобы он снова стал кшатрием, он станет кшатрием; нужно будет стать шраманом — станет шраманом. А если понадобится, он постарается быть шраманом и кшатрием одновременно. Главное не менялось — он был Девадаттой из Бенареса, и другого имени у него не могло быть.
О, он очень вовремя совершил свое путешествие вне тела! Теперь он не только знал о войне, он знал, почему отец ушел из Капилавасту, почему всегда недобро щурился, когда при нем говорили о радже шакьев, почему белки его глаз краснели при звуках имени Шуддходаны. Раджа Шуддходана обошел отца, возможно, обманул его, лишил возлюбленной, воспользовавшись правом старшего брата. Девадатте не приходило в голову, что случись иначе, и его самого не было бы на свете. Он думал о другом — о том, что отец был прав, а Шуддходана — нет, и о том, что именно поэтому боги не благословили брак Шуддходаны и царица Майя умерла, родив Сиддхарту в роще цветущих деревьев сал. Слон Виджай был только предлогом, между его отцом и раджой шакьев была давняя, закоренелая вражда, а теперь вражда была и между ним, сыном Амритоданы, и Сиддхартой — сыном Шуддходаны. Он, Девадатта, нес дальше бремя семейной вражды, и он знал, что отец, если бы мог видеть его сейчас, одобрил бы его решение.
Пришло время быть тигром, и он стал тигром. Тигр не сразу начинает подкрадываться, но сначала ударит хвостом по земле. Он, Девадатта, дал Сиддхарте время одуматься, но тот не одумался и помешал ему увести молодых шраманов. А теперь будь, что будет.
Белый красавец слон, в бурых пятнышках размером с чечевичное зерно, мчался по лесной дороге, и его бока уже стали серыми от густой пыли. Девадатта гнал Налагири вперед, понукая его анкушем и царапая чувствительную кожу пониже ушей пальцами ног.
Куда бы ни посмотрел Сиддхарта, все казалось ему постылым — и желтые цветы тамаринда, росшего вдоль дороги, и заброшенное святилище, окруженное зарослями банановых деревьев, и покосившийся столб Индры, сложенный из камней на перекрестке дорог.
«Если уложить мои знания одно на другое, как кирпичи, получится лестница до небес Брахмы, — думал Сиддхарта. — Я знаю, как живет этот мир, отягощенный полуистинами, которые еще хуже, чем ложь. Вконец испорченные, люди стали орудиями своих страстей и соблазнов, и их не оставляют несчастья. Они жадно едят, говорят без умолку, и речь их неприятна. Над ними простерлась тьма невежества, они погрязли в ненависти, лжи, злобности и слабости. Они приходят ко мне, волоча за собой плоды деяний, словно мешки, наполненные камнями. Я наставляю их, я помогаю им, а они, даже облачившись в повязки отшельников, внутри остаются прежними… Я пытаюсь вывести их на Путь, а они огрызаются, как тигрята, которых научили есть мясо…»
Каждое утро он проходил по этой дороге, предаваясь размышлениям о том, что происходило в общине. Но именно сегодня все совершения последних лет казались ему туманными, как сновидения, зыбкими, как тающие в небе облака, и мимолетными, как вспышки молнии.
«Когда, когда я совершил ошибку? — размышлял он. — Не тогда ли, когда он лежал на берегу пруда в Джетаване и рыдал, как ослица, после разговора с Кашьяпой? Да, это так В тот час я почувствовал жалость, и мне захотелось помочь ему. Девадатта напомнил мне Нанду цветом лица и глазами, один из которых серый, а другой — карий, и я позволил желанию войти в свое сердце. Я учил его лесной науке, учил углубленному созерцанию, но он не хотел избавляться от страстей, не пытался отрешиться от самости, и теперь его унесло потоком желания. О, желание… Это лезвие бритвы, намазанной медом, это голова змеи, выглядывающей из сосуда, это огонь, пожирающий человека, словно вязанку хвороста. Желание должно быть побеждено, любое желание должно быть отринуто».
…Громкий топот заставил его поднять голову. Из-за поворота дороги показался слон. Сиддхарта узнал его: это был Налагири. Он помнил, как на спине Налагири выезжал в поле сын махаута, мальчик лет восьми-девяти. Слон передавал мальчику стебли и листья, срывая их хоботом, а тот укладывал их в мешок, и тогда это было самое мирное животное из всех, что когда-либо жили в слоновниках Раджагрихи. Теперь с клыков Налагири спадала желтая пена; слон оглушительно трубил, кольцом сворачивая хобот. Наткнувшись на дерево, Налагири обломал клык, взревел и несся теперь прямо на Сиддхарту. От топота его ног дрожала земля, а с широких висков слона сочилась темная жидкость мада — верный признак слоновьего бешенства.
Сиддхарта мог отступить за дерево, но он разглядел погонщика, и странное оцепенение овладело им. Слон приближался. В руках Сиддхарты было довольно силы иддхи, чтобы две ладони, выброшенные вперед, повергли животное на колени. Он стоял не шевелясь. Перед его глазами встала ухмыляющаяся маска смерти.
— Любое желание должно быть отринуто, — прошептал Сиддхарта.
Глава XI
ВЕЛУВАНА
Он бесшумно двигался по дорожкам Велуваны, и в лунном свете его голова отливала синевой. Он был уверен в себе, он знал, что делать, как себя вести и что говорить, его мозг превратился в отточенный инструмент. Его сила, его воля были собраны воедино, и он знал, что перед ним не устоит никто. Довольно уже было ошибок и поражений, теперь он будет только побеждать. Он представлял себя слоном, подобным Виджаю и Налагири, большим слоном с клочьями пены на смертоносных клыках. Такого слона не сдержать, он мчится вперед, не замечая стрел, выпущенных из лука.
Единственный человек на земле, которого Девадатта опасался, был уже бессилен что-либо сделать. Когда это случилось, Девадатта долго не мог остановить Налагири и промчался дальше по дороге на целую йоджану или две. Он знал, что возвращаться не стоит, но не смог пересилить себя. Налагири был больше не нужен, и он отпустил его. Сердце Девадатты билось, как огонь в тесном очаге, и на обратном пути он несколько раз присаживался и отдыхал. Наконец показалось святилище, окруженное банановыми деревьями, и столб Индры на перекрестке дорог. Девадатта увидел впереди десяток черных как смоль фигур — они хлопотали вокруг тела, распростертого на дороге. Это были ванавасины, темнокожие жители леса, не знавшие ни арийских богов, ни обряда сожжения тел. Девадатта не раз встречал дикарей на пути в Раджагриху, и они всегда отходили в сторону, понимая, что их следы оскверняют дорогу, по которой шествует рожденный дважды. В главный город магадхов ванавасины входили только через южные ворота: указом Бимбисары им был отведен для торговли особый квартал.
«Так даже лучше, — подумал Девадатта. — Они предадут его тело земле».
Два дня он провел в Раджагрихе, отдыхая в доме цирюльника Упали. Это был нескладный человек с широким плоским лицом, спокойный, простодушный и очень медлительный. Девадатта знал его с той поры, когда Сиддхарта произносил проповеди возле тюрьмы. Упали искренне восхищался учением о желаниях, но природная нерешительность помешала ему вступить в ряды аскетов. Зато теперь он пригодился: Девадатта явился к нему усталый, запыленный, с рассказом о том, как разбойники побили его, порвали дхоти и отобрали чашу для подаяний.
Хозяин оказался человеком гостеприимным, и юноша утолил голод и хорошо выспался, несмотря на жару. Упали обрил ему голову; на деньги, одолженные цирюльником, Девадатта купил кожаные сандалии, бритву и пару одежд, окрашенных охрой. Облачившись в темно-красное (это был кшатрийский цвет), он почувствовал себя готовым к новым свершениям.
В Велуване все было тихо. Под деревьями спали отшельники, и возле каждого лежали четки, сито из овечьих волос и чашка для подаяний из половинки кокоса. Внезапно Девадатта услышал говор и смех. Голоса показались ему знакомыми. Ну, разумеется! Это могли быть только они.
Девадатта свернул с дорожки и направился к сливовым деревьям. Яса, Кокалика, Кимбила и еще несколько юношей весело болтали и смеялись. Он обрушился на них внезапно, как божество смертного часа.
— Что за смех, что за радость, когда мир пребывает в огне?! — грозно вопросил он. — Покрытые тьмой, почему вы не ищете света?
Утром все собрались перед бамбуковой хижиной.
Он знал — так и будет. Два дня они ждали Сиддхарту и томились, гадая, куда тот исчез, а потом Яса и Кокалика рассказали о ночном появлении брата Совершенного под сливовыми деревьями. Он понимал, что отшельники — и молодые, и старые — растеряны и недоумевают. И он нарочно долго не выходил, а когда почувствовал, что напряжение за пределами хижины достигло высшей точки, показался на пороге в своем багряном одеянии, с обритой головой и обнаженным правым плечом. Солнце плеснуло светом в его волчьи зрачки.
— Возрадуйтесь, отшельники Велуваны!.. — Девадатта взмахом руки заставил голоса умолкнуть. — Возрадуйтесь, и пусть не удивляют вас праздничные одежды, в которые я облачен… Возрадуйтесь, ибо пришел день, которого мы ждали. Великий день, равного которому не было за последнюю тысячу лет, за всю кальпу…
— Где Сиддхарта? — громко спросили его.
— Сиддхарта? — яростно повторил он. — Как смеете вы произносить это имя? Может быть, это имя вашего друга, с которым вы вчера хихикали под сливовым деревом, словно мартышки? Или это имя вашего брата, вашего любимого брата, который единственный из людей прошел путь, неведомый даже бессмертным богам?
Стало совсем тихо.
— Нет, не Сиддхартой следует вам называть Его, отшельники Велуваны!.. Не Сиддхартой следует вам называть Совершенного, Просветленного и Торжествующего, Архата, уничтожившего привязанность к бытию, Господина, навеки разорвавшего цепи сансары!
Он ронял слова в толпу, словно бросал в трясину тяжелые камни.
— Знайте, шраманы Велуваны: вчера, на исходе дня наш учитель ушел в нирвану… Я был с ним все это время, я дышал с ним одним воздухом, я до последнего мгновения ощущал аромат его божественного дыхания…
— Он умер? — вскрикнул кто-то.
Девадатта обвел глазами настороженную толпу.
— Умер? Нечестивцы! Как могли вы подумать так о человеке, свободном от страстей, устранившем препятствия, разорвавшем ремень, плеть и цепь с уздой, в ком угасла радость существования? Как могли вы подумать так о великом Господине, который освещал наш мир, как луна, освободившаяся от облака? Нет, отшельники Велуваны, он не умер! Вчера утром мы ушли в джунгли; мы набрели на лесной ручей, с зарослью бананов у самой воды. «Здесь, — сказал мне брат, — здесь, на берегу этого ручья я достигну просветления, здесь достигну освобождения от ассав, здесь стряхну с себя остаток земного срока». Вода в ручье была мутной, и утки, крякая, описывали в ней круги, но когда брат совершил омовение, вода стала чистой, как слеза богини Адити, благодаря его дивной силе. Затем он лег под цветущим деревом сал на правый бок, а с веток посыпались лепестки и покрыли его тело…
Толпа внимала ему, она впитывала каждое его слово.
— Я обмахивал его банановым листом; я видел, как Сиддхарта углубился в созерцание, как вошел в первую, вторую, третью и четвертую дхьяны сознания, как достиг пяти степеней достижений и оказался на уровне прекращения страданий и чувства. Затем Сиддхарта прошел обратно через все ступени к первой дхьяне. В это мгновение земля содрогнулась, прогремел гром, и с неба посыпались божественные цветы мандарава и сандаловый порошок. В страхе и благоговейном ужасе смотрел я перед собой, заламывая руки, ибо под деревом сал уже не было моего Господина! И тут с небес послышался голос Брахмы: «Не ищи его на земле, Девадатта, ибо твой брат ушел в нирвану, достигнув конечного освобождения от ассав».
Он помолчал.
— Пусть моя голова разлетится на тысячу кусков, если я хоть что-то утаил от вас. Ибо вчера мне дано было увидеть Великую Славу моего Царственного Брата, ушедшего в нирвану и указавшего всем нам Путь к освобождению от сансары…
О, они были потрясены и напуганы, эти глупцы, эти слепые ничтожества, эти существа, подобные мусору! Они уже верили ему, но Девадатта заметил недобрые огоньки в глазах Моггаланы и двух его друзей, бывших атхарванов. Он знал, о чем они думают. И он продолжал:
— Перед тем как уйти в нирвану, мой брат Сиддхарта преподал мне наставление. Он рассказал, как следует теперь жить нам, его общине. Возрадуйтесь, отшельники Велуваны! Ибо из двух сотен учеников Сиддхарты нет ни единого, кто сомневается в Пути или Способе. Даже самый последний из двухсот вошел в Поток, не подвержен возрождению в страдающем состоянии, и каждому в свое время суждено просветление. «Но один из учеников, — сказал мой брат, — не только вступил в Поток и разрушил трое оков, каковы сомнение, вера в постоянную самость и добрые дела, но и обрел правильное стремление и скоро достигнет архатства… Он давно уже стал моим спутником, давно связан со мною узами дружбы, давно накопил в себе силу иддхи и именно он возглавит мою общину, когда я уйду к вершинам блаженства…» Вы спрашиваете, кто этот человек? Он здесь, среди вас… Его имя Моггалана!
Ход был недурен. Моггалана, уже собравшийся прервать эту напыщенную речь, замер, как олень, пораженный стрелой. Лицо бывшего атхарвана потемнело от удовольствия и стало похожим на перезревший финик.
— Сиддхарта отказался от трона, он бежал от роскоши, избегая всяких бесед с правителями, — продолжал Девадатта. — Однако, перед уходом в нирвану, сердце Господина исполнилось сострадания. Сиддхарта пожелал, чтобы его учение, подобно аромату большого лотоса, распространилось повсюду. Теперь оно должно быть проповедано всем людям долины, от последнего шудры до могучего раджи. Господин сожалел, что, основав первую общину в Джетаване, он не обратил свое милостивое внимание ни на раджу Прасенаджита, ни на царевича Видудабху… Мы должны подарить слово Сиддхарты всем людям Арьяварты, но первым, согласно его пожеланию, учение услышит раджа Кошалы. Каждый из вас волен теперь решать — останется ли он в роще или двинется со мною в Шравасти… О, отшельники Велуваны! Нас ждут великие свершения, и каждому найдется дело. Последние слова моего великого брата были такие: «Подвержены распаду сложные вещи, так что усердствуйте».
Девадатта вдруг почувствовал смертельную усталость.
— Идите, — сказал он. — Идите и думайте.
Старших учеников он пригласил в хижину на совет. Да, его речь удалась, но он понимал, что радоваться пока рано. Нельзя дать им опомниться. Возможно, среди отшельников начнется брожение, кто-то и вовсе захочет уйти. Именно сейчас изолировать пятерых возможных зачинщиков бунта было просто необходимо.
Теперь они, поджав ноги, сидели напротив него — Моггалана, братья Мегия и Нагасамала (у последнего была длинная коса, перевязанная узлами), Яса из Бенареса и Тисса из Шравасти. Тут был и Кокалика, неожиданно пожелавший войти в избранный круг, и приглашенный вчера не без умысла Упали. Долговязый цирюльник, утомленный дорогой в рощу, расположился в углу, колупая ногтем коричневую пятку и всем своим видом показывая, что он человек маленький. Под соломенной кровлей гудела муха; солнечный свет, просачиваясь в щели между бамбуками, узкими полосками ложился на земляной пол.
— На нас пало тяжкое бремя ответственности, — говорил Девадатта. Он сидел, скрестив ноги и выпрямив спину, а его ладони покоились на коленных чашечках. — Погибнет или не погибнет учение Совершенного, зависит от нас. Раньше тем стержнем, вокруг которого все держалось, был мой брат, но теперь Сиддхарта в нирване. Нас может спасти только хорошая организация. Хорошая организация и порядок, подобный тому, который поддерживается в отрядах молодых кшатриев.
— Ты предлагаешь нам стать мальчиками-кшатриями? — прищурился Мегия. — Но кто же будет наставником?
Старый Тисса громко чмокнул губами, Кокалика хихикнул. Девадатта и бровью не повел.
— Кому-то придется расстаться с грязной набедренной повязкой, а кому-то — со змеиными костями и антилопьей шкурой. У нас должна быть одна одежда, яркая и узнаваемая. Посмотрите на мою рясу. У каждого из вас должна быть такая же.
— А как мы купим одежду? — У Ясы вытянулось лицо. — У нас нет денег!
— Мы должны создать сангху, — продолжал Девадатта. — Сангха — это союз аскетов, готовых идти вместе, упорных, сильных, бестрепетных, смиривших свое «я». Только такой союз может обеспечить победу учения Сиддхарты в Арьяварте.
— Клянусь богами на небе и на земле… — начал Моггалана и не закончил.
— Мне кажется, во всей Арьяварте у нас не получится, — заметил Тисса. Старец запустил пятерню в седую шевелюру и почесал макушку. Вниз посыпались мелкие палочки, листики и всякий сор. — Мне кажется, если у нас что-то и получится, то не во всей Арьяварте.
Девадатта сделал рукой нетерпеливый жест.
— Не забывайте: по всей долине, кроме города Бенареса, оскудевают жертвы из масла и молока. Люди не соблюдают посты, отрекаются от вед, не омываются в священных ключах. Скоро жреческую веру сменит шраманская, и в наших силах, чтобы это была наша вера, а не учение Ангулималы.
Все задвигались. Он видел дальше на несколько ходов вперед.
— Мы должны выступать единой силой. Поэтому я настаиваю, чтобы у нас была одинаковая одежда — темно-красная или, на крайний случай, желтая. Конечно, деньги понадобятся, и я попробую их раздобыть…
— Ты будешь грабить купцов по дорогам? — ехидно осведомился Нагасамала.
Девадатта даже не удостоил его взглядом.
— Кроме того, следует брить головы. Это касается всех. Длинные косы и грязные пучки на макушках выходят из моды. Если мы будем похожи на брахманов, оставивших алтари, людям это понравится.
Нагасамала и Мегия запротестовали в один голос.
— Поймите, у нас найдутся враги и недоброжелатели, — устало сказал Девадатта. — Нас начнут высмеивать, нас постараются не замечать, на наших учеников будут нападать. И не забывайте о бхайравах и их вожде Ангулимале. Мы должны быть готовы ко всему. Сейчас каждый из нас носит с собой четки, сито из овечьих волос, зубочистку и чашу для подаяний. Все. Но если мы будем брить головы, это позволит каждому носить с собою еще и бритву. Ясно вам?
— Мне кажется, Сиддхарта учил не так, — нерешительно сказал Тисса. — Мне кажется, Сиддхарта учил так «Нельзя налагать наказания на существа, желающие счастья, ибо…»
— Сиддхарта сам не увидел счастья, — жестко перебил его Девадатта. Наступила тишина, и он добавил: — В этом мире, конечно. Не в мире нирваны, куда он вчера ушел.
Тисса повернулся к Моггалане, но тот уже снимал амулеты из змеиных костей.
— Срединный путь, — сказал бывший атхарван, развязывая узел на затылке. — Сиддхарты нет, но Срединный путь у нас остался. Поступим, как он говорит.
Девадатта кивнул Упали, и цирюльник взялся за дело. Из хижины шраманы вышли обритыми наголо, с сознанием неизбежности перемен.
Ясу Девадатта отправил за Кимбилой. Молодой магадх не сразу понял, чего от него добиваются, но потом ухмыльнулся и согласился на все. Девадатта пообещал сделать его своей правой рукой, если беседа с пратихарой пройдет удачно.
— Есть вещи, о которых можем знать только мы двое, — тихо и значительно произнес Моггалана, когда они остались одни. — Ты понимаешь, о чем я?
— Разумеется.
— С тобой я буду откровенен. — Бывший атхарван скосил глаза в угол. — Сегодня ты рассказал красивую легенду… Ей уже верят. И все-таки я хочу знать — он точно ушел? Может быть, ты расскажешь мне, как это случилось? Был ли это укус змеи или…
Девадатта сохранял на лице озабоченное и серьезное выражение, хотя ему было почти смешно. Неужели он когда-то боялся этого заклинателя крыс и червей? Сейчас Девадатте казалось, что он видит мысли в голове Моггаланы, словно зерна риса на дне ковша. Он положил руку собеседнику на плечо.
— Тебе не о чем беспокоиться, друг. Община в Велуване — твоя.
Моггалана понимающе кивнул.
— И еще — по поводу моего архатства. Я хочу знать, Сиддхарта и вправду это предрек?
— Видишь ли, у моего Царственного Брата не было времени поведать мне обо всем. У него очень быстро разрушались ассавы…
— Ты понимаешь, что ты взял на себя? — нахмурился Моггалана.
— Я все понимаю! — перебил его Девадатта. — Главное, я понимаю, что нашей общине нужен учитель-садху, опытный и мудрый, уважаемый всеми. Такой, как ты.
— Допустим, но…
— Учитель должен быть хорошим магом и хорошим проповедником. Ему предстоит говорить перед толпами людей, смирять недовольных, поддерживать слабых, карать неугодных, вселять силы в колеблющихся. Он должен знать, что происходит за его спиной, и без умения путешествовать вне тела ему тоже не обойтись…
— Вне тела? — удивился бывший атхарван. — Конечно, я слышал, будто древние риши обладали этим умением, однако…
— Древние риши выходили из тела через сердце и возвращались через макушку. Это не слишком надежный способ, мне больше нравится другой, с помощью праны. Ты закрываешь глаза и, стиснув зубы, прижимаешь язык к нёбу, сдерживая вдохи и выдохи. Первое время ощущения довольно болезненные, но уже через несколько недель упорных упражнений у основания позвоночника ты чувствуешь пробуждение силы. Эта сила восходит кверху упругим волнообразным движением, подобно змее. Ты произносишь «Аум» и на выдохе выскальзываешь через собственное горло…
Глаза Моггаланы беспокойно забегали. Узкоплечий, с маленькой обритой головой, сейчас он больше походил на придворного писаря, чем на садху.
— Это очень любопытно, но…
— Для пользы нашего дела мы провозгласим тебя архатом или… Или буддой. Буддой даже лучше, ведь архатов в долине немало, а о Буддах почти забыли. В самом деле, почему нет? Старики еще рассказывают о будде по имени Дипанкара, который творил гроздья чудес и не умирал целую кальпу…
Моггалана прервал его:
— А сколько учеников ты возьмешь в Кошалу?
— Я возьму тех, от кого откажешься ты.
— Пожалуй, мне хватит и сотни.
Девадатта недоуменно воззрился на него.
— Ты удивляешь меня. Сто — это мало. У лотосовых стоп будущего будды должно быть больше монахов.
— Знаешь, откровенно говоря… — Моггалана поскреб бритый затылок. — Я еще не готов.
— Ты боишься?
— Дело не в страхе. Просто мне нужно время, чтобы привыкнуть… к новому положению вещей.
Юноша вскочил на ноги и закружил по хижине, как оса.
— О, дротик богов! О, бык-громовержец! О, кроны смоковниц! — горестно восклицал он, поддавая ногой косу Нагасамалы. — О, лучше бы меня полили кипящим маслом! Опустили в воду по самые губы! Ты понимаешь, что ставишь под удар все? Ты понимаешь, что так можно все погубить?
Бывший атхарван пожал худыми плечами.
— Я не отказываюсь, но…
— Пойми, упрямый ты человек! Общине нужен старший, общине нужен садху, общине нужен учитель! Без учителя община не устоит, как шатер, у которого подрубили канаты!
Моггалана поджал губы.
— А почему бы тебе самому не взяться за это?
— Мне?!
— Почему бы и нет? — уже уверенней продолжал Моггалана. — Судя по твоей утренней речи, тебя ждет успех. Конечно, ты молод, вспыльчив, несдержан, у тебя маловато опыта, но зато и способности налицо! Только что ты очень неплохо провел совет…
Юноша, скрестив на груди руки, молча и серьезно смотрел на него. Моггалана тоже встал.
— Уверяю тебя, я не шучу! Ты здоров, полон энергии, у тебя есть дар убеждения. Кроме того, ты обладаешь силой иддхи и магическими навыками. Клянусь богами на небе и на земле, ты справишься! Как-никак ты его брат?
Девадатта глубоко вздохнул.
— Так бывает всегда, — сказал он. — Всегда! — повторил он. — Мне всегда, всегда достается самое трудное.
Глава XII
ШРАВАСТИ
— А если я велю посадить тебя на кол?
Дым благовоний смешивался с запахом мускуса. Молодой раджа Видудабха в золотой диадеме, тучный, как Ганеша, восседал на троне, отделанном серебром. Его лицо хранило угрюмое и брезгливое выражение, и вельможи, входившие для доклада, раболепно склонялись перед правителем.
Двое слуг овевали Видудабху опахалами из павлиньих перьев, но радже все равно было жарко, и он часто отирал пот со щек и лба. Справа от трона сидели дряхлые старцы-советники, похожие на обуглившиеся стволы, слева — начальники войска в шкурах черных ланей. За троном рдели, подобно лотосам, лица воинов-кшатриев. Воины были в доспехах, несмотря на жару, и каждый держал в одной руке копье, а в другой щит, обтянутый воловьей кожей. Сейчас взгляды всех были обращены на молодого отшельника с обритой головой, который, войдя в зал совета, не только не упал на колени, но даже не закинул на плечо край своего плаща.
Правители Кошалы сурово карали рабов за необдуманные поступки, и советники, зная об этом, молчали. Все помнили, как супруга раджи Прасенаджита едва не утонула на глазах всего двора во время лодочной прогулки по Ганге. По приказу Прасенаджита спасший ее ловец рыб, осмелившийся прикоснуться к царственной особе, был казнен в муравьиной куче.
— Ты волен поступить, как тебе угодно, раджа Видудабха, — отвечал отшельник ровным уверенным голосом. — Но ты имеешь власть только над моим телом — грубым, бесчувственным, бесполезным, как чурбан. Если ты посадишь меня на кол — что же, мы вместе будем смотреть, как мое тело извивается ужом. Если ты отрубишь мне голову, мы вместе поглядим, как она катится.
Удивленный ропот пронесся по рядам воинов и советников.
— Клянусь палицей Индры, ты напрасно бахвалишься своей силой, — сказал раджа. — Да и в чем она, твоя сила?
— Моя сила — в энергии иддхи и созерцании Истины.
— Напрасно ты говоришь дерзко и непонятно. У меня не так уж много терпения.
Молодой шраман осклабился:
— О, раджа! Мой путь, как и путь журавля в небе, труден для понимания. Я не привязан к пище и удовольствию; мой удел — освобождение.
«Освобождение… — подумал Видудабха. — Этот человек как будто знает, о чем я думаю».
На улицах Шравасти уже третий день проповедовали бритоголовые аскеты в одеждах цвета красной охры. Они по-своему излагали уже не новую идею сансары, утверждая, что к освобождению от колеса ведет знание четырех благородных истин и некий таинственный Срединный путь. И все-таки доклады советников настораживали.
Во-первых, Видудабхе не очень-то нравилось слово «освобождение» — в нем слышалось нечто мятежное. Раджа понимал, что несмотря на казнь военачальника Дигхи, его по-прежнему подозревают в сговоре с убийцей отца. Подобные слухи распространялись среди шудр и неприкасаемых, но Видудабха собирался править в Кошале подобно второму Индре, и чернь тоже занимала его мысли. Во-вторых, отшельники в красном, и это было непривычно для долины, не выглядели усталыми и изможденными. Они не ходили голыми, не натирали тело золой и скорее походили на воинов, чем на аскетов. Бритоголовые действовали слаженно, и за их поступками угадывалась чья-то направляющая воля. Они устраивали в городе шествия с пением и танцами; эти шествия привлекали любопытных, а дети бегали за красными монахами гурьбой. Утром у дворца раздавалась странная песня:
И, наконец, в-третьих, сегодня утром из сточной канавы у Западных ворот извлекли труп с перерезанным горлом. Это был Алавака, знаток сказаний о карликах-якшах, фокусник и гадатель, ходивший по городу со связкой павлиньих перьев и слывший человеком слегка поврежденным в уме, но вполне безобидным. Алавака толковал о добрых и злых предзнаменованиях по кулакам, знакам на теле и отметинам в доме, сделанным крысами. В последнее время он увлекся наблюдениями за созвездием Семи мудрецов и выступил с рядом необычных пророчеств. Гадатель предсказывал возвышение Кошалы и Магадхи, причем Магадха, как он утверждал, будет шестнадцать лет воевать с личчхавами, а Кошала подчинит себе Капилавасту и Бенарес. Прямых улик, указывающих на то, что его смерть — дело рук бритоголовых, не было, но один из соглядатаев сообщил, что в дни, предшествовавшие убийству, Алаваку видели в обществе рослого монаха, угощавшего его пальмовым вином.
— Кто ты такой? — грозно спросил Видудабха.
— Мое родовое имя Гаутама, — ответил аскет. — Однако люди называют меня Шакьямуни — отшельник из рода шакьев.
Раджа наклонился вперед и стал похож на хищного предводителя пернатых Гаруду, который изготовился проглотить змееподобного нага.
— И ты, нечестивый шакья, осмелился прийти ко мне? — сказал он, раздувая ноздри. — Или ты не знаешь, что шакьи — враги Кошалы?
— Я знаю не только это, благородный раджа.
Видудабха почувствовал себя человеком, проглотившим раскаленный шар. И он не ослышался? Негодяй здесь, в зале совета, смел напомнить о его низком происхождении!
— И ты думаешь, дерзкий, что уйдешь отсюда живым?
— О, разумеется. А еще я думаю, что твой трон пока еще дорог тебе, и поэтому сейчас ты прикажешь своей челяди оставить нас одних.
Тишина была такая, что Видудабха слышал, как дышат воины за его спиной. Раджа колебался. Самое простое, что он мог сделать, — это немедленно посадить отшельника на кол. Но спокойствие Шакьямуни настораживало; кажется, он и вправду знал нечто такое, что было еще неизвестно ему, радже Видудабхе.
— Если ты — заговорщик и пришел убить меня, ты просчитался, — сказал он. — Стрелы моих лучников пронзят тебя раньше, чем ты сойдешь с места.
— Я не заговорщик, — усмехнулся отшельник. — Я пришел, чтобы спасти тебя.
Искусство поединка на мечах состоит в том, чтобы взорваться в самом начале схватки каскадом молниеносных ударов, и победа достанется тому, чей натиск яростнее и продолжительнее. Защитным действиям наставник Девадатты отводил меньшую роль — кшатрий либо сокрушает врага, либо гибнет. Словесному бою юношу не обучали, но он полагал, что главное не меняется и здесь. Даже не взглянув в сторону воинов с поднятыми луками, он заговорил о том, что знамения неблагоприятны, а положение созвездий на спине небосвода внушает тревогу. В лесах Кошалы воют шакалы и раздаются трубные звуки слонов, а в ночном небе взошла звезда Пушья, предвещающая засуху. Скоро листья побуреют, ручьи и водотоки исчезнут, земля потрескается; кукушки, горлинки, воробьи и прочие птицы, что вьют гнезда на деревьях, бездыханными попадают у корней. Клинки станут плавиться в ножнах, в войсках начнется брожение, а полководца постигнет острое страдание, повреждение тела или тяжкая болезнь, безумие.
— Твой поход, о раджа, погубит Кошалу… Ты похож на человека, который, желая пересечь реку, зовет к себе другой берег. На севере — шакьи, на юге — Бенарес, а ведь есть еще и Магадха! Я бывал в Раджагрихе и знаю, как укрепился Бимбисара. Недавно он смирил ангов, и Ганга в его руках — от устья до деревни Паталигамы, где он возводит крепость против личчхавов. Если ты обескровишь себя в войне с Бенаресом и шакьями, правитель магадхов внезапным ударом сокрушит твою силу…
Видудабха угрюмо слушал отшельника. Да, старцы-советники предупреждали его о такой возможности. Раджа понимал, что все нижнее течение великой реки оказалось под властью магадхов. Среднее течение было за Кошалой, но вопрос о том, кто станет хозяином всего торгового пути, стоял весьма остро. В Раджагрихе об этом знали не хуже него.
— Если ты пришел устрашать меня, ты умрешь.
— Я пришел, чтобы предложить тебе трон Арьяварты.
«Он сумасшедший», — пронеслось в голове Видудабхи.
Отшельник усмехнулся.
— Не думай, что я безумен. С моей помощью ты возьмешь власть в долине Ганги. Возьмешь без войны, голыми руками.
Раджа вздрогнул, словно на его тень наступила нога неприкасаемого. Ему снова показалось, что отшельник проник в его мысли.
— Клянусь палицей… Разве такое возможно?
— И это слова того, кто хочет уподобиться Индре?!
Шраман заговорил о том, что долину ждут перемены. Старая вера уже расползается, как ветхое дхоти, и скоро сосуд брахманского учения будет разбит, как чашка из необожженной глины. Учение жрецов служило только варне жрецов; брахманы были подобны строителям, которые возводили лестницу, но не знали, где будет дворец. Они горделиво утверждали, будто произошли из головы первого человека Пуруши, но собственные головы подвели их. Ныне по всей Арьяварте оскудевают жертвы. Алтари, священные веды, выжимание сомы — все это будет прочно забыто…
— Ты спрашивал, кто я такой? Год назад я был учеником отшельника, а теперь возглавляю сангху — могущественный союз шраманов. Наша сангха не признает варн и племенных различий. Среди нас бывшие кшатрии, брахманы, вайшьи и шудры. Мы вхожи повсюду; люди почитают нас, как святых, и краем одежд вытирают нам ноги. Каждый из нас прячет в складках плаща острую бритву, но наше главное оружие — слово. Мы действуем, как умное растение малува, которое оплетает дерево сал и губит его. Когда мой двоюродный брат проповедовал в Раджагрихе, там перестали вывозить мусор, потому что мусорщики-шудры стали его учениками!
«О, шудры… Это худшие из двуногих», — подумал Видудабха и сказал:
— Продолжай, отшельник.
— Мы утверждаем, что все в этом мире приносит страдание. Рождение и старость, болезнь, неутоленная страсть, соединение с немилым, разлука с милым — все приносит страдание. Источник страдания — стремление к бытию, ибо именно оно заставляет перерождаться. Однако освобождение возможно, и мы учим юношей побеждать тягу к женщинам, купцов — к накопительству, брахманов — к ведам, воинов — к воинским упражнениям, поскольку все это желания, приводящие к новым страданиям. Некоторые из нас обладают магической силой, и люди охотно слушают наши проповеди…
Кажется, Видудабха начинал понимать. Перед ним был один из этих святых людей, садху, опасных всезнаек, которых почитают в народе, потому что у них хорошо подвешен язык и всегда наготове несколько фокусов. Когда-то, еще мальчиком, он видел знаменитого садху. Это был кривоногий человечек в повязке из слоновьей кожи, рыжий, с торчащими зубами. В месяц вайсакха он каждый день давал представление на рыночной площади Шравасти. Бросив в небо веревку, садху приказывал своему помощнику, миловидному мальчику в тюрбане, взбираться по ней. С ножом в руках колдун лез за ним и сбрасывал вниз тело, рассеченное на куски. Затем садху спускался на землю, собирал окровавленные куски плоти, и вот уже мальчик вскакивал, раскланивался, а потом обходил толпу с глиняной миской, собирая щедрый урожай подношений. Кто-то из старших объяснил тогда Видудабхе, что мальчик с начала представления лежит на земле, прикрытый платком, а люди видят то, что внушает им чародей. Другого садху Видудабха наблюдал однажды у Южных ворот. Это был долговязый старик, ехавший на осле, подобрав ноги, чтобы они не волочились по земле. Под ноги ослу с лаем кинулся пес; садху взмахнул рукой, и пес перевернулся в воздухе. Упав на спину, он заскулил и тут же бросился прочь, поджав хвост. Видудабха знал цену показному смирению честолюбцев-садху, но стоящий перед ним аскет — и это было странно — не строил из себя святошу.
— Люди, которым мы внушим нашу дхарму, станут послушными орудиями в наших руках, — продолжал отшельник. — Эта власть крепче любой другой, построенной на страхе, казнях и кшатрийских мечах. Мы объясним, во что верить и над чем смеяться, кого считать мудрым, а кого сумасшедшим, что любить и что ненавидеть… Даже кувшин наполняется от падения капель; еще несколько лет, и мы обратим в свою веру не только шудр, но крестьян и ремесленников, кшатриев, брахманов, женщин. Да, и женщин тоже, ибо от них зависят поступки мужчин! Для женщин мы создадим свои общины. Наконец мы убедим всех, что желать ничего не нужно, что любая страсть — губительна и мешает освобождению, что жизнь — лишь пузыри на поверхности Ганги. Тогда ты воцаришься легко.
— Почему я должен верить тебе?
— Как и ты, я заинтересован в победе. Ты хочешь кшатрийской власти, я же хочу другой власти — шраманской. Прежде чем напасть на деревню, враг старается погубить священное дерево, растущее у ворот. Полководцу нужны сильные духом люди, которые погубят священное дерево. Ты полководец, я же готов взяться за дерево раджи Бимбисары.
— Не высоко ли ты хочешь взлететь, отшельник?
— Пчела может родиться в дупле, но она любит мед, собираемый с лотоса. Я — отшельник, но в моих жилах течет кровь древнего раджи Махасамматы.
Видудабха задумался. В словах этого человека, без сомнения, было зерно истины, и это зерно было побольше горчичного. Раджа знал, что крысы погубили запасы рисовой муки в амбарах Кушинара — это произошло после того, как в земле маллов побывал садху по имени Вардамана. Воодушевленные его проповедью, служители перестали уничтожать грызунов. Другое примечательное событие случилось в Айодхье, втором по значению городе Кошалы. Там появился некий молодой садху по имени Пурана, известный тем, что разрешал убийство людей, но запрещал есть слоновье мясо. Пурана собрал толпу юношей-кшатриев на священной площадке, где лежали камни, считавшиеся сиденьями Пушана, Дакши и Сомы. Встав на камень Дакши, садху произнес речь о том, что в любом добродетельном поступке нет заслуги, а в самом серьезном преступлении нет вины. В ту ночь в Айодхье, не считая квартала танцовщиц, пострадали четыре лавки, в которых продавалось пальмовое вино.
— Ты очень неглуп, — заметил Видудабха.
— В ком Истина, тот излучает мудрость, — с достоинством сказал отшельник.
— И ты готов проповедовать в Магадхе?
— Мы уже проповедуем в Магадхе, и сам махаматра благоволит мне. Его сын носит за мной одежды и чашу. Неподалеку от Раджагрихи я основал общину — впрочем, не с таким размахом, как мне бы хотелось.
— А если ты погубишь священное дерево в моей стране?
— Ты прав, я могу это сделать. Жители Шравасти уже поют наши песни. Но если ты оставишь в покое Бенарес и Капилавасту, я уйду из Кошалы.
Видудабха усмехнулся.
— А если я прикажу схватить тебя? Если я прикажу перерезать аскетов, одетых в красное?
Шакьямуни поморщился.
— Тогда ты отправишься к Царю Смерти вслед за отцом. Ни чернь, ни рожденные дважды не потерпят правителя, который избивает святых людей, навлекая на страну гнев богов.
«Клянусь палицей Индры, он прав, — с какой-то глухой тоской подумал Видудабха. — Говорят, на юге есть садху, которые хватают слонов за уши и, играючи, прижимают животных к земле. Должно быть, это один из них. Он не просто смел и решителен, он чувствует свою силу и потому опасен, как отравленная стрела. Положишь такую стрелу в колчан, и стрела оставит там частицу своего яда».
По знаку раджи воины опустили луки.
— Чего ты добиваешься, шраман?
— Бенарес — мой родной город, и я не хочу, чтобы он пострадал. А чего я добиваюсь… Когда-то мне нравилось объезжать слонов, и я думал, что буду махаутом. Теперь я наставляю народ, и с успехом. Люди в долине очень легковерны. По дороге сюда, в Кошалу, они воздавали мне почести, словно богу, только потому, что я шел впереди поющей толпы, наряженной в красное. Когда мое учение победит в Арьяварте, я стану первым шраманом долины, Великим Шраманом, Маха Шраманом. Мои ученики воздвигнут храмы и монастыри. Мы создадим школы и будем воспитывать мальчиков в духе нашей учености. Это будет одно непрерывное завоевание! Колесо нашего учения покатится по всему миру, подминая царства одно за другим. И тот, кто покатится вместе с нашим колесом, не пожалеет об этом.
— Ты безумен, или…
— Тебя беспокоит цена? Учитывая, что я помогу тебе одолеть Магадху, цена невелика. Ты оплатишь строительство монастырей, через которые мои ученики будут распространять дхарму — выгодные нам обоим взгляды и нормы поведения. Для меня это будут монастыри, но ты можешь называть их крепостями. Подумай сам, кто еще предложил бы тебе такое? Через несколько лет ты получишь опорные пункты в Магадхе и будешь диктовать Бимбисаре свою волю.
Видудабха задумался. Его отец, раджа Прасенаджит, превратил столицу Кошалы в настоящую крепость. Раджа любил повторять, что «крепкие стены — залог победы над врагами». Однако то, что предлагал теперь этот садху, было куда неожиданнее и открывало возможности, от которых захватывало дух.
— А он позволит вам строить стены?
— Почему нет? Первые общины будут женскими.
Да, этот шраман все хорошо продумал. Магадха… Это могучая держава. После победы над ангами магадхи завладели устьем великой реки; морская торговля целиком в их руках. Если повергнуть ниц раджу Бимбисару, ни один правитель в долине уже не осмелится ему перечить. Правда, еще остаются маллы и личчхавы, и особенно опасны последние. Их племенной союз удерживает за собой важный порт на левом берегу Ганги; личчхавы славятся своей воинственностью, а в последнее время они научились возводить укрепления.
— Хорошие стены — залог победы, — пробормотал раджа.
— Строительный камень есть и в городе Вайшали, — откликнулся отшельник. — Все дело в звонкой монете.
Видудабха наклонился вперед и хлопнул себя ладонями по коленям.
— Как ты сказал? Все дело в монете?!
Сохраняя угрюмое и недоброе выражение глаз, правитель начал смеяться. Он хохотал, радуясь, как бог на небесах тридцати трех, испивший сладкого и приятного бараньего жиру. Нет, не зря предсказатели сулили ему удачу в эту светлую половину лунного месяца! Сегодня удача пришла к нему под видом садху в красной одежде, этого самца кобры в лягушачьей шкуре! А ведь он чуть не отправил его на кол, не отличив боба от гороха. Это урок на будущее: не следует принимать поспешных решений.
— Будь по-твоему, Шакьямуни. Ты придешь завтра, и мы обсудим все еще раз… вместе с моим казначеем.
— Благодарю, друг верховного Индры.
— Клянусь палицей бога: если ты обманешь меня, я непременно двину войско на Бенарес, а уж город шакьев разрушу до основания. Не знаю, что тогда увидишь ты, но я-то увижу, как палач живьем сдирает с тебя кожу. А сейчас отправляйся к своим да скажи — пусть не поют песен в моей столице!
Шакьямуни остался на месте.
— Что-то еще? — нахмурился раджа.
— Так, одна мелочь. Неподалеку от Шравасти, в Джетаване, проповедует мой бывший ученик. Его имя — Кашьяпа из Урувеллы. Конечно, это выживший из ума старик, и последователей у него почти нет, но все-таки…
— Может, посадить этого Кашьяпу в тюрьму? — насторожился Видудабха.
Гаутама Шакьямуни пожал плечами.
— Решай сам, я за него не отвечаю.
В небе плыл слон. В лучах солнца на его лбу и боках блестели куски золотой фольги. Слон был белый, как раковина; он мотал головой и трубил опущенным вниз хоботом оглушительно и в то же время жалобно, словно был очень напуган тем, что его заставили летать. Вдруг в хоботе слона оказался гигантский красный лотос; слон тряхнул им, словно рогом, и вниз посыпались лепестки жасмина, божественные цветы мандарава и сандаловый порошок. Послышалась струнная музыка, радостная, как звонкие трели жаворонка, и чистая, как утренняя роса. Амбапали подумала, что сейчас увидит гандхарвов. Но вместо юных гениев неба она увидела девочку — хорошенькую, похожую на золотую статуэтку, с красной полосой замужества по пробору. Девочка стояла по колено в цветах и, задрав головку, тоже смотрела на слона. Амбапали пошла к девочке по цветам.
— Здравствуй, маленькая, — сказала она, присев на корточки.
— Благо богам, достойным блага, — серьезно ответила девочка.
Амбапали звонко рассмеялась.
— Слушай загадку: один пастушок догоняет другого. Первый пастушок улыбается, а второй рождается заново. Ну-ка, отгадай, кто они?
— Бог солнца и бог луны, — равнодушно ответила девочка.
— Верно, — кивнула Амбапали. — А ты умеешь считать?
— Умею.
Амбапали протянула ей ладонь с цветами мандарава.
— Сосчитай лепестки.
— Не хочу, — сказала девочка и отвернулась. В мочках ее ушей блестели и переливались, словно жидкий огонь, рубиновые серьги.
«Неужели это дочь какого-нибудь великого риши или раджи?» — подумала Амбапали, и даже волоски на ее спине поднялись от странного волнения и томления.
— Кто ты? — спросила она.
— Одиннадцать в небе, одиннадцать на земле, одиннадцать в воде, — сказала девочка. — Всего получается тридцать три бога.
Амбапали вздрогнула. С неба градом сыпались ягоды гвоздичного дерева, сливы и финики — это слон опять тряхнул лотосом. Амбапали взяла один финик.
— Осторожно, — сказала девочка. — Они с золотыми косточками.
— Откуда ты знаешь? — удивилась Амбапали.
— Вашат! — закричала девочка и подпрыгнула. — Слон вступает на третий небосвод! Слон разгоняет великий мрак!
Приплясывая, словно давильный камень на стеблях сомы, девочка раскидывала ногами цветочную массу и распевала во все горло:
Сердце Амбапали забилось. Белый слон стоял перед ней, шевеля огромными ушами и покачивая хоботом. На золотой пластине, прикрывавшей широкий лоб слона, сияло чеканное изображение лежащего на боку льва. Девочка встала на загнутый хобот, и слон переправил ее себе на голову. Слон протрубил четыре раза и стал медленно подниматься в небо.
«Поклон величию хижины! Поклон белым и пестрым коровам!» — донесся с небес голос девочки.
Амбапали не сразу поняла, что находится в опочивальне своего дома в Шравасти. Это была ее первая ночь на новом месте, и вот какой дивный сон ей приснился! Говорят, сны приходят к человеку из мрачного царства Ямы, ho теперь она знает: это не так. Ощущение счастья было слишком сильным, чтобы обмануть. Ее сон послан светлым божеством и предвещает радость. Но какую? И кто была та странная девочка?
Ей вспомнилось последнее торжество в Бенаресе, праздник Агнистомы. В шествии, проследовавшем к городскому святилищу, было множество белых коров; их спины и бока пестрели священными знаками, рога были окрашены в красный и синий цвета, а у некоторых позолочены и посеребрены. Какой-то малыш лет пяти или шести, сидя на бедре своего брата-подростка, громко запел: «Несут меня в небо соки растений! О, не напился ли я сомы?..» Это были слова гимна, посвященного Индре, царю богов, и даже идущие в процессии пожилые жрецы не могли сдержать улыбок.
Амбапали наблюдала за певцом из своего паланкина. «В детстве нас часто охватывает ощущение чистого восторга, неизъяснимой радости, — подумала она тогда. — Куда уходит это чувство? Наверное, мы сами погребаем его под своими тревогами, страхами, желаниями, сомнениями, ожиданиями… Если зеркало покрыто пылью, стоит ли удивляться, что лик в нем неясен? От рождения до погребального костра — только одна жизнь, но мы не умеем проживать даже ее. Мы хотим господствовать, обладать, покорять и в этом теряем себя. А ребенок — маленький раджа, он живет в центре всего мира, и взгляд его чист, как цвет его кожи. Он прислушивается и присматривается ко всему, ожидая повсюду увидеть чудо…»
В тот день, один из последних в Бенаресе, ею овладело ощущение неполноты жизни, и она почувствовала смутную тягу к чему-то настоящему, значительному, но заботы и хлопоты, связанные с переездом, отвлекли ее. И вот теперь этот загадочный сон.
«А вдруг эта девочка — я сама?» — с волнением подумала Амбапали.
Лицо человека, стоявшего перед ней, казалось вырезанным из твердого желтого дерева.
— Может быть, пригласишь меня войти? Кажется, вместе с гостем в доме появляются боги и счастье?
Оторопевшая Амбапали посторонилась, впуская его. Она уже несколько дней не выходила из дому, переживая по поводу одного события. В то утро, думая о девочке на слоне, Амбапали облачилась в шелк и, украсив запястья и лодыжки браслетами, выехала на прогулку в паланкине. О, Шравасти оказался куда богаче и многолюднее Бенареса! Здесь были широкие улицы, мощенные камнем, величественные дворцы (у них были плоские крыши с беседками для сна в жаркую ночь), святилища, парки, пруды и водометы. Особенно Амбапали понравились водометы, бившие целыми каскадами струй. Вволю нагулявшись и насмотревшись на всякие диковинки, она отправилась к известному в Шравасти отшельнику, значку упанишады «Каушитаки». Изможденный старец, со смиренно сложенными руками и лбом, натертым белой золой, сидел на пороге шатра, сделанного из циновок. Старец принял подношение Амбапали, выслушал ее, зевнул и отогнал муху. Амбапали долго ждала ответа на свой вопрос, но знаток упанишады, казалось, заснул. Когда она уже хотела удалиться, мудрец разлепил веки и сказал:
— Покидающие этот мир имеют местопребывание на Луне, которая в первую светлую половину месяца постоянно увеличивается от их жизненного дыхания… Во вторую же темную половину месяца она подготовляет их к возрождению. Луна есть дверь, ведущая в небесные обители; кто отвечает на ее вопрос, того она пропускает, а тот, кто не дает ответа, низвергается вниз, превращаясь в дождь. Такие люди, по их делам и знанию, вновь рождаются в виде червя, моли, рыбы, птицы, льва, кабана, дикого осла, тигра, человека или другого существа в том или ином состоянии…
— А какой вопрос задает Луна? — спросила Амбапали.
Ответа так и не последовало, и на следующее утро она отправилась к старику опять. Однако на этот раз мудрец не пожелал говорить с нею и не принял подношение, перевернув чашку. Амбапали приехала к нему в третий раз. Старец выказал непоследовательное радушие и пригласил ее в свой шатер.
— Хочешь, я возьму тебя в ученицы? — предложил он, сверля танцовщицу маленькими белесыми глазками.
— А чему ты учишь? Упанишаде «Каушитаки»?
— Я учу многому, и все меня боятся. — Старик понизил голос и зашептал ей на ухо: — Я владею следующими священными способностями — зазывание, обзывание, оговаривание и обчихивание. Пока человек не встретился со мной, он чихает самым обычным способом, вот так: «Апчхи!» Но в моей власти наслать на него порчу и оговорить его чих. Хуже всего ему придется, если я устрою ему злое обчихивание. Скажу по совести, — мудрец захихикал, — немногие после этого наслаждаются чистым чиханием…
Вернувшись домой, она с содроганием вспоминала об этом безумце. Амбапали казалось, что все учения лживы, что и брахманы, и шраманы городят нелепицу, и нет ровным счетом ничего — ни жизненного принципа, ни души. В довершение всех бед Амбапали застала рабыню за проверкой сундука, в который той лазать не полагалось. Рабыня плакала и умоляла о прощении, но Амбапали была непреклонна. Она отхлестала мерзавку веером по щекам, а потом велела слугам поучить воровку побегами бамбука, привязав к шесту во дворе.
Кража из сундука была последней каплей, и Амбапали даже украдкой всплакнула. Теперь, когда она увидела Девадатту, в ее голове замелькали несвязные мысли о Бенаресе, о слонах, о юноше, что когда-то приходил к ней с любовным томленьем, словно громко ржущий жеребец. Ей казалось, с тех пор прошла целая кальпа. Сейчас этот шраман с обритой головой и гордой осанкой был мужчиной, и вид его внушал робость.
Рабыня, все еще переживая наказание, двигалась нарочито медленно, подчеркивая каждым движением, что испытывает невыносимые муки. Однако Амбапали посмотрела на нее так свирепо, что вода для омовения ног появилась без промедления, а сама рабыня тотчас исчезла.
Сняв сандалии, Девадатта опустил ступни в воду. На пальцах у него были ровные ногти медного цвета.
— Ты не похож на отшельника, — сказала Амбапали, с удивлением разглядывая гостя. — У тебя ухоженные ноги и дорогие сандалии. И от тебя пахнет камфарными духами!
Девадатта бросил на нее веселый взгляд.
— Могут ли камфарные духи и сандалии повредить тому, кто пересек поток, кто освободился от сомнений, кто достиг высшего блага и уже не имеет дома?
— Ты не имеешь дома?
— Я говорю о другом доме, Амбапали. Дом из бамбука у меня есть. И не один. А скоро у меня будут и каменные дома.
Попугай Джина отчего-то забеспокоился, и она набросила на клетку шелковое покрывало.
— У тебя будут дома в Бенаресе? Говорят, там происходит что-то ужасное. Перед отъездом я слышала, будто раджа собирается забрать казну и бежать.
— Забудь о радже, Амбапали. В Бенаресе все как нельзя лучше.
— А чем ты теперь занят?
— Я раскручиваю колесо Учения.
— Вот как? Но еще недавно, я слышала, ты был учеником Сиддхарты?
— Твои сведения устарели. Теперь я создаю большой монашеский союз, сангху… Кстати, этот союз — не только для мужчин. В нем будут и женские общины. О, у меня большие планы! Наше учение должно победить во всех полуденных странах.
«Неужели это он? — с волнением думала Амбапали. — Тот юноша, что когда-то приходил ко мне и болтал о слонах?»
— У тебя хватит силы и мудрости, Девадатта?
Отшельник поморщился.
— Теперь меня называют Гаутамой Шакьямуни. Сила моя — в чреслах, а мудрость — в созерцании просветления.
Почему-то Амбапали вспомнился давний сон, что преследовал ее еще в Бенаресе. Тогда она тоже видела слона, но тот слон был страшный, с клочьями желтой пены на смертоносных клыках. Спасения от него нигде не было: слон превращался то в жеребца, то в огромную змею, то в тигра…
— Ты достиг просветления? Неужели?
— Однажды я оказался в джунглях, на берегу ручья… Я пустил чашу по воде со словами: «Если мне суждено достичь просветления, пусть эта чаша поплывет вверх по течению; если же нет — пусть она поплывет вниз по течению». Чаша доплыла до середины ручья и закружилась в водовороте. И тогда я сказал себе: «Кожа, жилы и кости могут иссохнуть. Моя плоть высохнет, высохнет кровь, высохнут желчь и слизь, но, не достигнув просветления, я не сойду с этого места». Я сел под смоковницей и погрузился в медитацию. Медленно длилось созревание достоинств; через круг многих рождений тек поток моего сознания. И вот я достиг уничтожения ассав, устранил препятствия, сбросил бремя, разорвал ремень, плеть и цепь с уздой. Так я стал буддой, полностью просветленным.
Слушая его, Амбапали не знала, что и подумать; все это было слишком странно, слишком внезапно и никак не укладывалось в голове. Она видела, что с ним и вправду произошло нечто значительное, изменившее его даже внешне. А еще от него исходило ощущение силы.
— Но зачем ты пришел ко мне?
— Ты забыла, что мы хотели увидеться?
Танцовщица покраснела и потупилась. Потом она украдкой посмотрела на свое отражение в зеркале, — да, она по-прежнему мила и изящна. Особенно хороши глаза с немного загнутыми ресницами, подкрашенными сурьмой.
— Я не забыла, но…
— Ты мне не рада?
— Нет, рада, но ты теперь так не похож на себя прежнего… Все-таки я решительно не понимаю, зачем…
— О, бык-громовержец! Неужели ты не догадываешься, зачем я пришел?
Амбапали несколько раз моргнула.
— Догадываюсь, — сказала она, слегка запинаясь. — Просто я немного удивлена. Ведь ты говоришь, что стал буддой. Неужели просветленному отшельнику…
— Просветленному можно все, — отрезал Девадатта. — Кто достиг освобождения и покоя, кто стряхнул с себя грязь, как серебряных дел мастер — с серебра, кто знает правый путь и ложный путь — тому не повредит уже ничего. Только жаждущие достигнуть должны быть твердыми в своем воздержании и постоянстве. У достигших нет постоянства, они свободны от воздержания; грязь не пристает к их лотосовым стопам.
— А твой брат? Где он сейчас? В Велуване?
— Забудь о нем. Община подчиняется мне и моему ученику Моггалане.
Девадатта подсел ближе. Его глаза, один из которых был серым, а другой — карим, властно смотрели на нее. Ей стало не по себе; она чувствовала, что цепенеет, и тут в покои вошла рабыня. Никогда еще Амбапали так не радовалась этой толстухе.
— Подавай ужин, Чинча, да поскорее! — приказала она.
Девадатта лукавил — чего-чего, а покоя он не достиг. Напротив, ему часто бывало не по себе. После путешествия вне тела он все сильнее ощущал ток живой силы, не похожей на энергию иддхи. Сила нисходила в область пупа, и его тело начинало жить в новом, неизведанном ритме. Эту живую силу нельзя было описать словами, она появлялась сама, возникая из ниоткуда. Сначала был толчок, потом этот толчок обретал более ощутимую плотность и в него вселялось некое существо. Это существо двигалось, обладало массой и могло свободно перемещаться, как жидкость, как живая субстанция. Он словно бы делил власть над телом с неким духом. Благодаря этому духу ему удавалось узнавать чужие мысли и даже предугадывать некоторые события. Он видел нечто вроде радуги над головами людей и легко догадывался, что они замышляют. Дух давал крепость, силу и невидимые доспехи, но порой его движения становились чересчур мощными, они сгибали тело Девадатты, снова выпрямляли его, тянули к земле и едва не подбрасывали в воздух. Это походило на жестокий припадок, и в такие минуты он вынужден был прятаться от учеников. Девадатта не мог противостоять наступлению припадка и всякий раз испытывал страх.
Служанка поставила перед ним приправу из растертого корня куркумы, паприки, имбиря и черного перца; тут же были лепешки, овощи, фасоль, молоко и рис на свежевымытых банановых листьях. Но Девадатта был не голоден. Он скатывал из риса маленькие комочки и выкладывал их обратно на лист банана.
— А что происходит с душой после смерти? — спросила Амбапали. — Просветленные должны это знать.
— Да, но почему ты решила, что у тебя есть душа? Разве можно говорить о том, что непостоянно, мучительно, подвержено переменам, «это моя душа»?
— Ты учишь, что души нет?
— Некоторые говорят: отшельник Шакьямуни учит, что души не существует. Другие говорят: отшельник Шакьямуни учит, что душа существует. Но отшельник Шакьямуни не учит ни тому, ни другому. Он учит освобождению от сансары.
— И как же достичь его?
— Кто смотрит на жизнь, как на мираж, того не увидит Царь Смерти. Нужно стать выше добра и зла; нужно воспитать в себе равнодушие к радости и отвращению; нужно понять, что мир — это только иллюзия, а другие люди — лишь пузыри на поверхности Ганги. Старые представления о том, что должно и что не должно, в чем зло, а в чем благо, — все это следует отсечь, как отсекают от дерева больные побеги.
— А как жили люди в начале кальпы? Кто совершил первое зло? Что заставляет душу переселяться?
— На эти вопросы я не даю ответа. Они не приводят к очищению и спокойствию. Пойми, Амбапали: некоторые проводят жизнь в бесплодных спорах, другие делают дело. Одни мечутся из существования в существование, подобно обезьяне, ищущей плод, другие — пресекают поток, разрывая узы. Каждому свое.
— Неужели? — в глазах Амбапали мелькнул насмешливый огонек.
— Именно так! — Девадатта окинул ее оценивающим взглядом. — Одним суждено повелевать, другим — служить своим повелителям; одним сдвигать бедра, другим — раздвигать их. Это извечные дхармы.
Амбапали покраснела и поправила на запястье золотой браслет.
— Ты прав, но соединение на ложе — это не встреча двух животных. Его цель — удовлетворение обоих. Ты должен дать мне время подготовиться.
Девадатта не стал спорить.
— Что ж, давай побеседуем еще немного. Что еще ты хочешь спросить?
Да, это был не жрец и не знаток упанишад! Мысли Амбапали путались и все время возвращались к слону. К слону с клочьями желтой пены на могучих клыках.
— Я… я не верю тебе, — наконец сказала танцовщица. — Ни в твои чудесные просветления, ни в твои чувства. Ты исчез так надолго и совсем, совсем не вспоминал обо мне. А теперь пришел и требуешь…
— Разве я требую? — Он попробовал обнять ее за плечи, но она отстранилась.
— Если ты тронешь меня, я позову слуг.
Девадатта убрал руку.
— Но почему ты думаешь, что я забыл тебя? Да, я был далеко, но я тебя навещал. Это было еще в Бенаресе, перед твоим отъездом в Шравасти.
«Сумасшедший», — подумала Амбапали.
— Не думай, что я безумен. Я побывал в твоем доме, хотя мое тело находилось от Бенареса за много йоджан. Ты кормила свою птицу и просовывала кусочки яблока через прутья клетки. А твоя рабыня — кстати, знай: эта гусыня нечиста на руку — как раз зажарила зерна в меду. Ты говорила со стариком брахманом, волосатым, как Путан, о козле, который замещает коня, быка и барана. Прощаясь, ты дала ему несколько монет, и он спрятал их в тюрбан. — Амбапали, широко раскрыв глаза, с ужасом смотрела на него. — А хочешь, я скажу, как зовут твоего попугая? Его зовут Джина…
— Значит, душа все-таки существует! — вырвалось у нее.
— Не у всех, — усмехнулся Девадатта. — У некоторых только ее зачаток. Такие люди бесцветны и лишены аромата. Сердца их трусливы, у них нет настоящей души, и они обречены на блуждание в сансаре. Это слепые посредственности, существа, подобные мусору.
— А я смогу путешествовать вне тела? У меня есть душа?
— Это знаешь только ты.
— Я не знаю этого, — грустно сказала Амбапали.
— Значит, ты должна понять себя. — Он опять подсел ближе. — Поймешь себя — поймешь все.
— Как бы я хотела научиться тому, что ты умеешь! — В ее взгляде было восхищение.
— Научиться не так уж трудно, моя быстроглазая. Тем более, что я собираюсь создать в Магадхе первую женскую общину… Кстати, ты не хотела бы стать начальницей отшельниц?
— Я?
— А почему нет? Ведь ты выделяешься среди других женщин, как благородная лиана, как цветок чампака на куче мусора…
Танцовщица моргнула.
— Но я родилась в низкой касте!
— Запомни, Амбапали: наша сангха не признает ни каст, ни варн, ни племенных различий.
— А почему в Магадхе?
— Ну… сейчас там дешевле строительный камень. Со временем, конечно, я построю монастыри и в Кошале. Обязательно построю, не сомневайся.
Амбапали вдруг вспомнился день состязаний в Бенаресе, когда она впервые увидела Девадатту. Впереди процессии ехала колесница распорядителя торжеств, запряженная четверкой коней, белых, как лепестки лотоса. Юноши, счастливые и взволнованные, ехали на слонах под желтыми зонтиками, а горожане, украшенные венками и надушенные ради праздника камфарой и алоэ, рассыпали в воздухе красную пудру. После игры и состязаний по метанию чакры начался пир. Оставшаяся от варки риса вода разливалась озерами, и в ней, как острова, плавали головы буйволов и овец. На пиру она впервые заговорила с Девадаттой: этот юноша-атлет с гордым блеском в глазах привлек ее решительностью, с какой он расправлялся с «охотниками». Праздник уже заканчивался, и кругом, точно горы, возвышались подгоревшие рисовые корки. Девадатта запинался и краснел, а она громко смеялась, закидывая голову, и браслеты на ее запястьях звенели, как цимбалы. Тогда она полагала, что у нее появился еще один поклонник из тех, что всегда покорны движению ее мизинца. Какой же наивной она была…
— Соглашайся! — говорил Девадатта. — У тебя будут каменные дома. Ученицы, которым ты станешь рассказывать о душе и воздаянии. Сад с водометами. Хранилище Мудрости. Только представь: тебе не придется больше бегать от старца к старцу! Мы будем записывать на листах банановой пальмы все значительные речи, учения, глубокие мысли. А ты будешь хранительницей знаний.
— Хранительницей знаний?
Вместо ответа он привлек ее к себе. Звать слуг она не стала — даже когда он мягко опрокинул ее на ложе и коленями раздвинул ей ноги. Тело его было жестким и мускулистым, как у хорошо тренированного коня. А еще от него так приятно пахло камфарными духами!..
Потом он откинулся на спину. Обняв его, Амбапали потерлась носом о бронзовое плечо.
— А просветленные могут иметь детей? — проворковала она.
Глава XIII
«ВЕЧНОПЫЛАЮЩАЯ»
А хуже всего было то, что он изменил себе.
В последнее мгновение, когда Налагири несся на него и Царь Смерти уже дохнул в лицо ему жаром слоновьего дыхания, он не смог преодолеть искушение, выбросил вперед обе ладони и защитил себя силой иддхи. Слон не растоптал его, он не погиб, но чувствовал к себе теперь лишь презрение. Он так и не отринул желание, не избавился от ассавы существования.
Он пришел в себя в глухой деревеньке среди джунглей, в глинобитной лачуге, и крысы бегали у него по ногам, пытаясь добраться до припасов, подвешенных на веревке. В хижине было одно отверстие, служившее и окном, и дверью, и в это отверстие он видел пруд с мутной зеленой водой; на пруду крякали утки. Его окружали дикари-ванавасины, кривоногие, черные, словно их прокоптили в очаге; неопрятные женщины с обвислыми грудями, натиравшиеся вместо благовоний свиным нутряным жиром; старики, похожие на согнутые луки; голые дети с выпяченными животами. Дети пялились на него бессмысленными коровьими глазами и с визгом бросались прочь, стоило ему шевельнуться. Ему давали есть, за ним ухаживали, но он не испытывал благодарности; напротив, люди мешали ему — только в одиночестве можно побороть последние всплески желания.
Границы мира снова распахивались перед ним в видениях, как это было на берегу реки Найранджаны. Ему являлись клыкастые боги и асуры; он видел перед собой то козлиную голову Дакши, то змееподобных нагов, то синее и волосатое горло Рудры, в котором, как в гигантской воронке, исчезали люди разных варн. Затянутые в горло божества, люди попадали в ад, где царствовал Яма. Там росли деревья с шипами и мечами вместо листьев, по адским полянам текла кровавая река Вайтарани, в которой, испуская жалобные вопли, тонули осужденные Ямой души. Другие души выпекались, словно черепашьи яйца, на берегу в раскаленном песке; он видел адские печи, в которых обитателей нижних адов обжигали наподобие глиняных горшков, и каменные котлованы, где несчастные плавали в раскаленной лаве… Он слышал голоса духов; теперь это были уже не духи растений, похожие на светящиеся пятна, нет, это были отвратительные существа с проваленными кровавыми ртами, четырехпалые, хохочущие. Они являлись к нему, говоря, что он на верном пути, и называли его высшим из людей, родившимся в сиянии ста достоинств.
Ночами было душно, он изнемогал от жары, он молил о дожде, и дождь посылался ему, но змеиный раджа Мукалинда обвивался вокруг него, душил кольцами своего упругого тела и закрывал от живительной влаги широким капюшоном кобры. В другом сне он карабкался на гору Химават, но срывался и терял при падении правую руку. После долгих поисков он находил ее в зарослях бамбука, но рука была пригвождена к земле цепким растением тирия, и на нее наползали желтые черви с черными головами.
Как-то утром, преодолевая головокружение и боль в бедре (Налагири все же задел его бивнем), он выбрался за порог, лег в траву у пруда и долго разглядывал гусеницу над своей головой; гусеница откусывала один за другим кусочки хрустящего листка.
А потом настал день, когда он ушел из деревни.
Идти было трудно, стояла засуха. Солнечный бог ополчился на все живое; пруды обмелели, а кора, иссушенная зноем, потрескивала. Тени от деревьев, словно усталые путники, жались к земле у корней, и ветер был раскаленным, словно в него вошли жаркие вздохи и воспаленное дыхание людей, погибающих от зноя.
Он знал, что приближается к концу скитаний. На его пути было несколько селений, и одно показалось ему смутно знакомым — он проходил здесь в незапамятные времена, когда еще не был учителем отшельников. Когда и эта последняя деревня осталась позади, он почувствовал облегчение. Он больше не хотел встречаться с людьми. Река, великая река Ганга, звала его, и он все сильнее ощущал ее зов.
Река несла перед ним свои воды. Река не была доброй, но не была и злой; скорее, она была равнодушной и утверждала собой, что нет в мире ни добра, ни зла, а есть только страдание и покой, и звала к покою.
«Река говорит со мною, — подумал он. — Здесь я найду освобождение, разорву последние путы».
Он сел под манговой кроной, и вся его жизнь, некогда полная желаний и устремлений, предстала перед ним. Вот, неискушенный, он живет во дворце Капилавасту, наслаждаясь плодами незаслуженной радости и томясь беспричинной тоскою; вот беседует с Шарипутрой на террасе брахманского дома; вот предается изнурительным упражнениям на берегах Найранджаны; вот проповедует свое учение в белой повязке аскета.
В тихом журчании реки он слышал веселый голос отца, пение бамбуковых флейт, рокот барабана-мриданга, смех крутобедрых танцовщиц, звон браслетов на запястьях Яшовати и лепет маленького Рахулы; он слышал жужжание пчел в лесу, раскатистые трели кукушек, крики соек и хриплую перекличку отшельников Найранджаны; слышал восхищенные стоны толпы и робкие вопросы учеников. В этой жизни всегда были страсти, которые он побеждал, но перед которыми снова терпел поражение. То, что было не преодолено, возвращалось к нему, каждый раз немного отличаясь по форме, но по сути оставаясь тем же. Освобожденный от желаний, отсекший привязанности, он вновь и вновь забредал в чащу страстей. Уже свободный, он снова налагал на себя ярмо, он был подобен обезьяне, которая отпускает одни ветки и хватается за другие. Он был замурован внутри самого себя и лишь теперь приближался к тому, чтобы разбить скорлупу и разорвать все узы.
Он прислушивался к реке, и нестройные дребезжащие вибрации его насыщенной жизни замолкали, давая почувствовать сладость одиночества и успокоения. Мир, где плевелы портили злаки, а людей портила страсть, мир конечный, превратный и быстротечный, этот мир по-прежнему был вокруг него, но сам он стал осажденным городом, охраняемым изнутри. В мире людей искать было нечего, там все было зыбким и подобным дуновению ветерка, а особенно летучими были заря, молния и счастье.
В реке было больше правды. Она проходила перед ним единым могучим движеньем, она играла, смеялась и пенилась. Она сверкала размахом своего течения, и ей было неважно, по глине, по песку, по камням ли она несет свои воды. И неожиданно он ощутил радость, спокойную и глубокую, как море. Это была вспышка, мощное озарение, великая вибрация Откровения. Как будто завеса разорвалась и перед ним предстала сама Истина.
Ему открылась правда о вселенском духе, об Атмане. Этот дух пребывал в сердцевине всех вещей и явлений, и он же порождал мир из самого себя. И в земле, и в камне, и в криках павлинов — всюду был Атман. Перевоплощаясь, дух участвовал в жизни богов, ракшасов, людей и прочих живых существ, и весь видимый мир был лишь отблеском его игры. Он видел, как существа гибнут при распаде тела и возрождаются в новом обличье, и все живое течет, вращается и тонет в круговороте, имя которому — страдание, имя которому — сансара…
Он не торопил своих видений, не направлял внутреннюю силу иддхи, он лишь позволял совершиться мистерии преображения. Он переживал умирание, переживал крушение собственной ограниченности, но это крушение и умирание было счастьем.
Теперь он знал, что освободиться — значит подняться на высший уровень бытия, познать, что творения и вещи происходят из единого Источника-Духа. Обычное сознание было лишь жалкой тенью подлинной Жизни, и, освобождаясь от него, он сливался с океаном чистого сознания и радости.
Он был человеком, которого вытолкнули на свет из темной пещеры. Он все победил, он все знал. Освобожденный от сомнений и погруженный в бессмертие, он был беспечален, бесстрастен и чист. С незамутненным умом, одолевший препятствия, он очищал путь, ведущий к освободительному угасанию сознания, к полному и окончательному уничтожению обремененной жалкими страстями души, к небытию, к нирване. Знающий, что все человеческое подобно пене, он пресекал поток существования, он отказывался от прошлого, отказывался от будущего и от того, что между ними…
Солнечный диск уходил в землю и снова повисал над рекой, жаркий, словно горящий уголь, но он не замечал ничего вокруг. На его губах застыла блаженная полуулыбка, его сознание не пребывало ни в слухе, ни в зрении, ни в запахе, ни в памяти, ни в дыхании. Он больше не должен искать учителей или учеников, он сам подобен реке, реке глубокой, незамутненной и радостной. Он сидел под кроной мангового деревца и внимал себе тихо, бесстрастно, но с восторгом узнавания Истины…
На закате третьего дня его окружили люди с заступами в руках и ножами на привязях из лиан. Один из них взмахнул над его головой бамбуковой палкой, но и тогда он не вышел из созерцания.
Он очнулся в какой-то яме, похожей на ловушку для диких слонов. Он не знал, то ли теперь вечерние сумерки, то ли час перед рассветом. Наверху сухо шуршали, покачиваясь, листья пальмы. В яме было нежарко; пахло подсыхающей гнилью. У него звенело в ушах, тело саднило от порезов (его проволокли через заросли слоновой травы), но ощущение близости Истины оставалось таким же сильным, как это было на берегу Ганги.
В яме он сидел не один. Тут был еще мальчик, похожий на взъерошенного галчонка, с лицом, белевшим в полумраке, как мякоть банана. Лицо мальчика с темными завитками волос показалось ему смутно знакомым, но люди уже не интересовали его; он пресытился ими, он испытывал к ним равнодушие, как к существам низким, наделенным постыдной формой телесного существования.
Впрочем, он все понимал. Он понимал, что яма выкопана не ловцами слонов, а ловцами людей, бхайравами, а мальчик — мерия, ребенок, уготованный для жертвоприношения, но эта мысль, как и другая, о его собственной участи, прошла, не оставив следа. Мысли теперь проносились сквозь его ум, не задерживаясь, как птицы, летящие по небу в безветренном пространстве.
Становилось светлее; значит, начинался день, вероятно, последний день в его жизни. В яму заглядывали люди. Их кожа была земляного цвета, а лица — тупы; эти лица радостно скалились. Подле него лежала половинка кокоса, еще в скорлупе, но ему не хотелось жевать сухой маслянистый плод. У него уже не было желаний. Мальчик что-то говорил, он не умолкал, как бамбуковая трещотка, горячо дышал, теребил его и своими влажными темно-оливковыми глазами заглядывал ему в глаза. Он лег на правый бок в позу льва, положив одну ногу на другую, и отдался созерцанию.
Незнание сущности вещей и явлений лежит в основе безначальной цепочки рождений; люди, животные и демоны слепо блуждают в океане сансары, не понимая, в чем корень зла, не умея добраться до Строителя дома. Но он добрался, он близок к Строителю дома, полное освобождение рядом.
Границы исчезли; все лишилось смысла и все обрело смысл. Торжественно и спокойно он переживал встречу с духом, с Атманом, пронизывающим вселенную. Земляные стены ямы раздвинулись; вокруг него был ветер, рокочущие звуки; малейшее изменение в мире порождало многократное эхо, и каждая пылинка повторяла мелодию. Это был новый мир, где цвета звучали, а звуки порождали цветовые ощущения.
Он начал осознавать Цепь Причинности. Все, что могло показаться истинным, естественным, настоящим, представало теперь гротескным, смешным и абсурдным. Не было человеческих поступков и устремлений, даже самых низких, которые были бы ему чужды. Он вспоминал свои прежние существования: одно рождение, два рождения, три, четыре, пять, десять, двадцать, тридцать, сорок, пятьдесят, сто, тысячу, сто тысяч рождений… В своих прежних существованиях он был шакалом и вепрем, змеей и ракшасом, убийцей и вором. Через круг многих рождений тек поток его сознания, добираясь до Строителя дома, и он уже видел циклы уничтожения и развертывания вселенной, развертывания и уничтожения.
Его сознание росло, занимая все его существо, как могучая река полностью занимает русло, и в нем уже не было места страданию. Медленно, неторопливо шло созревание достоинств, и вот он почувствовал, что стропила его дома подрублены и конек скоро провалится внутрь. Путь его был пройден, осталось сделать лишь несколько последних шагов и подождать, когда уляжется пыль.
Перед закатом за ними пришли; какие-то люди слезли в яму по бамбуковым шестам. Нужно было подниматься наверх — вероятно, там все было готово. Люди, спустившиеся в яму, действовали проворно, у них были наготове лианы. Мальчик сопротивлялся, царапался, бился, кричал. А он остался бесстрастен. Он знал, что для него нет будущего и прошлого тоже нет. Он уже умер, над его пеплом сделана насыпь чайтья, и она высится на перекрестке четырех дорог.
Потом было поле куркумы. Солнце было медно-красным, как песок, которым боги посыпают гору заката, а в воздухе ощущалось что-то гнетущее, как будто должное разрешиться от бремени. Он понял, почему торопятся эти люди: близится гроза, дождь может залить пламя жертвенного костра. Потом его влекли через колючие заросли, и кровь сочилась из его ран, словно красный лак из продырявленных сосудов, оставляя след на земле и растениях.
Его бросили под каким-то деревом — он чувствовал спиной узловатые корни. Он попробовал лечь поудобнее, на бок, и это удалось, хотя его руки и ноги были опутаны лианой. Здесь, в лесу, был полумрак, он слышал журчание воды.
— Срима! Урунда! Матмата! — хрипло выкрикивал кто-то имена демонов, словно бы подзывал кур. — Макака! Карума! Кукурабха!..
Слова проникали в его сознание, но не задерживались в нем: он был выше тревог о своей участи.
И вот запылал костер.
По краю поляны протекал обмелевший, но не побежденный засухой ручей; с другой стороны чернел коренастый баньян, и под ним лежал сжавшийся в комок мальчик-мерия. Границу священной площадки обозначали камни, наполовину вкопанные в землю, окрашенные киноварью. Неподалеку от корявого дерева махуа высился жертвенник в форме птицы с раскинутыми крыльями.
На поляне хозяйничали трое. В середине небольшого круга, обозначенного желтоватым порошком из молотых костей, сидел, расставив тощие ноги, старик с грязными рыжими волосами, заплетенными в косу. Бормоча заклинания, он тесал жертвенный кол. Рослый жрец, похожий на павиана, с руками, как туго набитые мешки, заправлял жиром светильники — они стояли на камнях, окрашенных киноварью. Единственной одеждой на жреце был кожаный пояс с подвязанной к нему тряпкой, а единственным украшением — ожерелье из усохших человеческих пальцев на волосатой груди. Третий бхайрав, человек с расстроенными соками тела, выпучив глаза, дул на костер.
— Эй, Рыбоглазый!
Волосатый жрец велел помощнику зажигать светильники. Человек, названный Рыбоглазым, запалил факел и стал обходить их по кругу; разгораясь, светильники трещали, издавая тошнотворный запах.
Он все видел, все понимал. В мире сансары не было ничего высокого, подлого, чистого или нечистого. Мир был только площадкой для игр Атмана; в этом мире не существовало ни врага, ни предателя, ни героя. Множественность мира была ложью, ибо была лишь одна Жизнь, одна Сущность и одна Цель. Не существовало зла и не существовало добра, не было удовольствия и не было страдания. Зло и смерть были только маской, в самой правдивой истине заключалась ложь, и самое нелепое заблуждение несло в себе искру истины. Пепел сожженных трупов и цветочная пыльца, темная бездна и слепящие переливы света были одним и тем же, и в каждой песчинке, в каждой крупице бытия была бесконечность и необъятность. Атман играл в мире, Атман забавлялся, подобно реке, но он уже понял его тайну, понял не на словах, а всем своим существом…
Рыбоглазый приблизился и, орудуя ножом, распорол на нем дхоти. Глаза бхайрава были мутными, как у куропатки, отведавшей яд, движения расчетливы и неторопливы, и он подумал, что, должно быть, так же тупо и деловито тот сдирает кожу со своих жертв. Нагнув ветку махуа, Рыбоглазый сломал ее, бросил в костер и палкой поворошил дрова; костер запылал, словно в него подлили масла.
…Обнаженный, с распущенными волосами, он был уложен на жертвенник Из порезов на его теле сочилась кровь, и раны расцветали красными цветами, словно бутоны кимшуки. Его голова была откинута назад, грудь и живот открыты. Он видел над собой ветки махуа, окрашенные багровыми отсветами. Одна из веток была обломана, и он знал, что сок еще не успеет сгуститься на месте слома, а жрец уже вспорет ему до нижних ребер грудную клетку и, усевшись на агонизирующее тело, вырежет пульсирующий лотос сердца. Потом бхайравы бросятся на него с ретивостью тигров, раздирающих труп коровы, и срежут куски мяса с его бедер, ягодиц и спины. Они будут пить кровь, плясать на углях, глотать пепел сожженной жертвы и медитировать. Однако сердце его было по-прежнему свободно от страха; он пребывал в потоке бытия, все части которого были захвачены общим движением и неизбежно взаимодействовали друг с другом. Находиться в этом месте, окутанном смрадом коптящих светильников, или в каком-либо другом — такие мелочи значения не имели. Он понимал, что сансары для него больше нет, сама сансара была наваждением, происками майи, волшебной иллюзии, переливающейся всеми красками дымки.
— Махадэви не ждет! Черная богиня не ждет!
Он понял, что значит окрик жреца, лишь когда его стащили с жертвенника и отволокли на прежнее место. Кажется, казнь откладывалась, но это было уже неважно. Он был отрезанным от страстей, опустошенным, увядшим для мира, как высохшее и лишенное запаха яблоко; он наблюдал за происходящим лишь краем своего сознания, равнодушно и отрешенно.
…Вот старик подошел к жертве, лежащей под баньяном, и обнажил ее… Вот он разразился громкой бранью: у мерии от страха опорожнился кишечник… Вот у ручья, куда оттащили несчастного, послышался вопль — это мальчик, осмелев от отчаяния, укусил Рыбоглазого… Вот бхайравы вливают в горло жертвы одуряющее зелье, и та обвисает на их руках… Вот старик, присев на корточки, натирает худенькое, ставшее податливым тельце желтоватой мазью… Вот на шею мальчика накидывают венок из алых цветов патали… Вот жертву кладут животом на каменное ложе… Для мальчика лет восьми-девяти ложе слишком огромно, кровь может не собраться в углублениях, и старик с Рыбоглазым спорят, как лучше разместить жертву на алтаре… Вот двое помощников размахивают трещотками из человеческих костей, а Ангулимала, хохоча, словно в него вселился десяток ракшасов, отплясывает вокруг алтаря, и пальцы ожерелья стучат по его волосатой обезьяньей груди… Вот жрец встает в середине магического круга и, подняв руки, начинает произносить заклинания, вызывая богиню Махадэви — ужасную, упившуюся детской кровью, но все равно ненасытную, с черным телом, повергающим во мрак все стороны света… Вот Рыбоглазый подает Ангулимале блестящую жертвенную секиру, похожую на жатку, а костер за их спинами полыхает так ярко, что можно разглядеть даже тонкую соломинку, лежащую на земле…
— О, повелитель бхайравов, воплощение тысячеглазого Рудры! Я нарекаю эту площадку именем «Вечнопылающая»! Пусть никто не спасется от твоих пламенеющих смертоносных ликов! Ты сжигаешь вселенную, повергаешь во мрак четыре стороны света, поглощаешь людей многими ругами, ты — сама всепожирающая смерть!
А джунгли за спиной жреца живут своей жизнью… Слышны далекие трубные звуки слона… Крик павлина, предупреждающего о появлении хищника… Свист воздуха, рассекаемого крыльями ночной птицы…
— О, Махадэви! В эту темную половину месяца я найду еще семь сыновей брахманов и принесу тебе в жертву. Кровью их глоток я омою жертвенный круг, ветви баньяна обвешу потрохами и поднесу тебе все восемь сортов сочного мяса!..
Старик и Рыбоглазый замерли. Ангулимала широко расставил ноги, готовясь отсечь у живого мальчика конечности: сначала ступни до щиколоток, затем обе голени по колено и бедра по пояс.
И тут что-то сдвинулось в его душе; это было несогласие, чуть слышное несогласие. Он сделал усилие, отгоняя внезапное наваждение, которое могло запятнать чистоту его взгляда, наваждение, которое тянуло его назад, в мучительные узы сансары. И как будто преуспел в этом.
Его снова охватило чувство гармонии, освобождения и покоя. Атман не связан с добром или со злом; каковы бы ни были грех, зло и страдание в мире, они страдание, зло и грех только по отношению к человеку. Жертва и приносящий жертву — одна и та же субстанция; все различия мнимы, ибо все в мире — Атман. Жертва остается жертвой, но в то же время она и палач, а палач — жертва. Между мальчиком, восседающим на слоне, и мальчиком, насаженным на остро заточенный кол, словно дичь на вертел, нет разницы; даже рождение и смерть всего лишь этапы существования духовных сущностей, частиц великого Атмана. Каждый — и жертва, и палач — сами выбрали свой опыт в прежних рождениях. Смерти нет, ибо убитый возвратится обратно по закону кармы.
Но сам он уже освободился от этого закона; он наконец-то отыскал Строителя дома, и этим Строителем оказался он сам. Он был Атманом и он был богом, он был Брахманом и Бхагаваном, у него были все свойства и качества бога, он наконец-то увидел это последнее, самое важное звено Цепи Причинности!.. Его сознание вновь стало прозрачным и ясным, он любовался переливами Атмана.
И вдруг в этих переливах блеснуло лицо Рахулы.
…Секира Ангулималы медленно поднялась над жертвенником; старик и Рыбоглазый, согнувшись, стояли чуть поодаль, держа наготове глиняные миски, чтобы собрать кровь.
— Аум, — выдохнул Сиддхарта, и добрый дух дерева, живший в старом баньяне, возрадовался в своем обиталище.
— Аум! — повторил Сиддхарта, словно лев, оглашающий рыком плоскогорье.
— А-у-ум!! — взревел Сиддхарта, и голос его завибрировал во всех трех мирах, словно звон тетивы великого Рамы.
Глава XIV
НАЛАНДА
По полу скользнула большая светло-желтая ящерица и быстро поползла вверх по балке, подпиравшей крышу террасы, — там, наверху, были комары. Он проводил геккона взглядом и сказал:
— Это было давным-давно, когда я покидал Капилавасту… Я уже приготовил веревку, чтобы спуститься в сад через слуховое окно, и вдруг подумал о сыне. Я вошел в покои Яшовати. Там был полумрак, горела лишь лампа с ароматным маслом. Моя жена спала на широком ложе, усыпанном лепестками жасмина, и рука ее покоилась на голове мальчика. О, у него было такое светлое лицо, у моего Рахулы! Я хотел взять его на руки, но испугался, что Яшовати проснется, если я отодвину ее руку… Я ушел, не попрощавшись… А на поляне я вдруг увидел лицо сына, словно опять стоял над его ложем. В то мгновенье я был уверен, что это мой Рахула лежит на жертвеннике! Я сам не заметил, как надорвал путы…
Хозяин дома вытер слезы тыльной стороной ладони.
— Знаешь, накануне того дня на его ложе нашли клок шерсти, и я подумал, что это предвещает беду, — сказал он. — Потом в рисе одной из служанок оказался волос неизвестного человека; а утром, когда мальчик убежал, в дом залетел голубь и оставил след в очаге. О, Сома! Я сам во всем виноват! Ведь это я рассказал ему о Мукалинде!
Сиддхарта без выражения посмотрел на него.
— Ну да! — Брахман чуть не плакал. — О змеином радже и его гонге! Я думал развлечь его этой сказкой… У змей есть свои варны, причем кобры — это брахманы, удавы и водяные змеи — кшатрии, травяные змеи — вайшьи, а гадюки — шудры. Раджа змей Мукалинда — владыка дождя. У него капюшон, как у очковой змеи, а на капюшоне — драгоценные камни. Если ударить в волшебный гонг Мукалинды, пойдет дождь. И однажды на земле стояла ужасная засуха, но семилетний сын брахмана из города Читракута отыскал змеиного раджу и ударил в гонг. О, Сома! Я и подумать не мог, что он поверит в такую нелепицу. А он… он хотел спасти всех от засухи!..
Сиддхарта не ответил — он думал о другом. О том, что теперь для него все потеряно.
— Говорили, что нужно послать в Раджагриху, но я-то прекрасно знал, куда он ушел! Я был в отчаянии и всю ночь просидел у очага, раскачиваясь взад и вперед. Я вспоминал, как он, совсем маленький, впервые появился в моем доме… Его матушка полагала, что во время беременности хорошо смотреть на красивых детей, и красивые дети кишели в их дворе, словно муравьи на медовых сотах. Правда, это не помогло ей пережить роды… Но мальчик и вправду родился красивый, как Индра, с золотистой кожей, с такими изящными и точеными чертами лица! Я сидел у очага и вспоминал, как у него пучило живот от незрелых манго… Знаешь, он никогда не скучал и все увиденное старался изобразить в игре, а получив в подарок безделушку — какого-нибудь глупого глиняного павлина, — светился так, словно ехал на слоне… Однажды он утащил два веера, влез на сливовое дерево и захлопал ими, изображая крик петуха… А когда я ругал его, он молча чесал одной босой ногой о другую… Понимаешь, я вдовец, Сиддхарта, мои сыновья давно выросли и живут в Раджагрихе, и я одинок. Но этот мальчик… Глядя на него, я радовался, как лесная кукушка, завидевшая цветущее манго. О, Сома! Я не знал, как буду жить дальше… — Шарипутра задрожал и прикрыл ладонью глаза. — Прости меня, — сказал он немного погодя, взяв себя в руки. — Я снова готов слушать тебя. Ты говорил о той проклятой поляне.
— О поляне… — с горечью повторил Сиддхарта. — На той проклятой поляне я лишился всего — всего, что накопил за долгие годы аскезы и созерцания… А я был так близок к освобождению! Я уже чувствовал себя богом, я был на пороге нирваны! Мой третий крик разметал бхайравов, словно ветер — прошлогодние листья, но он сделал меня слабее, он снова сделал меня человеком… Грязного старика отбросило от жертвенника, и он повалился спиной в костер. Он умер не сразу, какое-то время еще визжал и хрипел — я помню, как горела его длинная коса… Рыбоглазый выронил чашу и покатился по земле, словно лиана, сорванная ветром, а потом его остановил воткнутый в землю кол. Ухватившись за него, он вскочил на ноги и нырнул в джунгли, как в темную воду. Я не стал преследовать его, и он убежал…
— Его нашли на рассвете. Молния убила его.
— Это неважно… Я понимал в то мгновенье, что Пути уже не будет! Мне уже никогда не достичь освобождения от страданий! Я стоял у последней черты, но так и не переступил ее! Меня погубил мальчик-мерия, меня погубило желание! Я вмешался в чужую судьбу, в чужую карму, отнял чужую жизнь, убил человека! Если бы ты знал, старик, что это такое — своей рукой зарезать человека, словно барана… Когда я закричал в третий раз, Ангулимала бросил свою жатку, упал на колени и вцепился обеими руками в жертвенник. О, он не хотел умирать. Я поднял секиру, схватил его за руку, и…
Шарипутра сжал четки так, что рука его побелела.
— Это был не человек, — сказал он. — Ты убил упыря, ракшаса!
— Нет, брахман, нет! — Сиддхарта дрожал, как в лихорадке. — Я убил человека! Если бы не убийство, я еще мог бы вернуть свою силу иддхи, свое сознание, самое ясное сознание в мире, свою глубину постижения Истины! Я почти окунулся в нирвану, я смотрел на больное печалью человечество, как стоящий на горе смотрит настоящего на равнине, как мудрый — на глупого… И тут мое восхождение к Истине пресеклось, оборвалось! Когда Ангулимала корчился на земле, захлебываясь кровью и пытаясь затолкать внутренности обратно в живот, драгоценное чувство близости к Истине стало пропадать, уходить, как вода в песок Моя энергия иддхи уходила в землю через ноги, я больше не мог обжигать взглядом, парить над землей, и даже мои пальцы перестали светиться… Я зашатался, я понял, что проиграл! Это было наваждение, обман! На самом деле не было никакого Рахулы, мой Рахула оставался в Капилавасту, это было последнее искушение, и я поддался ему, я проиграл!
Брахман с ужасом смотрел на него.
— О, Сома, но ты же спас его! Мои крестьяне увидели вас на дороге…
— Я спас его лишь потому, что не хотел еще одной смерти, старик Моя карма и так уже была тяжела, как мешок, набитый камнями. Но сначала я даже не вспомнил о нем. Я прошел несколько десятков шагов и вдруг подумал, что он остался на жертвеннике. Я вернулся. Мальчик лежал на алтаре ничком, и от него пахло страхом. Вот-вот должна была начаться гроза, молнии Индры резали небо. Потом наверху громыхнуло, косой ураган ударил в землю, как в бубен… По лесу катились ручьи, руки у меня были заняты, а ноги скользили. Не знаю, сколько я продирался сквозь джунгли. Уже светало, когда я выбрался на какую-то дорогу и рухнул на нее, как подсеченный ствол банана…
— Может быть, ты хочешь увидеть его? — с надеждой спросил брахман. — Он слаб, но ему уже лучше.
Сиддхарта покачал головой.
— Нет, старик Я ничего не хочу.
Он любил это озеро в бамбуковой роще. Озерцо было самое обычное. Мелководье заросло красным рисом, а по кромке воды тянулся мелкий кустарник, усеянный желтыми и синими цветами. У берега напротив рассыпались по воде белые кувшинки.
— И в несчетном ряду круговремен все будет так, — прошептал он. — Я вижу Истину в каждой росинке, в каждом трепещущем листике…
Солнце медленно поднималось над краем леса, нежно просвечивая листву. В голосах птиц была не страсть, как на закате, а только беззаботная радость. Он слышал воркование лесных голубей и сосредоточенное жужжание пчел, привлеченных цветочным ароматом. Пчелы словно бы говорили: вы можете развлекаться, но мы занимаемся делом.
— О, великий свет любви, мощь богов, молоко растений! — выдохнул он. И, сделав шаг к воде, запел:
— Пусть коровы, белые и пестрые, пьют из реки чистую воду… Пусть мужчины, не зная горя, надевают хомуты на пахотных быков… Пусть женщины в золотых украшениях с радостью поднимаются на супружеское ложе… Пусть зародыш-мальчик входит в их лоно легко, как стрела в колчан… Пусть люди будут непричастны злу, как масло, очищенное цедилкой!..
По небу разливался розовый цвет, и озеро тоже было розовым. Позади хрустнула ветка, и Шарипутра опустил руки. Он постоял немного, ожидая, что человек, стоящий за его спиной, заговорит сам. Но тот молчал, и тогда брахман мягко сказал:
— Мне кажется, тебе не стоило вставать так рано.
— А ты опять сочинял стихи?
Шарипутра вздохнул.
— Кому сейчас нужны новые гимны? У нас совсем забыли о брахманах. Правитель Бенареса был последним, кто не скупился на жертвы и щедрые дары. А теперь, говорят, раджой у них стал какой-то грубый мужлан — не то смотритель конюшен, не то начальник слоновника… О, Сома! Все меняется в Арьяварте, и только мое озеро остается на прежнем месте. Я прихожу сюда каждое утро — разумеется, кроме поры дождей. Тогда сюда приходят дикие слоны. Капли стучат по плотным листам, над озером шипят вихри вод, все застлано водяным туманом, и только пестрорукие лягушки переговариваются над лужами. А одна из них, самая отчаянная, плавает посреди озера, растопырив лапки. Слоны стоят, перекинув хоботы на могучие бивни, и слушают дождь, как музыку.
Сиддхарта подошел к воде. Вода в озере была мутной после недавней грозы, и все-таки можно было разглядеть уходящие ко дну стебли кувшинок.
— Что ж, тебе можно позавидовать, — сказал он.
— Ты тоже понял? Много лет назад я впервые ощутил это здесь. Я читал мантру Савитри и вдруг почувствовал, что страна богов, где свет никогда не гаснет, существует… Этой страны не найдешь ни на небе, ни среди океана, ни в горной долине, но она существует! А недавно мне приснился очень странный сон… Будто Ананда нес огонь в светильнике, и ветер задул его. Я спросил: «Где ты взял этот огонь, мой мальчик?» Он ответил: «Скажи, куда ушел этот огонь, и я скажу, откуда принес его». Я проснулся и долго думал: куда же уходит сияющий Агни, когда гаснет лампада или костер?
— Тебе лучше знать, старик Мне приходилось слышать, что сияющий Агни забавлялся с чужими женами, да и другие боги не лучше его.
— Так говорят. Но, принося в жертву молоко, возливая ложкой масло, я думаю о том, что боги милостивы, а созидаемое ими преисполнено промысла. Я верю: боги не ввергнут людей во зло. А еще я верю в страну света, где много коров; эта страна изобилует молоком, маслом и медом. Там обитают радость и веселье, дружба и счастье, а всякое доброе желание находит себе исполнение…
Лицо отшельника оставалось бесстрастным; губы его были плотно сжаты. Нет, он ничего не понял. Шарипутра вспомнил его смелую улыбку и черные волосы, которые закручивались подобно фазаньему хвосту, и у него сжалось сердце.
— Послушай, Сиддхарта! — заговорил он. — Семь лет назад ты появился здесь без меча и лука, сложенный, как Индра, в набедренной повязке, покрытой пылью, и я обрадовался, словно рыбак, нашедший кольцо раджи в рыбьем желудке. Ты был еще мальчиком, черноволосым юношей в расцвете молодости, ты двигался легкой походкой, а мне казалось, что вдоль тропинки, где ты идешь, распускаются лотосы. О, Сома! Сердце мое обмирало, когда ты сидел передо мною на террасе, ресницами полузакрыв глаза! Теперь поступь твоя тверда, ты стал мудрым, и глаза твои смотрят прямо… Вспомни о древнем радже Махасаммате, вспомни о его потомках! Некий правитель решил передать престол младшему сыну, а старшие дети, недовольные его решением, ушли в леса на склоне Хималая. В верховьях реки Рапти, где росли деревья шака, они построили свой город Капилавасту… О, прекрасная страна шакьев, изобильная богатствами и героями! О, благородный город Капилавасту, основанный девятью царевичами! Это город с медными арками и подвесными мостами, стенами из обожженного кирпича и грозными башнями, великолепными дворцами и тенистыми парками. Это город, где живут гордые и храбрые люди, называющие себя потомками солнца… Это город, где тебя ждут, царевич Гаутама.
Было тихо, только рыба плеснула хвостом возле камышовых зарослей, а потом в джунглях послышался плач шакала.
— Все есть страдание, — пробормотал Сиддхарта.
— Что ты сказал?
— Когда-то давным-давно я понял, что все в нашей жизни страдание, начиная с рождения…
— Постой, Сиддхарта, постой, — заволновался брахман. — Ты говоришь, что все в жизни страдание, начиная с рождения, но это не так. Рождение — радость. Когда на свет появляется ребенок, родители любят его.
— А разве те, кого мы любим, не делают нам больно? Разве мы не страдаем из-за них?
— Да, они делают нам больно, но мы любим их еще сильнее. О, Сома! Ведь любовь сильнее страдания. Любовь достигает даже пространств между мирами, мрачных, темных, где не светят луна и солнце.
— Странные ты говоришь слова, брахман.
— Послушай, Сиддхарта! Вот мать не может разродиться, и возле нее в хижине суетится повивальная бабка, а отец сидит на пороге, мнет в руках стебель травы и восклицает: «Когда же окончится это мучение!» Но вот раздается крик, и бабка кладет новорожденного матери на живот, а он находит ртом темный сосок — разве мать не любит его, своего мучителя? Разве, как только ребенок закричит, она не забывает о своем изнеможении, не гладит и не ласкает его кожу? Разве не во всякое время она любит его, разве не каждая ее мысль о нем полна нежности? Проходит полгода. Дитя на руках у матери и, играя, бьет ее руками и ногами, больно дергает за волосы и тычет кулачком в лицо, а она говорит ему: «За что колотишь меня, плутишка?» — и в порыве любви прижимает его к груди и целует — разве тогда она не любит его? Сынишка подрастает. Мать помогает ему во время омовения и, любуясь, с нежностью гладит его красивые, стройные плечи. Мать посылает его за маслом в лавку, но мальчик отвечает: «Не пойду, на улице жарко». Она хватается за прут. Мальчик убегает, боясь наказания, а мать кричит ему вдогонку: «Пусть тебя разбойники схватят!» — и бранит, и честит его, а потом с ноющим сердцем сидит на пороге и мучается, как корова, у которой взяли теленка, — разве тогда она не любит его? А когда она со слезами ищет его по домам родных, наконец находит, обнимает и целует, крепко прижимает его, грязного и запыленного, к груди и восклицает: «Неужели ты обиделся на меня!» — разве тогда она не любит его? Нет, Сиддхарта, миром правит не страдание, а любовь — до самой макушки бытия!
Сиддхарта застонал.
— Ты колешь меня, как коня стрекалом. Но скажи мне, брахман, если миром правит любовь, как ты говоришь, почему в мире столько зла? Почему люди болеют, стареют и умирают? Почему злые преследуют добрых? Почему бхайравы приносят в жертву детей?
— Я не знаю, Сиддхарта… Не знаю…
— Зачем жить, если в мире побеждает зло?
Брахман вздохнул.
— Я уже стар, и посланцы смерти скоро снимут с огня мой горшок Мое дыхание укорачивается, суставы слабеют, сиденье кажется жестким и неудобным. Мое тело — как старая повозка, связанная ремнями, и все-таки я живу. Каждый день я ем рис и пью молоко, и это же едят и пьют мои слуги, хотя я мог бы давать им рисовую шелуху и прокисшую кашу. В моей Наланде не бьют палками крестьян, и они делают свою работу, не плача и не боясь наказания. Это то немногое, что я могу, Сиддхарта, помимо ежедневных жертв и молитв, а больше с меня и не спросят.
— Но разве счастливы люди в твоей деревне? Если идет дождь, они дрожат в своих хижинах, а если дождя нет, их опаляет солнце и жалят мухи и оводы.
— За землей Гвоздичного дерева есть еще остров Смоковниц, Хлопковый остров и остров травы Куша. Может быть, там люди живут лучше.
— Не потеют, не горюют, не плачут? Нет, брахман, напрасно ты пытаешься утешить меня! Я искал путь к освобождению от страданий и не нашел его…
— О, Сома! Зато ты спас от страданий одного мальчика. И он будет жить — благодаря тебе.
Над джунглями разносилось утреннее щебетанье птиц, похожее на звон колец на запястьях танцующей девушки, но Сиддхарта не слышал его.
Из-за дымки выплыл утренний месяц, подобный лику любимого сына, что глядит на отца из-за дверной завесы, однако и месяца Сиддхарта не видел.
— Посмотри, — сказал брахман, отступая в сторону.
Сиддхарта поднял голову и увидел Ананду. Мальчик был слаб, он шел навстречу ему нетвердой походкой. И Сиддхарта с удивлением понял, что старик вчера говорил ему правду: у него в самом деле были изящные точеные черты лица, золотистая кожа, ровные плечи, и темно-оливковые глаза, и длинные — словно у бычка — ресницы. Но и это было неважно, а важным было лишь то, что этот мальчик остался жив и что именно он, Сиддхарта, спас его от секиры Ангулималы. И что ради этого, может быть, и вправду стоило когда-то уйти из Капилавасту. Ананда упал на колени и хотел прикоснуться губами к ноге Сиддхарты, но Сиддхарта подхватил его на руки и поцеловал.
И он стоял долго, чувствуя шеей горячее дыхание мальчика, и ему не хотелось отпускать его, чтобы и дальше чувствовать это дыхание. Потом какие-то люди окружили их, и они что-то взволнованно говорили, но Сиддхарта только улыбался в ответ.
Он понимал, что никогда не достигнет нирваны, что энергия иддхи покинула его навсегда, что теперь он не сможет парить над землей, обжигать взглядом, совершать путешествия вне тела, и кончики его пальцев не будут светиться. Семь лет подряд он хотел заставить свое сердце умолкнуть, сделать его покорным, равнодушным, бесстрастным. Он хотел умертвить его, но потерпел поражение, а его сердце победило, ибо человеческое сердце победить нельзя, и не спрячется вор, укравший луну, ибо повсюду будет свет!