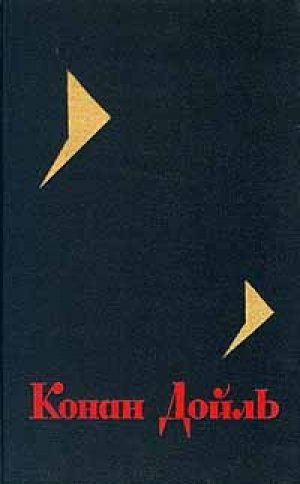
В середине четвертого века состояние христианской религии было возмутительно и позорно. В бедах кроткая, смиренная и долготерпеливая, она сделалась, познав успех, самонадеянной, агрессивной и безрассудной. Язычество еще не умерло, но быстро угасало, находя самых надежных приверженцев либо среди консервативной знати из лучших родов, либо среди темных деревенских жителей, которые и дали умирающей вере ее имя[1]. Меж двумя этими крайностями заключалось громадное большинство рассудительных людей, обратившихся от многобожия к единобожию и навсегда отвергших верования предков. Но вместе с пороками политеизма они расстались и с его достоинствами, среди которых особенно приметны были терпимость и благодушие религиозного чувства. Пламенное рвение христиан побуждало их исследовать и строго определять каждое понятие в своем богословии; а поскольку центральной власти, которая могла бы проверить такие определения, у них не было, сотни враждующих ересей не замедлили появиться на свет, и та же самая пламенная верность собственным убеждениям заставляла более сильные партии раскольников навязывать свои взгляды более слабым, повергая Восточный мир в смуту и раздор.
Центрами богословской войны были Александрия, Антиохия и Константинополь. Весь север Африки тоже был истерзан борьбою: здесь главным врагом были донатисты, которые охраняли свой раскол железными цепами и боевым кличем «Хвалите Господа!». Но мелкие местные распри канули в небытие, когда вспыхнул великий спор между католиками и арианами, спор, рассекший надвое каждую деревню, каждый дом — от хижины до дворца. Соперничающие учения о гомоусии и гомиоусии[2], содержавшие в себе метафизические различия настолько тонкие, что их едва можно было обнаружить, поднимали епископа на епископа и общину на общину. Чернила богословов и кровь фанатиков лились рекою с обеих сторон, и кроткие последователи Христа с ужасом убеждались, что их вера в ответе за такой разгул кровавого буйства, какой еще никогда не осквернял религиозную историю мира. Многие из них, веровавшие особенно искренне, были потрясены до глубины души и бежали в Ливийскую пустыню или в безлюдье Понта, чтобы там, в самоотречении и молитвах ждать Второго пришествия, уже совсем близкого, как тогда казалось. Но и в пустынях звучали отголоски дальней борьбы, и отшельники из своих логовищ метали яростные взоры на проходивших мимо странников, которые могли быть заражены учением Афанасия или Ария.
Одним из таких отшельников был Симон Мела, о котором пойдет наш рассказ. Католик, верный догмату Святой Троицы, он был возмущен крайностями в гонениях на ариан, крайностями, сопоставимыми лишь с теми зверствами, какие в дни своего торжества чинили ариане, мстя за свои обиды братьям во Христе. Устав от нескончаемых раздоров, уверенный, что конец света действительно вот-вот наступит, Симон Мела бросил свой дом в Константинополе и в поисках тихого прибежища добрался до готских поселений в задунайской Дакии. Продолжив путь на северо-восток, он пересек реку, которую мы теперь называем Днестром, и тут, найдя скалистый холм, возвышавшийся над безграничною равниной, устроил себе келью подле вершины, чтобы окончить свои дни в самоотречении и размышлениях. В речных струях играла рыба, земля изобиловала дичью, и дикие плоды усыпали деревья, так что духовные упражнения отшельника не слишком часто и не слишком надолго прерывались поисками пищи телесной.
В этом отдаленном убежище он рассчитывал обрести полное уединение, но надежда его оказалась тщетной. Примерно через неделю после прибытия греховное мирское любопытство овладело Симоном Мелой, и он пустился осматривать склоны высокого скалистого холма, который его приютил. Пробираясь к расщелине, прикрытой ветвями оливковых и миртовых деревьев, он вдруг наткнулся на пещеру, в устье которой сидел старец, седобородый, седовласый и ветхий — такой же отшельник, как он сам. Столь долгие годы он прожил в одиночестве, что человеческая речь почти совсем изгладилась из его памяти; но в конце концов слова потекли свободнее, и он смог сообщить, что зовут его Павел из Никополя, что он грек и тоже удалился в пустыню ради спасения души, убегая от еретической скверны и заразы.
— Вот уж не думал, брат Симон, — сказал он, — что встречу еще кого-то, кто в тех же святых исканиях забредет так же далеко. За все эти годы, а их было так много, что я и счет потерял, я ни разу не видел человека, кроме одного или двух пастухов там вдали, на равнине.
Широкая степь, блиставшая под солнцем свежею зеленью травы и колыхавшаяся под ветром, тянулась от их холма к восточному горизонту ровно и непрерывно, как море. Симон Мела пристально поглядел вдаль.
— Скажи мне, брат Павел, — спросил он, — ведь ты живешь здесь так долго, — что лежит по другую сторону этой равнины?
Старик покачал головой.
— У этой равнины нет другой стороны, — отвечал он. — Здесь край света, и она уходит в бесконечность. Все эти годы я провел подле нее, но ни разу не видел, чтобы кто-нибудь ее пересек. Ясное дело, если бы другая сторона существовала, в один прекрасный день непременно появился бы путник оттуда. За большой рекой стоит римская крепостца Тир, но до нее целый день пути, и римляне никогда не прерывали моих размышлений.
— О чем же ты размышляешь, брат Павел?
— Сперва я размышлял о многих священных тайнах, но вот уже двадцать лет, как я постоянно сосредоточен мыслью на одном — на природе Логоса. А что думаешь ты об этом наиважнейшем предмете, брат Симон?
— Тут не может быть двух мнений, — отвечал с уверенностью младший отшельник. — Логос — это, конечно, не что иное, как имя, которым святой апостол Иоанн обозначает божество.
Старый отшельник испустил хриплый вопль ярости, его темное, иссохшее лицо бешено исказилось. Схватив громадную дубину, которую он припас, чтобы отбиваться от волков, старик замахнулся на своего собеседника.
— Вон отсюда! Вон из моей кельи! — закричал он. — Неужели я для того прожил на этом месте так долго, чтобы увидеть, как его испоганит гнусный приспешник негодяя Афанасия? Проклятый идолопоклонник, запомни раз и навсегда, что Логос есть лишь эманация божества и ни в коем случае не равен ему — ни сущностью, ни вечностью! Убирайся вон, тебе говорят, или я расшибу твою дурацкую башку вдребезги!
Взывать к рассудку взбешенного арианина было бесполезно, и Симон удалился в скорби и изумлении от того, что даже здесь, на самой дальней оконечности ведомого человеку мира, уединенный покой пустыни разбит и разрушен духом религиозной борьбы. Понурив голову, с тяжестью на сердце спустился он в долину, и снова поднялся к своей келье близ макушки холма, и по дороге дал себе слово никогда больше не видеться с соседом-арианином.
Год прожил Симон Мела в уединении и молитве. Не было никаких оснований ждать, что кто-нибудь или когда-нибудь явится в эту крайнюю точку обитаемой вселенной. И все-таки однажды молодой римский офицер Гай Красс приехал из Тира, проведя целый день в седле, и взобрался на холм к анахорету, чтобы с ним поговорить. Он происходил из всаднической семьи и все еще держался старых верований. С интересом и удивлением, но в то же время и с некоторой брезгливостью разглядывал он аскетическое устройство убогого жилища.
— Кому вы угождаете такою жизнью? — спросил он.
— Мы свидетельствуем, что дух наш выше плоти, — отвечал Симон. — Если мы бедствуем в этом мире, то верим, что пожнем плоды в мире будущем.
Центурион пожал плечами.
— Среди наших есть философы — стоики и другие, — которые рассуждают так же. Когда я служил в герульской[3] когорте Четвертого легиона, мы стояли в самом Риме, и я часто встречался с христианами, но не смог услышать от них ничего такого, чего бы уже не знал раньше — от собственного отца, которого вы в своей заносчивости назвали бы язычником. Да, правда, мы признаем многих богов, но уже давно никто не принимает этого буквально и всерьез. А наши представления о до блести, долге и достойной жизни те же, что у вас.
Симон Мела покачал головой.
— Если у вас нет священных книг, — возразил он, — чем же вы руководитесь на путях к жизни?
— Если ты прочитаешь наших философов, и прежде всего божественного Платона, ты убедишься, что есть и иные вожатаи, способные привести к той же цели. Не попадалась ли тебе случайно книга нашего императора Марка Авралия? Разве не открываешь ты в ней все добродетели, какие только могут быть у человека, — а ведь он ничего не знал о вашей вере. А задумывался ты когда-либо над словами и делами нашего умершего императора Юлиана — я ходил под его командою в свой первый поход, против персов? Можешь ли ты указать мне человека более совершенного?
— Такие речи ни к чему не ведут, — сурово промолвил Симон. — оставим их, довольно! Остерегись, пока еще есть время, и прими истинную веру, ибо конец света близок, и когда он настанет, тем, кто зажмурился перед светом, пощады не будет!
Сказавши так, он снова обернулся к молитвенной скамеечке и распятию, а молодой римлянин в глубокой задумчивости зашагал вниз по склону, сел на коня и поехал к своей отдаленной крепостце. Симон провожал его взглядом до тех пор, пока бронзовый шлем центуриона не превратился в светлую бусинку на западном краю великой равнины; ибо это было первое человеческое лицо, которое он видел за весь этот долгий год, и бывали минуты, когда его сердце томилось тоскою по людским голосам и лицам.
Еще год миновал, и, не считая перемены погоды и медленного чередования весны и лета, осени и зимы, дни были неотличимы друг от друга. Каждое утро, открыв глаза, Симон видел все ту же серую полосу далеко на востоке, наливавшуюся красным до тех пор, покуда яркая кайма не пробьется над дальним горизонтом, которого никогда не переходило ни одно живое существо. Медленно шествовало солнце по широкой дуге в небесах, и тени, падавшие от черных скал над пещерой, перемещались, подсказывая отшельнику срок молитвы и время размышлений. Ничто на свете не могло отвлечь его взор или рассеять мысли, ибо травянистая равнина внизу была из месяца в месяц столь же пустынна, как небо над головой. Так текли долгие часы, и вот уже красная кайма скользит и сползает на другом краю неба, и день кончается в том же жемчужно-сером сиянии, в каком начался. Как-то раз два ворона несколько дней подряд кружили вокруг одинокого холма, в другой раз белый орел-рыболов прилетел с Днестра и пронзительно клекотал в вышине. Иногда на зелени равнины показывались красноватые точки — это паслись антилопы, и часто волк выл во мраке у подножия скал. Такова была бедная событиями жизнь пустынника Симона Мелы, и тут наступил День гнева.
Была поздняя весна 375 года. Симон вышел из кельи с пустою тыквой в руке, чтобы зачерпнуть воды из родника. Солнце уже село, и темнота подступала, но последний розовый свет еще мерцал на скалистой вершине, поднимавшейся за холмом. Выйдя из-под уступа, прикрывавшего его жилище, Симон выронил тыкву и замер в изумлении.
На вершине стоял человек — черный контур в гаснущем свете. Облик его был странен, почти уродлив: короткая, сутулая фигура, большая голова совсем без шеи и какой-то длинный прут, торчавший между плечами. Он стоял, наклонившись, вытянув голову, и очень внимательно разглядывал равнину на западе. Через миг он исчез, и одинокая черная вершина была нагой и холодной на фоне неверного мерцания востока. Потом опустилась ночь, и чернота разлилась повсюду.
Симон Мела долго не мог тронуться с места, гадая, кто же этот странный незнакомец. Как и всякий христианин, он слыхал про злых духов, которые обычно являлись отшельникам в Фиваиде и на окраине Эфиопской пустыни. Странное обличье этого одинокого существа, темные его очертания, чуткая, напряженная поза, напоминающая скорее о свирепом и хищном звере, нежели о человеке, — все помогало пустыннику уверовать, что наконец-то он столкнулся с одним из тех исчадий преисподней, в существовании которых он сомневался столь же мало, сколько в собственном существовании. Большую часть ночи он провел в молитве, не сводя глаз с двери своей кельи, с черно-фиолетовой, в частых звездах завесы, закрывшей низкий свод. В любой миг какое-нибудь ползучее чудище, какая-нибудь рогатая мерзость могла уставиться на него, и, уступая человеческой слабости, млея от ужаса при этой мысли, он отчаянно взывал к своему распятию. Но в конце концов усталость взяла верх над страхом, и, упав на постель из сухой травы, он уснул и спал до тех пор, пока яркий свет дня не вернул его к действительности.
Пробуждение было пóзднее — позднéе обычного, — солнце успело подняться высоко над горизонтом. Выйдя из кельи, он оглядел вершину напротив, но она была пуста и молчалива. Ему уже начинало казаться, что та странная, мрачная фигура, которая так его напугала, была лишь видением, примерещившимся в сумерках. Его тыква валялась на том же месте, где упала, и он поднял ее, собираясь продолжить путь к роднику. И вдруг он понял, что совершилась какая-то перемена. Воздух гудел и дрожал. Ворчливый гул несся со всех сторон, неопределенный, невнятный, низкий, но густой и мощный, слабея и усиливаясь, дробясь и отдаваясь в скалах, стихая до глухого шепота, но ни на миг не исчезая вовсе. В крайнем изумлении Симон поднял глаза к голубому, безоблачному небу. Потом вскарабкался на скалистую макушку холма, укрылся в тени и окинул взором равнину. Даже в самом диком сне не могло ему привидеться ничего подобного.
Все широкое пространство было покрыто конниками — сотни, тысячи, десятки тысяч конников ехали медленно и безмолвно с неведомого востока. Топот бесчисленных копыт и вызывал глухое содрогание воздуха. Некоторые проезжали так близко, что, глядя вниз, он ясно видел отощавших, но жилистых коней и странные сутулые фигуры смуглых всадников: они сидели на самой холке, короткие ноги свисали, не опираясь на стремена, но человеческое тело, похожее на бесформенный узел, покачивалось так уверенно и твердо, словно срослось воедино с телом животного. У этих ближайших к нему он видел лук, колчан, длинное копье и короткий меч, свернутое кольцом лассо за спиною, и это свидетельствовало, что перед ним не безобидная орда кочевников, но гигантское войско на марше. Его взгляд скользил все дальше, дальше, но до самого горизонта, который теперь мелко колыхался, не было ничего, кроме этой чудовищной конницы. Головной отряд уже давно миновал скалистый остров, на котором жил Симон Мела, и теперь он мог понять, что впереди авангарда шли разведчики, направлявшие движение всего войска, и что одного из них он и видел накануне вечером.
Весь день отшельник, зачарованный поразительным зрелищем, робко прятался в тени скал, и весь день внизу, по равнине, катилось море всадников. Симону случалось видеть кишащие народом причалы Александрии, он видел толпу на ипподроме в Константинополе, но никогда не мог он себе представить такого множества людей, какое теперь проходило перед его глазами, появляясь с востока, от той черты горизонта, которая прежде была краем света. Время от времени плотные потоки всадников разрывал табун кобылиц с жеребятами, тоже под присмотром верховых, временами то были стада коров, временами вереницы повозок с кожаными навесами, но потом, после каждого разрыва, вновь шли конники, конники, сотни, тысячи, десятки тысяч, медленно, неиссякаемо, безмолвно — с востока на запад. Долгий день миновал, свет померк, упали тени, но великий поток не останавливался.
Ночь принесла новое и еще более поразительное зрелище. Симон заметил, что многие вьючные лошади нагружены хворостом — теперь он увидел назначение этого груза. По всей равнине замерцали сквозь мрак красные точки, они росли и светлели, превращаясь в трепещущие столбы пламени. К востоку и к западу, насколько хватало глаз, тянулись огни. Белые звезды сияли в широком небе над головой, красные — на бескрайней равнине внизу. И отовсюду поднимался глухой, невнятный шум человеческих голосов, смешанный с мычанием коров и ржанием лошадей.
Прежде чем отречься от мира, Симон был и солдатом и дельцом, и то, что он видел теперь, не оставляло в нем ни малейших сомнений. Из истории он знал, что римский мир беспрерывно подвергался атакам все новых варварских полчищ, приходивших из «внешней тьмы», и что Восточная империя, возникшая всего пятьдесят лет назад, когда Константин перенес столицу мира на берега Босфора, уже страдала от тех же самых нашествий. Гепиды и герулы, остроготы и сарматы — все эти имена были знакомы ему. То, что передовой караульный Европы увидел со своего одинокого, отдаленного холма, было еще одною волной, хлынувшей на Империю и отличавшейся от предыдущих лишь неслыханными, невероятными размерами да странным обличьем воинов, которые ее составляли. Из всех цивилизованных людей он один знал об этой страшной тени, которая надвигалась, точно тяжелая грозовая туча, из неведомых глубин Востока. Он подумал о римских крепостцах вдоль Днестра, о разрушившемся дакийском вале Траяна у них за спиной, а потом — обо всей стране, открытой вплоть до самого Дуная, с разбросанными по ней беззащитными деревнями, даже не подозревающими об опасности. Разве не в силах он хотя бы поднять тревогу? Может быть, именно ради этого и привел его в пустыню Господь!
Тут внезапно он вспомнил о соседе-арианине, который жил в пещере пониже. Раз или два за минувший год он мельком видел этого долговязого сутулого старика — как тот, едва ковыляя, осматривает силки, поставленные на перепелов и куропаток. Однажды они случайно встретились у ручья, но старый богослов знаком приказал ему удалиться, словно Симон был прокаженный. Что-то думает он об этих неожиданных событиях? Несомненно, разногласия следует забыть в такой миг! И Симон, крадучись, стал спускаться по склону холма, направляясь к пещере второго отшельника.
Но жуткое молчание встретило его, когда он приблизился, и сердце Симона сжалось в ответ на мертвую тишину маленькой долины. Ни лучика света не пробивалось сквозь расщелину в скале. Он вошел, окликнул старика — ответа не было. Тогда с помощью кремня и стального кресала он высек искру в сухую траву, которую употреблял вместо трута, и раздул огонек. Старый отшельник — белые волосы в малиновых брызгах — раскинулся на полу своей кельи. Осколки распятия, которым была пробита его голова, валялись рядом. Симон опустился на колени подле трупа и принялся расправлять его сведенные судорогой руки и ноги, бормоча слова заупокойной службы, как вдруг послышался стук копыт, поднимавшийся по долине, которая вела к жилищу пустынника. Сухая трава догорела. Симон, весь дрожа, притаился во мраке и твердил молитвы святой Деве, чтобы она укрепила его мышцы.
Возможно, новый пришелец заметил свет в пещере, а могло быть и так, что он услыхал от своих приятелей про старика, которого они убили, и любопытство привело его на место убийства. Он остановил лошадь у входа, и Симон, прячась в густой тени, отчетливо видел его в свете луны. Он сполз с седла, привязал повод к какому-то корню и теперь стоял, глядя в устье пещеры. Это был очень короткий и толстый человек с очень смуглым лицом и тремя рубцами на каждой щеке. Маленькие глазки сидели глубоко и казались черными отверстиями в тяжелом, плоском, безбородом лице. Ноги были короткие и очень кривые, так что он неуклюже переваливался на ходу.
Симон притаился в самом темном углу, сжимая в правой руке узловатую дубину, ту самую, которую богослов однажды поднял против него. Когда омерзительная, втянутая в плечи голова просунулась в темноту пещеры, он изо всех сил обрушил на нее свое оружие, а потом, когда дикарь упал ничком, бешено колотил до тех пор, пока бесформенное тело не обмякло и не замерло неподвижно. Одна кровля была над первыми убитыми Европы и Азии.
Жилы Симона бились и трепетали непривычною радостью действия. Вся энергия, накопленная за долгие годы покоя, хлынула потоком в этот час нужды. Стоя во мраке пещеры, он видел, словно на огненной карте, очертания великого варварского воинства, линию реки, места поселений, рассчитывал, каким образом можно всех предупредить. Молча ждал он, пока зайдет луна, а потом вскочил на лошадь убитого, спустился по ущелью и погнал ее галопом через равнину.
Повсюду горели огни, но он держался в стороне от света. Подле каждого огня он видел, проезжая мимо, кружок спящих воинов и длинную вереницу стреноженных коней. Миля за милей, лига за лигой тянулся этот исполинский лагерь. Наконец Симон добрался до пустой равнины, которая вела к реке, и скоро костры захватчиков обратились в туманное мерцание на черном фоне неба. Все быстрее и быстрее мчался он по степи, словно одинокий листок, который кружится впереди смерча. Заря, выбелившая небо у него за спиной, отразилась и в широкой реке впереди, и, нахлестывая усталого коня, он погнал его через отмели и погрузился в полные желтые воды Днестра.
Так это и произошло, что молодой римский центурион Гай Красс, обходя утром крепостцу Тир, заметил одинокого всадника, скакавшего к ним от реки. Истомленные, измученные, покрытые грязью и потом, а напоследок вымокшие в реке и конь и всадник были чуть живы. С изумлением наблюдал за ними римлянин, а когда они приблизились, узнал в оборванном человеке с взлохмаченными волосами и остановившимся взглядом пустынника с востока. Отшельник уже едва держался в седле, и римлянин поспешил навстречу и подхватил его на руки.
— Что такое? — спросил он. — Что случилось?
Но тот лишь указал движением головы на восходящее солнце.
— К оружию, — прохрипел он, — к оружию! День гнева настал.
И, взглянув туда, куда он показывал, римлянин увидел вдали за рекою громадную черную тень, медленно подвигавшуюся над равниной.