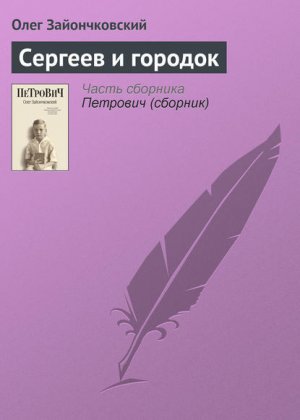
Частный сектор
Власти наши издавна постановили, как должны между собой различаться населенные пункты. Где горсовет с Лениным — это город, где сельсовет с флагом — село, а где нет ничего — деревня. Но мы, жители, это по-своему понимаем. В деревне все деревянное, деревенский домовой с лешим — родные братья. В селе веселее: где успел, там и осел, в селе МТС.[1] А город — другое: город огорожен, город гордый, на горе построен. «Взыдет князь на высокое место, поведет очима семо и овамо, топнет ножкой и повелит граду быть…»
Однако наш городок возник без княжьего соизволения. И лежит-то он в низинке, и гордости в нем никакой нет. Просто деревушки подмонастырские, польстясь на слободскую жизнь, хлеб сеять перестали. Завели фабричонки, торговлишку; тут еще железная дорога много помогла. Впрочем, городом мы себя еще долго не сознавали — только когда собаки уличные своих от чужих перестали отличать, тогда и спохватились. Подали прошение, куда следует, дескать, все у нас есть: и волостное управление, и милиция, и амбулатория. Хотим, мол, городом зваться и городское содержание от властей иметь. А власти отвечают: «Все у вас есть, да не все. Главного нет — завода. Фабричонки ваши мелкие, частные мы разорим, а большой химический завод построим — тогда и городом назовем». Подумали мы, подумали — делать нечего: сами навязались. Согласились на завод, а нас уж никто и не спрашивал… Власти разорили фабричонки, торговлишку и построили химзавод. Дорого мы заплатили за городское звание. Думали, хоть сделают нам водопровод, дороги замостят, ан просчитались. «Перебьетесь, — сказали власти. — Городом мы вас назвали, а теперь живите как хотите. Только на завод не прогуливайте». И чтобы мы, значит, двум богам не молились, они до кучи разорили монастырь.
С тех пор и живем — не город, а так — слобода заводская. Где была деревня Мутовки — улица Мутовская, где Митино — Митинская. Одни лишь собаки городскими стали: не лают, не кусаются — зачем мы их только кормим…
Завод пристроил к нам свой поселок. Домов понаставил на пустыре, на болоте, даже на старом кладбище. Провел в них центральное отопление, а между домами заасфальтировал улицы. Власти нарекли эти улицы от балды, чтобы приезжих пролетариев было где прописать. Селили там людей со странными ненашенскими фамилиями. А местные — Козловы да Мухины, Скибины да Калабины — остались проживать в своих избушках с курами, огородами и колодцами.
Переселиться с частного сектора в жил-дома было невозможное дело. Взять тех же Калабиных. Васька, Димитрия старший сын, как женился, нет, как ребенка родил, стал просить у завкома квартиру. Завком отказал: «Ты в своем доме живешь, тебе не положено». А он: «Дом-то маленький, и не мой, а батин. Тесно нам». А они: «Ничего не знаем — не положено». А он вспылил: «Я этот завод поднимал! Я мастером работаю!» — то да се… А завком спокойно отвечает: «Работаешь — и работай. А будешь выступать — мигом вылетишь и из мастеров, и вообще с завода. Беспартийный, а туда же!» Тут ему и крыть нечем: в партию его действительно не принимали по причине плохой анкеты. Отец его, Димитрий, был из раскулаченных.
Мало кто помнит, был у нас такой хутор Калабино — не деревня, а хутор. Жили там одни Калабины — семья или две. Хорошо жили: хозяйство у них было на полном ходу. В базарные дни масло в Москву возили, вальщики тоже считались знатные. Кого же раскулачивать, как не их? Конечно, власти про них не забыли — разорили вместе с прочими. Поляна, где хутор стоял, давно уже заросла бурьяном. Однако Димитрия не сослали — и на том спасибо, — а позволили переселиться с семьей в городок. Похоже, все-таки он кое-что ухитрился от властей утаить, потому что сумел купить на Митино домик с участком.
Семейство, поселившееся в домике, кроме главы своего, состояло из жены Димитрия Василича, Анастасии Егоровны, трех их сыновей, Василия, Степана и Петра, а также выжившей из ума старухи Екатерины. Про эту Екатерину многие думали, что она мать Димитрия, но она была его тетка, урожденная тоже Калабина. Переехав на Митино, Димитрий взялся за привычное ремесло: катать валяные сапоги на заказ и просто на рынок. Младшие сыновья пошли в школу, а Васька, знавший уже и счет, и грамоту, подался на заводскую стройку, Парень он был к труду смышленый: лет в тринадцать мог уже сам разобрать и спаять по-новой самовар и без отцовой помощи починить молочный сепаратор. Довольно скоро Василий возвысился до мастера и числился в заводе в общем-то на хорошем счету (пока не потребовал жилье). Степка, окончив семилетку, пошел от военкомата учиться на шофера. Петька с одной парты перепрыгнул за другую: поступил в техникум, где и проучился до самой войны. Так бы все ничего, но жизнь им портили проказы бабы Кати: сходит, бывало, под себя и обмажет кругом — кому это понравится? Наказывать ее было без толку, да и побаивались: люди считали ее колдуньей. Однажды она доигралась: пояс свой привязала к балке, сделала петлю, голову просунула, да с печки и — прыг. Потом, когда ее, в гробу, значит, выносили, в доме раздался такой хлопок, как взрыв, и повылетали все рамы. Прямо из стен повыпадали, а стекла, между прочим, целые остались. Тогда-то все и убедились, что Екатерина — точно ведьма. Неспроста про нее говорили, что она в молодости такая красавица была, какие в наших краях не родятся.
Но после того, как баба Катя удавилась, жильцов в доме не убавилось, потому что Василий женился. Взял он митинскую же, погорелых Бурцевых Надьку, и родила она ему дочь Наталью, а перед войной еще одну, Анну. Потом на Россию напали немцы и началась война. Ваську забрали на фронт. Уходя, он сказал: «Не волнуйтесь, долго мне воевать не придется». И точно — в сентябре его уже убило. В сорок втором призвали Степку: его взяли в танкисты. В сорок третьем настал черед Петькин. После Васькиной гибели старый Димитрий сильно сдал и с головой дружил уже плохо. Провожая младших, нес какую-то чушь: «Вы, сынки, — говорил он, — побейте сначала фашистов, а потом и наших коммуняков, мать их душу». Сыновья прикрывали окошки: «Ты, батя, такого больше нигде не скажи!» Степка-танкист воевал как положено: и ранения имел, и награды. Домой вернулся в сорок шестом — живой, хотя и весь обожженный. С Петькой другая история. Служил он на аэродроме техником, потом стал летать. Но летали они не на фронт, а на Дальний Восток, помощь американскую по ленд-лизу возили. Однажды самолет у них сломался, и сели они в тайге на поляну — снег выручил. А на борту — бочки со спиртом, полная загрузка. Бравый экипаж не растерялся и наладил с местными индейцами обмен: спирт, керосин — на жратву и прочее. Так они там и просидели чуть не до конца войны. Вернулся Петька невредимым, но законченным алкоголиком.
Однако Димитрий сыновей своих не дождался. Схоронила его Настасья в сорок четвертом. Надежда, вдова Васькина, чтобы прокормиться, пошла ткачихой на фабрику. Братья, как пришли с войны, оба женились. Степан — на Томке Спириной, учетчице из лесхоза (он туда на трактор устроился). Петр — на приезжей библиотекарше по имени Альбина. Женились оба по-глупому, что один, что другой: Томка прописана была в женской общаге, а Альбина и вовсе спала на стульях в своей библиотеке. Но думать было поздно: обе забрюхатели. И когда они разродились, домик затрещал по швам. Хорошо, что Степка с Томкой работали в лесхозе: тесу, бревен добыли, сделали пристройку. Потом покумекали с Петькой (он тогда еще был похож на человека) и сообща выгнали второй этаж. Пятидесятые годы прожили, можно сказать, с комфортом: внизу баба Настя и Надежда с дочерьми, в пристройке Степан с Тамарой и сын их, Серега, наверху Петр с Альбиной и сыном Славиком. Однако никакое благоусобие не может длиться вечно. Петька пьянствовал, бил Альбину и мешал Славику делать уроки. Анька с Наташкой подросли и стали шляться, а после и к себе приводить разных обормотов. Петька с ними нашел общий язык. Его выгнали из техникума, где он преподавал военное дело и физкультуру. В итоге он вообще перебрался жить на первый этаж, а баба Настя с Надеждой перешли наверх к Альбине. В шестьдесят шестом Петька погиб — замерз в сугробе. К тому времени весь первый этаж оккупировали Анька с Наташкой, их четверо детей и часто менявшиеся сожители. Баба Настя уже еле ползала; за ней ухаживала одна очкастая Альбина. Надежда очень уставала на фабрике, у нее опухали ноги. Но она хорошо зарабатывала и давала деньги «для Славика», которого называла внучком и который сделался для нее единственный свет в окошке. Степан с Томой жили хорошо. Правда, он отсидел два года за хищение и вышел по амнистии как фронтовик на двадцатипятилетие Победы. Но крал, собственно, не он, а Томка, а он взял вину на себя. Они купили мотоцикл с коляской марки ММЗ и держали его во дворе под брезентом. Огородом уже почти никто не занимался: что толку — все сожрет аньки-наташкина орава. Приструнял их иногда только Степанов Серега. Парень не пил, не курил, качал мускулы и серьезно готовился к армейской службе. Наташка тогда жила с Долговым, самогонщиком; они весь дом провоняли брагой. И что-то этот Долгов то ли сказал, то ли сделал Сереге. Малый взял играючи одной рукой сорокалитровую флягу и вылил эту дрянь Долгову на голову.
И зачем все это перечислять… Сергеев, тебе интересно?
Ладно… Разогнули Петьку в морге, положили в ящик, снесли на кладбище. Серегу проводили в армию. На втором году попал он в Чехословакию. Правильной жизни рос паренек, но из армии вернулся какой-то смурной. Поступил в милицию. Славка уже учился в институте на третьем курсе. В семидесятом, как раз когда Петра выпустили, померла, наконец, баба Настя. Тогда же, кажется, женился Серега, и пришлось делать к дому еще пристройку. Ну и так далее… Набралось их в доме человек пятнадцать, а может, и больше. Тот же хутор, только хозяйство у каждого свое — у каждого свои пироги. Собирались редко — по праздникам, и как соберутся — всякий раз скандал. Степан обожженный нацепит медали и ходит звякает, а Серега бурчит: «Чем хвалишься — ты их освобождал, а они нам нож в спину!» (Это он на чехов насмотрелся.) Славка, аспирант волосатый, приедет из Москвы и щурится на родичей, как на папуасов, а сам нечесаный хуже всякого папуаса. Раз Серегу ментом назвал — и тут же в лоб схлопотал. У баб промеж собой тоже недоразумения. Томка Альбину малахольной считала: «Дожила до старости, а за душой ни гроша — чулки и те драные!» Альбина в ответ обзывала Томку воровкой. Та взвивалась: «Это я-то воровка? Ты воров не видала! Подумаешь, святая непорочная, просто у тебя в библиотеке взять нечего!» Заведутся, и понеслось… Одним только Аньке с Наташкой все было до лампочки: напьются — и давай песни орать. Оторви и брось — они тогда пропитчицами на заводе работали: там мало кто до пенсии вредной доживал, зато платили по триста и спирту было — залейся.
В общем, не сказать, чтобы Калабины между собой ладили. Однако деваться некуда — жили-поживали, покуда не сгорели.
— Сгорели?
— Было дело — как раз на Олимпиаду. Какой-то праздник они отмечали, все собрались. Даже Славка приехал со своей первой, как ее — Ви… Ви… Виолеттой или Викторией. Пожар в частном доме — не приведи Бог. Все деревянное — горит, как порох… Главное — детей успеть вытащить. Выскочили, кто в чем был, обнялись и смотрят, как их родина полыхает. Потом, конечно, переругались: кто виноват, от кого гореть пошло. Все спалили: и пожитки, и сберкнижки, и документы…
— И как же после?
— Да как — «как»… Главное — живы остались. Люди добрые помогли, завод, между прочим, исполком. Сначала по общагам расселили, потом квартиры дали.
— Стало быть, нет худа без добра?
— Наверное…
— А как же тот участок — на Митино?
— А вот, мы как раз до него дошли.
— Ого! Это чей же такой особняк?
— Угадай… Серегин! Сергей Степаныча Калабина.
— Да ну! Он что же, в бандиты заделался?
— Нет, что ты.
— В банкиры?
— Да нет, какой из него банкир… Генерал он.
— Генера-ал… И такой особняк… Он что — ворует? Взятки берет?
— Насчет этого не знаю, может, и ворует. Но дом они в складчину построили. Все Калабины свои квартиры продали и отгрохали домище. А Степаныч у них главный, он больше всех вложил.
— То есть… не понял… Они что — опять съехались?
— Ну да. Почти все обратно съехались. Опять, конечно, лаются, но потише, чем раньше: у Степаныча не забалуешь.
— И зачем же они съехались, чтобы снова лаяться? Жили бы каждый сам по себе…
— Ну, уж это ты у них спроси.
Судьба
В любом дворе, квартале любого городка — везде, где собираются стайками лихие пацаны и перепархивают, чиня ежедневный раз-бой, — обязательно среди этих сорванцов выделяется самый отчаянный, самый горластый, самый исцарапанный. Для прохожих собак всегда припасены у него камни, для девчонок — две грязноватые пятерни, а для приятелей — пара твердых беспощадных кулаков. Позже всех удается загнать его ужинать — лишь когда мать совсем сорвет голос, выкликая свое «наказанье»; раньше других он выходит на улицу утром и слоняется по двору в одиночестве, расстреливая из рогатки голубей и кошек. Это он научил остальных мальчишек материться, курить, играть на деньги в битку и карты. Это его была идея поймать в подъезде шестиклассницу Маринку, которая почти не сопротивлялась под гипнозом его жестоких глаз, покуда вся компания рылась жадными ручонками у нее под платьем. Как объяснить, что мальчишеская удаль и сила характера всегда употребляются на бесчинства, а изобретательность — на дерзкие пакости? Скорее всего бесы, загнанные когда-то в стадо свиней и заставившие бедных животных утопиться, сами не утонули, а благополучно здравствуют, переселившись в беспокойные пацаньи тела и питаясь маминым борщом, семечками и ворованными яблоками.
Вовкиному бесу досталось подходящее тело: широкоплечее, широкогрудое, на крепких кривоватых ногах. С детства Вовка-Фофан превосходил сверстников силой и ростом, а в воинственной наглости ему и вовсе не было равных: даже старшие с ним не связывались после того, как он кирпичом разбил голову боксеру Твердову. Учился он, разумеется, плохо — всегда находились занятия поинтереснее: драться со всяким желающим, пить одеколон из столовой ложки, повесить старый гондон на дверях у завучей, залепить историку в лоб огрызком, подсмотреть через зеркальце трусы у старшей пионервожатой… да мало ли что еще. Будучи восьмиклассником, Фофан уложил на лопатки школьного физрука, но изо всех видов спорта предпочитал один — красть лошадей с конефермы в Матренках. Тогда же, в восьмом классе, Вовка начал бриться и всерьез озаботился половым вопросом. Он не утруждался ухаживаньями, а брал свое силой и наглостью: многие девчонки ходили под его адмиральским флагом, правда, к их радости, не подолгу. В друзьях Фофан не нуждался, а только в свите, как акула в эскорте прилипал, и, надо признаться, много таковых находилось среди наших ребят (о чем они впоследствии постарались забыть). Бессменной Вовкиной «шахой» был Борька Филатов, по прозвищу Бобик или Филка. Ему оказывал грозный патрон брезгливое покровительство, ему в туалете оставлял окурки, но и ему же, от нечего делать, перепадали то поджопник, то затрещина. Одних лишь лошадей любил Вовка и никогда их не мучил. В те годы многие озоровали по ночам на конеферме — такая была мода; украденных лошадей находили в городке — загнанных, пораненных. Если Фофан узнавал, чьих рук это дело, то находил и бил виновных безо всякой пощады. Вообще провиниться перед ним было несложно, и редкий нос в округе не познакомился при тех или иных обстоятельствах с его кулаком. Кроме, пожалуй, носа Сергеева, что на первый взгляд могло показаться загадкой, так как Сергеев перед Фофаном не лебезил и не искал с ним короткого дружества. Тем не менее при случайной встрече он удостаивался от Вовки приветствия и благожелательного разговора в таком духе:
— Здорово, паря! Как сам? Никто на тя не нарывается?
— Нет, — отвечал Сергеев, пожимая большую ладонь.
— Хошь, сёдня ночью покатаемся?
— Не хочу.
Сергеев отказывался от великой чести.
— Что так? Ссышь?
— Нет… Лошадей жалко.
— А… — Фофан будто даже смущался. — Ну, как хошь… Ну бывай… Ты это… если тя кто обидит, мне скажи.
Так выходило, что, сам того не добиваясь, Сергеев находился под защитой Вовкиных кулаков. Оценить это ему пришлось позднее, когда их возрасту настала пора «показаться в свете», проще — на танцах.
Танцы… Городок наш тех лет без них не представишь. Только калеки да совершенные маменькины сынки не ходили на танцы. Да и как иначе, если самих фофанов и Сергеевых половина была зачата в кустах после танцев. Конечно, старинные танцульки выглядели примитивно. Сейчас молодая собака, гуляя, наткнется в парке на остатки асфальта, проросшего кустами, и недоуменно обернется на хозяина: «Что это?» А это руины того древнего «пятачка», где врыт был стол с радиолой, где два мента торчали под фонарем, всматриваясь в темноту за деревьями, — там, в темноте, словно топоры дровосеков, тюкали кулаки. Девчонки, сбившись в кучки, боязливо жались по урезу асфальта, жались, но приходили сюда каждую среду и субботу…
Разумеется, и на том «пятачке» в парке кто-то «держал шишку», но время не сохранило былинные имена. Ни Фофан, ни Сергеев не застали в действии лесного танц-капища; в их эпоху, тоже, впрочем, ушедшую, танцы бушевали уже в клубе. Это был еженедельный шабаш, которому где и совершаться, как не в поруганной церкви: ее превратили власти в дом поднадзорного досуга. Это потом переосвященная мутовская приходская церковь снова засияла, нарядная, как пирожное, пуская зайчики свежим крестиком, а тогда… Чего только не держала в ее здании советская власть: какую-то заготконтору, скобяной цех, а под конец — прости, Господи, — клуб с танцами. Каково же было слушать этот варварский топот потомственным церковным мышам, пережидавшим лихолетье в ее подвале…
Впоследствии Генка Бок признавал за собой великий грех. Был он тогда гитаристом и вроде как руководителем ВИА «Кварц», отчаянно громыхавшего на клубной сцене. Лихие созвучия оскверняли не только помещение храма, но и всякое мало-мальски искушенное ухо. Тем не менее лабухи почитались тогдашней молодежью подобно жрецам или священным животным. Иногда случалось, что, заигравшись, кто-то из музыкантов падал со сцены, но его тут же водружали обратно бережные руки. Вдохновение их питалось девичьими вздохами, а в большей степени портвейном «Агдам». И только им одним на танцах гарантировалась неприкосновенность, тогда как прочие ходили в клуб на свой риск.
В семь вечера зал еще был полупуст и полутемен. Редкая пока публика намазывалась у стен: к началу приходили самые зеленые. Музыканты, не глядя в зал, переговаривались, вяло перебрякивались гитарами; Бок настраивал реверберацию: раз-аз-аз-аз… Но постепенно народ сгущался и сгущался в зале воздух: нарастало ожидание. Ярче разгорался свет. Сквозь толпу к сцене протискивался участковый Кользяев. Разом обильно вспотев, он щелкал пальцем по микрофону и, снявши фурагу, кашлем пытался обратить на себя внимание:
— Уважаемые товарищи мулодежь!
Назидание безнадежно глохло в свистках и криках:
— Торчи, Кользяй! Не тащи мертвого за хер!
Махнув рукой, участковый слезал со сцены, и его серый китель под ехидный наигрыш «до-ре-ми-до-ре-до» тонул в цветастой пучине батников и сарафанов. К микрофону заступал Генка Бок.
— Дорогие друзья! — возглашал он манерно, с прононсом. — Мы открываем наш вечер танцев!
Ответом ему был оглушительный рев публики, но, покрывая его, «Кварц» изо всех орудий обрушивал такой силы залп, что в городке начинали брехать и выть собаки.
Вздрагивала земля, в окрестных клубу домиках тревожно звенели окна. Стихия гулянья расходилась быстро, почти вдруг, и спустя час молодое море клокотало в клубе от стены до стены, выплескиваясь наружу. В грозном шуме его сливались музыкальная канонада, увесистый топот ног, визги девчонок, бросаемых в воздух, и сосредоточенный мат кулачных бойцов. Участковый Кользяев, потеряв фурагу, ползал по полу, но натыкался то на чей-то затоптанный шиньон, то на свежие, газированные адреналином красные капли: так проливало кровь счастливое поколение.
Вовка обычно являлся на танцы в самый их разгар. Весть о нем электрически проносилась в клубе: «Фофан… Фофан пришел!» — и семибалльное море стихало, как по волшебству, оставляя на поверхности лишь тревожную зыбь. Даже музыканты делали перерыв, принимаясь что-то поправлять и подкручивать в своих инструментах. Слов нет, возмужавший, оперившийся Фофан был громила недюжинный, но и среди парней на танцах много имелось крепышей. Почему же никто не в силах был противиться его драконьему обаянию? Даже Сергеев испытывал тайную гордость, когда, проходя мимо, Вовка небрежно-дружески кидал ему «петуха»:
— Здоров, паря! Как дела?
— Дела зашибись, — вежливо отвечал Сергеев и пожимал несминаемую, как у статуи, ладонь.
Но Фофан приходил на танцы не затем, чтобы разводить «версаль». Выдав, кому следовало, охранные грамоты, он выбредал неспешно на середину зала и становился там с раздумчивым видом. Если жертва не подвертывалась сама Вовке под руку, танцы возобновлялись, а он еще долго мог недвижно возвышаться, подобно утесу, омываемому пестрыми, беспечно плещущими волнами. Был он довольно разборчив, и к чести его сказать, мелочь его не интересовала. Наконец взгляд его прояснялся.
— Филка!
— А-я? — с готовностью откликался Бобик, бросая посреди танца свою партнершу.
— Самца видишь?
Филка прослеживал хозяйский взгляд:
— Какого — того длинного?
— Ага… который козлом скачет.
Борька ежился:
— И чего?
— Иди, надерись.
— Вов, он мне башку снесет, — трусил Филка.
— Не ссы, не успеет. Иди, сказал, не то я сам тебе…
Толпа, шарахнувшись, образовывала круг и замирала в оцепенении. Жертва, здоровенный, высокий парень, почти не брыкалась, будто лошадь, понюхавшая дегтю. Вот странно: казалось бы, где, как не в драке, судьба твоя в твоих руках? Ан нет, там судьба был Фофан, неотвратимый и безжалостный.
Возможно, Вовка и сам полагал себя если не рукой судьбы, то ее корешем безусловно. Очень уж ему везло, а ведь скольких ему подобных молодецкий кураж свел до срока в могилу. Дёма Бурцев пошел на спор ночью по перилам железнодорожного моста и разбился. Виталька Карнаухов среди бела дня нырнул в пожарный пруд и… изобразил эскимо, наткнувшись темечком на торчавший под водой лом. Шушлебину проломили голову шестигранным прутом. Кукушкина зарезали. Бушуеву в ментовке отшибли потроха. Ламзичкин отравился «метилом». Грачев въехал на мотоцикле под самосвал. А сколько их звездными зимними ночами позаснуло в ласковых сугробах… Все они переселились в наш тишайший пригород и выцветают овальными фотками, над которыми прицельно кощунствуют скучающие вороны. Но Фофан прошел огни и воды без урона для себя. Армия показалась ему пионерским лагерем. Отслужив, он устроился, конечно, на завод. Днем он вполне добросовестно махал кувалдой, а вечерами — вечерами и ночами — жил полной жизнью, не давая скучать своему слегка потолстевшему бесу. Портвейн… девчонки… лебезящие знакомцы… танцы… чьи-то выбитые зубы… участковый уважительно просит приглядеть за порядком… вся улица здоровается… Маринка жалуется на алкаша-мужа: «Вов, дай ему, но не сильно… житья от него нет!» — «Сделаем…» — Фофан шишкарил с достоинством, и его совсем не томило некоторое однообразие такого существования.
Однако шли годы, и заскучала, похоже, сама судьба. Ведь она, злодейка, тоже имеет свой кураж. Одновременно на миллионах досок играя с целыми народами и с каждым из малых, она любит внезапно поменять правила: смахивает фигуры и выставляет новые, давая расчет угревшемуся было штату своих «любимцев». Вовку-Фофана она рассчитала тихо, равнодушно и без уведомления. Удача оставила его незаметно, так вагончик, отцепленный от поезда, еще катится по инерции, но уже свернул на тупиковую ветку, а дремлющие пассажиры его не скоро поймут, что случилось неладное.
Перемены в жизни могут вызываться естественным ходом времени. Это когда повыше брючного ремня выкатывается пупоглазый мамончик, когда знакомые «телки» одна за другой выходят замуж или когда самого тебя скорее тянет поправить сарайку, чем, плюя семечки, прохаживаться по улицам на широко расставляемых ногах. С этим грустным расписанием времени еще можно побороться, но когда сама судьба передвигает стрелки — тут уже не поспоришь. Но Вовка и не спорил, он проспал поворот, и можно только удивляться, как это случилось: уж так нас подбросило на стыке. Так городок встряхнуло, что будто швы разошлись, и полезло из трещин всякое разное: жвачка и ликеры невиданные, штаны-«бананы» и кроссовки, кооперативы, попы, иномарки, бандюки мордастые и еще много чего. А в другие трещины разверстые проваливалась отжившая рухлядь: пятиэтажки с жителями, фабрики с рабочими, клубы с танцами и вообще, можно сказать, весь старый уклад. А Вовке словно глаза запорошило: все стучал своей кувалдой. Стучал и, однако ж, достучался: однажды пришел в кассу, а ему вместо денег показали шиш. Завод — надежный кормилец всех простых парней городка — «лег», провалился в трещину. Тогда-то Фофан и очнулся, да было поздно: в новой жизни не нужен был обалдуй с кувалдой. Может быть, взяли бы его «пехотинцем» в какую-нибудь бандитскую бригаду, но он по возрасту уже в шестерки не подходил. Помыкался Вовка и устроился грузчиком в некий кооператив, где командовал не кто иной, как Борька Филатов, успевший на ту пору заделаться предпринимателем. Унижение, которому подвергла Фофана судьба, было сомасштабно его прежнему величию. Шутка ли — попасть под начало бывшей собственной «шахи», получать гроши и видеть, как по улицам разъезжают в иномарках козлы, трепетавшие когда-то при одном его имени. Бить бы их по «мусалам», чтобы брызгали веером кровавые сопли, да нельзя: в карманах у козлов залогом их безопасности лежали теперь заряженные пистолеты.
Однажды вечером, слоняясь по городку с бутылкой пива в руке, Вовка услышал звуки музыки. И хотя музыка была незнакомая, больше походившая на прерывистое татаканье незаглушенного трактора, Фофан, ведомый нетрезвым любопытством, пошел на шум. То была дискотека — новое танцевальное заведение. Мощная музустановка неутомимо накачивала в зале компрессию. Молодежь в «бананах» истово и серьезно выделывала кукольные «па». Какой-то тип у микрофона периодически однообразно подзадоривал публику, и она отвечала ему криками: «Вау!» Вовка недоуменно оглядел зал: «Если это танцы, — подумал он, — то где же драка?» Драк не было: молодежь старательно двигала телами и пила из баночек пиво и заграничный лимонад. «Какой-то, блин, утренник…» — пробормотал презрительно Фофан. Самое время ему было повернуться и топать восвояси, но… тут проснулся и заворочался Вовкин бес, траченный невзгодами, но неукрощенный. Он подстрекнул бедолагу-хозяина направиться нетвердой походкой через весь зал. Бесу захотелось удивить банановую шелупонь, замутить эти лимонадные танцульки. Способ был известный: задрать какой-нибудь девчонке подол, чтобы она завизжала под общий хохот. А вдруг на ней не окажется трусов (такое случалось, бывало) — то-то будет весело! Фофан подобрался к одной сосредоточенно изгибавшейся девице и поднял кверху ее короткую юбку. Девица перестала складываться и обернулась:
— Тебе чего, дядя?
— Гы-ы… Ничаво! — Фофан лыбился и озирался, ища поддержки.
Никто, однако, не засмеялся, только паренек, танцевавший рядом, строго осведомился:
— Ты что, дебил, «колес» наглотался? Вальты пошли?
Вовка опешил:
— Ты это кому… «вальты»?!
Паренек нахмурился:
— Тебе, придурок! Давай, шаркай отсюда.
Еще несколько ребят заинтересовались происходящим:
— Кто это, Игорек?
— Да хрен его знает… — Игорек недобро усмехнулся. — Быкует, плесень…
— Откуда он вылез?.. Эй, дед, ты с какой помойки?
Фофан задохнулся от бешенства:
— Что?! С помойки?!! Ах ты, сучок… — он занес для удара свой огромный кулак, но… перед носом его мелькнула белая кроссовка, и свет для Вовки померк. Как ему на всякий случай добавили, он уже не почувствовал… Игорек склонился над распростертой тушей:
— И что с ним делать?..
— В туалет отволочь.
Когда сознание вернулось к Вовке, он снова услышал эту дурацкую музыку. Только теперь ее татаканье звучало приглушенно и смешивалось со звуками сортира. Он открыл глаза и увидел парней, перешагивавших через него, как через падаль. Парни входили в уборную, подергиваясь в танцевальном ритме, пускали в писсуары крепкие молодые струи, деловито пердели и удалялись, едва скользнув взглядом по лежащему Фофану. Он заворочался и сел на грязном кафеле. Голова его болела, челюсти не сходились одна с другой. В таком положении он в своей жизни точно еще не бывал — Вовке сделалось почти смешно. «Надо же — ногой двинул! Как лошадь копытом…» Держась за стенку, он поднялся и стал искать выход со злосчастной дискотеки.
Пошатываясь, Вовка брел домой, время от времени трогая сотрясенную башку и продолжая удивляться: «Во, блин, двинул — как лошадь!» Добравшись до кровати, он рухнул в нее и забылся, словно заблудился в зеленоватом, глухо звенящем тумане. Ночью ему не снилось ничего определенного, но утром, когда уже рассвело, он увидел лошадей. Однако во сне лошади его не били, они опускали головы над ним, лежащим на полу в сортире, дышали в лицо теплым паром и фыркали, разгоняя по кафелю окурки и гондонные упаковки. Прозвенел будильник, но Вовка его прихлопнул и досмотрел сон до конца.
Проснулся он поздно и еще долго лежал, глядя в потолок. Потом он решительно встал, побрился, оделся в чистое и пошел к Филатову.
— Ты что опаздываешь? — нахмурился, увидев его, Борька. Смотри, выгоню!
Но Вовка его не слушал. Он сопел, явно волнуясь…
— Филка, — неожиданно выпалил он, — ты заработать хочешь?
— Что? — изумился коммерсант. — На чем?
— На лошадях!
Это была судьба. Судьба, швырнувшая Фофана на пол в сортире, снова улыбнулась ему во сне. Филатов, надо отдать ему должное, быстро прожевал Вовкину идею. Фофан предложил на Филкины деньги арендовать конеферму в Матренках, пришедшую на ту пору в полный упадок, чтобы разводить лошадей на продажу и напрокат. В самом деле — как было не догадаться, что эти козлы, преуспевшие в новой жизни, наворовавшись и настроивши себе усадеб, захотят, черт их дери, иметь и такое барское развлечение?
Филка надел на Вовкину бычью шею золотую цепь и велел ему коротко подстричься. Оба облачились во все черное, сели в Борькину машину и поехали пугать совхозное начальство. Нагнав на деревню страху своим «бандитским» видом и влив в совхозные глотки два ящика бельгийского спирта «Рояль», компаньоны уладили дело в короткий срок. Фермой они завладели, то есть арендовали ее на пятнадцать лет с пролонгацией.
Расходы свои Филатов окупил, уже продав вторую лошадь, а дальше бизнес их стал расти, как на дрожжах Лошадки, пусть и не призовых кровей, шли нарасхват, кроме того, при ферме открыли клуб верховой езды. Борька записывал клиентуру в очередь. Вовка не уходил с конюшни, чуть ли там не ночуя: сам принимал у кобыл роды, мыл своих любимцев и чистил их пылесосом. Денег у фирмы стремительно прибывало. Филка построил себе трехэтажный дом из облицовочного кирпича. Вовка купил импортный вездеход, чтобы ездить в Матренки зимой и летом в любую погоду. Впрочем, его-то деньги не слишком интересовали; он оброс бородой, подсох телом, а душой, наоборот, помягчел. Одежда его пропахла конским навозом, карманы вечно топорщились от булок, а лицо источало благодушие, как у попа на разговенье.
Таким его и увидел однажды Сергеев: ражий мужик в кирзовых сапожищах, с мобильником, притороченным к солдатскому ремню, вылезал из джипа. Фофан узнал однокашника:
— A-а, здорово! Как сам?
От его хлопка по плечу Сергеев еле устоял на ногах:
— Зашибись. А ты?
— А я в милицию приехал… Сечешь, какая-то падла хотела у нас жеребца увести! Поймать бы — ноги выдернуть!
— А сам-то, помнишь — по молодости?..
— Гы-ы! — Фофан осклабился. — Было время… Вспомнить бы за бутылем, да некогда.
А ты, слышь, паря, приезжай ко мне в Матренки — на лошадках покатаешься.
— Хорошо бы…
— Ну ладно, бывай!
— Бывай.
Попасть в Матренки Сергееву, увы, так и не пришлось, и Фофана он больше не видел. Той же зимой Вовка погиб. Вышло по-глупому; он стоял в деннике, подрезал Забаве хвост (кобылу эту он очень любил). Вдруг у него запищал мобильник, а Забава подумала, что крыса, и испугалась, ну и копытом… Потом кобыла нюхала кровь, пропитавшую опилки и, говорили, даже плакала, но это, наверное, выдумки.
Пиджак
Просторные поля — краса и гордость нашего пейзажа. Зная это, они смело выпячивают широкие груди впечатляют путников, поворачиваясь и хвастая сезонными нарядами, а то и в голом виде, ничуть не смущаясь. Они идут из-за горизонта показаться старому хмурому лесу-патриарху, отцу русской природы. А меж ними тиха и скромна (не заметишь, пока не наступишь) в долинке не по росту пробирается речка Воля. Она мала, слаба, голос ее почти беззвучен, но только ее одну впускает могучий лес под свою сень. Попав в Берендеево царство, Воля оживает: трется об узловатые корни и мелодично мурлычет. Откуда-то сверху доносятся вздохи и кряхтенье, но здесь, у лесного подножия, всегда тихо и тепло. Живые и мертвые, деревья стоят, сцепившись лапами, сплетясь корнями, обмотавшись прошлогодней паутиной. Здесь необоримо тянет в сон, и Воля задремывает на полянке, раскинувшись болотцем, давая растениям приникнуть к своим сосцам.
Но нельзя ей разлеживаться — долг велит потрудиться. Речку ждут в городке — она ведь у нас единственная. Бабе надо бельишко постирать, пацану — рыбки коту наловить, бате — трактор помыть. Воля польет огурцы, напоит усталую корову и унесет прочь ее обильные какашки… Много дел у нее, но самое трудное для маловодной речки — наполнять мутовскую запруду. Тамошние мужики что-то не рассчитали, делая себе купальню, и запруда растеклась вширь, затопив самим горе-ирригаторам картофельные огороды. Сливать ее почему-то не стали, а оставили как есть, прозвав в насмешку «мутовским морем». Морские берега заколосились камышом, недра обжила кой-какая рыбешка, а водной гладью завладели местные гуси. Гуси-то больше всех благодарили бестолковых мутовцев: они спасались в «море» от собак, благоразумно избегавших чуждой им стихии. Покуда к запруде не привыкли, случались из-за нее разные истории. Однажды, например, Гришка Нечаев, забывшись, въехал в нее на самосвале и всю ночь, не умея плавать, просидел на крыше затопленного «зилка». Долго еще, купаясь, мальчишки «солдатиками» ныряли с этой крыши: этих-то удальцов не страшила мутноватая пучина запруды.
Кроме речки Воли и мутовского «моря» есть в городке еще несколько водоемов, в том числе и пожарный пруд при заводе. Но они недостойны серьезного описания: лягушка их переплывет, два раза брыкнув ногами. В целом, местность, где мы живем, несмотря на общую сырость, можно назвать совершенно сухопутной. Аравийская безводная пустыня кончается безбрежным океаном, а наша безбрежная слякоть, увы, не имеет конца… Понятно, что при таком положении географических дел на улицах городка не встретишь просоленных моряков, вдали не гудят призывно пароходы и девушки не машут с пирса платочками. Романтика странствий нам не свойственна, ибо нам не от кого ею заражаться. Правда, многие пацаны, прочитав случайную книжку или посмотрев боевик, представляют себя индейцами, пиратами, не то какими-нибудь неустрашимыми воинами. Иные воображают себя путешественниками и пускаются на плоту по мутовской запруде. Но, получив по башке деревянной саблей или промочившись в апрельской воде, они быстро избавляются от фантазий. Редкие из нас способны с детства поставить себе цель и, не убоявшись, плыть за мечтой, как за гусем, когда другие уже поворотили назад. И редкие из редких впрямь доплывут, не захлебнутся… но они уже не вернутся обратно, а останутся на том берегу.
Вот Андрюха, старший из братьев Бабакиных, оказался таким редким человеком. Жизненный путь его начинался здесь, на берегу мутовского «моря», а закончится — где бы он ни закончился — слишком далеко отсюда.
Известно, что обитатели маленьких городков — большие коллективисты. Они чувствуют, что принцип «жить как все», древний, как сами их поселения, хранит их лучше крепостных стен. Нынче, правда, стало модным жить своим умом… что ж, вольному — воля, однако не переоценить бы нам силу своих персональных умов; куда заведут они нас — Бог весть. А ведь жить как все — значит знать свое место в жизни, а быть может, и после нее — это дорогого стоит… При всем том наши коллективисты-горожане никогда не третировали ни калек, ни дурачков, то есть сделавшихся «не как все» не по своей вине. Особенно к дурачкам велика была терпимость: писателя нашего, Подгузова, даже полюбили, когда он сошел с ума. Он ходил по улицам и кидал в людей «галочки», сложенные из писчей бумаги, а народ — ничего, только посмеивался.
Андрюха Бабакин, конечно, не был ни писателем, ни даже читателем; в детстве он вообще казался нормальным мальчиком. Но свихнулся он все-таки на книжке: в двенадцать лет Андрюха заболел корью и, лежа в полумраке зашторенной по указанию врачихи комнаты, прочитал ее — первую и, как оказалось, роковую в его жизни. Это был сборник морских рассказов, вырученный мамкой за картофельную сдачу. Окажись в заготконторе книженция про космонавтов, летел бы сейчас Бабакин к звездам; окажись о партизанах — пускал бы, наверное, поезда под откос. Такой ужу него проявился характер — упорный и романтический одновременно. Словом, благодаря этой книжке, будь она неладна, Андрюха заделался «мореманом»… и сразу, понятно, попал в разряд дурачков. Ребята над ним подшучивали, но без злости: тихий чудак никого не раздражал, разве что собственного батяньку, да и то когда тот бывал в подпитии: «Эй, Нахимов, — вязался батянька, — кончай свои кораблики рисовать; иди лучше у кур вычисти!» Андрюха, поднимая на него спокойные глаза, отвечал: «Угу…» — и без выражения на лице шел чистить курятник «Эх, мать, какой-то у нас Андрюха неправильный, — вздыхал батянька. — Его в грязь посылают, а он хоть бы заартачился!» — «Бухтишь, старый, — возражала мамка. — Чем он тебе не угодил? Сам выпил и цепляиси…» — «Ты, баба, не бодайся, теленка свово не защищай, — пуще заводился батянька. — Ты скажи, чего он так смотрит — батю родного в упор не видит?» — «Да чего на тебя смотреть… Эка невидаль — напился и бухтит…» — «То ли дело Серега, — он встряхивал за загривок младшего сына, — парень простой, даром что переговариваться мастер… Так я говорю?» — «То-то ты его ремнем, что ни день…» — «Это на пользу… — батянька любовно ерошил Серегины волосы. — Он еще спасибо скажет… Да, Серый?»
Серый в таких случаях не «переговаривался». Ему приятны были батянькины похвалы, но и брата он жалел. В душе он чувствовал, что батя злится не на Андрюхин упрямый характер, а именно на чудинку его, на то, что не такой он, как другие пацаны. И добро бы дело было в одних корабликах, так нет: даже в простых житейских ситуациях Андрюха порой удивлял и собственного брательника. К примеру: шли они по тропке, и Андрей ступил нечаянно в говно; казалось бы — оботри ботинок о траву и ступай дальше, а он нет — развел философию, дескать, в других-то странах на дорожки не серут, только у нас, а все — наше свинство… И где он таких понятий набрался — это уж не морские рассказы, это он, стало быть, сам дошел… Честно сказать, понимания, а потому и дружбы у братьев особенной не было. Но кровная любовь превыше дружбы, поэтому Серега всплакнул вместе с мамкой, когда Дрюша уезжал в мореходку. Тайком ведь подготовился и документы послал, как шпион… Как их не понять: даже когда зуб гнилой изо рта вырывают, и то больно, а тут парень здоровый, неженатый из семьи уходит. Батянька очень переживал; он выпил больше обычного и натужно умствовал, обращаясь к своей папиросе:
— В семью ты, надо думать, не вернешься — плавать тебе у нас мелко. Значит, жисть наша не по тебе… А может, змей, тебя и Родина не устраивает?.. И-хо-хо… Ладно, сокол, плыви… Только хоть приехай нас с мамкой похоронить.
Потом его развезло, но если б и не развезло, то навряд ли дождался бы он от сына ответа. Андрюхин взгляд был спокоен, а думки… кто их знает, где гуляют думки беглеца с-под отчего крова? Может быть, мечтал о другой жизни — без вонючих курятников, без грязнозадых коров и пьяного невежества…
В мореходке Андрюха учился хорошо; ходил на паруснике в загранку. По окончании учебы взяли его на торговое судно… Обо всем этом он писал в письмах, а как оно было на самом деле — кто знает… Впрочем, наверное, так и было, как писал, неспроста же батяньку с мамкой однажды вызвали в кагэбэ подписывать какие-то бумаги. Однако что бы с ним ни происходило — все уже относилось к области воображения, а до нашей жизни не касалось. Другое дело Серега — он рос в городке, рос, как растет большинство наших пацанов: кое-как учился, в меру шкодничал, помогал родителям по хозяйству. Летом между девятым и десятым классом они с приятелями ходили «в поход», то есть в лес: ночевали в шалаше, напились, чем-то отравились и в очередь поносили, взбираясь на пень. Тем же летом он влюбился в соседку, Ленку Грибову; она разгуливала специально в таком сарафане, что, когда наклонялась у себя в огороде, все было видать. Правда, Серега к ней не «клеился»: она кадрилась с парнями постарше, — но мечтать о ней никто ему не мешал. Вообще, как и многие в его возрасте, Серега любил помечтать, особенно перед сном. Фантазии ему приходили одни и те же, и каждая в свой черед. Сначала, естественно, являлась Ленка: плача от любви, она целовала Серегу, потом сама догола раздевалась и давала себя трогать за все места. Потом они ложились в койку и делали что-то, о чем Серый имел неотчетливое представление. Мечтать про Ленку было приятно, но слишком волнительно, поэтому Серега избавлялся от Грибовой известным способом. Затем его мысленному взору являлся пиджак. Два года он упрашивал мамку купить ему пиджак, но каждый раз покупка откладывалась под разными предлогами. Все приятели его уже имели пиджаки, а некоторые — даже костюмы, и лишь Серый, как маленький, ходил в каких-то кофточках. Он подозревал, что мамка просто водит его за нос — не хочет, чтобы он взрослел, а то наденет пиджак и вслед за Андрюхой — поминай, как звали… Мечта о пиджаке тоже не могла успокоить; Серега злился на глупую мамку, ворочался, и сон к нему не шел. Самая приятная и усыпляющая была третья мечта — про мотоцикл (потому, возможно, что была самая несбыточная). Красная «Ява» со спортивным рулем стояла в сарайке (поросенка зарезать!); Серега ухаживал за ней, как за живым существом: мыл, украшал, готовил питательную смесь из бензина с маслом. Два цилиндра ее «цыкали» так тихо, что никого не будили, когда Серый катал девчонок по ночному городку. В те времена мало у кого из ребят имелись мотоциклы: несколько стареньких «ижаков», «восходы» да «ковровцы», да одна «паннония», да трофейная с войны «бэ-эм-вуха» с одним «горшком»; и лишь у Сереги Бабакина была красавица «Ява», чье даже имя ласкало слух… Эта мечта разгоняла все тревоги, все неприятные мысли, и под нее он засыпал, как положено, молодым здоровым сном.
Однако пришло все-таки время решать с пиджаком: Серега окончил школу и собирался поступать в техникум. В школе мамку пожурили: почему, дескать, ваш сын аттестат в кофте получал, что за неуважение — не мог пиджак надеть, что ли? Мамка бедная готова была сквозь землю провалиться. «Все, — решила она, — куплю самый лучший, тем более осенью ему в техникум сдавать». Но не тут-то было: пиджаков в магазине, как назло, не оказалось — все раскупили; пришлось Антонину, завмага, просить, чтобы отложила, когда привезут. Но тут как раз получили они письмо от Андрюхи: он привез из загранки валюту и спрашивал, какого им прислать гостинца или чего нужного. Мамка возьми и отпиши: мол, Сережке пиджак бы надо, а то парню в техникум и не в чем поступать… И Андрюха, отдать ему должное, на родных не поскупился: прислал в большом ящике батяньке с мамкой гостинцев, а Сереге — дорогой американский пиджачино, за шиворотом которого была нашита тряпочка с надписью «уэса» и полосатым флажком. Лацканы у чуда по тогдашней заграничной моде были каждый шириной в лопату, а раскраска — в крупную яркую клетку. Материал — не сказать дурного — добротный, и пошив, как показало время, довольно крепкий — все бы хорошо, кабы не фасон да расцветка… Когда первое изумление прошло, пиджак померяли на Серегу — оказался чуть на вырост. Мамка нацепила его на плечики, чтоб отвиселся, провела по нему рукой, да и расплакалась: как же, старший брат о младшем позаботился. Батянька же с сомнением рассматривал заморскую вещь:
— Не знаю, мать… Али мы совсем устарели… Не возьму я в толк, как такое носить.
Серега тоже, мечтая перед сном, представлял себе другой пиджак. Честно говоря, он и не знал раньше, что на свете бывают такие пиджаки. Но предусмотрительный Андрюха вложил в ящик две красочные вырезки из иностранного журнала, где были сняты мужики в очень похожих клетчатых пиджаках, и с ними худые девки в платьях, куда срамнее Ленкиного сарафана. В записке брательник пояснял, что культурные мужчины во всем мире теперь носят именно такие «джекиты» и никаких других. Серега записку прочитал и удивился: вот те раз, Дрюша, а еще говорил, надо жить своим умом…
Но как бы то ни было, пиджак он получил, и одной мечтой у Сереги стало меньше. Между Ленкой и мотоциклом в мечтах его образовалась брешь, в которую полезли новые мысли — беспокойные и никак его не гревшие: о поступлении в техникум, об армии и вообще о предстоявших ему неизбежных переменах в жизни. Почему так заведено, что в самую болезненную пору линьки юноше приходится держать столько экзаменов? Змея, когда меняет кожу, хоронится в укрытии, а ему этого нельзя: служи! учись! трудись! женись! — только и слышит он от людей… В том году покрылся Серега прыщами — будто какие кровососы искусали нежные щеки.
А тут еще это клетчатое недоразумение… Вместо того чтобы защитить, бронировать паренька, заморская одежка принесла ему одно горе. Серегино поступление в техникум казалось делом решенным: председатель комиссии Эльвира Юрьевна брала у мамки молоко. Она обещала, что если Сергей сумеет рассказать хотя бы теорему Пифагора, то может считать себя студентом. Однако вышло по-другому… В тот день с утра у него было нехорошее предчувствие. Видя его мандраж, батянька усмешливо посоветовал: «А ты, Серый, посцы… Лучше сцать перед боем, чем в бою». Серега так и сделал, но по выходе на улицу случилось странное: его облаял соседский Туман. Подлый кобель собрал друзей, и они провожали Серегин пиджак до самого конца Мутовок; гуси, завидя громогласную процессию, с гоготом кинулись в запруду… Он явился на экзамен, чувствуя себя идиотом, и ощущение себя оправдало. Преподаватели повели себя не чище дворового Тумана: лай подняли такой, что хоть беги, — словно перед ними не человек стоял, а один его пиджак. Математик Семикозов, их парторг, аж побагровел:
— Вы, молодой человек, не на танцульки пришли! Здесь вам советский техникум, а не буги-вуги! Ишь вырядился… — и он вспомнил ругательство из своей комсомольской молодости: — Стиляга!
Остальные «преподы» согласно загудели, лишь Эльвира Юрьевна молча грустила…
Только раз до этого претерпел Серега подобное унижение: в детстве, когда, играя с мальчишками в казаки-разбойники, провалился в старую выгребную яму и ему пришлось на глазах у всей улицы возвращаться домой по уши в дерьме. Интересно, что бы сделал на его месте Андрюха? Наверное, обвел бы всех спокойными глазами — да и отбарабанил бы, как положено, по билету…
Но Серега так не мог — он засветился всеми своими прыщами и сказал Семикозову с тихой яростью:
— Пошел ты в жопу.
После этого оставалось одно: пока они не опомнились, повернуться и сделать из техникума ноги. Вернувшись домой, Серега выкрал у батяньки припрятанную самогонку и напился…
Вечером его побили на танцах.
— Эй, Серый, где такой педжик дохрял?
— Андрюха прислал.
— Твой мореман? Он че — мудак?
— А че ты имеешь? — озлобился Серега.
— Гля на себя — чучело!
Перепалка перешла в драку, и пьяного Серегу побили, но побили не очень сильно — все-таки свои ребята. Они сами отвели его домой и прислонили к калитке. Там у калитки его вырвало — кровь и блевота смешались, запеклись на широких американских лацканах.
Спустя два месяца Серого забирали в армию. Осенний призыв — нет печальнее события и зрелища: раскисли улицы и бабьи лица, лысы головы вчерашних пацанов и обезлиствели липки в аллее перед горсоветом. У пьяненьких, как на похоронах, оркестрантов мокнут ноты, трубы жерлами собирают дождик…
Батянька силится на прощанье сказать что-нибудь мужественное.
— Сын… — хрипло говорит он, держа Серегу за рукав. — Сын…
Дальше речь у него не двигается — батяньке срочно надо выпить, И папироса, вечный его помощник в речах, погасла под дождем.
— Да не скули ты, старая! — злясь на себя, он спускает «полкана» на мамку.
Но мамка не слышит. И что платок ее сбился на сторону, не замечает, и что стоит прямо в луже… Она давно и однообразно плачет.
Не случалось в Серегиной жизни более тоскливого дня. Как хотелось ему остаться тогда под мокрыми липками, остаться, вцепившись руками в кривые заборы, в эти домики, в землю, от которой отрывала его чья-то неумолимая сила. Но… хлопнул борт, рыкнул зеленый «Урал» и увез Серегу Бабакина прочь из маленького городка.
На целых два года.
Что такое армейская служба? Срочная форма небытия? А может быть, это жизнь донашивает мужчину вприбавок к девяти месяцам, проведенным в материнском чреве? Из городка нашего мало кто не служил, и всяк привозил из армии свое: одни — желтуху, другие — бравые наколки и все — нескончаемые байки. А вот Серый вернулся молчуном — ничего мы и по сей день не знаем, что испытал он в эти два года. Дембельскую «парадку» его украшали три сержантские нашивки и две за ранения, на груди светилась медаль «За отвагу». Форма лопалась на его возмужавшем теле, а лицо посуровело…
В тот день он сидел за столом и молчал. Мамка, охая, кружилась по кухне, тыкалась во все слепыми руками и уже разбила одну тарелку. Батянька обмяк на диване, сопел, держа на руках Серегин китель с медалью.
— Что ж не отписал-то? — попрекнул он сына, благоговейно трогая нашивки. — Покажи хоть, куда тебя…
— Потом.
Батянька встал и двинулся к буфету…
— Погоди, бать, не пей до гостей.
— Да… не буду, — смутился старик. И улыбнулся, переменяя тему: — Слышь, Андрюха-то наш в штурмана вышел. Пишет — жениться он думает.
— Молодец, — усмехнулся Серега. В гости не собирается?
— Да, жди его… — батянька на мгновение помрачнел, а потом вдруг улыбнулся: — Слышь, а пиджак-то его так и висит — хошь померять?
— А ну, давай, — Серый поднялся, громыхнув стулом.
Американское сукно затрещало на могучих плечах.
— Сымай, не рви, — батянька счастливо засмеялся и похлопал сына по широкой спине. — Спортишь вещь заграничную.
Серега стянул с себя пиджак и встряхнул, разглядывая.
— А на что он мне теперь?.. — лицо его тронула усмешка. — Ты, бать, лучше сделай из него чучело: ворон пугать в огороде.
Брамс
Белорусскую пионерку Киру Буряк зверски замучили фашисты. В красном галстуке, весело распевая пионерские песни, шла себе девочка лесом, несла партизанское донесение. Вдруг, откуда ни возьмись, выскочили вороги лютые, схватили, скрутили и уволокли в свой застенок. В застенке-то изверги и отвели душу — замучили нашу Киру до смерти. Что они с ней делали, мы не знаем: быть может, заставляли писать подряд четыре диктанта или пытали сложными дробями… А может, и другое что: тринадцать годков Кира спела на свежем воздухе да на деревенском молоке; придите в седьмой класс на физкультуру — сами увидите, какие там уже тетеньки через скакалки прыгают. Но Буряк все снесла молча и ничего фашистам не сказала, только нам, будущим пионерам и школьникам, завещала хорошо учиться.
Что в этой истории правда, знают лишь птицы в глухих белорусских лесах. Мы вообще ни про какую Киру слыхом не слыхивали, пока в городке не построили новую школу. Но вот когда ее построили, когда организовали в ней пионерскую дружину — тогда и поняли: дружина без имени, что полк без знамени. Это нам и в роно сказали, добавив, однако, что с именами в стране сложилась напряженка: дружин-то, мол, много — имен на всех не напасешься. Вали Котики, Володи Дубинины шли только в областные центры; районам отпускали в лучшем случае Павликов Морозовых, да и то не более одного в руки. «Так что вам… вам — вот…» — и начальство, порывшись в своих святцах, откопало там, не в обиду ей будь сказано, упомянутую Киру.
И что было делать? Оставалось утереться таким знаменем и влачить положенное заштатное существование… Но нет, не тот был характер у школьного парторга Антонины Кузьминичны Бобошиной. С виду невзрачная — малорослая, кривоногая, — она способна была одолевать любые трудности: умела же она преподавать пение, будучи тугой на одно ухо. Конечно, Бобошину больше всех огорчило безвестное имя, но, раскинув мозгами, предприимчивая шкраба нашла выход. То, что она затеяла, в наши дни назвали бы «раскруткой»: если Кира Буряк пока что не может прославить нашу школу, прославим сначала саму Киру.
Бобошиной пришла в голову замечательная идея: создать в школе… музей нашей юной героини. Каково — музей пионерки, которая еще неизвестно, была ли на свете! На такое надо было решиться, но именно отвага часто ведет к успеху, прокладывая путь уму и логике. На ней-то, на логике, главным образом и создавался наш музей. Вспомним: куда шла, да не дошла Кира Буряк? К партизанам. Значит, можно построить партизанскую землянку в одну четверть от натуральной величины, а в ней посадить маленького усталого комиссара. А что несла пионерка? Донесение. Повесим копии разных донесений, в которых дотошные партизаны подсчитывали вражеские вагоны (заодно напомним о пользе арифметики). А кто сграбастал бедную девочку по дороге? Фашисты. Выставим пробитую немецкую каску, покажем, что стало с теми, кто глумился над нашими девочками… Много чего натащила в музей Антонина Кузьминична, разложив и развесив трудолюбиво: осколки снарядов, фотографии виселиц и даже пожелтевшие ученические тетрадки довоенной поры, исписанные хотя и не Кирой, но тоже пионерками, бегавшими, быть может, впоследствии, хоть и не с партизанскими, но тоже донесениями. Недостаток сведений собственно о Буряк призвали восполнить нашего писателя Подгузова — он тогда еще был в своем уме и сочинил приличную книжку, даже с иллюстрациями. Были чтения. Выдержки из этой книжки Бобошина поместила в музее: внимательные посетители могли по ним изучать жизненный путь героини. Саму Киру в экспозиции представляли несколько бюстов курносой девочки, в которой, впрочем, свою дочь узнала бы при желании любая мать-славянка.
Словом, музей получился хорошим, даже образцовым. Антонина Кузьминична завела переписку с подобными музеями по всей стране, познакомилась с разными людьми, известными на поприще облагораживания юных душ (например, с композитором Бакалевским). Неудивительно, что в школу зачастили гости — по обмену патриотическим опытом. Кого у нас только не было: и заграничные пионеры в красно-синих галстуках, и пара поддатых космонавтов, и в том числе какой-то ансамбль южноамериканцев в пончо, с гитарами и флейтами.
Эти латиносы были молодые маоисты, сбежавшие от кровавой хунты. Попав в СССР, они, понятно, отреклись от Мао, зато очень полюбили свою родину и пели нам по-испански народные песни, роняя слезы прямо на струны инструментов. Старшеклассницам бывшие маоисты понравились своей трогательной печалью и ненашенской смуглостью лиц. Сами же благородные изгнанники не сводили глаз с Наташи, «директора» школьного музея. Наташа, красавица и отличница, требовалась Бобошиной для представительства: вооружась указочкой и пленительными взглядами, чистым девичьим голоском давала она гостям пояснения про партизан и виселицы. Многие из похвал, переполнявших музейскую книгу отзывов, следовали в заслугу Наташиным щечным ямочкам, серебряному голоску и двум правильным ножкам в белых гольфиках.
Но был в нашей школе один человек, который ужасно не любил все эти Кирины поминки с гостями и концертами. Будь его воля, он с радостью «подзорвал» бы фальшивый музеишко вместе со страхолюдной Бобошиной, а уж что бы он сделал со смазливыми горемыками в пончо, то не снилось никакой хунте. Не то чтобы он так ненавидел лицемерие — нет, в сущности, ему, как и всем нам, было наплевать и на сказочную Буряк, и на бобошинские патриотические молебны. Но зачем, скажите, Наташа, наивная, как красный галстучек на ее не по-детски оттопыренном школьном платье, зачем она так беззаботно гуляла в этом темном белорусском лесу? Зачем так охотно в кокетстве неведения дарила заезжим свою чистую прелесть? Он где-то читал, как взрослые скверные дяди и тети совершают какие-то непристойные обряды на девичьем теле, и нелепые аналогии лезли ему в голову… В общем, человека терзала ревность. О том, какие он сам совершил бы обряды на Наташином теле (если б было ему позволено!), об этом лучше умолчать. Но в том-то и беда, что ничего ему позволено не было — только вздыхать на пионерском расстоянии.
Звали человека Боря Брамс. Он учился в параллельном с Наташиным классе и давно уже следовал за красавицей тенью везде, кроме разве туалета для девочек. И хотя поклонников у нее хватало без Бори, Наташа все-таки заприметила кареглазого воздыхателя. Всякий раз, появляясь в отдалении, он надеялся остаться незамеченным, но подружки, составлявшие Наташину свиту, имели слишком острое зрение. Они шептали ей что-то на ухо, и улыбки ее делались еще очаровательнее, а ножки сами становились в первую балетную позицию… Как себя чувствует летчик, засеченный зенитками? Боря внутренне холодел, ноги его слабели… И тут Наташа выстреливала хотя и косвенным, но вполне прицельным взглядом… бабах! Брамс заваливался на крыло и, дымя, падал на вражеской территории.
Пытка продолжалась нескончаемо. Одноклассники подмигивали:
— Брамс, пошли в актовый зал, там «твоя» выступать будет!
— Она не моя! — вспыхивал Боря.
— Ага! — смеялись пацаны. — Не твоя — ее физик лапает!
И хотя Боря знал, что они врут, тоска сжимала его сердце…
Наташа, кроме своего «директорства», еще солировала в школьном хоре, которым руководила все та же Бобошина. Послушные девочки в белых передничках преданно смотрели на Антонину Кузьминичну, а она дирижировала, делая пальцами хватательные движения, будто щупала им грудки. Впереди, в коротком, слишком коротком платьице, одна стояла Наташа… Боря сидел внизу и под аккомпанемент ангельского пения слушал пакостные замечания мальчишек:
— Гля, Брамс, а у «твоей» трусы видно!
— И чей-то она заливается? Во, глазки строит… Боб, ты за ней не ходи: она вырастет — приституткой будет.
Конечно, можно было подраться, попробовать отстоять Наташину (да и свою) честь, но он не делал этого по нескольким причинам. Во-первых, чтобы побеждать в драках, надо иметь маленькие злые глазки и толстые руки, а у Бори все было как раз наоборот. Во-вторых, он не хотел огорчить папу-Брамса, придя домой в синяках, — тот и так вечно ждал и боялся всяких неприятностей. А кроме того… в этом он сам себе не признавался — похоже, такое поругание было ему безотчетно сладостно. В любовном самоуправстве Борина фантазия совершала странные переносы: присвоив кокетливой нимфетке (то-то бы она удивилась!) чуть ли не образ жертвы, он и себе оставлял в удел право неупиваемого страдания. Стало быть, глумливые пакостники, а также Борины соперники, Наташины ухажеры (по сути — плотоядные ничтожества) были даже полезны как источник трагически-насладительных переживаний.
Кроме двух фигур — своей и Наташиной — мучеников, прекрасных, хотя и печальных, остальные его воображение рисовало нечетко, как бы в тумане. Каково же было Борино неприятное удивление, когда из этого тумана выступил внезапно во плоти Сергеев. Случилось это на большой перемене. Сергеев из «В» класса физически был не крепче Брамса, но подошел со столь уверенным и угрожающим видом, что сердце Борино екнуло.
— Брамс, — спросил Сергеев с нехорошим хладнокровием, — говорят, ты к Наташке липнешь… ну, из музея?
Боря вздрогнул и покраснел:
— А твое какое дело?
Глаза Сергеева стали маленькими и злыми.
— Дело такое… Если от нее не отвалишь, я тебя убью.
Так и сказал: не «побью», не «дам по морде», а «убью»… Боре стало страшно и… стыдно за свой страх. И неожиданно для себя, вместо того чтобы промолчать по обыкновению или отступить, он бросил на пол портфель и ринулся в бой.
Сражение произошло прямо в школьном коридоре, при музее, там, где на обитом кумачом фанерном постаменте возвышался огромный гипсовый бюст Киры Буряк. Чей зад, Сергеева или Брамса, толкнул постамент в пылу борьбы — неизвестно. Пьедестал зашатался, Кира кивнула, клюнула носом и с пушечным хлопком грянулась об пол. Гипсовая голова разлетелась на десятки кружащихся черепков. Бойцы оцепенели, но лишь на секунду — пока школа прислушивалась, пока Бобошина прибежала, маша крылами, будто раненая чайка, — они успели удрать. Укрытием им послужил, конечно, туалет. Там, переведя дух и наспех заправившись, они снова скрестили ненавидящие взгляды. Боря приготовился продолжить кулачную баталию, но Сергеев вдруг вытащил из кармана перочинный нож. Брамс в ужасе попятился…
— Не бойся, — усмехнулся Сергеев.
Он раскрыл ножик и… с силой полоснул себя по ладони. Брызнула кровь. Сергеев, побледнев, жег противника глазами.
— Понял? — хрипло спросил он.
— Чего, понял? — в страхе и изумлении пробормотал Боря.
То самое… Не отстанешь от нее — тебе хана!
Брамс потрясенно молчал, а Сергеев, удовлетворившись произведенным эффектом, сунул руку под кран.
С этого дня с Наташиным образом стали происходить изменения. Он не то чтобы потускнел, но как-то стал отдаляться и, отдаляясь, все больше сливался с образом отчаянного Сергеева, так убедительно при помощи ножичка доказавшего свои любовные права. Постепенно для Бори наступало отрезвление… Нет, конечно, рана в его душе была глубока, но… день за днем она затягивалась, а с годами и вовсе покрылась твердым рубцом.
Тем же временем, то есть с годами, происходили изменения и с нашим музеем, то есть с образом Киры Буряк И дело не в том, что неизвестные злоумышленники кокнули ее бюст в школьном коридоре. Просто какой-то дотошный отряд пионеров-следопытов обнаружил в некоей белорусской деревне… самое Киру Пантелеевну Буряк. Живую и здоровую, в виде румяной упитанной доярки. Своего партизанского прошлого она не отрицала, но книгу Подгузова читать не захотела, сославшись на неимение очков. Ехать же куда-то рассказывать о своем подвиге отказалась наотрез, повторяя что-то вроде: «Видчипытесь от мяни!»
Бобошина, узнав об этом открытии, понятно, не обрадовалась, но отнеслась к нему философски: ну жива, так жива, чего не бывает. Не менять же из-за этого экспозицию… Пусть себе доит коров и не высовывается. Однако чувствительный нос уже мог бы уловить легкий запах тления, пошедший от землянки с комиссаром и прочих любовно собранных липовых артефактов. Только упрямство мешало Бобошиной понять, что музей ее жив был, пока была мертва Кира Буряк. Наташа, сменившая к тому времени белые гольфики на капрон, стала всячески уклоняться от почетных «директорских» обязанностей. Наконец она прямо объявила Антонине Кузьминичне, что ей надоели сказки и что она не желает больше валять дурака. Плюнув таким образом своей наставнице в душу, вероломная девица с легким сердцем предалась более реальным занятиям, к которым склонял ее настойчивый Сергеев. Вслед за ней совершенно неожиданно ножку славному предприятию подставил писатель Подгузов: он отрекся от своей книжки и впервые впал в депрессию (впоследствии эти депрессии привели его к сумасшествию).
Все эти события, однако, не затмевали главного: и Наташе с Сергеевым, и Брамсу, и всем их однокашникам предстояло заканчивать школу. Головы их, естественно, полны были мечтаний, надежд, страхов и, конечно, разнообразных планов. Никто не хотел вверять себя судьбе, а каждый собирался сам строить свою жизнь.
Но вольно нам придумывать жизнь в голове или на бумаге. На самом деле большинство птичек, вылетев из клетки, садится на ближайшее дерево. Скажем, Наташа, чьи таланты и красота позволяли предсказывать ей блестящую будущность, скоро удовольствовалась хотя и почтенной, но отнюдь не звездной ролью жены и матери. Они с Сергеевым, едва окончив школу, свили свое гнездо здесь же в городке. Что касается Бори Брамса, то он мог бы стать, например, экономистом и сделаться впоследствии, как иные еврейские мальчики, финансовым воротилой. Или, уехав в Израиль, призваться там в армию, закончить офицерскую школу и дослужиться до полковника. Или, на худой конец, выучась на гинеколога, вернуться в городок и работать у нас в поликлинике, как папа-Брамс. Но он не пошел в медицинский, потому что там был большой конкурс, а поступил в малопрестижный «хим-дым». К чести его сказать, учился он хорошо и, распределившись на наш химзавод, стал неплохим специалистом по углеродным композитам. Вскоре, «залетев» с одной из лаборанток, он женился, но продолжал изменять ей с другими сотрудницами, и папа его вынужден был устраивать им аборты. Одно время он и вправду хотел подать документы в Израиль, но раздумал, здраво рассудив, что и в городке ему живется неплохо, тем более что женщины здесь сговорчивые и все нужное при них.
Колесо
К югу от нас, за холмами, в ясную погоду по ночам наблюдается багровое зарево. Можно даже испугаться: уж не пожар ли это губит родимые леса? Но нет — так болит и рдеет небо над огромным городом. Это Москва; она не спит, бормочет и чешется в ночи под душным одеялом аллергически-румяного смога.
И ночью и днем Москва лихорадочно хлопочет, как сумасшедший, воображающий, что занят важным делом. Подобно большому элеватору, город пересыпает и сушит человеков: из бункера в бункер, по транспортерам тротуаров, по подземным трубам, по коридорам, переходам… Лишь бы не ожили, лишь бы не проросли! Искусственные пневматические ветры, пахнущие одорантами и потом, всасывают и выдувают людские зернышки вместе с мусором, с плевелами. Москвичи несутся, кувыркаясь, и бесчувственно соударяются, пороша друг друга перхотью. Одежды их пропитаны противопожарным составом, иначе они загорелись бы от постоянного трения. Люди бегут, и ноздри их раздуваются, словно паруса, ловя дыхательную субстанцию, кондиционированную миллионами бронхов. Только сохранять темп, только оставаться в потоке!.. Но что это?.. Неужто заминка?.. Какая-то дама засбоила, теряя ход, запрыгала, затрясла ногой… ах — это у нее упали трусики. Скорее же избавиться от путы! Досадная «деталь» упихана в сумочку, и дама мчится дальше нелепее, наверстывает потраченные мгновенья.
Да, столица похожа на элеватор, но — только похожа. В отличие от пшеничного зерна москвичи — продукт бесполезный, с таким же успехом город мог бы пересыпать песок. Да будь они хоть немного питательны, мы в нашем Подмосковье ходили бы такие же толстые, как голуби с зернотока, летающие наподобие кур. Уж столько этих москвичей у нас усевается — Москва просто сорит ими. Москва сорит москвичами, москвичи сорят мусором — и за что нам такое наказанье? Они ведь еще и заражают почву. Хорошо, что столица пока подгребает в бункеры, не дает совсем разбежаться несчастным своим питомцам, не то пиши пропало — все бы пожрала москвоязвенная болезнь. И без того запаршивели поля бесчисленными дачными поселеньями; земля будто покрылась ранами, и в этих открытых ранах точатся ожившие бледные москвичочки — бр-р.
Впрочем, их можно понять: здесь они впервые попадают на реальную сторону жизни. Трава тут зеленая, снег белый, и воздуха каждому полагается свежая порция безо всякой регенерации. И надо признать, оказавшись на природе, москвичи стараются приобщиться к белковой жизни и эволюционировать. Тяжелая работа (рубка пней на дачных участках) делает их речи мужественными, переходящими в рычанье. Им становятся по зубам спелые коренья, а иному, заматеревшему, можно бросить кусок сырого мяса — он вопьется в него и сожрет, убежав в угол. Цивилизуясь, москвичи осваивают примитивные орудия труда, знакомятся с соседями и организуются в общины. У них появляется свободное время, и тогда у некоторых из них просыпается пытливый интерес к окружающему миру. Завернувшись в шкуры, взявши в руки посох, они прощаются с соплеменниками и отправляются бродить по окрестностям.
Подобно неопытному дикарю, не знающему лестниц и пытающемуся взобраться на дом по стене, москвич не умеет находить в лесу прохожие тропинки и прет напролом. Оттого лес ему кажется девственным и таинственным, а себя он мнит первым разумным созданием, вторгшимся в эти Берендеевы пределы. Каково же бывает удивление «первопроходца», когда, выдравшись из кустов на поляну, обнаруживает он следы цивилизации, существовавшей явно задолго до того, как он’ вылез из метро. Вот столбы без проводов, вот котлован, заросший бурьяном, вот колесный вагончик, клюнувший на один угол. Вот кирпичное строение с торчащей из земли ржавой покосившейся трубой. Что это? Спросить некого. Осторожно обследует путешественник странную поляну. Потом, прислонясь спиной к нагретой солнцем кирпичной стене, перекусывает, пьет из термоса пробковый чай. Напоследок заглядывает внутрь сооружения. Там — переплетение труб, и четыре топки немо вопиют обожженными зевами. «Наверное, котельная…» — чешет «сталкер» умную голову. Потоптавшись немного, он снимает штаны и садится на корточки. Свежая куча — веха, граница освоенного пространства. Удачи тебе, исследователь; в следующий раз ты покакаешь, быть может, в том далеком лесу, что заманчиво синеет на горизонте.
Но что же, однако, это за странная поляна? Откуда вагончик и котельная с пизанской трубой? — Не инки же с ацтеками соорудили таинственный «комплекс». Если бы первобытный дачник не пер дуром сквозь чащу, он заметил бы, что от поляны ведет все-таки дорога, хотя и порядком заросшая. Он мог бы проследить, что дорога эта ведет к нашему городку, населенному отнюдь не ацтеками, а нами, нимало не вымершими россиянами.
Мы обитаем на этих землях очень давно. Тысячелетняя оседлая жизнь сделала нас мудрыми и неразговорчивыми. Нам нечего выяснять, ибо мы и так знаем все, что нам нужно. Нам не надо сообщать друг другу, как вкусно пахнет сено и как хороши осенние закаты: мы знаем. Мы безусловно знаем все окрестные поляны, и ту, с котельной, конечно, тоже: котельная и котельная — четверть века уже там стоит… Что еще выяснять? Ну, хотели построить пионерский лагерь, да не достроили: деньги кончились. До этого там была деревня Подушкино; к началу строительства ее выселили. Зачем выселили — непонятно, будто мало у нас было пустых полян. Деревню погубили, а лагерь, юноферму, не построили; выросли детки без песен и горна, не потрахались в беседках вожатые. Вот и вся история.
А начинали строительство, помнится, на широкую ногу. Первым делом возвели эту самую котельную. Странное было зрелище: стояла она одинокая и топила сама себя, похожая на корабль, заблудившийся в лесу. Или даже не на корабль, а на одно машинное отделение, потерявшее свой пароход. Деревню еще не снесли, но она уже опустела — оставался в ней только старый охотник, кривой на оба глаза. Фамилия его была Паутин, а прозвище — Паук. Непонятно, как он стрелял, но был добычлив: часто заходил он в котельную похвастаться перед кочегарами теплым еще зайцем. Курево у Паука вечно было на исходе, но кочегары (присланные из города рабочие) щедро снабжали его папиросами в обмен на самогон. Самогон у него не переводился, и тропка от котельной к его избушке стала главной улицей в Подушкине.
В числе прочих заводской комсомол отрядил на стройку совсем еще зеленого тогда Сергеева. Выпало ему кочегарить в котельной на пару с опытным рабочим Бляблиным. Дело было зимой, в январе. В ясные морозные дни и вьюжными ночами трещали в топках древесные бревешки — вчерашние елки да березы, повырубленные строителями. Жаром пышели трубы, дрожали от бежавшего по ним кипятка. Хорошо быть кочегаром: знай подкидывай в топку да приглядывай за манометром. А большую часть времени можно лежать на теплом котле и фантазировать. Сергеев мысленно пристраивал к котельной просторные корпуса — дворцы детских радостей с бассейнами и солнечными верандами. Туда по трубам бежала вода, горячая, как молодая кровь. Котельная оставалась живым сердцем детского городка. Сергеев, заслуженный старик, похаживал в ее святая Святых, пошевеливал задвижками. В дверях появлялись пионеры и робели, почтительно салютуя. Он с важным видом врал им про то, как когда-то, не боясь лишений, они с покойным Бляблиным… стояли у каких-то истоков… Эх, надо отлить… Сергеев нехотя сползал с котла, накидывал телогрейку и шел «на двор», к трубе. Ночной мороз ошпаривал причинное место, остужал голову. Лес трещал, но не от огня, а от холода, а может быть, то кабан пробирался, обламывая стылые ветки. Сергееву, делавшему свое одинокое дело, становилось грустно. Он поднимал голову, как собака, собирающаяся завыть, а там, в вышине, из далекого жерла трубы прямо к звездам отлетали белые клубы дыма — душами новопреставленных поленьев…
Но однажды при подобных романтических обстоятельствах с Сергеевым приключился небольшой конфуз. Он справлял в потемках малую нужду, когда внезапно неподалеку раздались скрип снега и звук, похожий на хрюканье… Кабан?! Парень похолодел от страха. Невооруженный, со спадающими штанами, он, конечно, имел мало средств к обороне. Что было делать? Собравшись с духом, Сергеев крикнул во тьму:
— Кышь!.. Пошел!
Ответом ему был… человечий хрипловатый голос:
— Э-хе-хе… Не боись… свои идут.
И снова хрюкающий кашель, завершившийся плевком.
Сергеев вгляделся:
— Ты, что ли, Паук?… А я подумал, кабан. Чуть не обделался!
— Кабан… хе-хе… нужон ты ему!
Паук захлопал лыжами по твердому месту:
— Здорово, малый!.. Супонь-то подбери, отморозишь.
— Я еще не… ты меня спугнул… — Сергеев повернулся к старику спиной. — А ты что это по ночам шарахаешься?
— Дак… не успел засветло. Вишь, зайчика добыл.
Заяц действительно был привязан у него к поясу.
— К вам иду погреться… У меня-то нетоплено.
В котельной они вместе с Бляблиным посмеялись забавному происшествию. Покурили: Бляблин похвалил зайца.
— Хорош заяц, — сказал он. Потом раздумчиво добавил: — Обмыть бы его надо… слышь, дед?
— Устал я, — ответил Паук. — Мне еще печку топить… А вам налью, так и быть, если пацана командируешь.
— Пойдешь? — спросил Бляблин у Сергеева.
— Конечно, пойду, — ответил парень с готовностью, потому что был рад любому, даже маленькому приключению.
Так он отправился со стариком в экспедицию за самогоном.
Нежилая деревня зимней ночью выглядит таинственно и пугающе. Ни собачьего взбреха, ни дымка над крышами, ни огонька за ставнями. А кому ни света, ни тепла не требуется? Известно, кому — только покойникам. Выбьешь дверь в избу, а там по лавкам мертвяки мороженые, крысами объеденные. Или посередь горницы удавленник висит, языком дразнится… Лезет в голову чертовщина, особенно если голова молода, глупа и охоча до выдумок.
Взошли они на Паутино крыльцо, обмахнули веником валенки. В сенях дед затеплил керосинку.
— Ладно, — сказал он. — Давай свою посуду.
Но Сергеев замялся:
— Погоди… Хочешь, помогу тебе печку растопить?
Дед усмехнулся:
— А смогёшь?
— Я же истопник, — обиделся парень.
— Да какой ты на хрен истопник… — проворчал Паук. Однако согласился: — Ладно уж. Иди в сарай за полешками.
Растопили они печку, пошло по домику тепло, и Сергееву вовсе расхотелось возвращаться в котельную. Старик скинул, наконец, тулуп и переобулся в домашние валенки. Он набулькал «свово» в принесенную Сергеевым банку.
— На, вот… — он поставил банку перед парнем. — И ступай… Смотри, не спотыкнись дорогой.
Но Сергеев все медлил. Он поглядел в окошко, словно крашенное черной тушью.
— Дед… — спросил он.
— Ну?
— Тебе не бывает тут страшно… одному?
Паук покачал головой:
— Дак… Кого же мне бояться? У меня в одном стволе завсегда волчий патрон припасен. Если какой шатун заявится, угощу неслабо… — он усмехнулся. — У меня в голове дырка еще с фронта и белый билет — убью, и ничего мне не будет.
Дед щелкнул толстым ногтем по банке:
— Раньше боялся насчет самогона. Я за энто дело еще при Сталине сидел. А теперь ничего — послабже прижимают…
— Понятно… — Сергеев не то хотел услышать. — А мне что-то боязно через твою деревню возвращаться. Идешь, как по кладбищу…
— Ах вон ты чего… Бояться тут нечего, но твоя правда… кладбище и есть.
Парень, наконец, набрался нахальства и спросил напрямую:
— Ты это, Паук… Может, плеснешь мне на дорожку?
— Для храбрости? — усмехнулся дед. И неожиданно легко согласился: — Ладно, раздевайся. Только пожрать у меня не готово.
Однако скоро старый охотник соорудил и «пожрать». Он достал из погреба картошку и банку заячьей тушенки:
— Не боись, не ондатра. Для гостей держу.
Они вместе начистили картошки, и через полчаса все запахи в избе побиты были упоительным ароматом настоящей пищи.
Трапезничали на дощатом столе, в свете керосиновой лампы. Парадом командовал генерал Самогон. Дед наливал сразу по полстакана и подкладывал Сергееву из чугунной сковороды.
— Кушай, малый, налегай, — приговаривал он. — У меня все свое…
Посреди ужина Паук спохватился:
— Эх! Да ты ж грибов моих не пробовал… Сейчас достану, пока не поели… А хошь, полезли со мной — я те погреб свой покажу?
Оба уже хмельные, они полезли в погреб. Спустившись вслед за хозяином, Сергеев изумился: погреб был не погреб, а огромный подвал, выложенный старинным кирпичом.
— Ни фига себе…
— Вот тебе и «ни фига»… ты давай, на меня свети, — старик передвигал какие-то банки. Вытащив, наконец, нужную, он повернулся к Сергееву: — А ты, малый, хоть знаешь, что тут раньше было?
— Где?
— Ну вообще… тут.
— Как что?.. Подушкино.
— Ни хрена ты, зайчик, не знаешь! Здесь фабрика была, дома двухэтажные. Рабочие жили, в амбулатории лечились… Все порушили… Эти-то избенки мы, считай, на развалинах построили, а теперь и им капец пришел… кладбище! — он усмехнулся. — Про между прочим, на настоящем кладбище вы свою котельную построили.
— Ну и ну!
Они вылезли из подвала и продолжили ужин. Паутин разболтался, ударившись в воспоминания. Он плел небылицы про старую жизнь, про войну, про «зону», про охоту. Сергеев вспоминал минутами об оставленном Бляблине… и забывал. Потом он задремал под дедов говорок, и ему привиделось, что он уже вернулся в котельную и получает «втык» от напарника. Старик, поняв, что говорит уже сам с собой, перевел парня на лежанку и укрыл вонючим тулупом. Сам же Паутин, задув керосинку, с кряхтеньем взобрался на печку.
Утром, плохо соображая, но чувствуя себя преступником, Сергеев плелся за стариком в направлении котельной. Кривой довольно бодро косолапил по тропке:
— Не боись! Я ему тушенки прихватил. Отмажем тебя!
Он обернулся:
— А хошь, чего покажу? Вчерась, помнишь, я про фабрику говорил?
— Ну?
— Пошли.
Они свернули с тропинки и, бороздя невесомый снег, скатились в залешенную низинку.
— Смотри!
Паук стал обмахивать рукавицами нечто, похожее на сугроб. Из-под снега показалось… огромное чугунное маховое колесо, выступавшее над землей только малой своей частью. Когда-то оно и впрямь приводило в движение фабричные станки.
— Видал? — гордо спросил дед. — Читай, что написано.
— «…и сынъ», — разобрал Сергеев на ободе.
— То-то… У него и отец был, да в болото укатился.
— Ясно… — парень улыбнулся.
— Ни хрена тебе не ясно… — Паутин поморщился. — Ладно, пошли сдаваться твоему Бляблину.
Не поле перейти…
Хорошо жить в рабочем квартале, под крылом родного завода. Будильника здесь не требуется: встаешь по гудку, а если, к примеру, вечор перебрал — все одно не проспишь. Пятиэтажка панельная в семь утра наполняется такими звуками, так содрогается, что, кажется, и мертвый из гроба встанет. Этот грозный шум означает: встает, подымается рабочий народ — кто к станку, кто к рулю… И не определишь, кто пердит, кто сморкается — все сливается в мощном гуле. Звенят шкафы, ревет в унитазах вода, скорый топот тяжелых пяток заставляет прыгать люстры. За окошком уже слышно: скрип-скрип… потом скрип-скрип-скрип… снежный скрип нарастает и сливается, так что может почудиться, будто сходит с горы лавина или оползень. Посмотришь на улицу — и сердце зайдется в радостном изумлении: как же нас много! Ровным, широким потоком идут рабочие, оставляют за собой густые шлейфы дыма, словно ход им дает паровая машина; инженеры выпрыгивают в толпе, как горбуша, спешащая на нерест…
Хорошо, между прочим, жить в десяти минутах от проходной: и утром не опоздаешь, и в обед успеешь сбегать щец холодных навернуть, и, главное, вечером завсегда до дому дойдешь — в крайнем случае донесут товарищи.
Однако Ване Шишкину эти блага жизни присвоены не были, потому что ездил он на завод аж из деревни Короськово. Пойти на завод надоумила Ваньку мать его, Пелагея. Все зудела.
— Ступай, Ванька, в завод работать, ить сопьесси в деревне-то, как отец твой.
Вот простота! Будто в заводе не «сопьесси»… Все талдычила:
— Ступай, Ванька, не то век будешь коровам хвосты заносить. И денех колхоз не плотит… А в заводе из тебя, дурака, человека сделают.
Тут права была Пелагея. Рабочий человек тогда был самый уважаемый: тебе и почет, и заработок, и в Евпаторию бесплатная путевка. Только рабочую закваску… ее с молоком матери всосать надобно — железо не каждому в руки дается, его чувствовать нужно. А сколько знаний требуется: и допуски, и посадки, и в чертежах разбираться! Инженер прибежит, шлепнет бумажный ворох на верстак, а ты мозги ломай… Кроме того, рабочий человек, не в пример крестьянину, чистоплотный: если баба, скажем, в ванне белье замочит или карпа магазинного туда плавать пустит, он сейчас ей «втык» сделает: «А ну, — скажет, — освобождай немедля — или где я, по-твоему, должен жопу мыть?» Не то что у них в деревне: погадит в огороде и не всякий раз еще лопухом подотрется.
Так что поначалу нелегко пришлось Ваньке в цехе. Работу, конечно, давали ему что попроще: стружку убрать, кирпич перетащить… В колхоз посылали по разнарядке — вот смеху! — к себе же в деревню, как городского; уж он там три нормы делал… Но постепенно Шишкин у нас прижился; народ мы добродушный: отчего же, коли из себя не строишь — живи. К одному его не могли никак приучить — ноги мыть. И так ему намекали, и этак: «До чего ж ты, Ванька, вонючий… Посмотри, у тебя черно между пальцами». А он только улыбался и отвечал: «Мы деревенские, у нас ваннов нету». — «Да ты хоть в душ сходи — рядом же с раздевалкой!» — «Куды… там народу полно», — ежился Ванька. Это он, значит, стеснялся голым в коллективе показаться, а вонять ему стыдно не было… деревня, одно слово. Между тем смердел Шишкин безо всяких шуток — даже не так сам, как почему-то его шкафчик Вокруг этого шкафчика была мертвая зона, как на химическом полигоне: три справа от него и три слева стояли пустые. Как-то зашел в раздевалку начальник цеха Бубнов Анатолий Иваныч, понюхал воздух и прослезился. А потом как гаркнет:
— Чей шкаф?! Вы что, мать вашу, здесь покойника держите, что ли?
Из-за Ванькиных ног вышла однажды конфузия. Послали его раз в бухгалтерию столы двигать, так одной нервной бухгалтерше плохо сделалось. Больше его в инженерный корпус не командировали… В общем, непросто с ним было: терпеть приходилось и запах его, и невежество деревенское, и, главное, непроходимую крестьянскую тупость.
Но и Ваня терпел немало по милости мамки Пелагеи. Каждый день страданье доставляла ему дорога из Короськова в город и обратно. Особенно зимой: выйдет он затемно — а поле перемело, тропинок нет и вешки все ветром повалило. Таранит Ваня снег брюхом, как кабан, но кабан-то зверь могучий, не сын алкаша деревенского. До большой дороги идти и идти… и вот она уже видна, и видно, как по ней проносятся машины, но пока догребешь до нее, все силы оставишь в проклятом поле. А после надо работать… В цехе дурак, не дурак — работу любому найдут, дураку еще и с верхом прибавят. Первое время Шишкин никак не мог привыкнуть к заводскому шуму: станки воют, болванки грохочут, шланги шипят, инструмент пневматический взвизгивает так неожиданно — в штаны наложишь. А поверху ходит кран, страшный как поезд, и все норовит крюком тебе голову снести. Поначалу от этого шума Ваня все время засыпал: только присядет, смотришь — у него глаза, как у петуха, снизу пленочкой затягиваются.
Боялся он всего: кара проедет — он отпрыгивает, пресс вздохнет — он вздрагивает. Больше всего почему-то страшил его кран; так, наверное, куропатка опасается всего, что сверху налетает. Но судьба распорядилась ему именно с краном работать. Вообще-то стропить ему не полагалось, на то были обученные стропальному искусству опытные рабочие. Но какой уважающий себя стропальщик станет таскать цеховую байду с мусором — ее и прозвали-то «парашей». Так что нацепили Ване на руку красную повязку, как дружиннику, нахлобучили желтую каску и показали, что надо делать:
— Сюда крюк… сюда крюк… «Майна», «вира» — сообразишь? И туда, на трактор вываливаешь. Да она сама все знает… Фью-у-у-у!!! Зи-инка-а! Заснула, что ли?!. Гляди, вот этот с тобой будет!
На том кончилось ученье, началось мученье. Во-первых, Шишкин не умел свистеть, во-вторых, и голоса такого, чтобы цех переорать, не имел. Да он и стеснялся кричать: ему казалось, все на него глазеют, все, кроме противной Зинки. А «параша» между тем полная и трактор с телегой ждет… Вот встал Ваня на видное место и крикнул:
— Э!
Зинка даже голову не показала.
— Ау!
Ноль внимания.
Мимо проходил Славка Корзинин:
— Ты чего аукаешь — здесь тебе не в лесу.
— Дык вот… мусор надо… — забормотал Шишкин.
— Новенький? Ясно… С ней построже надо — вот смотри: Зи-инка-а!! Пизда ленивая! Кончай спать, давай работать!!
Сей же миг в кабине крана показалась Зинкина голова. Протерев глаза, крановщица деловито посмотрела вниз и, ловко задвигав рычагами, со снайперской точностью опустила над «парашей» малый крюк. Ваня неумело, с помощью Корзинина, накинул «паук» и зацепил им байду.
— Вира! — крикнул он, покосившись на «наставника».
— Чего?! — переспросила Зинка.
— Поднимай, еж твою двадцать!! — заорал Славка и показал рукой.
— А… Поняла! — закивала крановщица и пугнула Ваньку звонком. — Отойди, придурок, зашибу!
Он еле успел отскочить.
— Ладно, давай сам, а то не научишься, — Корзинин хлопнул его по плечу и пошел дальше.
Первую «парашу» Шишкин, конечно, вывалил на себя, но хорошо хоть, что не убился. Потом он немного приспособился, но все равно цеховая наука давалась ему с трудом. Единственное, чему Ваню не пришлось учить, — это пить водку. Правда, и тут он мужиков насмешил, когда они его первый раз с собой взяли… Выпивали рабочие или наскоро в раздевалке, или не спеша «на природе». Этих «рюмочных-распивочных» в городке тогда не было; зачем, когда кругом столько «бугорков», и рощу пионеры насадили, и стадион завод отгрохал… Ну вот, взяли они Ваню с собой на стадион, расположились на трибуне; внизу пацаны мяч гоняют, а мужики культурно после работы выпивают. Ваня от людей не отстает… Закурили… Тут Шишкин всех и огорошил:
— А когда, — говорит, — драться пойдем?
Мужики изумились:
— Ты что, Вань? Тебя обидел кто?
— Нет… Дык выпили же… — отвечает Ваня.
Вот оно что! Видать, у них в Короськове без драки не пьют — экий дикий народ… Мы, понятно, тоже не прочь иногда «помахаться», но с толком и по делу, а это что же — просто выпил и давай?.
Но ничего, приучили Шишкина и отдыхать по-людски. Вообще он за год немного обтесался: приоделся, разговорчивей стал, и даже, кажется, меньше стало от него пахнуть… а может, это мы к нему принюхались. Вот только бабы у него не было ни постоянной, ни какой-нибудь. В деревне у них, он рассказывал, доярки все на возрасте, а в городе кто ж ему даст, такому недотепе, — он и сам это понимал. Между тем стали мужики замечать, что заглядывается Ванька на нашу Милку-нормировщицу. Нормировщица — это такая должность, резать рабочим расценки, поэтому будь на Милкином месте хоть с шестым номером, все равно бы ее никто не любил. Мужики, завидя ее, заводили всякие шуточки и всяко над ней насмехались, чтобы она ушла поскорее со своим секундомером. Однако если посмотреть непредвзято, то женщина она была ничего и к тому же, кажется, разведенная. Но почему это Ваня так на нее «запал» — загадка… Возможно, из-за имени, ведь так в деревне коров называют. Ну а уж коли заметили мужики, что он Милку глазами провожает, пошли шуточки и в его адрес. Частушку пели, хоть и не в рифму она выходила: «Как завижу мою Милку — сердце бьется об ширинку…» Шишкин отмалчивался… Наконец, кто-то спросил его, когда она мимо проходила:
— Хороша баба… Стал бы, Вань?
— Чего? — не понял Ванька.
— Ну… Милку трахнул бы?
Шишкин помолчал, постепенно краснея, и ответил:
— Нет.
— Это почему же? — спросивший удивился. — Ведь она тебе нравится.
— Дык… — Ванька замялся, — не дасьть она мне.
Хохот стоял в цехе минут пять.
И все же, видать, случай этот настроил его мысли более определенно в отношении нормировщицы. Люди заметили, что он, превозмогая себя, стал мыться в душе, а в цеху при Милкином появлении краснел и начинал фасонить: однажды даже громко выругался матом, чего раньше с ним не случалось. Но на Милку его заходы, ясно, не действовали, а на мат она обернулась и сказала:
— Свинья!
Так что до кадрежки дело у них не дошло… А может, и было у них какое объяснение, кто знает, потому что однажды Ванька, прогуляв с обеда, напился. Он напился, шлялся по городку, а вечером, встретив Кашлева с Корзининым, добавил с ними еще… Была зима, пурга; Кашлев с Корзининым замерзли и пошли по домам — получать от жен положенный причесон. А Шишкин… Шишкина нашли только через два дня в короськовском поле под снежным сугробом. Из города-то ушел Ванька, а домой не вернулся, такие дела…
История в чем-то и поучительная. Не слюбился парень ни с Милкой, ни, в общем-то, с заводом, ни с городом. И мы его, скажем честно, не особенно полюбили. А все почему? Понудила его неразумная Пелагея идти через это поле… Останься он в своем Короськове — другой бы был и рассказ о нем.
Друзья
Мужская дружба в ее, разумеется, естественном виде — явление столь же распространенное, сколь и непонятное. Каких только странных альянсов не возникает за бутылкой и без нее под влиянием таинственной силы дружеского тяготения.
Вот пример: несколько уже назад отсюда во времени жили-были и работали в одном цеху два слесаря-сборщика — Попов и Савельев. Не бывало, казалось, на свете столь непохожих людей. Попов — мужчина полный, основательный, неторопливый. Савельев сухощавый, подвижный, характером горячий. Попов имел партбилет и, стараясь понравиться начальству, не пропускал ни одного собрания. Савельев, напротив, с начальством вечно ругался, а пустые заседания терпеть не мог. Он говорил, что его даже в детстве не приняли в пионеры, потому что батя его отдал Богу душу на каком-то канале. Совпадали они только местом работы, профессией, да еще возрастом: обоим уже перевалило на шестой десяток, что для русского мужика, притом работяги, считалось немало. Еще их объединяла общая для наших слесарей страстишка к дегустации некоторых спиртосодержащих смесей. Водка в те времена считалась напитком праздничным и, скорее, дамским, а в ежедневном ходу у трудящихся были заводские бесплатные побочные продукты химического производства. Назывались они по-разному, потому что разными были рецепты их приготовления: «Борис Федорович» («БФ»), «Сучок», «Ветродуй» и так далее. Но суррогаты пили все, а дружили так крепко, как Попов с Савельевым, немногие.
Вкалывали они, конечно, на пару — оба по шестому разряду, оба уважаемые люди. Шестой разряд в сетке для слесарей самый высокий, «старику» просто полагался. Но пока добирались до этой карьерной вершины, друзья, увы, подзабыли многую слесарную премудрость. Чертежи они всегда разбирали с трудом, больше полагаясь на память, а вот ее-то и повыветрило временем и «Ветродуем». Прикинут на глазок, где сверлить и как да что… ан, промахнулись! Выходил брак. Начиналось разбирательство: кто напортачил? Попов? Не может быть — он член партии, опора и надежа цехового начальства. И виновным назначали Савельева — вот тебе и КТУ,[2] вот тебе и премия… Мастак злорадно скалился: «Один ноль в твою пользу!» — и ставил ему минус ноль один на специальном стенде. Тогда-то Савельев и показывал свой характер: ругался, брызгал слюной и грозился все начальство вывести на чистую воду. Но его никто не боялся, разве что мастер держался временно подальше от его горячих кулаков. А на следующий день Савельев и сам уже не помнил обиды: хлопал мастака дружелюбно по спине и, нацепив очки с резинкой, старательно портил очередное изделие. Хитрован Попов, увиливая от ответственности, подводил базу, объясняя, что оплачивает свою неприкосновенность членскими взносами. Но Савельев и так никогда на него не обижался, потому что на друга обижаться нельзя.
Зато с бабой своей он ругался без устали: Савельевы вели промеж себя почитай уже тридцатилетнюю войну. Додирались они иногда прямо в цеху, потому что работала Райка тут же, кладовщицей в ИРЮ. К их скандалам привыкли, и никто на участке не удивлялся, встретив Райку с густым «бланшем» под глазом. Савельеву бы взять пример с Попова: там в семье царила тишь да гладь, ни драк, ни ревности — полное взаимопонимание. Поповская Валька работала в буфете и приносила в дом не меньше мужа. Все знали, что в интересах дела, особенно по молодости, она давала себя щупать нужным людям, однако никто бы не припомнил, чтобы Попов поднял на нее руку. Впрочем, оба друга баб своих любили и называли их за глаза ласково «наши кастрюли».
Материальное положение в их семьях тоже резко различалось, несмотря на одинаковую зарплату. У Попова имелись мотоцикл с коляской, огород, большой настенный ковер. Савельевы же вроде и суетились: то капусту квасили, то картошку запасали, а все у них были дыры в хозяйстве — вечно до получки занимали. Попов только с виду казался неповоротливым — он всегда знал, где что на заводе лежит не у дела: высмотрит, припрячет, да и шасть через забор. И ни разу не попался. А Савельев однажды только хотел ножовку вынести (на свою же рабочую карточку у Райки выпросил!), да поперся с ней через проходную и влип.
Такими они были разными, Попов и Савельев, но их объединяло настоящее таинство мужской дружбы. Не только в аванс или получку, а и в обычные дни часто находился у них повод прогуляться после смены в пионерскую рощу. Друзья завели такую специальную грелку, в которой выносили этот «повод» с завода. Роща начиналась вскоре за заводским забором — ее и высаживали в качестве санитарной зоны между химзаводом и городком. Вечерние косяки работяг процеживались сквозь зеленый фильтр, пьющие оседали, застревали в кустарнике, как рыбешка в китовом усе, и в результате их бесчувственные тела меньше потом засоряли улицы городка.
Наши друзья шли на собственное, давно ими облюбованное укромное место. Распитие грелки требовало сосредоточенности и не терпело посторонних глаз. Все разновидности заводского пойла чрезвычайно трудно усваивались организмом и только при помощи специального набора приемов, выработанного годами тренировки. Молодежь с третьим-четвертым разрядами просто раз за разом блевала, повторяя «заходы», прежде чем «приживется» очередная порция. «Старики» же, выучась искусно управлять своими внутренностями, могли даже обходиться почти без закуски, пользуясь разве что березовым побегом или сорванным здесь же в роще листиком щавеля. Пили Попов с Савельевым из «дежурного» стакана, который с собой не уносили, а оставляли в роще, вешая вверх дном на древесный сучок. Зимой и летом стакан неизменно встречал товарищей на привычном месте, вызывая у них приятное ощущение устойчивости бытия. В часы неторопливых попоек лишь этот рыжий стакан, давно утративший былую прозрачность, составлял им испытанное общество. А на полянах гомонили шумные компании: заводчане приходили в рощу порой целыми бригадами и оскверняли вечер производственными разборками, переходившими иногда в рукопашную. Часто и наших друзей зазывали на лихие сборища, но они отказывались: им уже милей были покой и тихая беседа. О чем? О жизни: о бабах, о детях, о старости и о многом таком, что можно доверить только рыжему стакану… Они разговаривали так тихо, что, наткнувшись в сумерках, их можно было принять за два шелестящих дерева, и однажды, собственно, так и случилось…
Шла как-то вечерней рощей собирательница Любка (по фамилии то ли Лапутина, толи Лазутина). В одной руке несла Любка авоську, а в другой — палку. Палкой она, что-то ища, шерудила в траве, а найденное складывала в авоську. Искала она, конечно, не грибы, не ягоды, а пустые бутылки — это и был ее промысел. Шла Любка, тыкая своей палкой, как слепая, и надвигалась прямо на Попова с Савельевым, которые, замолчав, с любопытством за ней наблюдали. Вдруг вместо дерева палка стукнула по мужской ноге.
— Ай! — вскрикнула Любка, отпрянув.
— Чего орешь? — строго спросил Попов.
— Очинно испугалась… — баба смущенно улыбнулась, показав немногочисленные зубы.
— Не бось, не укусим.
Любка уже оправилась. Чуток постояв, она сказала:
— Здрасьтё…
— Здорово, здорово.
Она еще помолчала, затем поинтересовалась:
— Мужчины, у вас «пушнины» нету?
— Чего?.. Нету. Видишь, из грелки пьем.
Но баба не уходила, а продолжала застенчиво переминаться. Наконец она отважилась:
— Ребята, а я вас знаю…
— Ну и что? — равнодушно отозвался Попов.
— Любка я… И жену твою знаю…
— Ну и хуй с тобой.
Она боролась с застенчивостью:
— Вы мне это… двадцать капель не плеснете?
Друзья переглянулись:
— Из нашего стакана? Иди ты…
— Зачем из вашего, — заторопилась Любка, — у меня свой есть.
Они переглянулись опять.
— Ну что, плеснем ей? — предложил Савельев.
— Ладно, давай… — согласился Попов. — Только, ты слышь, у нас заводской, — предупредил он бабу.
— А мне ништяк! — просияла она. — Спасибо, мальчики!
В другой раз они бы ее отшили, но тут дали слабину: видно, были уже «втертые», Любке налили, потом еще, и завели с ней снисходительный разговор.
— И как же дошла ты до такой жизни? — спросил ее Савельев.
— До какой? — не поняла Любка.
— До такой… Бутылки собираешь… и зубов вон у тебя не осталось.
Она заморгала глазами, хрюкнула носом, да и заплакала:
— Ы-ы-ы… Много я горя видела…
— Какого еще горя? Небось, все по этому делу… — Попов, усмехнувшись, щелкнул себя по горлу.
— Ох, не знаете вы жисть мою… ы-ы… — скулила она, размазывая слезы.
Друзья выпили еще по полстакана, отдышались, помолчали. А баба все не унималась.
— Экая слезливая попалась… — Попов задумчиво посмотрел на Любку. — Что с ней делать?.. Слышь, Савельев, вроде не старая еще… Может, отдерем — что ей, за так наливали?
При слове «отдерем» Любка перешла на вой и в страхе поползла прочь.
— Эй, дура, ты куда? — удивились они.
— Чего я вам сделала? — заголосила баба. — Я вам что, не даю? Ебите, если хотите, а драть-то зачем?
— Э-э, да ты и правда дура! — засмеялись мужики. — Мы ж про то и говорим! Ползи обратно…
Алкоголь и потемки — лучшие гримеры: что-то они такое сделали с собирательницей бутылок, что даже Попов с Савельевым соблазнились на грех. Разложив безотказную Любку, они ласкали ее одновременно и каждый по-своему. В то время пока практичный Попов, задрав несвежий подол, направился прямиком в ее грешные недра, Савельев — кто б мог представить — целовал ее в беззубые уста!
Долго ли, коротко совершалась их оргия, но наконец угасла. Как угас и день — роща погрузилась во мрак. Попов, пошатнувшись, встал с лесной подстилки, помочился и бережно спрятал свое «хозяйство». Сделав дело, он склонился, вглядываясь в лежащие тела… Савельев с Любкой спали, обнявшись, будто юная пара, утомленная любовью где-нибудь на цветочном лугу. Попов хотел разбудить друга, но передумал; усмехнувшись, он отнял руку и выпрямился. Он постоял в задумчивости, потом вздохнул и побрел один, ощупью находя в темноте дорогу.
Савельев очнулся на рассвете; тело его свело от холода и сырости. Он с трудом сел и огляделся: Любки не было; рядом с ним валялись только рыжий стакан в росе и пустая грелка. Савельев нарочно задрожал, пытаясь согреться, и задвигал плечами. Из-за кустов неожиданно выбежала собака, гавкнула и скрылась. Он еще немного посидел и попробовал встать; голова его закружилась, и Савельеву пришлось прислониться к дереву. Стоя так, он увидел сквозь ветки медленно бредущую по роще женскую фигуру; вглядываясь в траву, женщина что-то искала…
— Люб!.. — хрипло позвал Савельев.
Женщина услышала и пошла на голос.
Когда она приблизилась, он понял свою ошибку: это была не Любка, а его жена Райка.
— Ты чего тут делаешь? — спросил он, протирая глаза.
Она ответила не сразу, а сделала паузу, глядя сурово в упор на перепачканного супруга.
— А ты как думаешь? — молвила она мрачно.
Райка еще постояла, потом круто повернулась и пошла прочь. Савельев отлепился от дерева и нетвердым еще шагом стал ее догонять. Они шли домой в молчании, хлюпая промокшей от росы обувью.
— Рая! — вдруг подал голос Савельев.
Она обернулась:
— Ну чего тебе?
— Ничего…
Он не стал говорить, а про себя решил, что больше никогда не будет с ней драться.
Напраслина
Весело начинается рабочий день в заводе. Если ты не с «бодуна», если не успел с утра полаяться со своей «коброй» — хорошо! Но и то не беда — пройдешь вахту и все с себя отрясешь: в заводе другой мир, и ты, как в сказке, обернешься здесь другим человеком. Сколько таких примеров: там, за забором, ты Иван-дурак, а тут у тебя другая ипостась — Иван Иваныч, знатный фрезеровщик. Вторая после проходной переправа — раздевалка: в ней окончательный раздел с зазаборьем; сбросив неуклюжую «гражданку», здесь ты облечешься в природную свою шкуру — робу, — повторяющую любовно все причуды твоей анатомии.
Раздевалка, «бытовка» наполняется с утра мужскими голосами. Раздаются приветствия, хлопают звонко ладони, спины гулко бухают. Залязгали железные шкафчики. Вот оголились первые торсы, запрыгали по войлочным коврикам лохматые ноги. Голоса весело перекликаются, густые и тонкие, хриплые и чистые, но трудно угадать, какой голос в каком устроен теле. Тел здесь тоже полный ассортимент: всех степеней атлетизма, полный набор конопушек и родинок, вся география волосатости. Шеи пока благоухают, но скоро, скоро трудовой пот вымоет из пор лосьоны… Ноги ныряют в промасленные «комбезы», тулова облекаются в рубахи, давно позабывшие свою расцветку. С притопом надеваются тяжелые ботинки-«говнодавы»; мало проветрившиеся за ночь, они с силой выдыхают хозяевам в нос… Готово? А вот и звонок к началу смены.
И пошла лавина по коридорам, по переходу в цех — можно даже испугаться. Эй, кто там в белом халате, посторонись, не то запачкаем, толкнем ненароком… Прошла лавина, и вдруг — как последний камушек: топ-топ-топ… Догоняй, не опаздывай, не отрывайся от коллектива!
Ждет тебя твой зеленый друг — токарный, фрезерный, зубонарезной — только что не ржет приветственно. Обметен, прохладен, слегка попахивает железом со сна… Сейчас, дружок, уже скоро… Мастер, что у нас на сегодня?.. Лягут сами ладони на отполированные рукоятки — пуск! И он запоет, и душа твоя запоет! Звонко зашелестев, брызнет стружка; нежная, чистая покажется обнаженная сталь — как головка ребенка между ног роженицы, как залупа в бережной мужской руке. Вы вдвоем сделали третьего; его увезут на тележке, куда — неизвестно, где проведет он жизнь — незнамо… но сейчас это ваше дитя, и ты любовно принимаешь на руки его теплое тельце.
Хорошо начинался день в цеху. Колокольно звенели болванки; трогался кран и выл, набирая ход; там и сям подавали голоса станки и люди… Баулин любил это время. В чистой спецовке, в неизменном берете он степенно проходил станочным междурядьем, кому кивая, кому пожимая шершавую руку. Минуя «птичник» (загон-возвышение посреди цеха), он солидно «ручковался» с начальством. Задания Баулин получал персональные, ибо токарь был классный, мастера перед ним заискивали:
— Вот, Степаныч, смотри, что инженера удумали… Как — сделаем такую хреновину?.. А?
Степаныч, надев очки, склонялся над чертежом.
— Ну как?.. Смогём?..
Баулин отвечал не сразу. Сняв берет, он гладил ладонью лысину, чесал задумчиво за ухом… Потом усаживал берет обратно и тогда только, нахмурясь, цедил:
— Попробуем…
Его «попробуем» означало, что он сделает. Мастер облегченно вздыхал:
— Ну и слава те… Ты только не спеши, это тебе на всю смену задание.
На последние слова Баулин хмурился и с достоинством возражал:
— Поучи дедушку кашлять!
Как среди деревьев дуб распускается последним, так и Степаныч едва ли не последним в цеху запускал свой станок. Но уже когда приступал он к работе, ничто не могло его отвлечь, разве обесточка завода. Рабочее место и инструмент свой Баулин содержал в исключительном порядке. Сама его железная тумбочка говорила за себя: всегда аккуратно выкрашенная, снабженная большим висячим замком. Дверца ее изнутри была оклеена не женскими задницами, а таблицами допусков и посадок. Станок Степаныча, такой же немолодой, как его хозяин, не знал чужой руки и никогда не ломался. Баулин не подпускал к нему ни сменщиков, ни наладчиков, и все в цеху знали: не хочешь скандала — не подходи к баулинскому станку.
За хороший труд и выслугу лет имел Степаныч орден — «Знак почета». Не раз профком награждал его грамотами и путевками. Но… будь ты хоть трижды орденоносцем, хоть членом парткома, не стоит забывать, что ходишь под Богом. В подтверждение этой мудрости, однажды и с Баулиным случилась оказия.
Работал он как обычно: творил какую-то замысловатую деталь. Вдруг в проходе между станками показалась Томочка-экономистка, выбранная недавно председателем цехкома. Она пробиралась, переступая туфельками через лежащие на полу заготовки и боязливо сторонясь гудящих машин. Рабочие весело посвистывали ей вслед, и только один Баулин не обращал на Тому внимания, хотя направлялась она именно к нему.
— Петр Степаныч! — голос ее за шумом станков показался писком.
Он не обернулся, а лишь махнул рукой: обожди, мол. Дамочка еще постояла и, набрав воздуха, опять закричала:
— Петр Степаныч, пожалуйста!
Баулин досадливо крутнул головой и выключил станок. «Концами» он не спеша вытер руки и, сдвинув очки на нос, строго поверх посмотрел на Тому.
— Ну? — недовольно буркнул он.
Под мышкой цехкомша зажимала папочку.
— Грамоту принесла? Давай…
— Нет, Петр Степаныч, не грамоту… — она оглянулась и понизила голос: — Тут неудобно… Бумага на вас… Вы поднимитесь, пожалуйста, в контору.
— Что еще за бумага? — посуровев, переспросил Баулин, но, покосившись на рабочих, быстро пообещал: — Ладно, приду.
Спустя полчаса он поднялся в ее кабинет. Вид у него был сердитый, и, не дав Томочке открыть рта, Степаныч с порога заругался:
— Вам что, ёшь вашу, делать нечего?! Бумажка, поди, прошлогодняя из вытрезвителя… Порвали б, и дело с концом!
Но цехкомша, слегка порозовев, возразила:
— Нет, Петр Степаныч, не из вытрезвителя… Вы сами почитайте…
И она, раскрыв свою папочку, подала ему несвежий тетрадный листок, отмеченный, однако, каким-то входящим номером. Степаныч, нацепив очки, принялся разбирать корявые строки. Писалась бумага, наверное, с не меньшим трудом, чем прочитывалась:
«Мы жители деревни бывшая Мутовки ныне относимся к горсовету Козлова М. М. и Курипанова М. К.
ЗАЯВЛЯЕМОградите молодую семью. Николаева Анна по улице 2-я Мутовская дом 3 пользуется что муж проводник развела притон. Ваш коммунист Баулин несмотря что на Городской Доске Почета ходит к этой Аньке. К ней пососедски пришли сказать что у ней корова съела нам капусту. А он сидит в трусах и мне сказал пошла вон. Примите немедленные меры к таким которые позорят Доску Почета а Витька у ней слабосильный и сам поучить не может».
Баулин побагровел и гневно засопел. Томочка смотрела испуганными глазами.
— Из парткома переслали, — сообщила она почти шепотом. — Говорят; разберите на профсоюзе…
Степаныч, удерживая злость, что-то соображал… Наконец до него дошло, и он взорвался:
— Что они там уху ели?! Я им разберу, ёшь иху… И ты тоже хороша, «Тома из цехкома»… навыбирали вас!
Она чуть не заплакала;
— Я-то чем виновата?
— На какой это я Доске висю… вишу, по-твоему?
— Как, на какой — на нашей…
— От дура! То-то, что на нашей! А здесь написано: на городской! Ты читать умеешь? — он бросил бумажку на стол.
— Там же фамилия стоит: Баулин…
— Я что — один в городе Баулин? У нас Баулиных пол-улицы!
Действительно, в том году его не представили на городскую Доску, потому что там и так висели двое Баулиных — пропитчик из первого цеха и директор техникума. Степаныч велел Томочке впредь думать правильным местом и гордо покинул кабинетик, оставив цехкомшу одну, обескураженную и недоумевающую. Следствия проводить не стали, и мутовское заявление дальнейшего хода не имело…
Однако происшествие получило неожиданное продолжение. Неизвестно, каким образом, история с «заявой» добралась до ушей баулинской жены, Дарьи Гавриловны. Она не дослушала объяснения, на какой Доске висит ее супруг, а сразу избила его, чем пришлось под руку, именно — половой тряпкой. Тряпка оставляла на Степанычевой лысине грязные следы, а он только бормотал: «Даша… Даша…» — и тщетно прикрывался руками. Задав перцу Степанычу, Дарья Гавриловна не успокоилась и на следующее утро совершила карательную экспедицию в Мутовки. Найдя Аньку Николаеву в собственном доме, она сделала то, что не получалось у слабосильного Витьки: схватив Аньку за волосы, Дарья крепко била ее мордой о кухонный стол. Гавриловна хотела переколотить всю посуду, но Анька, пуская из носу кровавые пузыри, так убедительно открещивалась и верещала, что знать не знает ейного мужа, что кухня уцелела. Отдышавшись, бабы помирились и, уже вдвоем наведавшись к клеветнице Машке Козловой, от души ее отметелили, чтобы у нее вовек отпала охота к подметному творчеству. Соавторшу ее, Курипанову, не нашли (ее счастье!), потому что она, заслышав соседкины вопли, где-то спряталась и отсиделась.
Историю эту Сергееву рассказал в курилке сам Петр Степаныч. Закончил он ее печальным вздохом и словами:
— Вот, брат, какой вышел анекдот…
Сергеев помолчал, затянулся и, скосив глаза на зашкворчавшую сигарету, заметил:
— Но ведь дыма без огня не бывает… а, Степаныч?
— В каком смысле?
— Ну… признайся — небось, и правда ходил к этой Аньке?
— Ну и что? — удивился Баулин. — А кто к ней не ходил? Не на всех же кляузы строчат… Вон, Томочка наша у начальника со стола не слезает, и что? Мы ж не станем на них писать!
— Нет, конечно. На своих, как можно?
— Я и говорю… В коллективе все по-людски, а там… хоть не ходи за проходную, — и Баулин потер многострадальную лысину.
Переезд
Вечерело медленно и незаметно, безо всяких там зорь и закатов — у нас так бывает. Как в кино — механик убирает диафрагму: убирает, убирает, и все — до завтра. Вуаль, муар… как это называется? Словом, на городок нисходили сумерки. Дали становились неясными, расплывались, будто зрители, расчувствовавшись, прослезились к концу сеанса.
Финальную сцену дня и впрямь наблюдало у переезда довольно много людей: водители скопившихся автомашин, их пассажиры и, конечно, сам машинист маневрового тепловоза, второй час уже загораживавшего дорогу. Высунувшись по пояс из кабины и мужественно нахмурясь, машинист напряженно вглядывался куда-то по ходу состава, словно вел его на большой скорости. Наконец, получив таинственный знак, он скрывался в кабине; тепловоз давал энергичный свисток, трогался, и прицепленные к нему три вагона принимались возбужденно лязгать. Шоферы бросались к машинам; вспыхивали фары, дорога окутывалась дымами заговоривших моторов… Увы — шлагбаум не хотел открываться, и через минуту из леса показывались знакомые вагончики, толкаемые все тем же проклятым тепловозом; машинист, не меняя мужественной осанки, смотрел теперь в обратную сторону… Канитель эта началась еще засветло, а сейчас уже и машинист, и тепловоз его были почти неразличимы в густых сумерках.
Городок привык к своему переезду, но неудобства от него нельзя было не замечать. Переезд служил всегдашним поводом для местного злословия. В самом деле: самосвалам приходилось вываливать раствор, чтобы не «закозлился» в кузове; «Скорая помощь» часто бывала совсем не «скорой», а иногда уже и не «помощью». Даже похоронные процессии попадали из-за переезда в нелепое положение: скорбящие от нечего делать разбредались по обочинам, а покойники оставались одни, и хоть им-то спешить было уже некуда, лежали, казалось, с выраженьем скуки. Конечно, пешие жители и беззаконные мотоциклисты пересекали «железку» когда хотели, на свой риск, однако все же городок платил немалую ежедневную дань переезду, а стало быть, каждому, кого проносили мимо скорые и дальние поезда.
Сидя в остывающем автобусе, Никишин изнывал не столько от ожидания, сколько от неумолчного трепа своего соседа. «Вот повезло… — с тоской думал Василич. — Навязался, перец…» Фамилия «перца» была Зачёс; когда-то они с Никишиным вместе работали, но уже лет двадцать не попадались друг другу на глаза. Теперь Зачёс восполнял пробел в никишинских знаниях об его, Зачесовых, обстоятельствах. Изо рта его дурно пахло, и вонь эта гармонировала сего речами: «Сеструха — сука… невестка — блядь… смерти моей ждут…» — доносилось до Василича. Он отвернулся к окну, но Зачёс, навалившись, приник и продолжал смердеть ему в лицо: «Ждут, чтобы я дом им подписал… А вот им! Что они вложили?» — «Тебе-то на том свете дом не нужен будет… — пробормотал Никишин. — Пусти-ка, я выйду…» Зачёс с сожалением его выпустил. Качнув автобус, грузный Василич выбрался на воздух. Беззвездное небо совсем уже погасло. Шофера, собравшись в кучку, что-то, смеясь, травили и даже не взглядывали в сторону переезда. «Сколько же еще простоим? — с досадой прикинул Никишин. — Нет, надо домой возвращаться, все равно Катьку уже спать положили…» Он постоял еще немного, потом сплюнул под ноги и побрел восвояси.
По улицам городка тянуло приятным запахом дровяного дыма. Во всех домах уже затеплились окна, и по цвету их можно было сообразить, мимо чьего дома ты идешь: занавески горожане не меняли по многу лет. Люди собирались под крыши, а собаки, отпущенные на ночь, выходили на улицы и церемонно здоровались друг с другом. Их взбрехи там и сям, обрывки людского говора, миганье разноцветных окошек — все показывало, что городок одушевлен, наполнен тихой, но повсеместной жизнью. Лишь громада собора, тяжко поправшая монастырский холм, нависала немо и слепо, едва пропечатываясь на темном небе. На его уступах и на месте порушенного купола вместо крестов росли целые березы, мощную кладку изъязвило лихолетье. Собор и присные церкви стояли заколоченные, мрачно и даже величественно пережидая стрясшуюся с ними беду.
Туда, в сторону старого монастыря, держал путь Никишин. Как ни странно, жизнь не вся покинула это место: там, в бывших монашеских кельях, в здании бывшего странноприимного дома, в стенах и даже в бывшей Надвратной церкви обитали люди. Подобно насекомым, мышам либо иным паразитам, заселяющим безнадзорные и погибающие строения, они, впрочем, с благословения властей, обжились тут давно. Когда это случилось, то есть когда советская власть закрыла монастырь и первые поселенцы из числа приезжих пролетариев поместились в теплых еще кельях, в далекой стране Испании шла гражданская война. Видимо, поэтому место, принявшее людей, так похожих на беженцев, жители прозвали Мадридом. Парии среди горожан, мадридцы всегда жили обособленно. Из больших городов пришельцы занесли в Мадрид дурную привычку решать все споры кулаками, а то и при помощи ножей или кастетов. Поэтому район этот быстро приобрел дурную славу, так что даже теперь, спустя четыре десятилетия, горожане старались без нужды в Мадрид не наведываться.
Однако Никишин не боялся мадридского жиганья. Он был свой человек в этих трущобах, знал тут каждого, и все знали его. К тому же, несмотря на пожилой возраст и развившуюся с годами тучность, он еще вполне мог постоять за себя: кулак его способен был свалить если не быка, то уж хорошего теленка без сомнения. Страх не страх, но какую-то робость внушали ему вовсе не хулиганы, а, стыдно признаться, человеческие кости на «куликовом поле», миновать которое ему предстояло. Это место когда-то было монастырским кладбищем; потом про него забыли; а недавно бульдозерист, ровнявший тут для чего-то площадку, обнаружил, что из-под ножа у него полезли черепа и части скелетов. Бульдозерист смекнул неладное и пошел к начальству, прихватив с собой для доказательства один череп.
— Давай, вызывай милицию или там кого хочешь, — заявил он своему прорабу, — а я так работать не буду. Мне на том свете неохота из-за них сковородки лизать! — и он постучал пальцем по желтому черепу.
Начальство, однако, не было столь суеверно — кладбище все же перекопали. Какое-то время кости вперемешку лежали на земле, и тогда народ прозвал это место «куликовым полем». Потом кости собрали в кучу, подогнали самосвал, погрузили и увезли в неизвестном направлении. Но собирали безвестные прахи неаккуратно, как у нас собирают колхозную картошку: там и сям вновь и вновь из земли показывались то чьи-то ребра, то берцовая кость. Люди боялись ходить нехорошим пустырем, и даже Никишин, как было сказано, шел через бывшее кладбище с неприятным чувством.
Солидный возраст и полнота — не подспорье для пешехода. К тому же Василич сделал глупость, решив обойти пустырь по краю. Он попал ногой в какую-то яму, потерял равновесие и неуклюже упал на землю. Из сумки его выкатилась, заголосив, «неваляшка», купленная для внучки. «Неваляшка» поднялась, уставясь на Никишина круглыми глазами, а он продолжал лежать, соображая, сильно ли повредился. Полежав с минуту, Василич потрогал свою ногу… и крякнул от боли:
— Ух, ё!..
Никишин отдышался и уже членораздельно выругался…
В это время Манефа тоже возвращалась домой. Она гораздо лучше Василича ориентировалась в темноте, не страдала лишним весом и одышкой, а потому добралась без происшествий. Большая коммуналка, в которой они жили, устроена была в Надвратной церкви. Дверь, ведущая внутрь монастырской стены, никогда не закрывалась; Манефа легко и привычно взбежала по потертым шатким ступеням на второй этаж Попасть в квартиру тоже не составило труда: стоило ей громко объявить о своем приходе, как обтянутая драным дерматином дверь открылась, и ее впустили.
— А Василича нет дома, — сообщил Санька и, обернувшись, крикнул в глубь квартиры: — Мам, Манефа пришла — ее кормить?
— Не надо, у нее лежит, — отозвался равнодушный женский голос.
Манефа нежадно поужинала на кухне и принялась ждать Никишина. Она давно уже изменила кошачьему обычаю гулять по ночам, предпочитая мирный сон на животе у Василича или, если он слишком расхрапится, на шкафу… Но хозяин все не шел. Запертая дверь в их комнату была единственным препятствием, преодолеть которое самостоятельно Манефа не могла. Оставалось только сидеть и ждать, когда послышатся тяжелые шаги и знакомое сопение.
Между тем коммуналка, наполнившись почти всеми своими обитателями, начинала ежевечерний фестиваль: из-за каждой двери, закрытой, приоткрытой, а то и без стеснения распахнутой, доносилась своя «постановка». Вот Нинка грозится Саньке ремнем, если тот не выучит к завтрему «стих»… Вот Генриетта Марковна ругает своего Адика-студента за то, что запустил триппер… Вот баба Нюся расследует, откуда в ее борще взялся черный таракан… Манефа сидела, безучастно жмурясь, и только хвост ее порой укоризненно вздрагивал при слишком громких человечьих вскриках.
Хлопнула дверь дяди Они; благоухая, как всегда, лошадиным навозом и керосином, извозчик прошел по коридору, едва не наступив на кошку.
— Не сиди на проходе! — ругнул он ее.
Иона зашел в сортир и, не успев еще закрыть дверь, громко пустил ветры. Керосином от него несло потому, что они вместе с мерином Щорсом работали на нефтебазе: развозил и по городку керосин. Ионе давно пора было на пенсию, а Щорсу — на живодерню, но, поскольку расставаться им не хотелось, приходилось таскать каждый день эту бочку с мало кому уже нужным нефтепродуктом.
Василич все не возвращался. Манефа легла на живот, подвернув передние лапы. Место дяди Они в сортире занял Адик-студент с газетой, которую коммунальная интеллигенция употребляла с двойной пользой. Мать его, Генриетта Марковна Шварц, преподавала в сельхозтехникуме немецкий язык, а двадцативосьмилетний Адик, хотя и работал грузчиком в овощном магазине, учился заочно в каком-то институте. Однажды Генриетта по нечаянности дала Адику в сортир газету, в которой принесла из хозмага порошок-«синьку». Квартира не забудет, какой концерт закатил на кухне нервный студент, матеря мамашу и показывая присутствующим свою синюю задницу.
Много разных происшествий случалось в квартире за сорок лет… Люди рождались и умирали, подсматривали друг за другом, завидовали, то ненавидели, а то жалели своих соседей, иногда даже любили… Порой даже о чем-то мечтали… Но они никогда не молились, хотя жили пусть в разоренном, но все-таки монастыре. В последние годы все помыслы их соединились в одном желании: поскорее отсюда уехать. Уже шли отделочные работы в новом доме на пустыре (к счастью, не «куликовом»), видимом из окон Надвратной церкви, — туда их собирались переселять. Мадридцы давно жили «на чемоданах»: не вставляли стекла, не чинили испорченные краны, не вкручивали перегоревшие лампочки. Даже старый Иона мечтал о персональном сортире, где можно было бы сколько хочешь ждать, пока капризный кишечник не примет правильного решения.
Только Манефа не хотела перемен, хотя, возможно, как свойственно животным, чувствовала их приближение. Просто потому, что у кошек и людей разное представление о хорошей жизни, и потому еще, что животные, как бы трудно им ни жилось, никогда не хотят перемен и не умеют к ним приготовиться.
В тот вечер Манефа хотела одного: чтобы поскорее вернулся Василич. А он в это время сидел на краю «куликова поля» и не мог встать, чтобы хоть как-то доковылять до дому. Вдруг из темноты показались две человеческие фигуры:
— Фу, ебть… Как ты нас напугал!
— Вы меня тоже, — проворчал Василич.
Двое склонились над лежащим Никишиным:
— Толь, кто это?
— Да наш… Василич, в церкви живет.
— А чего валяется — нажрался, что ли?
— Нет, кажись…
— Ногу я подвернул, — объяснил Василич, — идти не могу.
Его подняли и поставили на здоровую ногу:
— Ну ты и боров!
— Сумку… — попросил Никишин.
— Сумку, сумку… Чего ты здесь поперся?
— По дурости, — он усмехнулся, — через покойников идти побоялся.
Ага, вот и мы тоже… Толян говорит: «Давай обойдем…»
Они помогли ему добраться до дому. Тяжко прыгая и пригибая их плечи своим весом, с матом и стонами Василич взобрался по лестнице.
— Спасибо, мужики… Без вас бы я не дошел.
— Не на чем… Стакан плеснешь при случае.
Все обитатели квартиры высунулись на шум из своих дверей.
— Ах ты Господи! Василич, что с тобой случилось?
Все забегали, засуетились, а Манефа, юркнув в открывшуюся наконец дверь, запрыгнула от греха на шкаф. Через некоторое время все жильцы собрались у Никишина в комнате. Его положили на диван; Нинка, строго хмурясь, бинтовала ему ногу эластичным бинтом. Разложив на столе медицинский справочник, ругались Генриетта с Адиком. Иона наливал в лафитники водку — Василичу и себе. Одна баба Нюся осталась без дела и крутилась, всем мешая своим толстым задом и причитая:
— Ах ты Господи! Говорил а я: нечисто место, нельзя там ходить…
Манефа, свесив голову со шкафа, сторожко следила за происходящим, силясь понять, что случилось. Маленький кошкин мозг работал на полных оборотах, но вырабатывал лишь общее чувство тревоги…
На следующее утро, подпираемый Адиком с Ионой, Никишин выбрался из дому На улице поджидал «транспорт»: Щорс, успевший уже накидать «яблок», начинал выказывать нетерпение и, фыркая, выгонял паром мух из ноздрей. При виде экипажа Василич с сомнением пробормотал:
— Меня на такой тачанке весь город засмеет…
— Не хошь ехать — иди пешком! — обидчиво возразил Иона.
Никишин забрался на телегу, привалившись спиной к вонючей бочке.
— Ч-му-у! — повелительно произнес Иона и шлепнул Щорса вожжами по заду. — Ну, пошел!
Дорогой Василич встретил немало своих знакомых, и все они, как один, веселились, разглядев в телеге Никишина. Он старался сохранять невозмутимость и отвечал на приветствия, заикаясь в такт прыжкам злосчастной колесницы. В санчасти они нашли нужный кабинет, и, проковыляв в него, Василич увидел знакомого доктора, Пал Петровича Животова. Доктор потянул носом, но ничего не спросил, а велел Никишину разуться, закатать штаны и лечь. Василич, пыхтя, стал снимать ботинок и покосился невольно на медсестру Галку, принесшую папочку с его болезнями. У нее был короткий халатик и красивые голые ноги, при виде которых он застеснялся. Никишин неловко лег на хрустнувшую под ним кушетку. Его икры были толстые, бледные, в узлах вен, как у неудачно рожавшей бабы…
— M-да… — сказал Пал Петрович, — эту ногу надо на рентген.
Он присел на кушетку и потрогал пальцами вздутые вены:
— А вообще-то у вас ноги не болят? Вон какой варикоз…
— Как не болеть… Конечно, болят, — сдержанно ответил Василич и опять покосился на медсестру. — А ты постой сорок лет у станка, и у тебя заболят. У нас это обычное дело… Да у твоего отца, Пал Петрович, небось, такие же ноги были.
Животов вздохнул:
— Я понимаю, но лечиться все же надо… Галь, ты сходи пока… Смирнова принеси.
Когда Галка вышла, они еще поговорили о никитинских болезнях. Потом вспомнили Животова-старшего, умершего в прошлом году. Потом, избавляясь от грустной темы, Пал Петрович улыбнулся:
— Видел я недавно ваших… Внучку к нам приносили… как ее?
— Катя.
— Да, Катя… Ну, ступайте на рентген… Вас довести или есть кому?
Рентген показал, что перелома нет. Однако доктор выписал Никишину мазь, велел ногу бинтовать и из дому минимум неделю не выходить. Гужевая экспедиция проделала обратный путь. Адик с Ионой взвели бедолагу наверх и отправились каждый по своим делам, а Василич с Манефой с этого часа перешли на Санькино попечение.
Дети навещали Никишина, но урывками — оно и понятно: у них работа, дела, Катька…
Дочь приехала — прибралась, постирала; зять продукты привез, обсказал заводские новости. Привозили внучку, Василичеву радость, но ей пока что интереснее была Манефа, чем собственный дед… Словом, родные у него были вроде десерта — приятно, но мал о. А постоянные, насущные нужды помогал Василичу удовлетворять приятель его по коммуналке, десятилетний Санька. Никишин не стеснялся просить его об услугах; пацан и газету принесет, и в магазин слетает, и Манефу покормит… Санька рос без отца и тянулся к большому и сильному «дяде Василичу»: вместе они ходили за грибами, играли в шахматы, вместе смотрели по телевизору футбол. Между прочим, Василич тоже однажды выручил Саньку, отбив его у мадридской ватаги, да так отбил, что, не рассчитав, вывихнул Генке Клюеву руку. Отец этого Клюева хотел идти разбираться, но, узнав, что разнимал Никишин, сам еще добавочно вложил несчастному Генке.
Санька подолгу сидел у Василича. Иногда он приходил с тетрадками и делал у него уроки, а иногда только делал вид, что делает уроки, а по сути скрывался у Никишина от Нинки. Часто брал он у Василича бинокль, сдвигал дрыхнувшую на подоконнике Манефу и, уперевшись локтями, изучал городок внизу и стройку, шевелившуюся на пустыре.
— Василич, — спросил он однажды, — а когда мы переедем, ты будешь меня к себе брать?
— Я-то буду, да ты сам, наверное, не придешь, — ответил Василич.
— Почему? — не понял Санька.
— А потому, парень, что жизнь там совсем другая пойдет… В таких домах каждый сам по себе живет.
— Нет, дядя Василич, — возразил Санька убежденно. — Уж я-то к тебе всегда буду приходить.
— Посмотрим… — Василич вздохнул. — Ты-то, может быть, и будешь приходить… а что мне с Манефой делать?
— Как что? С собой возьмешь.
— Нет, брат, кошки к одному дому привержены… Уж так устроены — вот беда.
Манефа при звуках своего имени повела ушами, но смысла разговора не уловила: слова «беда» она не знала.
Итак, Никишин с больной ногой сидел безвылазно в своей комнате. В отсутствие Саньки и по ночам, когда не спалось, он тоже от нечего делать наблюдал за ходом строительства пятиэтажки. Дом — их будущее жилье — уже подвели под крышу; в последнее время картина на стройплощадке сильно изменилась. Неутомимый кран, весь год маячивший на пустыре, замер. Его мажорная стрела, столько времени то приветственно, то указующе тыкавшая в разные стороны, вдруг бессильно упала, а потом он и сам, словно в изнеможении, сложился и лег на землю. Кран разобрали и увезли, и даже разобрали и увезли рельсы, по которым он ходил. Появился бульдозер; надсадно тужась дизелем и взвизгивая блоками, так что доносилось до Василича, он стал ровнять территорию. Слепым жуком трактор тыкался в края стройплощадки и полз обратно, соскребая и снова намазывая глину, но, похоже, на этом пустыре ему не попадались ничьи кости. Грузовики начали завозить доски, стекла и прочие материалы, лакомые для воровства и пропития. Рабочие уже не успевали красть по ночам и тащили даже средь бела дня на виду у собственного начальства, которое само не отставало от подчиненных и вывозило «товар» целыми машинами… Никишин отлично видел в бинокль все эти безобразия, но, бессильный их пресечь, только фыркал, как лошадь, и ругался, ища поддержки у Манефы.
— Нет, ты посмотри, что творится! — негодовал он. — Вот сволочи! Ведь у кого крадут — у нас крадут, ты понимаешь?
Но Манефу татьба строителей не волновала, как и вообще все, что происходило на том пустыре: это была не ее территория, и там хозяйничали другие кошки. У соседей своих Василич тоже не находил понимания: в целом люди не склонные к философии, они, однако, держались той доктрины, что в России, сколько ни воруй, все равно что-нибудь останется.
А Никишин все переживал, все расстраивался — видно, приближение старости и вынужденное безделье делают человека таким раздражительным. Но, между прочим, тучным людям нервничать вредно и даже опасно… Однажды во время очередного ночного бдения он твердо решил, что напишет по поводу воровства строителей, куда следует; Василич даже успел сообщить об этом своем решении Манефе. Но в этот момент в его ноге, в одной из больных вен оторвался тромб; движимый током крови, тромб поднялся по телу вверх и закупорил сосуд, питающий головной мозг. Василич захрипел и потерял сознание; голова его упала, ударившись об оконное стекло. Через мгновение Никишин умер. Его тело поползло и, шумно свалившись со стула, осталось лежать на полу. Манефа удивилась, что он лег спать в таком странном месте, но спрыгнула с подоконника и взобралась на остывающий живот. Она почесалась, зевнула и, свернувшись калачиком, стала задремывать…
Спустя пару дней после похорон в Мадрид заехали никишинские дочь с зятем и товарищем зятя, у которого была машина. Они забрали Василичев телевизор и хотели захватить бинокль, но бинокля в комнате не оказалось. Санька расплакался и признался, что это он взял бинокль. Нинка закричала на него и хотела его побить, но дочь Никишина улыбнулась и разрешила мальчишке оставить бинокль себе — на память о дяде Василиче. А зять еще прибавил к биноклю никишинские удочки: «Мне они ни к чему, — пояснил он, — сам-то я не рыбак». Остальное имущество родственники разрешили разобрать соседям, попрощались с ними, уехали и больше в Мадриде не появлялись. Кое-что из вещей взяли себе тетя Нюся и дядя Оня. Нинка решила, что им с Санькой, получивши бинокль, претендовать больше не на что. Генриетта ничего не взяла, зато договорилась с соседями, что пока они не переедут, Адик будет иногда ночевать в никитинской комнате «с девушкой». «Ладно, — сказала Нинка, — но пусть он тогда и Манефу кормит». На девять дней, как положено, квартира поминала покойного. Все выпили, закусили и говорили о Никишине только хорошее.
— Ах ты Господи! — сокрушалась, всхлипывая тетя Нюся. — Так и не дождался, сердешный, переезда…
А Иона рассудительно возразил:
— Не скажи… Он-то как раз уже переехал…
Спустя не более полугода весь Мадрид стали переселять. Щорс с телегой делал одну ходку за другой, и скоро трущоба опустела в ожидании дальнейшей участи. А участь ее была, можно сказать, отрадная… Описав длинную и долгую кривую, будто объезжая какое-то препятствие, история воротилась на знакомую дорожку. В монастырь вернулись монахи; началась потихоньку реставрация. Насельники, засучив рукава, вместе с наемными рабочими трудились, восстанавливая обитель, жгли на заднем дворе рухлядь, оставшуюся от съехавших нечестивцев.
Теперь уже с балкона новой пятиэтажки Санька в бинокль рассматривал монастырь, и окна их бывшей квартиры, и знакомую тропинку, ведущую на холм. Вот по тропинке пробежал кто-то серой тенью… Санька засобирался:
— Мам, я скоро!
Нинка вздохнула:
— Смотри, осторожнее… — и добавила: — Кулек в холодильнике не забудь…
В Надвратной церкви царила разруха, но это была разруха перед созиданием. Чтобы вернуть помещению вид храма, следовало сначала лишить ее жилого вида. Двое рабочих перекусывали, сидя на остатках чьего-то дивана; пол кругом усеян был битым кирпичом и всяким хламом. Вдруг среди этого мусора появилась худая серая кошка. Осторожно лавируя между обломками, она подошла к рабочим и, посмотрев на них с боязливой надеждой, хрипло мяукнула. Один из рабочих нахмурился:
— Опять ты здесь! А вот я тебя кирпичом…
Кошка отскочила.
В это время мальчишеский голос позвал:
— Манефа!
Кошка встрепенулась и побежала на зов.
— Эй! — рабочие увидели Саньку. — А ты что здесь делаешь? А ну марш…
— Дяденька, я только кошку покормлю, — взмолился мальчик.
Рабочие удивились:
— Твоя, что ли, кошка?
Санька высыпал Манефе объедки и объяснил:
— Это Манефа… Мы тут жили…
— М-да?.. — рабочий изучающе посмотрел на Манефу. — А что же вы ее с собой не забрали?
Санька выпрямился:
— А вы разве не знаете, дяденька? Кошки к одному дому привержены — вот беда.
Тяжелый день
Зимой в здешних краях — сущее наказание: в жаркие дни мы даем столько сока, что хоть туши нас без масла. Если кому из нас проглотить фитиль, то отличная выйдет свечка: так много сала запасают наши северные утробы. Продлись жара подольше, мы бы распаялись, как чайники: отвалились бы наши руки-ноги.
Но Степанова его ноги держали крепко. Мерно бухали по тротуару кирзачи сорок седьмого размера, разве чуть медленнее, Чем с утра. Все-таки жаркий выдался на стройке денек… Жаркий во всех смыслах: сегодня им выдали аванс, а в ближний гастроном как раз завезли кур. В результате не обошлось без скандала Каждая бригада отрядила по человеку — купить на всех, потому что к вечеру кур уже бы не осталось. Но куры, естественно, оказались разных достоинств — они же не кирпичи, чтоб быть одинаковыми. Поэтому в коллективе не нашлось равнодушных, когда их стали делить. Голые измученные тельца бесконечно перекладывали, словно в пасьянсе, надписывая им спины чернилами. Куры к тому времени уже покорились судьбе, чего не скажешь о людях: две штукатурщицы средних лет не удержались-таки от драки. Битва началась в вагончике-«бытовке», а когда он стал тесен, противницы вывалились наружу. Они хлестали друг дружку теми самыми курами, которые, по счастью, были уже мертвы и ничего не чувствовали. Рабочие бросились разнимать отчаянных штукатурщиц, но сами чуть не передрались. Пришлось уже Степанову дать несколько затрещин, чтобы всех остудить и вернуть спор в словесное русло. Вся эта суета вместе с жарой утомили Федора, и потому после работы он пошагал прямиком в сторону дома, не слушая шуршанья аванса в просторном кармане своих штанов. Его курица с синей надписью на спине «Степанов» совершала последний полет в авоське, утешаясь, возможно, тем, что не уйдет из мира безымянной.
Жил Федор в одном из кварталов шлакоблочных заводских двухэтажек Они уцелели у нас — городища забытых пятилеток, пышно обвалованные разросшимися ивами и сиреневыми кустами. Эта зелень, а также цветы и грядки в палисадниках, обнесенных симпатичными кладбищенскими оградками, искупали убогость построек Все заборы, столбы и сарайки были там пизанского происхождения: не стояли прямо, а кивали и кланялись на разные стороны. Местные туземцы тоже нередко кивали и кланялись, особенно возвращаясь после дня трудов; так когда-то израненные воины, сгибаясь, брели домой, чтобы умереть на родном пороге. Каждый из этих увечных имел собственный неповторимый ход к своему вигваму. Один двигался диагональными точными перебежками от столба к столбу; другой пер напролом, кося крапиву нечувствительными членами; третий, делая шаг в минуту, застывал, уточняя свои координаты, и оглашал окрестности продолжительным ревом, словно пароход в тумане.
Но Степанов был прям и трезв. Его аванс без пересадок прибыл домой в брючном экспрессе. Федору, богатырю и колоссу шлакоблочного царства, пришлось нагнуться только при входе в подъезд. Дом, казалось; дал осадку, приняв его на нижнюю палубу, и весть о степановском прибытии гулко разнеслась по всем восьми квартирам. Жил Федор внизу; кухонное окно, которое он немедленно распахнул, выходило во двор. Жена еще не вернулась с фабрики, но Степанов не стал ее дожидаться, а отправив курицу в «зиловский» морг, вынул оттуда же кастрюлю со щами. Когда еще Маша придет и сготовит ужин, а Федору требовалось заморить червячка. Он поставил кастрюлю на подоконник и, пробив в застывшем жире прорубь, начал, стоя, с наслаждением хлебать холодные щи.
За окном, у которого полдничал Степанов, под кривым дубочком врыты были во дворе стол и две лавочки. Это сооружение предназначалось в основном для игры в домино или лото, но в тот ранневечерний час трое мужиков резались на нем в карты. Слышно было, что играли в «секу», известную еще в народе как «трынка». Чернявый жиган в наколках, по прозвищу Харжа, на пару с каким-то своим приятелем «крутили на бабки» степановского соседа Витюху. Витюха был пьян, это означало, что сегодня он тоже получил аванс, и Федор с усмешкой подумал, что нынче Витюхиной бабе аванса не видать. Неожиданно игроки заспорили: как ни «хорош» был Витюха, но заметил, что его надувают. Разоблаченный Харжа не пытался долго оправдываться, а перегнулся через стол и умелым коротким ударом двинул Витюху по зубам. Бедняга как сидел, так и опрокинулся навзничь, задрав над лавочкой плетеные сандалеты. Дело принимало скверный оборот, и Степанов, вздохнув, отставил кастрюлю. «Что за день такой…» — подумал он со вздохом. Федор утер губы кухонным полотенцем и пошел во двор.
Харжа с приятелем шарили по карманам отключившегося Витюхи.
— Эй! — крикнул им Федор.
Жиганий напарник быстро оценил обстановку.
— Харжа, ноги! — проговорил он и пошел прочь.
Но жигану стало «западло» удирать. Он сверкнул черными глазами и ощерился.
— Канай, бычара! — захрипел он нарочито, чтобы голос показался страшней. — Канай отсюда — ты ничего не видел!
Степанов был в тапочках.
— Пы-поди-ка… — поманил он Харжу.
Харжа встал и двинулся к Федору.
— Биться хочешь?! — зарычал он угрожающе. — Сейчас ты у меня на «перо» сядешь…
Жиган умел сам себя довести до бешенства: у него даже пенка на губах показалась.
Он вытащил из кармана выкидной нож, но… нежданно блатная игрушка подвела; лезвие не вышло. Федор ударил, и чернявая башка прыгнула, как мячик, чудом не оторвавшись от Харжиного тела. Степанов разжал кулак и пошевелил пальцами. Харжа валялся у его ног без признаков сознания. Федор взял его за брючный ремень и, вынеся на улицу, бросил в кустах. Вернувшись во двор, он поднял Витюху, отряхнул и рассовал ему по карманам выпавшие деньги.
Отведя Витюху домой, Степанов вернулся к себе, убрал щи в холодильник и достал с шифоньера баян. Всегда, когда он бывал не в духе, Федор музицировал; Маша об этом знала и не мешала ему, а только просила закрываться в спальне. К тому же ее выручала профессиональная глухота: работала она ткачихой.
В этот день Маша тоже урвала курицу. Войдя в прихожую, она обессиленно плюхнулась на стул и сразу сбросила босоножки:
— Ну и жарища! — она помяла руками свои ступни. — Представляешь, у нашей Спириной сегодня был обморок!
Федор отложил баян и мрачно усмехнулся:
— Здесь у двоих ты-тоже… обморок был.
— Что? — не расслышала жена.
— Ничего… Я кы-курицу отхватил.
— И я! — Маша счастливо рассмеялась.
Маша радовалась, что отдыхают ее наболевшие за день подагрические шишечки, что муж дома и что у них теперь целых две курицы. Она умела радоваться по самым незначительным поводам — с такими людьми легко живется, если они не слишком болтливы. За Машей водился этот грешок, к тому же говорила она, как все ткачихи, слишком громко. Но сегодня, увидев Федора с баяном, она оставила на потом все фабричные новости и отправилась пока что на кухню, совещаться с курицей об ужине.
Любовь Степанова к музыке, увы, была безответной. Однажды он прочитал объявление, что городок формирует «сборную» по художественной самодеятельности для выступления на районном смотре. Как ни отговаривал его Сергеев, упрямец в назначенное время явился в клуб на пробы. Там сперва отгремел наш ВИА «Кварц», а потом началось заслушивание солистов. Дошла очередь и до Степанова. Он сыграл какое-то вступление со многими очевидно незваными нотами, потом наклонился к микрофону и мощно проревел:
— И где мне взять ты-такую пе-е-есню?!.
Реакция в клубе была оглушительной, в смысле всеобщего продолжительного хохота. К счастью, наша многотиражка это выступление не комментировала; она обрушилась почему-то на «Кварц», съязвив, что «его игра потрясла стены зала, но не сердца слушателей».
Неудачу они с Сергеевым заливали спиртом. Федор сокрушенно чесал в затылке, сопел и, наконец, нашел объяснение провалу:
— Эх, не ту я пы-песню приготовил…
— Брось, — возразил Сергеев, — ту, не ту — какая разница? Ты одним пальцем три кнопки нажимаешь… Тебе, Федь, с такими ручищами только в барабан стучать.
Федор обиделся:
— Сы-сам ты барабан… А ежели душа просит?
— Ну… ежели душа… — Сергеев отступился. — Ладно, шут с ней, с музыкой. Ты лучше «соври» что-нибудь.
Сергеев знал, как сменить тему: подобно большинству заик, Степанов любил в подходящей компании побалагурить. Просить его рассказать про какой-нибудь «случай» из жизни обычно дважды не приходилось. Так и на этот раз: Федор задумался, постепенно проясняясь лицом. Машинально при этом он открывал банки с Машиными припасами, отковыривая железные крышки одними пальцами (вот где они были хороши!). Наконец он улыбнулся:
— Хошь, расскажу, как я кы-кофе пить научился?
— Валяй.
— Вот ты га-воришь, я плохо на баяне играю. Зато сам ны-научился — я ведь са-моуч-ка, до всего сам дохожу… Погоди, давай сперва вы-вмажем…
Федор влил в себя полстакана «невоженого» спирта и слегка прослезился.
— Так вот, — продолжил он, проморгавшись. — Родом я, ты знаешь, де-ревенский. Пы-подушкино, такая деревня была… Как паспорт получил, в гы-город подался, в училище. Жили в общаге с пацаном одним. Степуху мы получили пы-первую… Он говорит: «Давай пропьем». А я ему: «Па-годи. Водку мы да-и так сто раз пили. Давай лучше кы-кофе купим, как га-родские. Ты его пробовал?» — сы-прашиваю. Он: «Нет». И я ны-нет. Купили пачку, а как его жи-жрать-то? «Давай сварим»; — «Ды-давай». Сварили в ка-стрюле, а вода чи-черная и воняет. Мы эту воду сы-слили и опять вскипятили. Опять черная. Несколько ры-разов пришлось кипятить. Потом лы-ложками тую гущу съели… Гы-гадость! С тех пор кы-кофе не люблю.
Сергеев слушал с удовольствием.
— Ну признайся, что соврал, — улыбнулся он.
— Вот те кы-крест!
— Там же на пачке инструкция написана, как пить.
— Да? — удивился Степанов. — А мне ни к чему: я привык сы-сам до всего…
Врал он или нет, но этих баек про самого себя имелось у Федора в запасе множество, и в каждой он выходил примерным болваном. «А что, — усмехался он, — меня ребята с детства пы-пеньком прозвали». Впрочем, жил «пенек» не хуже других и в реальной жизни впросак попадал редко, если не брал в руки баяна.
Однако русскому человеку ни от чего нельзя зарекаться. Если уж ляжет ему особая карта, то никакой природный ум не помешает ему свалять дурака. Степанову чернявым валетом выпал Харжа, или «черт безрогий», как нарекла его в сердцах Маша.
В тот вечер солнце уже почти закатилось, когда семейство собралось ужинать. Сын, Петька, смыл уличную пыль, причесался и стал похож на человека — чего не сделаешь, чтобы пустили за стол. Федор отложил баян и потянул носом воздух… Есть минуты, когда все высшие звуки и голоса должны умолкнуть, иначе они звучали бы кощунственно. Пусть один лишь призыв куриной плоти торжествующе разносится по квартире. «Мужчины, руки мыть!» — вот где настоящая музыка! В угаре кухонного капища заключается великий союз между женщиной и курицей, и прекрасная птица со славой предает себя в жертву человеку… Все в сборе. Утвержден на столе графин с мандаринными корками на дне — строгий церемониймейстер. Раззолоченные картошины перешептываются на сковороде, широкой, как дворцовая площадь. Вокруг толпится мелюзга: опята, огурчики, капуста с клюквой. И вот звучит фанфарный скрежет отверзаемой духовки: царица ужина приветствует собрание высоко поднятыми ногами. Нет слов описать ее изобильные формы… Кто признал бы в ней сейчас сутулое создание, что когда-то равнодушно торговало собой в гастрономе?
Итак, они сели за стол. Уже роздано было мирное оружие; уже графин, кланяясь, поделился с двумя лафитниками; уже взрезанное куриное чрево испустило благовонный пар… Как вдруг за окном раздался хриплый голос:
— Эй, Пенек! Выходи, бычара, — побазарим!
Маша и Петька вздрогнули. В страхе они посмотрели на окно, потом на Федора. Его большое лицо сделалось чужим, недомашним:
— Пы-поганец! Знать, не у-нялся… — и голос был чужой, грозный.
Федор встал.
— Федя, чего им от тебя надо?.. Не ходи! — в Машином вскрике прозвучало столько тревоги, что Петька, скривившись, заплакал:
— Папка, не ходи!
Но Харжа опять захрипел из темноты:
— Пень, ссышь, что ли? Выходи!
Теперь ничто бы не остановило Степанова.
— Сидите ды-дома, я скоро, — велел он Маше с Петькой и — страшный — пошел во двор.
Но жиган караулил его, спрятавшись за подъездной дверью, и, когда Федор выходил, ударил его по голове топором. Косо сверкнуло лезвие, и Степанов больше услышал, чем почувствовал, как лопнул его череп. Сознание его померкло, но он не упал: огромное тело, покачнувшись, осталось на ногах. В изумлении и ужасе Харжа, вместо того чтобы добить великана, бросил топор и побежал прочь. Несколько мгновений спустя сознание к Федору вернулось; он почувствовал кровь, стекавшую по лицу. Кровь залила уже один глаз, но вторым он увидел убегавшего Харжу и попытался пойти за ним. Он сделал шаг, но земля чуть не ушла из-под его ног. Федор постарался сосредоточиться и собрать свою волю. Наконец у него получилось: широко расставляя ноги, он-таки двинулся вслед за жиганом.
Жил Харжа недалеко, за несколько дворов. Найдя в темном подъезде хлипкую дверь, Степанов не стал стучать, а, надавив плечом, сломал ее и ввалился внутрь. Первое, что он увидел, — себя, отраженного в мутном зеркале в прихожей. Лицо его было залито кровью, а в голове, там где залысина, зияла большая пузырящаяся трещина. Он шагнул ближе — в трещине виднелась розоватая мякоть. «Мозги», — подумал Федор. Он попробовал сжать трещину рукой, но у него не получилось. Тем временем из затхлых недр жиганьего гнездилища показалась на шум растрепанная Харжина сожительница, Любка. Она вытаращилась в испуге.
— Это че?.. Это че?.. — заверещала она. — Где Харжа?
— Вот что мне твой Хы-харжа сделал… Па-смотри… — Федор показал ей свою голову.
Любка, отшатнувшись, заголосила;
— Сволочь!.. Его теперь посодют из-за тебя!.. И дверь сломал — кто чинить будет?!.
Слушая ее, Степанов начал потихоньку оседать.
А Любка все вопила, переходя в плач:
— Ведь у меня детей трое — кто кормить будет?! А-а-а-а-а…
Тут Федор потерял сознание — уже надолго.
Весть о том, что Харжа зарубил Степанова топором, быстро разнеслась по городку. Слухи скоро облетают наш городок, но часто бывают полны взаимоисключающих подробностей. Одни говорили, что Федор убит, другие — что он лежит в больнице. Кто-то врал, что он превратился в полного идиота и инвалида; кто-то — что обещал найти Харжу хоть под землей и обратно в землю закопать… Кому верить?
Душа Степанова действительно изошла из его широкой груди и долго блуждала. Где она путешествовала — неизвестно, но в итоге вернулась обратно, туда, где ей жилось лучше всего. Душа вернулась, Федор вздохнул и открыл глаза. Ему предстояло многое вспомнить, но в общем и целом его уже можно было забирать из реанимации. Оказавшись в общей палате, он затребовал баян, но ему не разрешили — сказали: «Выздоровеешь — иди в лес и там играй».
Сергеев пришел как-то его навестить. Еще не войдя в палату, он услышал хохот.
— А, зы-здорово! — обрадовался Федор. — А я им тут рассказываю, как кы-кофе пил… Помнишь?
Сергеев улыбнулся:
— Ну вот, а мне говорили, ты дураком стал.
— Почему сы-стал? Я сы-здетства ды-ду-рак..
А спустя полгода Степанов с Харжой встретились в суде. Жиган сидел за загородкой и играл желваками. Судья вызвал Федора на свидетельское место и спросил:
— Потерпевший, что вы можете рассказать о происшествии?
Степанов помялся:
— Да что сказать… Оба вы-виноваты.
— То есть? — не понял судья.
Федор почесал шрам и потупился:
— Ты-товарищ судья, вы его это… па-жа-лейте… Трое детей — кто кы-кормить будет?
Облом
То взвывая, то сбрасывая обороты, нарезая фарами морозную мглу, КУНГ[3] армейского образца качался и кланялся российским полям. Машина шла курсом на коровники. В холодном коробе кузова, цепляясь руками за что попало, перекатывались, словно два мороженых пельменя, Сергеев с Афанасьевым. К выхлопному чаду, стоявшему в фургоне, стали уже примешиваться запахи силоса и навоза: акробатическое путешествие подходило к концу.
Наконец, тряхнув пассажиров в последний раз, КУНГ остановился у ворот кормоцеха. «Объект» таинственно и тускло светился изнутри; в атмосферу сквозь прорехи сооружения выбивались на разные стороны нечаянные струйки пара.
Из кабины машины на грязный снег бодро соскочил Петухов, заводской уполномоченный по сельскому хозяйству. Он с усилием открыл замерзшую дверь фургона и поманил на улицу своих пленников:
— Давай, вылазь… Околели, небось? Сейчас согреетесь…
Он ввел их под сумрачные своды и, став на краю огромной черной лужи, мерцавшей посреди цеха, принялся выкликать какого-то Лешу.
— Сейчас выйдет, — пообещал Петухов своим спутникам.
И точно: вонючий туман, заполнявший помещение, сгустился, и на противоположный берег лужи ступил мужчина в кирзовых сапогах и ватнике. Это был начальник кормоцеха Алексей Иванович; Петухов громко доложил ему о прибытии пополнения и подтолкнул новобранцев к водяному урезу. Леша ничего не ответил. Он выслушал уполномоченного, стоя на своем берегу неестественно прямо, и вдруг, будто памятник, низвергнутый с пьедестала, плашмя рухнул в черную жижу. Густая волна пересекла цех и плеснула гнилью Сергееву на ботинки.
— Ух ты… — Петухов едва успел отскочить.
Секунду он изучающе глядел на плавающего начальника и продолжил, обращаясь к своим протеже.
— В общем, сами тут разбирайтесь, мне еще на ферму надо… Леша вам объяснит, как и что, — он кивнул в сторону лужи.
Уполномоченный черкнул что-то в красной папочке и был таков. А Сергеев с Афанасьевым принялись изучать свой участок ответственности на кормовом фронте. Кормоцех представлял собой сквозное помещение с воротами, куда трактор с телегой мог въехать и выехать, не разворачиваясь. Транспортер подавал в телегу парящую кормовую массу, приготовлявшуюся в двух котлах, которые также служили местом для спанья двум Андрюшкам — механику и трактористу. Городским же присланным спать не полагалось, они обязаны были нести нелегкую вахту у дробилки — бешеного зубастого барабана, крошившего для котлов мороженую солому. Сергееву с Афанасьевым полагалось кормить дробилку ее жоревом и успевать выуживать из соломы посторонние предметы — в основном гайки и шплинты почивших в полях комбайнов. Иногда все же гайка попадала на барабан и он, теряя очередной зуб, но с большим азартом, лупил по ней изо всех своих пятнадцати тысяч оборотов. Опасная лапта эта привела к тому, что в пристройке, где стояла дробилка, не было уже ни одного целого окошка, а крыша во многих местах зияла пробоинами. Измельченная солома по рецептуре должна была в котлах соединяться с добавками: солью, витаминами, комбикормом… но увы — встречала там одну лишь соленую воду. Увеличить соломе пищевую ценность не удавалось потому, что все нужное было заблаговременно украдено коренными жителями Центральной усадьбы. Запаренную в кипятке солому грузили на тракторную телегу, взвешивали и везли на ближайшую ферму. Там бригадирша, морщась, подписывала Андрюшке накладную, но… несъедобный груз, по обоюдному согласию, ехал снова на весы. Дорогой часть воды из дырявой телеги вытекала, и вес получался меньше; тракторист ехал на следующую ферму… Когда масса в телеге начинала замерзать, ее вываливали в овраг.
Почему коровы в совхозе «Смычка», даже умирая, не хотели жрать пареную солому — отдельный вопрос. Откуда такая завышенная самооценка, если в Европе, по сообщениям ТАСС, коровы ели переработанные старые газеты и притом умудрялись давать много жирного молока? Вообще коровы доставляли много головной боли советской власти: плохо было у коров и с удоями, и с привесом. А без молока и говядины — известное дело — не то что социализма не построишь, просто ноги протянешь. Проблемой занимались лучшие ученые страны и, скажем прямо, безо всякого успеха. Простая, казалось бы, логика: чем больше у нас поголовье скота, тем больше молока и мяса… ан нет! Поголовье росло, а прилавки в магазинах все пустели… Постепенно аграрии поняли: чту толку в поголовье, если головы эти устроены вместо крутобоких тел на шатких подгибающихся подобиях штативов. Если животное плохо кормить или совсем не кормить, то хрен оно тебе даст молока или говядины. Одно было непонятно: почему вдруг в нашей необъятной стране, где так много «в ней полей», не стало хватать травы для прокорма поголовья? Даже заработавшие по всей стране кормоцехи не спасали положения… И тогда… ученых осенило: да ведь виноваты они сами — подлые коровы: растеряли генофонд, выродились и умеют теперь только переводить народные корма в говно! Обсудили и решили: другой причины быть не может. Тогда все вздохнули с облегчением — стало ясно, что делать: старое, бесполезное поголовье надо пустить под нож, на костную муку для нового, мясного и удойного. Или, что проще, привить нашей выродившейся скотинке утраченные качества путем разумного скрещивания. С кем скрещивать, вопрос не стоял: на скудных европейских лугах паслись те самые коровы, которые добирали к рациону старыми газетами и давали столько молока, что фермерам приходилось сливать его в реки. Мы же в ту пору чуть ли не в реки сливали нефть — обмен напрашивался сам собой: мы им — наше черное золото, они нам — хороших производителей; пусть поработают с нашими буренками — молока-то у нас мало, а газет завались. Однако вопрос встал в другом: кому, в какие хозяйства этих нефтебыков выделять? Но с этой задачей — выделять и распределять — советская власть справляться умела. С учетом каких заслуг и тонких обстоятельств — неизвестно, в наказанье за грехи или наоборот, но, между прочими, и наш совхоз получил разнарядку на быка.
Это известие, насчет импортного производителя, намного опередило его самого — «Смычка» загудела. Однако если для простого народа это был лишь повод к усиленным пересудам, то для начальства все обстояло куда хуже: предстояло решить кучу проблем. Как развесить флаги и транспаранты, как встретить руководство и иностранную делегацию (думали, почему-то, что с быком приедут ихние колхозники по обмену опытом). А как встречать самого быка — где разместить, кого им крыть… Кого крыть валютным быком, был существенный вопрос — его обсуждали на трех совещаниях. Сначала телок рассматривали в паре с доярками, потом поврозь, но как ни рядили, ничего не выходило: телки в большинстве плохо держались на ногах, многие доярки тоже, и все не имели представительского вида. О том же, чтобы доярка смогла как следует произнести приветственную речь, и мечтать не приходилось, И тогда кому-то в голову пришла гениальная идея: телку взять из личного подворья зоотехника Василь Василича, а дояркой пусть выступит его жена, Аида Егоровна (по прозвищу Иуда), работавшая совхозным бухгалтером. Телка звалась Красавой и полностью соответствовала своему имени: рослая, тучная, со звездой во лбу, норовистая, как кобыла. Она едва ли нуждалась в улучшении своей породы, зато очень годилась для представительства. Аида Егоровна была ей под стать — кто-то пошутил, что ее бы надо крыть первой, но потом, подумав, сам себе возразил: для нее, дескать, и так в правлении быков хватает…
Между тем, несмотря на переполох, «Смычка» продолжала жить обычной жизнью. Каждое утро тряский КУНГ подвозил Сергеева с товарищем к воротам кормоцеха. Немного оттаяв в его влажном тепле, завод-чане расталкивали Андрюшек, дрыхнувших на котлах, и отыскивали Алексея Иваныча, чтобы тот нажал пусковую кнопку. После долгих понуканий крестьяне с ворчаньем запускали котлы и дробилку, а сами откупоривали очередную «бомбу» бормотухи и садились играть в карты. Стол, на котором они играли, выпивали и закусывали и на который по временам роняли свои буйны головы, покрыт был слоем вещества, похожего на асфальт. Сергеев, ковыряя ножиком, находил в «асфальте» рыбные кости, бутылочные пробки и разную другую дрянь, спрессованную временем и локтями совхозных тружеников… Постепенно весь коровий бухенвальд оживал: оглушительно треща, проезжали трактора — в сторону неблизкого магазина; сновали женщины с деловитыми лицами и с папочками под мышкой: бригадирши, учетчицы, весовщицы… Вообще все местные жители, за редким исключением, состояли при должности, а на черных работах и там, где нечего было украсть, Сергееву все больше попадались знакомые физиономии горожан — как и он, невольников, присланных сюда тоже по разнарядке, но, в отличие от быка, не на племя. Дневная жизнь сельчан протекала в сплетнях, мелких сварах и обычных заботах: воровстве, пьянстве, заполнении липовых накладных и проставлении условных значков в учетные журналы. Заводские, под присмотром уполномоченного Петухова, давали какие-то нормы, орудуя вилами и лопатами, но они радовались уже тому, что эта их совхозная повинность имеет свой срок А вот кому каторга присуждена была бессрочная, так это тому самому несчастному поголовью — бедным коровкам, с голодухи не имевшим порой сил облизать рожденных ими телят, рожденных непонятно зачем…
Тем временем на встречу с совхозными горемыками ехало совсем другое животное — ухоженное, упитанное, знающее себе цену. Правда, бык не знал, куда его везут, — он думал, что на очередную выставку, потому что на бойню ему, как производителю, не полагалось. Он неспешно жевал качественный комбикорм (никаких газет!), аккуратно испражнялся и вспоминал родную Фламандию. Здешние дороги его раздражали: трейлер подпрыгивал, заставляя пассажира перебирать ногами; бык недовольно крутил головой и мыкал… Звали его Кариф фон Циринаппель, по национальности он был бельгиец.
А «Смычка» готовилась и готовилась, с размахом… Хотя, узнав, что, иностранных делегаций не будет, все вздохнули с облегчением, все равно для собственного употребления развешаны были флаги и кумачовые лозунги; убрали только оркестр да плакат, призывавший к ядерному разоружению… Начальство приехало на трех «Волгах» и, коротая время, выпивало в правлении, в кабинете директора, поглядывая во двор на топтавшийся на морозе местный народец. Главным был Отрощенко, инструктор обкома по сельскому хозяйству; деятели районного звена глядели ему в рот. Директор «Смычки» Пал Палыч Тришкин и допущенный парторг Зюзин нарезали начальству колбаску… Наконец вдалеке показалась машина: мощный иностранный тягач, разметая белую пыль, влек по заснеженной дороге расписную фуру с драгоценным грузом. Бархатно рыча, «Вольво» круто развернулся на площади перед правлением.
— Пошли, — нехотя приказал Отрощенко.
Дожевывая, начальство гурьбой подалось на площадь.
Вся Центральная усадьба, стар и млад, собралась поглазеть на чудо. Подойти к машине боялись: кто знает, что выкинет чужеземная зверюга. Вперед вышли опытные скотники, плечистые братья Бобковы, с толстыми веревками на изготовку… Но тут из кабины тягача спрыгнул шофер в оранжевой курточке; приветственно помахав сельчанам рукой, он дернул какой-то рычажок, и задняя стенка трейлера, откинувшись, мягко опустилась на землю. Шофер взбежал по ней, как по трапу, и через минуту вышел из фуры с производителем, ведя его на поводке, будто болонку. Зрители онемели; даже Отрощенко изумленно поднял брови.
— А где же… бык? — пробормотал Тришкин.
Рогатый бельгиец не доставал двуногому до плеча!
Отрощенко нахмурился.
— Это что за еб твою мать? — строго спросил он у своего помощника.
— Все правильно, Георгий Кузьмич, — молочная порода… — извиняющимся тоном пояснил очкастый помощник.
— А., молочная… — Отрощенко успокоился.
В толпе между тем начались ропот и смешки:
— Ну и ну! У меня козел больше ентого быка…
— А мы ему Красаву приготовили… Он же ей до шахны не достанет!
Народ веселился все больше — надо было брать ситуацию под контроль.
— Тихо вы!.. Разговорчики! — крикнул Пал Палыч. — Пора бы знать: порода молочная, ему рост ни к чему… У него вся сила в этом… в другом совсем.
— Да… — смеясь, согласились в толпе, — только что яйца у него великие!
— Ну, то-то…
Далее полагалась речь Краснощекая псевдодоярка Аида, вручив шустрому бельгийскому шоферу хлеб-соль, подошла к начальству. Осенив Отрощенко густо накрашенными ресницами, она повернулась к народу. Инструктор, выпятив нижнюю губу, уставился на ее тугие икры в ладных сапогах: несмотря на мороз, Аида была в капроне.
— Давай, Иуда, ври скорей про спасибо партии, а то замерзли! — крикнул кто-то в толпе.
— Кто это там?.. — парторг Зюзин тревожно вытянул шею. — А, пьяные… — и покосился на начальство.
Речь Аида сказала хорошо: звонко, привставая на цыпочки и оттопыривая напоказ свой и без того высокий зад.
На этом, собственно, торжественная часть закончилась. «Вольво», посигналив на прощанье и изящно буксанув, укатил, теряя по дороге пацанов, цеплявшихся за его хвост. Начальство подалось в столовую на банкет, прихватив с собой Аиду Егоровну. Мужу ее, Вась Васичу, доверили доставить продрогшего производителя в приготовленное стойло. Завистливо проводив глазами удаляющуюся задницу супруги, он вздохнул и обернулся к быку.
— Как хоть его зовут?.. — пробормотал зоотехник, разворачивая документы. — Ишь, медалей — как у генсека… Карцф фон… бля, не пойму… Цири… попель какой-то.
Стоявший рядом Колька Бобков засмеялся:
— Цирипопик!
Так быка и прозвали — Цирипопиком. К Карифу в совхозе отнеслись пренебрежительно, несмотря на медали и бельгийское происхождение, за малый рост и небычий норов. Только Зина Босомыкина, комсорг молкомплекса, приставленная за ним ухаживать, полюбила иностранца; Зина звала его Кариком за карие глаза. Бык тоже к ней привязался; если б не их дружба с русской скотницей, неизвестно, как бы он переносил свалившиеся на него тяготы быта в дикой северной стране. Зина грудью отстояла у односельчан красивые мешки с импортным комбикормом, приехавшие вместе с Карифом, но они, увы, закончились. Тогда она, смех сказать, стала воровать ему комбикорм из крольчатника, а еще, словно для поросенка, выпрашивала объедки в столовой. Мыла она его хоть и без шампуня, но тщательно и с любовью — Кариф умел это оценить.
Однако время шло; бельгиец проедался в «Смычке», а к делу так и не приступали. Кариф понимал, что пригласили и везли его в такую даль не за карие глаза. Он был здоров, могучие тестикулы лопались от первоклассного семени, а местные разгильдяи будто о нем позабыли. Но о производителе не забыли, просто он еще не знал, как у нас долго делаются дела… В конце концов у них с Красавой состоялись смотрины. Блатную телку поместили в соседнее стойло, отделенное невысокой перегородкой, через которую животные могли познакомиться. Если Цирипопик вызвал у наших насмешку своими малыми размерами, то Красава, напротив, восхитила быка своей статью: ему, профессиональному ебарю, такие великолепные партнерши еще не попадались. Все в ней будило желание: рост, формы, даже белая звездочка во лбу… что уж говорить про запах — природный запах плоти, не оскверненный ни парфюмерией, ни слишком частым мытьем. Зина, стыдясь, наблюдала, как развивается этот международный роман; он был ей не слишком приятен. Со стороны девушка видела, как «ведут» ее друга уловки рогатой кокетки, а обольщала Красава мастерски: то делала вид, будто Карифа не замечает, то задирала верхнюю губу и фыркала, якобы от волнения.
Во дворе фермы тем временем начались приготовления. Для бельгийца строили помост, наподобие эшафота, чтобы он мог в нужный момент дотянуться до Красавиной вульвы. Подмостки сколачивали на широкой площадке, словно специально, чтобы все желающие могли поглазеть — предстоявшее таинство превращалось в аттракцион для населения Центральной усадьбы.
В назначенный час вокруг «лобного места» теснилось множество зевак; даже Сергеев с Афанасьевым не сдержали вахты и, побросав вилы, пришли из кормоцеха полюбопытствовать. Картина впечатляла: скотники осаживали народ; перед помостом похаживал плотник Гордеев с топором за поясом; всклокоченный Вась Васич бегал на ферму и обратно, сообщая что-то Пал Палычу, стоявшему недвижно в бурках и каракулевой шапке… Наконец вывели Красаву: она мотала головой, мычала и пыталась лягаться. В толпе зашушукались: «Ишь, дурь играет… Откормила Иуда за совхозный счет…» Как несчастная телка ни пыталась сопротивляться, ее привязали к помосту, рога расчалили веревками — Красаве оставалось только страдальчески косить глазами на бесстыдную публику. Карифа вывела Зина. Сколь ни привычен был бельгиец к общественному вниманию, но публично совокупляться ему раньше не приходилось. Он застеснялся и, быстро-быстро замахав ушами, подался было назад. В толпе засвистели. Зина, сама розовая от смущения, все же уговорила Карика взойти на помост… «Какая дикость! — думал бык. — Устроили из работы цирк..» Но вот его ноздри уловили манящий знакомый аромат: «О-о… Какая, однако, прелесть… какой цветок..» Зина подвела Карифа, стараясь сама не глядеть на Красавин срам… И тут, неожиданно для окружающих, фон Циринаппель коротко взревел и, оттолкнув девушку, взгромоздился на беззащитную Красаву. «Ай да Цирипопик! — пронеслось между восхищенными зрителями. — Сам, без уговоров!..» Из телочьего горла вырвался продолжительный стон — Фламандия торжествовала! Однако… о ужас! Гордеевский помост внезапно затрещал, зашатался и обвалился на глазах остолбеневшего народа… Кариф рухнул и, барахтаясь в обломках досок, кричал, пытаясь встать на ноги… Красава, оборвав путы, побежала; по ногам ее текла кровь… Зина рыдала, закрыв лицо руками…
Катастрофа была в том, что, падая, Циринаппель сломал себе член. Производитель, стоивший в валюте больше, чем весь наш несчастный совхоз, сделался ни на что не пригоден. Такой беды в «Смычке» не случалось со дня ее основания. Всякое бывало: растраты, неурожаи… трактора топили в пруду по пьяни… однажды смерч повалил несколько сараев и «Доску почета» — но подобного никто не мог припомнить. Ну пусть бы ногу себе сломал, пусть бы две, так нет же… такое уж, видно, наше везенье. Народ судачил, пытаясь отыскать исторические примеры, но ничего не выходило. Один только случай и вспомнили — это когда ветеринар Кукушкин, напившись, вышел во двор поссать, да упал и заснул, а конец-то в штаны не убрал и отморозил.
Тришкин запил, в правлении не показывался; все ждали, что его вот-вот снимут, и гадали, кого назначат на его место. Гордеев стал героем — его жалели, везде угощали вином и сочувственно наставляли, как вести себя в тюрьме. Старики утешали: «Не горюй, Генка, везде русские люди живут. Матвеич, дык, на зоне грамоту выучил…» Генка встряхивал чубатой головой: «А, ништо мне! Хорошие плотники везде нужны». Но время шло, а никого не снимали и не арестовывали. Исстрадавшийся Пал Палыч решил сдаваться сам… Придя в правление, он закрылся в своем кабинете и долго сидел, собираясь с духом; тщетно пытался он найти слова самооправдания: неотвратимый конец карьеры виделся ему в ужасных подробностях. «Будь что будет!» — решил он наконец и в гибельном кураже потянулся к телефону.
Звонил он в райком, заму по сельскому хозяйству Яровому. Голос его дрожал:
— Сан Саныч, это Тришкин…
— А… здорово, Палыч! — узнал Яровой. — Ты куда это пропал, почему не был на конференции? Запил, что ли? Смотри, на ковер пойдешь…
— Я… нет… — залепетал Тришкин. — Сан Саныч, у меня бык..
— Не слышу… какой бык? Чего ты там блеешь?!
— Бык импортный… ну этот, производитель, чтоб ему… упал и хуй себе сломал… Я не виноват, Сан Саныч, — они недомерка нам подсунули!
— Что сломал?.. — несколько секунд до Ярового доходило, после чего трубка разразилась скрежетом: Сан Саныч хохотал.
— Ну уморил! Ну Тришкин!.. Всем расскажу… — немного успокоившись, он хитро спросил: — А что, Палыч, небось, уже сухари насушил? Ладно, не трусь… Я вам всем говорю: ездить надо на конференции — тогда бы знали, мудаки, текущий момент… Эти быки у всех уже сдохли, а у тебя только хуй сломал… ха-ха, ну, не могу!.. С быками, брат, покончено, теперь у нас на свиноводство упор, понял? То-то… Ну давай там, пей рассол и ко мне: получишь инструкции и письмо ЦК.
Пал Палыч вытер пот. Посидев с минуту, он достал из сейфа бутылку, сделал из горлышка несколько больших глотков и позвал секретаршу:
— Ната… — голос еще не слушался. — Наташка!!!
В дверях показалось испуганное лицо.
— Заходи, не бойся… чего уставилась? Найди мне Зюзина, это раз… Погоди… Теперь с этим, мать его… — он внезапно налился гневом. — Короче, быка бельгийского зарезать и в столовую! Поняла?
Секретарша исчезла. Пал Палыч прошелся по кабинету, с удовольствием ощущая, как «забирает» его водка.
— Вот оно что! — сказал он вслух. — Сдохли! Стал-быть, слабо им наших трахать… Ну и хрен с ними, а мы поживем еще.
Яблина
Бело-голубой «ЛиАЗ» с притороченным сзади запасным скатом был одним из полудюжины наших городских «скотовозов». Железный трудяга, хоть и не имел присущих теплокровным вредных привычек, болел, однако, множеством профессиональных автобусных болезней. Причиной их были возраст и ужасные наши дороги. Его изношенная гидроавтоматическая трансмиссия почти не преобразовывала натужное гуденье мотора во вращение колес. Часто на подъемах (особенно том, крутом, называемом «Козьей горкой») пассажирам приходилось вылезать и плестись за ним, подобно похоронной процессии, вспоминая прибаутку про цыган и «студебеккер».[4] Водитель, Сергей Иваныч, сам уже ветеран ПАХа, страдавший астмой и геморроем, радовался всякий раз, когда им удавалось без приключений добраться до конечной остановки. Все время короткого отстоя Сергей Иваныч копался в сопящих и лязгающих внутренностях автобуса, кашляя и шепча матерные заклинания. Мотор он не глушил всю смену, из опасения, что машина больше не заведется. Хуже всего водителю приходилось зимой: по пять раз на дню у «ЛиАЗа» замерзал пневмокран, из-за чего «скотовоз» заваливался набок, будто кляча, собравшаяся околеть. Дороги тоже не давали скучать: в те годы, чтобы проехать по нашим улицам, требовался опытный лоцман. Ям было очень много, и располагались они с изощренным коварством, маскируясь под невинные лужицы. Однажды, отъезжая от остановки, Сергей Иваныч «зевнул», и автобус угодил задним правым колесом в глубокий свежий провал. Машину швырнуло вправо, и кондукторша Любовь Петровна, сидевшая на своем возвышении, вывалилась наружу вместе с окошком.
В тот раз Любовь Петровна не пострадала, но Сергею Иванычу досталось крепко «на орехи». Неудивительно, ведь тетя Люба была подлинным командиром экипажа и главным человеком на борту. Кто капитан на корабле, становилось ясно при первых раскатах ее голоса, покрывавших и шум мотора, и гомон пассажиров. Свежевтиснувшиеся «необилеченные» граждане вытягивали шеи, пытаясь увидеть, откуда извергаются эти вулканические громы. Грудь и весь телесный тети-Любин состав соответствовали могучему голосу. Легко, будто пшеничные колосья, раздвигала Петровна теснящихся пассажиров, делая просеку в их непроходимой, казалось бы, чащобе.
— Плотим за проезд! — нечеловечески гремело над головами, и граждане, обрывая на себе пуговицы, лезли в карманы за пятачками.
И не дай Бог зазеваться:
— А ну, плотим!! Чего рожу отворотил?
Трон ее, в виде особого сиденья, возвышался справа перед задней дверью. Занимать его не смел никто, даже наглые по беременности молодые бабы. «Обилетив», то есть даровав новым подданным автобусное гражданство, тетя Люба водружалась на свой престол, поглощая его без остатка царственным телом. Бюст ее и низлежащие части плотно облегала «куфайка» прочней носорожьей шкуры, ноги ниже колен заправлены были в два ведра. Еще раз окинув пятачковое стадо строгим взором, кондукторша благословляла напарника кивком:
— Трогай!
Глаза Сергея Иваныча в далеком кабинном зеркале готовно мигали. Бормотанье мотора переходило в вой, с автобусными дверьми делались судороги. «ЛиАЗ» уже отплывал от остановки, булькая выхлопом, как речное судно, а пассажиры все пинали упрямые створки. Наконец, устав сопротивляться, те со злобным шипеньем схлопывались. Тяжко переваливаясь и западая колесами в дорожные ямы, наш автобус продолжал свой нелегкий маршрут.
Есть расхожее представление, будто водитель и кондукторша должны быть непременно мужем и женой. Но Сергей Иваныч был женат на диспетчерше Светлане Семеновне, а Любовь Петровна жила одна с двумя взрослыми дочерьми. Тем не менее по работе, несмотря на тети-Любин крутой характер, они не конфликтовали, дружно давали план и в ПАХе числились на хорошем счету. Имея такого кондуктора, Иваныч мог совершенно укрыться от мира в своей кабине и думать только о геморрое и текущем карбюраторе. Зато после вечерней смены он на пустом «ЛиАЗе» всегда по-товарищески подвозил тетю Любу до дома.
Автобус, пыхтя в тесноте двора, с трудом разворачивался, облизывая языками фар изнутри спящие жилища, и уползал в гараж на отдых и еженощную починку. Однажды, проснувшись от его вздохов и бормотанья, Сергеев отогнул занавеску и увидел, с каким трудом даются Петровне последние метры до подъезда. Думая, что ее никто не видит, она шла медленно и даже позволяла себе прихрамывать на правую ногу. В руках тетя Люба несла две сумки с харчами, которых дожидалось ее семейство: Маринка с Ленкой и младенец Вовик. Вовика, неожиданно для всех, родила недавно Маринка, дав младшей, еще не «залетавшей» сеструхе постоянный повод для насмешек. Она сама совершенно не помнила, кто и при каких обстоятельствах ей «вдул», и ждала, когда Вовик подрастет, чтобы выяснить, на кого он будет похож. Одно Сергеев предполагал уверенно, что случилось это в темноте, потому что обе тети Любины дочери были редкие страшилы. Петровна, в отличие от Маринки, точно знала, чьими порожденьями они были: одно время она сожительствовала с неким мужичком, имени которого Сергеев не помнил. Потом, правда, мужичок исчез — соседки говорили, сбежал от побоев.
Так и жило бабье семейство, время от времени оглашая пятиэтажку шумными сварами по всяким важным и неважным поводам. Петровна еще имела силу, чтобы одержать верх над своими исчадиями, но часто после трудных побед впадала в меланхолию и тогда наутро, если была не в рейсе, шла в гастроном за «Анапой». Спасительный напиток, в зависимости от завоза, имел то красноватый, то буроватый оттенок, но всегда хорошо утолял душевную боль. Однако Петровне мало было достать вина — оно лишь отворяет душу, а на кого ее излить? В будень, да еще поутру, где найти страдающему понимания и сочувствия? Положим, одну бутылку тетя Люба осушала у себя дома, в компании бессмысленно мемекающего Вовика. Но потом, когда уже навертывалась в глазу первая слеза, — потом ей требовался собеседник посерьезней. Бабки-пенсионерки и молодухи-декретницы, единственные, кого можно было застать днем без дела, в собеседницы не годились: они не пили, и вообще Петровна презирала их «куриное» общество. На ее счастье (и на его беду!), у соседа ее, Сергеева, был в цехе скользящий график. Раз в месяц, а то и чаще, обстоятельства выстраивались в роковом совпадении: тети-Любина меланхолия приходилась на сергеевский выходной.
Бум-бум-бум! Она стучала в дверь ногой, потому что руки у нее были заняты. Бум-бум-бум!
— Открывай, Сергеев, чего притих! Это я, Петровна!
Сергеев озирался в поисках штанов и орал в ответ:
— Иду, иду! Не ломай дверь!
Он впускал ее со вздохом. Если в одной руке у тети Любы сидел неумытый Вовик, а в другой между пальцами зажаты были два «флакона», если она приперлась без тапок в одних чулках, то что это могло означать? Думать нечего — Петровна опять в педали, а у него опять погорело свободное утро.
— Твоей-то нету? — осведомлялась соседка. — На работе? Ну и хорошо… Подержи ребенка, пойду поссу…
Сергеев с тревогой провожал ее глазами. Однажды она упала у него в уборной и обрушила висячую полку.
Петровна без церемоний располагалась на кухне и до краев наполняла выставленные Сергеевым стаканы:
— Ничего не говори… Давай сразу.
Вслед за ней он молча покорно выпивал.
Они трясли головами и нюхали шоколадные конфеты. Проходила минута. Наконец Петровна с горькой усмешкой спрашивала:
— Слыхал концерт сегодня ночью?
— Угу… — кивал Сергеев.
— Проститутки в гроб меня вгонят! Что одна, что другая…
Он закуривал.
— Наплюй ты на них. Пусть живут своим умом.
— Своим — чего? Вот это они только и могут своим умом! — она подбрасывала коленом сопливого Вовика.
Выпивали еще по стакану. Тетя Люба опять умолкала, рассматривая свои вытянутые под столом ножищи с шишковатыми ступнями.
— Дай-ка папиросу…
Она мощно затягивалась. Большое пористое лицо ее краснело все сильней, из глаз, почему-то на нос, выкатывались слезы. Минут пять, пока тлела сигарета, Петровна беззвучно рыдала, потом оглушительно высмаркивалась в Вовкин слюнявчик, давила в пепельнице окурок и наливала по-новой. Внезапно взгляд ее прояснялся.
— А правда — ну их в жопу! Давай, сосед, за все хорошее…
Разговор переходил на другие темы. Пока владела языком, Петровна жаловалась то на полетевшую вчера полуось, то на козла-механика, то на колонновское начальство, которому она на собрании «все как есть выскажет». (Сергеев в это время прислушивался к ворчанию «Анапы» в своем животе.) Тетя Люба крыла «гребаные» дороги, бракованные «запчастя» и… советскую власть, которая развела весь этот бардак Постепенно ругань ее становилась все более непечатной и безадресной. Вовик, теряя терпение, начинал скулить и выгибаться у нее в руках. Но тут, видимо рассчитав время, за ним приходила мамаша. Поздоровавшись без улыбки, Маринка топала прямиком на кухню (она никогда не улыбалась, будучи не накрашена, хотя и макияж мало добавлял ей очарования). При виде Петровны дочь кривилась:
— У-у… Опять нажралась! Не видишь — ребенок у тебя усрался!
Тетя Люба поднимала на нее взгляд, полный пьяного презрения:
— Он не у меня усрался, а у тебя — ты его наебала! Не плачь, Вовик… мамка твоя — проститутка! И вторая блядь растет… Шалашевки! Я вам еще устрою танец с саблями!!
Она начинала опасно гневаться, и Сергеев старался ее успокоить:
— Хорош, Петровна, не то ты мне все тут перебьешь…
Поколебавшись, тетя Люба смирялась:
— Ладно, ради тебя… Один ты человек… Ну-ка, помоги мне.
Далее следовала долгая «депортация», трудная, как постановка в док подбитого линкора. А Сергееву предстояли еще два тяжелых разговора: один с унитазом, другой с женой, когда она вернется с работы.
И все-таки, несмотря на все издержки, они с Петровной продолжали приятельствовать. Однажды, во время очередных посиделок, на той стадии, когда тетя Люба, покончив с запчастями, принялась, как обычно, хулить советскую власть, Сергеев перебил ее неожиданным вопросом:
— Послушай, Петровна, за что ты так ее не любишь — советскую власть? Ругаешь ее, как напьешься, а ведь она тебя вырастила. Сама же рассказывала, что ты из детдома.
Петровна пресеклась, будто даже отрезвев, и внимательно посмотрела на Сергеева. Тот улыбался.
— Дай папиросу…
Она задумалась.
— Рассказать тебе? Ладно, расскажу. Ты болтать не станешь… а хоть и болтай, насрать, теперь не страшно, — она затянулась. — Во-первых, я не Любка.
Сергеев удивился:
— А кто же ты?
— Яблина.
— Кто?!
— Яблина. Ты не смейся, это имя такое, польское. Меня в детдоме переименовали.
— Зачем?
— Затем… Мой отец был шпион.
— Польский, что ли? — Сергеев опять не сдержал улыбки.
— Так они говорили… Но я тебе правду скажу: ни хрена он был не шпион!
— Не пойму я тебя: то шпион, то не шпион…
— Не верю я, понял? Мы тоже кое-что соображаем! Польша ведь наша страна — такие же коммунисты правят. На хрена ж нам друг у друга шпионить?
— Но ведь тогда Польша не была…
— Была — не была… — перебила Петровна. — Я постарше тебя, а ты этого не коснулся. Тогда план спускали, как у нас в автобусном, столько-то народу шлепнуть к такому-то числу. Вот его и шлепнули…
«Яблина» подавила всхлип и сжала кулак:
— А меня они, суки, спросили?! Может, я в семье хотела жить, а не в детдоме!
И все-таки она разрыдалась.
Плача и сморкаясь, Петровна не заметила, как вошла ее дочь.
— …? — Маринка вопросительно посмотрела на Сергеева.
Он пожал плечами.
— Ну ладно, ма… Хватит тебе, пошли домой… — Маринка взяла Петровну за плечо.
Но тетю Любу было не унять — она обхватила дочь за широкий зад и, уткнувшись лицом ей в живот, продолжала реветь.
Безотцовщина
«В том году ниспослано было Провидением Божиим наказание — эпидемическая болезнь холера. По исчислению многих, эта болезнь в иных селениях поражала от девяти десятого, и не столько старых и слабых, сколько крепких и сильных. Так малая простуда или стакан выпитой холодной воды в жар, или босою ногою ступить на холодную росу, производили холеру…»
Пожелтевшие листки монастырской летописи покоились в витрине краеведческого музея. Витрина стояла у стены, Сергеев стоял у витрины… А в центре зала шумело собрание, не имевшее отношения к краеведению: разнополые, разновозрастные граждане, жужжа возбужденными голосами с жаром что-то учреждали. Они тревожили музейные своды восклицаниями типа: «Соберем всех мыслящих людей городка!..» или «Не отдадим культуру на попрание!..» Мыслящие граждане зарделись от энтузиазма; активисты наделяли остальных эмблемами какой-то новой партии. Некоторых из «тусовки» Сергеев узнавал в лицо; его тоже узнавали:
— Привет, Сергеев! Как хорошо, что ты с нами! Возьми эмблему…
— Нет, нет… спасибо… — он стал протискиваться к выходу. — Я здесь по другому делу…
Он вышел на улицу. Во дворе музея «припаркованы» были два ржавых велосипеда и один «Москвич». Затянувшись свежим осенним воздухом и чуть постояв, Сергеев не спеша двинулся вниз по аллейке, ведущей от монастыря. Древесную листву, пассируемую закатным солнцем, лениво пошевеливал ветерок — чтобы не пригорала. Россыпь городских домиков под холмом подернулась золотистой дымкой; многие, словно надев пенсне, поблескивали окнами. Общий покой нарушали только грачиные вопли: который уже день птицы хлопотали и суетились, готовясь в эмиграцию; собравшись большими стаями на деревьях, они истерически галдели и бомбили прохожих слизью своих тревожных опорожнений.
Навстречу Сергееву, разметая опавшую листву и пыхтя, торопливо поднимался молодой человек в коротковатом плащике. Это был Вадик Кочуев.
— Привет, Сергеев! — издалека поздоровался Вадик. — Ты из музея? Наши собрались уже?
— Ваши? — Сергеев усмехнулся.
— Наши, наши… Уф! — Вадик, не останавливаясь, сунул ему руку и пробежал, обдав его запахом пота и одеколона.
— Поспеши! — крикнул Сергеев ему вслед. — Без тебя там кворум неполный…
Кочуев, без сомнения, входил в число наших «мыслящих людей». Но попасть в их среду и в ней утвердиться ему помог случай. Как-то, еще в советские времена, зашел он в столовский буфет в поисках пива и встретил там Юрика Арзуманяна, дизайнера и потомка армянских аристократов. Вообще-то Юрик работал художником-оформителем у нас на заводе, и, поскольку приближались ноябрьские праздники, он всю неделю перед тем рисовал и подновлял плакаты. За свой ударный труд Арзуманян получил премию — 50 рублей — и теперь сидел и пропивал ее в гордом одиночестве. Однако, увидев Вадика, он решил развлечь себя беседой.
— Алло, Кочуев! — обратился он в своей, несколько надменной манере. — Садись со мной, будем водку пить.
Простоватый Вадик, слегка робевший дизайнера и уважавший его за знание многих иностранных слов, послушно сел. Водка делала Арзуманяна снисходительнее и несколько уравнивала молодых людей, в статусе: они хорошо, как товарищи, посидели и были выдворены из буфета по его закрытии. Предусмотрительно захватив с собой бутылку, они продолжили дружбу в каком-то подъезде, откуда их тоже выставили, но более грубо. В результате, оставшись без приюта, они уже поздней ночью побрели по безлюдному проспекту Красной армии. В силу тщедушного сложения обоих приятелей развезло, особенно армянского потомка. Падал мокрый снег. Главная улица городка была украшена к предстоявшим торжествам… Арзуманян цитировал плакаты собственного изготовления и сатанински хохотал. «Антихрист торжествует!!» — орал он в темные окна. То и дело он оступался, попадая ногой на конец размотавшегося шарфа. У Вадика у самого одна штанина обмерзла в блевотине, но соображал он получше товарища и пытался его урезонить. Наконец он взмолился:
— Тише, Юрик… Заберут же, как пить дать!
Арзуманян отстранился. Гневно и презрительно он уставился на Кочуева, а потом неожиданно метко плюнул ему на пальто.
— Смерр-дяка! — отчеканил аристократ. — Запорю!
В эту минуту на проспекте показался милицейский «уазик»; он медленно ехал, щупая тьму фарами. Пьяные струсили и, спотыкаясь, побежали прятаться к деревянной трибуне. Когда грозная «канарейка» проехала, они вылезли и проплясали ей вслед что-то вроде канкана.
— Улетай, туча! — хохоча, пропел Вадик.
Юрик полез на трибуну держать речь, но он уже совсем «прокис»: язык не слушался, слюни, вытекая изо рта, висли на воротнике. Он еле спустился с трибуны и обнял Кочуева, чтобы не упасть. Наконец они оба повалились на землю; сил подняться уже не было… Диссиденты заползли под трибуну и уснули, прижавшись друг к другу и дрожа.
Утром их, совсем окоченевших, вытащил милицейский наряд. По-хорошему, им следовало дать пинка и отправить по домам, но Арзуманян неожиданно взбунтовался.
— Опричники! — закричал он. — Да здравствует Учредительное собрание!
— Вот оно что… — старшина почесал под фуражкой. — Ладно, будет вам собрание… Поехали к дяде Толе.
Капитан Самофалов, в просторечии дядя Толя Самосвал, пользовался в городке большим авторитетом. Никто у нас не имел такой толстой шеи и таких громадных кулаков — один кукиш его был размером с детскую головку. Самосвал не отличался веселым нравом, но никому бы и на ум не пришло с ним шутить: когда проходил он тяжким шагом по улице, даже собаки поджимали хвосты и разбегались по дворам; казалось, само солнце пряталось от греха за тучку… Встретиться с дядей Толей глазами — и то было опасно: прямой взгляд он мог принять за вызов, и тогда глазастому приходилось плохо.
— Поди-ка сюда… — манил его Самосвал толстым пальцем.
— Ну чего?.. Чего я сделал? — начинал канючить несчастный.
— Ты чего это на меня смотришь… герой?
— Я на вас?.. Я нечаянно… — лепетал «герой» в надежде улизнуть.
— Поговори еще… — Самосвал качал в себе гнев, медленно соображая, к чему бы придраться. — Умный, что ли, очень?
— Что вы, дядь Толь, какой я умный, вы ж меня знаете…
— Угу… всех я вас знаю… А то давай, протокол составим?
Жертва ежилась от нехорошего предчувствия:
— За что?.. Дядь Толь, не надо…
— Ну, смотри…
Казалось, Самосвал смилостивился, и птичка порывалась улететь…
— Нет, постой… Все-таки составим… — и дядя Толя бил неблагонадежного в ухо — вполсилы, но так, что тот делал, чтобы не упасть, четыре шага в сторону. Это и называлось у Самосвала «составить протокол».
На Арзуманяна с Кочуевым он составил на каждого по полновесному «протоколу», а потом, взяв обоих за шкирки, самолично отволок их в КПЗ, где они и провели праздничный день седьмого ноября. Чтобы заключенные не повесились в камере, у них вынули шнурки из ботинок и ремни, а заодно и содержимое карманов. Но они нашли какой-то камушек и им начертали на стене узилища несколько бранных слов в адрес советской власти и персонально капитана Самофалова.
На волю Вадик вышел того же дня вечером, но уже закаленным противником режима: у него появился новый товарищ, который открыл ему глаза на многое… Прямо из заточения, трясясь от неизбытой абстиненции, они явились к Кочуеву домой в надежде найти нужное им лекарство у Вероники, Вадиковой мамаши. Вероника была добрая женщина; она помазала кремом их синяки и, сбегав к соседке, заняла у нее спирта. В результате Юрик остался у них ночевать — в эту ночь и в следующую, и так далее… Ночевал он в одной кровати с Вероникой, на несколько месяцев сделавшись, как ни смешно это звучит, для Вадика чем-то вроде «папы». Настоящий его отец помер давным-давно, выпив по оплошке чего-то «не того». Потом у Вероники был еще один муж, но и тот где-то сгинул, правда, заживо. Словом, была она женщина хоть простая, но, что называется, со сложной судьбой. Даже подруги ее удивлялись: «Чтой-то, Вероника, к твоему берегу то говно прибьет, то палку?» Впрочем, свойство это — притягивать такие предметы — совсем не редкое у наших женщин… Конечно, замуж за Арзуманяна она не помышляла, хотя стала регулярно брить ноги и купила в дом еще одни тапочки, рассудив, что они пригодятся во всяком случае.
Однако речь наша не о Веронике, а об ее сыне, Вадике. Сделавшись условно «усыновленным» хотя бы и ровесником своим Юриком, он и впрямь возымел к нему почти сыновние чувства. Арзуманян же, не отвергнув этих чувств (хотя отчасти, быть может, развлекаясь), занялся его воспитанием. Заметив, что пасынок его тянется к культуре, особенно в ее вербальных проявлениях, он щедро делился с ним собственным немалым багажом. Это позволило Вадику уже вскорости щеголять перед Вероникой и приходящими к ней товарками многими новыми словами и выражениями. Некоторые «триады» (то есть тирады) он не стеснялся заучивать за Юриком наизусть. Частенько, правда, слова по пути от ушей Вадика к его языку получали повреждения и выходили уродцами: появлялись «дрездоранты», «трифидельки» и «метродутели» с ударением на «до». Но лиха беда начало… Арзуманян ввел его в интересный круг наших «мыслящих людей», которых в те времена несвободы объединяла общая нелюбовь к капитану Самофалову. Именно в этом кругу, на кухнях, когда на верандах, смотря по погоде, прошел Вадик свои университеты. Спустя некоторое время он мог уже свободно рассуждать о баптизме, босохождении, парапсихологии, еврейском вопросе и многом другом. Главной же темой их разговоров была, конечно, «действительность», то есть место и время, в котором их угораздило родиться и, страдая, жить. Мыслители находили действительность ужасной и мечтали о переменах.
Не секрет, что культурно развитому человеку нелегко живется в маленьком провинциальном городке. Вадик сменил работу, потом еще и еще, но нигде не находилось дела под стать его умственным запросам. В итоге, окончив двухмесячные курсы, он устроился фотографом в Дом быта — все-таки не слесарь и не лаковар. Однако по причине, вероятно, его неприязни к нашим обывателям из-под руки его вместо человеческих лиц выходили порой такие рожи, что их пугались даже в паспортном столе. На личном фронте у Кочуева тоже не клеилось. Женский вопрос, который перед ним естественным образом ставила природа, он еще как-то решал, но создать семью не получалось, несмотря на Вероникины понукания. Девушки в городке были глупы и неначитанны, интересы имели сугубо мещанские. Правда, и в «мыслящем» кругу попадались женские особи, но внешность у них была такая, что они могли без опасений сниматься у Вадика. Возможно, он проявлял излишнюю разборчивость и, как часто случается с разборчивыми женихами, в результате пошлым образом «залетел». Ленка, Вероникина подруга, оказавшись в тягости, открылась кочуевской мамаше, и, посовещавшись, женщины решили аборт не делать, а «окольцевать» бедного Вадика. Что и было ими проделано при безвольном сопротивлении незадачливого сластолюбца В новой для себя роли отца семейства Кочуев проявился с самой дурной стороны; из всех мужских обязанностей он усвоил только одну — лупить Ленку за дело и без дела. Она хотя и давала успешно ему сдачи, бегала тем не менее жаловаться к Веронике: «Опять меня всю исцарапал — посмотри, — как я на работе покажусь?» Вероника мазала ее зеленкой и философски утешала: «Ну где ж ему было научиться бить по-настоящему? Сама знаешь — безотцовщина…» Ленка сокрушалась: «Хоть бы, гад, деньги давал или спал со мной хоть по праздникам… Тут поневоле заблядуешь!» Но Вероника не соглашалась: «Грех тебе жаловаться, — возражала она, — ты поживи бобылкой, как я, — тогда узнаешь, каково это…» — «Да я уж нажилась…» — кручинилась исцарапанная Ленка, и бабенки проливали по нескольку слезинок.
За этой бытовухой, за деторождением, за посиделками под портвейн, культурными и не очень, за ежедневным добыванием и проеданием насущного куска шло время. А время, между прочим, несло перемены, которых домогались наши мыслители. Капитан Самофалов состарился и вышел на пенсию; он редко показывался в городке, а все больше сидел в своем садике и слушал, как с деревьев падают яблоки — ему казалось, что кто-то кидает камни через забор. Проспект Красной армии переименовали в проспект Демократии и хотели ликвидировать в городке все памятники советским вождям, однако обнаружилось, что общественность опередили сдатчики цветмета и первыми покончили с наследием прошлого, Других пунктов в программе мыслящей общественности не оказалось; к тому же везде, где она пыталась о себе заявить, всякий раз получала по соплям, только уже не от Самофалова, а от каких-то новых мордоворотов с цепями на шеях. Один лишь Арзуманян преуспел в новой жизни: он завел торговую палатку на нашем рынке и разъезжал на иномарке, купленной на деньги своих армянских родственников. Он думать забыл о Вадике с Вероникой, и Кочуев давно износил его тапки.
Отставные наши мыслители, вновь укрепившись в отрицании действительности, развлекались участием в каких-то общественных объединениях, благо теперь им в этом никто не препятствовал. Местом своих сходок они полюбили назначать почему-то наш краеведческий музей. Однако и здесь у них назревал конфликт, только уже не с властями и не с «крутыми» в цепях, а с монастырем, пожелавшим вернуть себе помещение, но, похоже, и этот соперник был общественности не по зубам…
Вот, кстати, в монастыре зазвонили… Сергеев спустился с холма. Встрепенулся ветерок, решив, как видно, впервые за целый день прибраться в переулках: помел в канавы опавшую листву и обертки от жвачек Проходя мимо глухого облупившегося забора, Сергеев вытянул шею и, обнаружив в саду хозяина, поприветствовал:
— Здравствуйте, дядя Толя!
— Здоров… — хмуро ответил Самофалов.
Старый мент стоял под деревом в телогрейке и синих галифе, задумчиво вертя в руке яблоко. Яблоко это только что стукнуло его по темечку, но не породило в голове никаких теорий. Самофалов лишь констатировал, что яблоко червивое и незрелое. «А хорошо бы гусеницу оттель выковырнуть, а его обратно на ветку посадить…» — пробормотал он, но, усмехнувшись собственной глупости, отшвырнул яблоко прочь.
Сергеев тем временем шел уже дальше и через пару переулков встретил Веронику с коляской. За руку она вела старшего внука. Сергеев поздоровался и с ней:
— Как дела?
— Да какие мои дела… — она поддала коляску. — Вот мои дела.
— А Ленка где?
— А… — Вероника неопределенно махнула рукой. — Шляется где-то. А Вадька на какое-то собрание побежал…
— Я его видел…
Вероника чуть помолчала и с чувством сказала:
— Главное — что? При живых родителях — и опять безотцовщина растет, вот что мне обидно…
Про любовь
Всякая лошадь по мере приближения к дому ускоряет шаг. Даже старый мерин Щорс, возвращаясь к себе на нефтебазу, гнал, что твой орловский рысак Он предвкушал покой в конюшенном сумраке, припахивавшем керосином, и то особое дремотное полузабытье, сладостное для потрудившейся лошади.
Но надо заметить, что и время при известных обстоятельствах ведет себя сходным образом. Едва заклубится вдалеке кладбищенская роща, тучкой севшая на пригорок, его уже не унять. Почуяв кладбище, окаянное время прямо-таки переходит на рысь, словно спешит в свое заветное стойло.
Для Кузоватова, чем старше он делался, тем быстрее мелькали годы-версты — так, что некогда стало привыкать к их порядковым номерам. Дни укоротились настолько, что он не успевал заводить часы. Эта заводка часов превратилась в почти что непрерывный процесс — неудивительно, что головка его «Победы» полысела подобно собственной голове Василь Трофимыча. Циферблат часов с допотопными «лупастыми» цифрами порыжел и пошел мелкими трещинами, гравировка на задней крышке стерлась, так же как стерлись наколотые синим буквы «В-А-С-Я» на кузоватовских конопатых пальцах.
«Победу» эту подарила ему жена в честь первого года их совместной жизни. Вася, помнится, пожурил ее за безрассудно потраченные хозяйственные деньги, а потом, разобрав на крышке гравировку, рассмеялся. «В. Т. Кузоватову от любящей жены». — «Эх ты, балда! Так только на венках пишут». Жена тогда надулась, сказала: «Не нравится — выбрось!» Но вот уже пять лет, как она в могиле, а часы все ходят. И надпись на венке не она ему, а он ей заказывал… Такие дела.
Тщетно пытаясь ухватить корявой подагрической щепотью скользкую головку, Кузоватов каждое утро давал себе слово снести часы в починку. Но известно, как делаются дела у стариков: то пенсию задержали, то на улице скользко, то в боку закололо. Проходил месяц за месяцем, а он все собирался. Однако бывают в году такие дни, когда кто-то свыше посылает старикам команду встать со своих лежанок и заняться делом. Это хорошо заметно на автобусных остановках: ни с того ни с сего высыпят деды с бабками, сидят рядами на лавочках — вдруг занадобилось им всем куда-то ехать. Куда же? А вот, к Маше — давно у нее не была… А другая — в церковь… А третья на рынок… А тот «перец» с клюшкой за грибами собрался — дойти бы ему до лесу…
В такой-то день — майский, погожий — решился, наконец, и Кузоватов исполнить свое намерение. Надел он пиджак с медалью, взял выходную палку с инкрустацией и отправился в поход «Победа» путешествовала в ремонт на руке Василь Трофимыча, но в кармане его на всякий случай лежала от нее коробочка с пожелтевшей инструкцией и заводской гарантией, закончившейся сорок пять лет назад. Несмотря на то, что Кузоватов твердо решил не отступать и не ворочаться домой, не наладив часов, его не отпускали сомнения. «Не ровен час, что-нибудь испортят халтурщики… Или ничего не сделают, а только денег сдерут…» Но он сам себя ободрял: «Пусть попробуют! Проверю досконально, и если что не так, до начальства доберусь. Кузоватова в городке знают… найду на них управу!»
К Дому быта Василь Трофимыч дошаркал в довольно воинственном состоянии духа. Войдя в холл, он долго оглядывался, потом, стуча палкой, двинулся вдоль стен, читая все объявления. Какой-то молодой человек в синем халате спросил его:
— Дедуля, что вы хотели?
Старик неприязненно на него посмотрел:
— Какое такое «хотели»? И теперь еще хочу… Часы где тут чинят?
Молодой человек ткнул пальцем в окошко с крупной надписью: «Ремонт часов». «И как я сразу не увидал?» — подосадовал Кузоватов. Он подошел к окошку и заглянул внутрь. Сквозь стекло он разглядел обрамленную седыми кудрями плешь часовщика, сосредоточенно ловившего пинцетом что-то невидимое на залитом светом столике. Простояв с минуту и не дождавшись, чтобы мастер поднял голову, Василь Трофимыч покашлял. Эффекта это не дало. Тогда он постучал по стеклу пальцем. Часовщик, не отрываясь от своего занятия, пробурчал:
— Там звонок есть.
Тут только Кузоватов заметил сбоку от окошка кнопку звонка и надпись: «Вызов мастера». Он почти со злобой нажал на кнопку, и в каморке у «часового» раздался прихотливый сигнал в виде соловьиной трели. Он-то и возымел нужное действие: голова за стеклом поднялась, и вместо лысины Кузоватов увидел обращенное к нему лицо с лупой в глазу.
— А что, милок, так не видать меня было? — раздраженно начал Василь Трофимыч, но часовщик неожиданно его перебил:
— Кого я вижу! Трофимыч! Спрашивается, что ты молчишь?
Приглядевшись, и Кузоватов признал мастера — это был Иосиф Урбах.
— Надо же! Ёська! Сколько лет…
Ёська сделался само радушие:
— Чего же ты там стоишь? Давай, заходи, в моем офисе есть стул.
Кузоватов отыскал дверь, толкнул ее — и оказался как бы по ту сторону границы. Теперь он уже был не простым посетителем, а приятелем мастера со всеми вытекающими привилегиями.
— Вот уж не думал, что ты еще работаешь, — радовался он, входя. — Думал, ты давно или помер, или в Израиль уехал…
— Ты прав, — Урбах усмехнулся. — Теперь все хорошие часовые непременно либо там, либо там… Но ты меня слишком рано хоронишь.
Живой и очень толстый, он сидел на хлипком вращающемся стульчике, все время страдальчески скулившем и взвизгивавшем под его грандиозным задом. В «офисе» было тесно и пахло Урбахом. Повсюду недружно щелкали разнообразные часы, и каждые вели свой собственный счет времени. На полках, словно пойманные блохи, накрытые стеклянными колпачками лежали микроскопические часовые деталюшки. Ёську в определенном, видимо, строгом порядке окружали натыканные в специальных гнездах и ровно разложенные крошечные молоточки, отверточки и всякие другие инструментики. Было непонятно, как этот громоздкий человек управляется с такой мелочью. Казалось, чихни он посильнее — и все тут разлетится так, что не соберешь вовеки.
Трофимыч пристроил в углу свою палку и сел на свободный табурет. Урбах накрыл своих блох на столе колпачком; стул его с болезненным криком сделал пол-оборота:
— Ну, рассказывай… У тебя, я понимаю, сюда важное дело?
— Да, брат, беда… Головка у меня стерлась.
— Головка, говоришь?.. — Ёська ухмыльнулся. — Это имеет объяснение в нашем возрасте… Ну, давай, что ты принес.
Кузоватов протянул ему свою «Победу».
— О да! — Урбах уважительно взял часы двумя пальцами. — Это механизм. В один, прекрасный день за такую «Победу» отец меня… добрая ему память.
Он вытащил из часов ремешок;
— Что это?.. «В. Т. Кузоватову…» Именные?
— Ты читай… Видишь: «…от любящей жены». Даша подарила, на нашу первую годовщину.
— Я извиняюсь, у тебя тут все салом заросло. Ты их когда-нибудь чистил?.. Кстати, как твоя Даша?
— Даша-то? Шестой год как схоронил…
— Что ты говоришь! — Урбах сокрушенно покачал головой. — Это немыслимо…
— Рак, что ты хочешь…
— У нас совершенно погубили всю экологию… Мира будет потрясена…
— Не спросил… Что там она? Не болеет?
— Смешной вопрос! Как может Мира не болеть, дай Бог ей Долгих лет… — Урбах усмехнулся: — Я скажу тебе другую вещь. У нас с ней одна болезнь на двоих.
— Это как? — не понял Кузоватов.
— Наша дочь. Она уже пять лет живет в Америке и вышла замуж за пидараса.
— Постой… У нее же был муж.
— Этого Гошу она там бросила. Он со своим дипломом сторожит кегельбан и шлет нам письма. Он хочет вернуться, когда накопит на дорогу.
— А нового ты за что ругаешь?
— Почему ругаю? Я сообщаю тебе факт: у них пидарас уважаемый человек и называется гей.
— Гей?
— Ну да, гей.
— Пидарас?
— Ну да, что я тебе толкую!
Кузоватов почесал лысину:
— Тогда я не понял… Зачем пидарасу жена?
— Мы с Мирой тоже задавали такой вопрос… Может быть, с ней надо ходить на приемы? Ведь он адвокат и живет в Голливуде, где снимают кино… ;:
— Адвокат?
— Ну да, адвокат. Дочь пишет, там полно этих геев и им нужны адвокаты. В Америке без адвоката, я извиняюсь, никто покакать не ходит.
Урбах в продолжение разговора успел разобрать часы:
— Знаешь, им надо задать хорошую профилактику.
— Кому? — рассеянно переспросил Кузоватов. — А, да, конечно… — он думал о другом: — Странно, Ёся… Ты говоришь, как будто это нормально.
— Что? Ты о пидарасе? У них это нормально. В Америке даже есть такой закон, я знаю, чтобы принимать на работу одного гомосека, одного негра, ну и там… женщину.
— А еврея?
— Нет, евреи как все идут, — Урбах хмыкнул. — Если не пидарасы, конечно.
Старики замолчали. Иосиф погрузился в работу; при этом он не мог не сопеть, но соблюдал осторожность, чтобы не сдуть чего-нибудь со стола. Его толстые пальцы действовали аккуратно и точно. Кузоватов наблюдал за ним с одобрением. Он и сам всегда любил порядок в каждом деле. Бывало, соберется починить, например, настольную лампу, так обязательно прежде примет рюмку, чтобы рука стала тверже. Газетку подстелит, инструмент приготовит, кошку выгонит, чтобы на стол не прыгнула. Жену тоже выставит в другую комнату: Даша, царство ей небесное, никогда не могла удержаться от советов. «Шибко умная была», — Трофимыч ей так и говорил. Кузоватов вздохнул… Что толку от этих советов. Дочь она тоже всю жизнь на ум наставляла, а что вышло?
Трофимыч расстегнул ворот.
— Душновато у тебя…
Урбах не ответил, занятый делом.
— А у меня, брат, тоже… дочь.
— М-м?
— Дура бестолковая… Твоя хоть с адвокатом живет, а моя… не пойми с кем — с Колькой Барботкиным.
— Может быть, у них любовь?
— Любовь, это точно. Втюхалась в этого пьяницу… подштанники его драные стирает.
— Любовь — это главное. Это вам не с геем по контракту жить.
— Как так — по контракту?
— Ты меня спрашиваешь? Мы с Мирой прожили тридцать лет безо всяких контрактов… Дочь пишет, он обязуется ее содержать и тому подобное. Я не знаю, но родители у них в этом контракте не значатся. От Гоши мы получили две посылки, а от нее только открытки: Фрида под пальмой со своим пидарасом на фоне «кадиллака»… Фрида в бассейне… Фрида на фуршете…
— Бывает… — посочувствовал Кузоватов. — Моя тоже небольно…
— Это у нас бывает, а у них так заведено! — Урбах разволновался, стул под ним рыдал. — Очень прекрасно, не надо родителей. Раз так, пусть себе сдохнут и тому подобное. Но вы мне скажите, что они сделали с любовью? Любовь к контракту не подколешь, или я не прав? Я тебе отвечу на твой вопрос: любовь они победили вместе с другими болезнями и поэтому живут так долго.
— Эк ты разошелся, — Трофимыч усмехнулся. — Смотри, со стола смахнешь…
Но Иосиф отложил работу и повернулся к нему:
— Нет, ты слушай сюда… Скоро техника заменит человека, об этом пишут в газетах Машины будут делать машины и так далее. Скотину выведут такую, чтобы сама себя пасла, я знаю, сама казнила и сама разделывала. Что, спрашивается, останется человеку? Он будет писать инструкции и контракты. Как ты себе думаешь? На свете останутся одни юристы, адвокаты и пидарасы… благодать! Господь Саваоф сойдет на землю и попросит вид на жительство. И они с ним тоже заключат, между прочим, контракт… И при чем здесь любовь, про которую ты спрашиваешь?
— Да я ничего… — Кузоватов был несколько озадачен. — Я не против… Ты сам завел про это дело. Моя дура тоже все: «любовь», «любовь»… А я ей говорю: любовь-то любовь, а расписаться надо. Хоть на алименты, случай чего, подашь… Хотя, конечно, без любви тоже нельзя: подштанники простирнуть, юриста не попросишь.
В эту минуту в окошко мастерской просунулась голова клиента. Это был Сергеев:
— Привет, аксакалы!.. Иосиф Григория, как там моя «Сейка»?
Урбах пошарил в ящике.
— На…
— Жить будет?
— Будет… хотя, я извиняюсь, но это не часы, а говно. Вот посмотри: абсолютно нельзя сравнивать… «Победа»! От любящей жены.
Травкин
Шесть часов. Январское утро.
Но утро это только для тех, кто встает по будильнику: в природе еще глубокая ночь. Собаки нимало не выдохлись — их оргии в разгаре. Рыкающие, взвизгивающие стаи — ветер в ушах — проносятся, ломая кусты, пугают дворничих, и те замахиваются вслед лопатами. Собаки на бегу кусают снег и чужие холки, их брюхи и морды звенят сосульками, хвосты закладываются, отрабатывают в крутых поворотах.
Январское утро. Мороз. От фонарей в небо уходят стрелками голубые лучи. Дворничихи скребут у подъездов лопатами, и звуки эти — как вздохи астматика. Где-то далеко, а кажется — рядом, забормотал автобус — первый — он, конечно, пуст. И пусты улицы: только дворничихи и безумные собаки. Псиный запах — единственная пряность в дистиллированном воздухе.
Но вот скрипнула калитка (дом номер восемь по улице Котовского). Из калитки выехал и прислонился к забору велосипед пензенского завода. Машина стара, это видно даже в свете фонаря: заднее крыло глядит набок, как собачий хвост, колеса неодинаковы и спорят, в каком из них больше спиц. Велосипед этот служит явно не для прогулок — руль его, облупленный и пошедший старческими пятнами, прихотливо выгнут хозяином для удобства каждодневной езды.
Хрустнула цепь, снег стрельнул под шиной, тренькнул на кочке звонок, утробно звякнул подсумок, притороченный к седлу. Пензорожденный бицикл отправился в путь. Седло его не слишком отягощал сухой зад Максима Тарасыча Бурденки, нашего городского невропатолога. За спиной Максима Тарасыча висел рюкзачок, правая штанина зашпилена была прищепкой, а голову, несмотря на мороз, прикрывала лишь кепочка с ушами. Путь предстоял неблизкий — на другой конец городка, в Мадрид. Пока они ехали, на улицах стал и уже появляться первые прохожие — утренние страдальцы, бегущие по снежному первотропу. Скукоженные, несчастные, они тем не менее, завидев велосипед, почти все глухо здоровались из своих воротников:
— Здрась, Макс Трсс…
Наш Мадрид, в отличие от одноименного испанского города, пострадавшего от итало-германских бомбежек, продолжал смотреться руиной. В далеком двадцать девятом году власти разгромили монастырь, приспособив остатки под жилье для приезжих пролетариев. «Приспособив» — громко сказана просто «рассадник мракобесия» превратился в клоповый рассадник С тех пор много керосина сгорело в мадридских примусах. Пролетарии получили в большинстве нормальное жилье, но почему-то Мадрид оставался все так же полон. Жизнь в монастырских развалинах продолжалась, ползучая и неугасимая, как торфяной пожар.
Но в то раннее утро лишь два-три тускло светящихся окошка выдавали присутствие в Мадриде жизни. Да еще мерин Щорс стоял у одного из подъездов, запряженный в телегу с керосиновой бочкой. Морда его была седа от инея, а под задними копытами ароматно парила свежая куча собачьего деликатеса. Щорс кивнул Максиму Тарасычу и фыркнул, покосившись на веломашину. Подъезды в Мадриде не освещались отродясь, но Бурденко и во тьме привычно перешагнул сломанную ступень деревянной лестницы. Он поднялся на второй этаж и тихонько поскребся в драную дерматиновую дверную обивку. Дверь тут же отворилась: его ждали.
— Это я, — шепотом сообщил Бурденко.
— Здравствуйте, Максим Тарасович! Как хорошо… Проходите, пожалуйста, — тоже шепотом ответили ему.
Коммуналка еще спала, только в конце коридора дверная щель прочерчивалась полосой света. Туда и прокрался Бурденко в сопровождении мелко шаркающей фигуры. В лучах электричества фигура оказалась старушкой в кофте и заштопанной шали.
— Здрасьте, Олимпиада Иванна, — Максим Тарасыч снял свою кепку.
— Не слишком раздевайтесь, прошу вас, у нас очень холодно — старушка приняла у него головной убор.
— Что вы, не беспокоитесь, я морозоустойчивый.
— Липа… Липа! — раздался дребезжащий голос из глубины комнаты. Там за ширмой стояла кровать. — Липа, налей доктору чаю.
— Ах, ну конечно! — старушка засуетилась. — Надеюсь, Максим Тарасович, вы согласитесь пить из термоса? Не хотелось бы тревожить соседей…
— Что вы, Олимпиада Иванна, зачем вы спрашиваете! Мы с вами всегда пьем из термоса.
— Ах, извините, я забыла. Вот что возраст делает с людьми.
Приятная беседа строилась на несходстве взглядов их на чай из термоса. Олимпиада Ивановна строго судила свой чай, Максим же Тарасыч находил его замечательным.
— Ах, простите, ваша чашка не цела. Позвольте, я налью в другую.
— Что вы, не беспокойтесь, я уже выпил.
За ширмой лежал супруг Олимпиады Ивановны, Петр Александрович Лурье. С ним полгода назад случился апоплексический удар, и Бурденко приходил делать ему массаж и пользовать травами. В целебных травах наш невропатолог считался большим докой, он даже прозвище получил от горожан — Травкин.
Напившись горячего чаю и заалев ушами, Травкин, не слишком мешкая, приступил к больному. Петр Александрович уже несколько оправился от удара: к нему вернулись речь и способность ходить в подкладное судно. Однако один глаз его и вооружение по правому борту почти бездействовали. Правая рука умела лишь устроить погром на тумбочке да с невероятной скоростью отращивать ногти. Тем не менее старик уже пытался вернуться к любимому своему занятию, игре по переписке в шахматы, И снова стал интересоваться вопросами текущей политики. Надо сказать, Лурье не всегда жили в Мадриде. Лучшие свои годы (этих лет было пять) они прожили в большой квартире, в первой и единственной нашей довоенной пятиэтажке. В тридцатые годы инженер Лурье участвовал в строительстве химзавода, а потом назначен был главным конструктором. Завод начал давать продукцию, и все шло хорошо. Но однажды из леса прямо в цех, со страшным звоном выбив стекло, влетел огромный глухарь и умер. Суеверные рабочие из крестьян сочли это дурным знамением и оказались правы. Спустя короткое время Петра Александровича забрали в НКВД это был тридцать девятый год Арестовали тогда не одного его, а почти все руководство завода, чем, безусловно, здорово ухудшили производственные показатели. Лурье объявили (надо полагать, из-за фамилии) французским шпионом. Московский следователь смеялся до слез, читая его собственноручное признание в том, что завербовали его господа Золя и Бальзак Смешливый чекист, однако, держал его двое суток стоймя, добиваясь подробностей, и больше года томил в лубянской камере. Потом все переменилось: пришел Берия и посадил того чекиста, а Лурье, наоборот, со смехом выпустили «по амнистии», хотя его никто и не судил.
Тем временем супруга шпиона, Липа, на законных основаниях также была подвергнута некоторому гонению. Впрочем, с ней поступили великодушно, приняв во внимание ее беременность Ее всего лишь переселили из квартиры сюда, в мадридский клоповник, где она вскорости и разрешилась мертвой девочкой. Изо всех тогда арестованных лишь один Лурье вернулся на завод, зато с великой верой в торжество справедливости. Конечно, многие перестали с ним здороваться, конечно, об инженерской должности мечтать ему теперь не приходилось, зато какого монтера получил РМЦ — грамотного и непьющего. На войну Петр Александрович ушел ополченцем, но и там судьба была к нему милостива. Демобилизовавшись после нескольких ранений, он вернулся в цех и с годами дослужился до начальника техбюро, в каковой должности, переработав лишних пять лет, вышел на пенсию. В жизни своей он жалел лишь об одном — о том, что не сумел восстановиться в партии. Но ничто не мешало ему придерживаться твердых партийных взглядов. Однажды, будучи членом международного заочного клуба шахматистов, он отказался играть с датским полицейским. Лурье прочитал в «Известиях» о разгоне в Копенгагене рабочей демонстрации и предпочел шахматное поражение поражению в принципах.
Максим Тарасыч не знал биографии Петра Александровича, но ощущал глубокое благородство, исходившее от старика. Он искренне надеялся поднять его на ноги посредством своих знахарских отваров. К тому же ему нравилось заезжать сюда до начала приема и кушать чай с Олимпиадой Ивановной. Собственные его родители тоже любили беседовать за чаем, но они умерли почти одновременно лет десять тому назад на Украине.
Коммуналка между тем начинала пробуждаться. В комнате стариков чувствовалось, как она будто подергивается, отходя от ночного наркоза. Очнувшись, квартира приступала к исполнению утренней части своей ежедневной симфонии. Партии вступали одна за другой: барабаны торопливых пяток, носовые горны, кастрюльные литавры. Все шло в аккомпанемент несогласному с ранья матерному речитативу.
Максим Тарасыч вздохнул:
— Мне пора…
Он достал из рюкзачка пакетики с травами:
— Вот… Три раза в день. Только не забудьте дать настояться. А это для клизмы.
Совершив церемонию прощания, Бурденко вышел от стариков. Пробираясь к выходу захламленным коридором, он столкнулся с бабой в халате.
— Ой! — заулыбалась баба. — Здрасьте, Максим Тарасыч!
— Здрасьте… Как здоровье? Отвар пьете?
— Отвар-то? М-м… А как же!
— Ну, молодца.
На улице было еще темно. Щорс уже ушел на маршрут, оставив по себе пирамидку остывших яблок да яму в снегу, прорытую терпеливым копытом. Железный его сочлен по профсоюзу встрепенулся, завидев хозяина. Пора было и им продолжить путь.
Наша поликлиника, где принимал Максим Тарасыч, возводилась изначально как общежитие для молодых медиков. Власти замахнулись тогда отгрохать чуть ли не лечебный центр, но средств хватило лишь на это здание с балконами, совсем не больничной архитектуры. Сюда упихнули всех, включая лабораторию кала и мочи, которая никакие могла удержать свои ароматы в пробирках. Бурденко делил кабинете «ухогорлоносом» по фамилии Ялда, мужчиной довольно грубым. В этом Ялде, вероятно, скрывался садист, он так глубоко засовывал пациентам в рот шпатели, что они давились и выпучивали глаза, а гайморитчиков всех заставлял носом пить соленую воду. В отличие от него, Максим Тарасыч был с больными ласков, говорил тихо и пристально засматривал им в лица, словно был не невропатолог, а психиатр. Впрочем, и больными-то многих из них назвать было нельзя. Часто другие специалисты, не найдя «патологии» у очередного ипохондрика, посылали его к Бурденко. Втайне они считали его шарлатаном, но народ любил у него лечиться, и очередь к нему не иссякала. Единственным лекарством, которое он признавал, были травы. Их он сам и его шестеро детей собирали все лето, сушили и раскладывали по пакетикам.
В тот день все шло как обычно. Он принял одну бабушку с трясучкой головы и рук, трех прыщавых пареньков (за справками — куда-то поступать), Варвару Кураеву (благодарила яйцами за прошлое лечение), Гусева-шофера (нога «отымается»). Он принимал, а очередь прибывала.
Гусев-шофер, выйдя из кабинета, на лестнице застал курящим своего приятеля, Зайцева.
— Кого я вижу! Здоров, Заяц.
В ответ Заяц мрачно усмехнулся:
— Какой, на хер, здоров — вчерась так прихватило… А ты чего тут делаешь?
— Да вот, к Травкину ходил. Нога у меня.
— Ну и чего он?
— Чего, чего… Травок надавал. Выйду — выкину.
Заяц нахмурился:
— Ты это… слышь, Гусь, только здесь не бросай. Он их потом из урны вытаскивает.
— Ладно. Вообще-то он мужик нормальный.
— Я и говорю… А ты попей травки-то — может, помогут.
— Ну их на хер, сама пройдет. Он еще говорит, курить бросай.
— Правильно, ёбть! А как бросишь при такой жизни…
Сам Максим Тарасыч не курил и не пил, но не из одних только гигиенических соображений. Шестеро ребятишек — тоже весомая причина для воздержания. Он принимал, если случалось, благодарственные приношения и никогда не отказывался перекусить, бывая на вызовах. Замечали многие, что, приходя в дома, Бурденко не разувается, но мало кто догадывался, что виной тому не бескультурье, а дырявые носки. Как-то в бане, попивая принесенный Травкиным целебный отвар, Сергеев спросил его сочувственно:
— Скажи, Тарасыч, как это тебя угораздило столько детей настрогать?
— Да Бог его знает… — Травкин невольно покосился на свои смуглые чресла, несоразмерные худым ляжкам. — Наверное, порода такая. Нас самих двенадцать детей было, только померли уси в голод. Слыхал, голод на Украине був? Ось и я недомэрок…
— Что это ты по-хохляцки заговорил? Слыхал. Но ты, небось, лучше бы жил, если б не эта твоя… порода.
— Лучше? — Тарасыч пальцем вынул из глаза слезинку. — Лучше — это как? Считаешь, я неправильно живу?
Он посмотрел на Сергеева взглядом психиатра. Тот, смутясь, улыбнулся:
— Нет… не то… Извини, я глупость сказал.
Муха
Автобус подобрал Уткина посреди бескрайнего поля. Никаких остановок, разумеется, не было предусмотрено в зеленой пустыне, но водитель сделал то, чего никогда бы не сделал в городе. На чистых пространствах природы действуют другие правила человеческих отношений. Так, огромное судно прерывает свой почти планетарный ход, чтобы выудить из океана неизвестную мокрую личность, и тысячи его пассажиров радуются спасенному, как родному.
Разогнавшийся в поле до неестественной и даже неприличной для себя скорости старый автобус долго судорожно тормозил. Промахнув лишних метров полтораста, он остановился. Захрустели внутри, торопливо подбираясь, шестеренки, и — о, чудо! — с третьей попытки нашлась задняя передача. Они встретились на полдороге — виляющий задом автобус и счастливый, запыхавшийся Уткин с бьющимся о бок этюдником.
— Спасибо!
Он цвел так радостно, что толстая кондукторша тоже ответила снисходительной ухмылкой. Уткин нашел в далеком зеркальце глаза водителя и благодарно закивал. Автобус тронулся, и художник, загремев этюдником, повалился на сиденье. Пассажиры окидывали его и его желтоватый ящик благожелательными взорами. Они выглядели удовлетворенными, будто сами были причастны к свершившемуся акту милосердия. Заплатив за проезд и оставив билет кондукторше, Уткин почувствовал себя причисленным к морскому братству.
Ржавая посудина ретиво ковыляла по зеленым волнам, позлащаемым вечерним солнцем. Там и сям на ворсистом пространстве полей темнели островки кудрявых кущиц, отороченные цветочным прибоем. Эти островки отбегали далеко, но не теряли из виду материнского лесного брега, клубившегося на горизонте, подобно облачному фронту. Весь день Уткин провел в сладостном труде вместе с пчелами. Одежда его была Покрыта цветочной пыльцой, этюдник и душа полны нектара. Блаженная улыбка, неукротимая, как собачья зевота, разводила ему губы, и он, чтобы скрыть ее, отворачивался к окну.
Зеленая равнина впереди не доходила до горизонта. Она встречалась с небом слишком близко — край ее прятал под собой широкую низину, в которой угнездился городок Вот над кромкой поля показался отчетливый полосатый столбик и стал расти; следом высунулся второй, третий… Это были заводские трубы. Выглянула шапка монастырского собора, забелели многоэтажки… И вдруг — словно баба уронила кошелку — высыпалась перед глазами вся городская мелочь. Автобус, рискуя потерять колеса, покатился под горку — казалось, он хотел покуражиться напоследок, перед тем как, въехав в улицы, снова стать старым усталым рыдваном-скотовозом.
Уткин вышел на своей остановке. Машина, булькая выхлопом и повиливая восьмерящими скатами, двинулась к недалекому уже концу своего пути. А художник, поправив на плече этюдник, пошел по улице вдоль заборов, перемежаемых калитками и воротами гаражей. Некоторые из гаражей были открыты: внутри или выкатив свои авто наружу, что-то ладили мужики-хозяева. Уткин здоровался, они здоровались в ответ, и легкая усмешка набегала на их лица при виде этюдника. Один гараж в конце улицы был недостроен; владелец его, Вовка Платонов, торчал из недорытой ямы погреба и спал, уронив бюст на бруствер. Рядом с Платоновым лежала пустая водочная бутылка и стояла вторая, початая, но Уткин поздоровался и с ним — на всякий случай.
Дорожка шла вниз, к речке Воле, соткавшей уже себе на ночь одеяло. На месте старого моста, словно гнилые зубы, торчали сваи и вязли в туманных испарениях. Скрежетали лягушки, чпокал соловей в раките. Здесь пахло сыростью, тиной, будто природа-бабушка, зевнув, несвеже выдохнула перед сном. Мимо, давясь хрипом, какая-то псина протащила в туман своего хозяина Одинокая, пробрела домой отягченная корова. Невдалеке по железнодорожному мосту прогрохотал поезд и стих, как не было. Но, постепенно нарастая, к привычным звукам добавился новый, доносившийся сверху. Уткин поднял голову. Высоко-высоко, блистая в закатных лучах, по небу чертил самолет. «Интересно» — подумал Уткин, — «видно ли оттуда наш городок?» И сам себе ответил: «Должно быть, видно — ведь я-то самолет вижу». Самолетик прополз, словно муха по стеклу, и исчез, оставив в темнеющем небе дымную полоску — просто белый пшик.
Ничто не испортило Уткину этого чудесного дня. Жена его, Галя, женщина молочных форм, большеглазая, как телушка, встретила его не совсем дежурным поцелуем и на мгновение прильнула к нему мягкими грудями и животом. Она не разучилась скучать без мужа, если он уходил на целый день. Ужин (урожденный обед) бормотал на плите: Галя поставила его греться, издалека завидев в окошко желтое пятнышко этюдника.
— Устал?
— Не очень…
Уткин, разуваясь, успел приласкать ее гладкую икру.
— А я тут твои работы перебирала… к завтрашнему.
Он на секунду замер. Да, он забыл — завтра вернисаж.
Генка Суслов, директор кинотеатра «Юбилейный», давно предлагал Уткину выставиться у него в фойе. «Давай, — говорил он, — развесим твои работы. Пускай народ к искусству приобщается». Сам он искусство уважал, да и другу хотелось сделать приятное. Но Уткин сомневался: «Куда же ты денешь своих ван дамов? Тебе по шапке дадут». — «Не дадут, — возражал Суслов. — Я план делаю, а на остальное начальству начхать». В конце концов Уткин решился, хотя и не без некоторых колебаний. Разумеется, его смущало не суеловское начальство, а опасение остаться непонятым горожанами. «Как-то еще они воспримут мою манеру? — думал он. — Поймут ли? С другой стороны, — убеждал он себя, — для кого же я работаю, если не для людей?» Уткину очень хотелось чувствовать себя работником, приносящим пользу: Он путался в своих рассуждениях, тем более что рассуждать был в общем-то не силен. Единственным способом разрешить так или иначе эти вопросы было действительно выставиться.
Все утро Уткины развешивали работы под наблюдением билетерши Фаины Ивановны. Сложив руки на животе и оттопырив нижнюю губу, тетя Фая с видом понимающего человека давала оценки и советы. Почтенная женщина стояла за порядок и хотела, чтобы пейзажи висели отдельно, «люди» — отдельно, «не пойми что» — отдельно. Против обнаженной натуры она категорически возражала:
— А Галку голую ты убери, убери… нечего. Не срами жену. Да и дети к нам ходят.
Галя, краснея, откладывала себя в сторону. Пойдя на такой компромисс с «цензурой», в остальном Уткин повиновался уже только своему художественному чутью. К полудню все было готово, и Гага ушла домой к хозяйству. Для прокорма семьи она выращивала на продажу цветы, и к тому же в тот день они ждали гостей по случаю вернисажа. С неопределенным чувством тщеславия, смешанного со страхом, художник окинул взглядом свою выставку и отправился в кабинет к Суслову пить пиво.
Пузатенький Генка подмахнул какую-то ведомость и расчистил стол.
— Завидую я тебе, — сказал он.
— Почему?
— Ну… ты человек творческий. А тут сиди, блин, администрируй. Народ у нас дикий: что ни двухсерийный — толчки так усерут! А за нашу зарплату убираться некому — хоть иди и сам чисти.
— Да ладно тебе…
— Я без шуток. Ты-то, поди, живешь со своей Галей в этих… эмпиреях. Птички тебе поют.
— Поют, — усмехнулся Уткин. — Про финансы.
— Что, плохо картины продаются?
— Да так… Отвожу в Москву понемножку.
— Ничего, лишь бы на пиво хватало… Кстати, может, покрепче накатим — за успех?
— Нет, Ген, давай до вечера подождем.
— Ну смотри.
Они еще поболтали, и Суслов уехал за «Зловещими мертвецами». Уткин перебрался в буфет. Буфетчица Нинка, протирая тряпкой прилавок, сперва только бросала взгляды, но потом не смолчала:
— Ты что это, Уткин, вроде не пьяница, а с утра пиво дуешь?
— Да так… — не нашелся он.
— Твои, что ли, картинки там в фойе повесили?
— Мои.
— Надо поглядеть.
— Погляди.
— Некогда. Сейчас народ подвалит.
Но народу на дневной сеанс «подвалило» немного: в основном дети в сопровождении бабушек. Дети врывались с воплями и сразу начинали носиться по фойе, не обращая внимания на картины. Лишь одна девочка остановилась перед какой-то акварелью и долго бессмысленно таращилась, медленно выдувая изо рта белый пузырь жвачки. Вдруг пузырь лопнул, обрызгав ей нос, и девочка убежала, смешавшись с остальными. Бабушки беседовали с Фаиной Ивановной. Между прочим она обращала их внимание на выставку, но бабки издалека окидывали картины равнодушными взглядами и возвращались к разговору о насущном, не забывая пасти своих сопливых потомков.
Уткин ушел домой обедать.
— Ну как? — спросила Галя.
— Да так… — он пожал плечами. — Никак пока. Схожу еще на вечерний сеанс.
После обеда, не будучи в настроении работать, он прилег поспать. Спал Уткин некрепко: его беспокоила залетевшая в комнату неотвязная муха. Гадина кружилась над ним, щекотала в разных местах и, невидимая, росла, заполняя собой все пространство сна. Муха не подпускала к нему привычные приятные образы и фантазии, и они, званые гости послеполуденной дремы, так и топтались сиротливо на пороге сознания. В результате проснулся Уткин в каком-то смутном состоянии духа. При мысли о вернисаже сердце екнуло, но не радостно, а тревожно. Он вспомнил жвачную девочку в кинотеатре, и досада поднялась в нем изжогой. «Зряшная затея! Им „Зловещих мертвецов“ смотреть, а не живопись. А все Суслов — его идея… Тоже еще, покровитель искусств!»
Он вышел на кухню. Галя, взглянув быстро и пытливо, сразу почувствовала его настроение:
— Не выспался?
— Мык… — мотнул он головой.
— Выпей кофе, тебе идти скоро.
— Я тее пойду.
— Ну здрасте! — она укоризненно посмотрела большими глазами. — Для чего же мы огород городили?
— Не знаю… — ответил он.
Галя молча задвигалась по кухне, унимая недовольство. Трудно жить с художником! Но постепенно лицо ее прояснилось.
— Хорошо, — сказала она, — не хочешь — не ходи. Тогда будешь мне помогать: гости-то все равно придут.
Прихлебывая кофе, Уткин стал вспоминать, кого они приглашали на вернисаж: Бок, Сергеев, отец Михаил… Кочуев сам разнюхает…
— Интересно, батюшка придет? — пробормотал он вслух.
— Обещал, — откликнулась Галя.
— Ладно, — проворчал Уткин. — Хоть есть повод увидеться.
Друзья заявились гурьбой и довольно поздно, когда уже смеркалось. Ясно было, что они успели посмотреть и «Мертвецов». Суслов с порога стал громко пенять:
— Зараза, Уткин, что же ты на свое открытие не пришел? Я хотел народу речь про тебя сказать…
Уткин насупился:
— Да так..
— Что «да так»? Посмотри, какие люди пришли на твое художество посмотреть — вон Подметкин… Знаешь его?
— А как же, — Уткин поздоровался за руку с собратом по искусству.
Приятели в очередь целовали Галю, даря ей — всяк в меру своей изобретательности — комплименты.
Ужин на столе уже заждался. Разлив водку и зацепив вилками первые закуски, гости вопросительно переглянулись:
— Давай, Сергеев, как близкий друг.
Сергеев встал и откашлялся. Наступила тишина.
— Дорогой э-э… Прямо хочется назвать тебя именинником… Позволь тебя поздравить. В общем, выпьем, братцы, за Уткина, настоящего художника! Стоп, стоп, я еще не кончил… Все мы тут мало смыслим в живописи, но лично мне твои работы безусловно греют душу… Суслов, ты потом скажешь… Давай, Уткин, за тебя, единственного среди нас художника!
— А Подметкин? — напомнил кто-то.
— Что Подметкин?
— Он тоже художник.
— Ах да… Прости, Подметкин. Правда, я твоих выставок не видел…
Подметкин не ответил, но почему-то выпил свою рюмку, не дождавшись общего чоканья.
Было еще несколько задушевных тостов, а потом разговор съехал на другие темы. Потом достали гитару и начались песнопения. И только Подметкин меланхолически молчал, крутя в руках то стакан, то вилку.
— Пойдем, покурим, — предложил ему Уткин.
Они вышли на крыльцо. Волглая прохлада приятно освежала после застольного угара. Ночь вспрыснула землю росой, будто собираясь прогладить ее сухие морщины. Городские окошки перемигивались со звездами. Было тихо, лишь кузнечики неутомимо чесались, забираясь, казалось, в самое ухо.
Художники уселись на отсыревшую ступеньку. Уткину хотелось поговорить о своем творчестве, но Подметкин только курил и глядел в темноту. Разговор не завязывался, и Уткин решил зайти с другой стороны.
— Ну, а как у тебя? — спросил он.
— Что? — Подметкин вздрогнул. — А… Да все «матрики» крашу.
— Матрешки?
— Их самых.
Уткин хмыкнул:
— Ну и как?
— Нормально. Идут «матрики» — иностранцы берут. Вот Муху на «десятку» перепер.
Уткин не понял:
— Какую Муху? Цокотуху, что ли?
— Не какую, а какого… Художник такой австрийский. Известный, между прочим, стыдно не знать. Альфред или Альфонс… сейчас не помню.
— Ну и что он, этот Муха?
— Модерн. Сегодня в почете.
— Модерн…
— Что, и модерн не знаешь?
— Модерн я знаю.
— Темный ты, Уткин, — Подметкин вздохнул.
Уткин не обиделся:
— Ну и что?
— А то… Темный, потому и смелый. Выставки устраиваешь… Что ты можешь нового сказать?
Он замолчал, и повисла пауза. Уткин думал. Наконец он нарушил молчание:
— Выходит, если бы я не был темным, то не устраивал бы выставки?
— Ты меня понял, — усмехнулся Подметкин.
— А может, и вообще рисовать бы расхотел?
— Скорее всего.
— Но тогда скажи, зачем оно нужно, твое просвещение?
— А кому нужно твое рисованье? — желчно возразил Подметкин. — Просвещение нужно хотя бы, чтобы не выглядеть дураком.
Неожиданно тьма перед ними еще сгустилась, и посреди черного пятка блеснуло серебро. То был наперсный крест отца Михаила.
— Здорово, дети мои! — весело приветствовал их священник.
— Здорово, батюшка, — хмуро ответил Уткин. — А еще позже ты не мог припереться?
— Ты уж прости, — Михаил поздоровался с ними за руки. — Служба, знаешь… Видишь, я в облачении.
Появление отца Михаила вызвало в доме оживление и новое налитие рюмок. Он, не садясь, перекрестил свою «штрафную» и хотел было сразу направить ее по назначению. Но хмельной Суслов остановил его довольно развязно:
— Э, нет, батюшка, ты не в пивную пришел! Ты сначала скажи по поводу: что ты думаешь про нашего Уткина и так далее.
— Да, пожалуй… — отец Михаил посмотрел на Уткина, подвигал бородой и задумался.
— Давай, Миша, не тяни, — торопили его.
— Что же сказать?.. — он еще думал. — Вот что я скажу: всяк по-своему Господа славит.
Он лихо выпил и, не закусывая, повернулся к Уткину:
— Дай-ка я тебя просто обниму.
В добрый путь
Железная дорога — наша гибкая, но упрямая железка — ежедневно с великими мученьями выбирается из Москвы. Царапая брюхо на стрелках, обдирая бока о бесчисленные столбы и светофоры, оставляя клочья зеленой шкуры на шершавых стенах бетонного лабиринта, она выдавливается из столицы пульсирующими толчками. Она стегает себя электрическими разрядами и кричит раненым зайцем, она проползает мимо ближних перронов, не открывая дверей цеплючим ордам московских пассажиров. Только бы вырваться! Но постепенно слабеет хватка спрута: истончаются, редеют и рвутся щупалы и путы трубопроводов, проводов, переходов и переездов; уже легче выбор пути в сплетении рельсов. И вот торжествующе гласит победное индейское улюлюканье! — Еще хвост ее метет московские плевки и гондоны, а уже ноздри почуяли запах йода и трав, и первые еловые лапы протянулись, чтобы сбить с нее на ходу пыль мегаполиса, ту болезнетворную пыль, какую найдешь еще разве в кисете задохнувшегося пылесоса. И нет больше распутья, нет сомнений, только два сверкающих рельса, скорость и ветер — смотри, не захлебнись! Впереди Россия — есть где разогнаться, хватило бы духу.
Но, набирая ход, устремляясь в космически-бескрайние бездны страны, железка дает почему-то маленький изгиб, будто высунула язык, чтобы лизнуть кого-то мимоездом. Кому же предназначена ее дразнящая ласка? Кто это свернулся клубочком в долине и снисходительно жмурится на вагонный промельк? Нет, не взвихрит его веселый полет железной подружки, не унесет в заветные дали. Но он рад, ей-богу, рад этим кратким бесшабашным свиданиям и всегда поощрительно светит навстречу зеленым глазом — в добрый путь!
Мимолетное лобзание перрона, короткий нецеремонный свисток — и дорога, описав дугу, словно лента убегающей кокетки, скрывается в повороте Городок, вздохнув, переставляет стрелки, перемигивает светофором и принимается перебирать гостинцы, что вперемешку горстью высыпала она на привокзальную площадь. Часть из них, впрочем, — его же собственность, занятая железкой накануне: ночные рабочие, подрядившиеся задешево рыть метро, компания молодежи, «оттянувшаяся» в столице на всю катушку, зевающая блядь с поврежденным макияжем. От себя Москва прислала бледноногих дачников в шортах и дачниц с унылыми грудями, висящими в майках. Да еще пара чиновников с одним «дипломатом» на двоих озирается в поисках пива — какая-нибудь облинспекция «по наводке». Словом, обычное ассорти…
Но сегодня дорога подбросила городку нечто необычное. Немногочисленная публика, прибывшая утренним поездом, уверенно впиталась в городские поры, отчасти забрана была скучавшим автобусом, и снова станционные окрестности почти обезлюдели. Но на платформе нерастворимым остатком, комочком чужого мира продолжало гомонить семейство инородцев. Несколько ребятишек, похожих на цыганят, и женщина с аутически-безразличным лицом, едва выглядывавшим из платков, сгрудились около своих пожитков и не двигались с места. Кожа их была смугла, но не от загара, а словно бы изнутри, будто и там, под кожей, тело у них было темнее, чем у русского человека. И все же цыганами они не были. Они явно не знали, что им делать: их только что высадили за безбилетный проезд. Ушлые цыгане дождались бы следующей электрички и ехали дальше по кочевым делам, а эти выглядели растерянными. И хотя наше негреющее солнце и эти асфальтовые перроны не были им внове, вид их говорил: они неопытные путешественники. Спустя некоторое время — в результате ли долгих понуканий со стороны детей или собственных трудных размышлений — женщина подала гортанную команду, подхватила самый тяжелый узел и, не оглядываясь, пошла в сторону вокзального здания. Похватав остальные котомки, гомонящая мелочь поспешила за мамашей.
Наш вокзал — старичок: он строился вместе с дорогой. Как строятся железные дороги, известно: примерно так же, как пишутся литературные произведения. Рельсы, как строчки, укладываются долго и трудно, чтобы потом кто-то духом промчался, почти не чуя их под собой. Вокзалы для железной дороги — что заголовки — обозначают место, где надо книжку либо захлопнуть, либо раскрыть. В те времена, когда строились наш вокзал и железка, литераторы были многоречивы, заголовки любили пышные — все потому, что читатель тогдашний никуда не спешил. К поезду тоже приходили задолго — чаще, чтобы встретить кого-то, чем чтобы ехать самим. На вокзале играла музыка, работал буфет, дамы демонстрировали свои шляпки… Впрочем, вся эта старинная привокзальная жизнь давно описана. Теперь и читают, и ездят по-другому: навес, билетная касса, глава номер такой-то, платформа такой-то километр. Тем мил её сердцу этот наш типовой анахронизм псевдоготического стиля и сестрица его, водонапорная башня, заправлявшая когда-то личный паровоз Саввы Мамонтова.
Вокзальное чрево было сумрачно и пусто; пахло дерматином и мокрыми полами. От дальней стены двигалась со шваброй старуха, давно взявшая на прицел бурую собаку, лежавшую под лавкой. Расстояние между ними еще не позволяло атаковать, но старуха разогревала свой боевой дух ворчанием:
— Ишь, блохастая, приперлась тута псиной вонять! Чего приперлась, не зима, чать? Щас я тебе!
Собака, решив, видимо, тянуть до последнего, молча за ней наблюдала, нервно шевеля бровями. За нее заступался пожилой бомж, составлявший вместе с бабкой все людское население зала.
— Сволочь ты старая, — укорял он. Чего тебе собака сделала, пускай лежит.
— И тебя гнать! — возражала непреклонная бабка. — Заразу тока тощут! Вонищу развели…
Бомж был задет:
— Молчала бы! У самой у тебя с-под подола селедкой смердит.
Обстановка накалялась, и чем бы кончилось дело, сказать трудно. Но тут отворилась вокзальная дверь, и в зал ожидания, оглашая его чудными звуками иноплеменной речи, маленькой отарой вошло вышеописанное смуглокожее семейство.
В это самое время по улице Станционной, по направлению к вокзальной площади, шествовал известный в городке писатель Подгузов. Сегодняшним погожим утром он испытывал естественный подъем душевных сил. Он с удовольствием выпил чаю, собрал в портфель нужные бумаги и тщательно оделся: на правую ногу он натянул красноватый носок, а на левую — синий с узором. Подгузов никогда не выходил из дому без галстука, пиджака и, главное, без портфеля. Портфель был хорош: «под крокодила», с двумя бронзовыми замками; таких давно уже не делали. Когда-то он с этим портфелем приходил в телеателье или жилконтору и говорил просто, без нажима: «Здравствуйте, я Подгузов, член Союза писателей». И телевизор его чинился чудесным образом, и новый унитаз почтительно принимал писательские отправления. Однако некоторое время назад портфель утратил свою волшебную силу. В государстве что-то развинтилось, и общество сошло с рельсов. Потревожь природу — и перестанут источать родники, потревожь общество — и узнаешь всю хрупкость житейской гармонии.
Подгузов осознал эту хрупкость слишком поздно. Ужасный случай открыл ему глаза… Однажды он стоял в очереди в магазине; стоял, обтекаемый юркими старушками, вскидывал брови на неимоверные ценники и с достоинством кивал на приветствия сограждан. Раньше, в портфельные времена, он получал продукты через служебный вход, из рук завмага Антонины Егоровны, но внезапное и неестественное изобилие прилавков вернуло его в народную гущу. Приближалась заветная столешница, где орудовали ловкие руки продавщицы Валентины. Там шлепались хладнокровные немигающие селедки, вертелась под ножом дорогая колбаска, и длинные поезда сосисок прибывали на платформу весов. Подгузов уже нащупывал в кармане портмоне, как вдруг магазинная дверь громко хлопнула и отскочила, вибрируя. В залу мирного торжища ввалились трое коротко стриженных мордатых молодцов. Вероятно, так же входила в буржуйские лавки революционная матросская братва, описанная с восторгом у раннего Подгузова. Но писателю было не до параллелей: его грубо оттолкнули, а когда он попробовал сопротивляться, выругали непонятными словами:
— Ты че, в натуре, тормоз?
Подгузов огляделся, ища поддержки, но народ безмолвствовал. Стриженые покупали водку и что-то еще; продавщица мгновенно подавала. Когда они набрали, что хотели, один мордатый, швырнув небрежно деньги, спросил, ткнув в писателя пальцем:
— Валь, что это за чудовище с портфелем, ты не знаешь? — и презрительно засмеялся.
Валька, знавшая Подгузова много лет, только холуйски подхихикнула. Писатель от обиды потерял самообладание.
— Что это за хамство?! — завизжал он. — Как ты смеешь, мерзавец?!
Стриженый перестал улыбаться.
— Что ты сказал? — он посмотрел селедочными глазами.
От этого взгляда Подгузову стало страшно.
— Ничего… — пробормотал он. — Вести себя надо…
Руки у бандюка были заняты покупками, и это спасло писателя от худшего. Стриженый только сплюнул ему под ноги и прорычал:
— Пошел на хуй, козел!
Он пошел с другими к выходу и уже в дверях, обернувшись, добавил:
— Радуйся, чмо, что я сегодня добрый.
По уходе братков магазин снова ожил. Валентина, отводя глаза, спросила Подгузова:
— Что будете брать?
Он не ответил. Как лунатик, писатель отчалил от прилавка и вышел из магазина. Не помня себя, доплелся он до дома, лег на диван и пролежал на нем неведомо сколько времени. Нет, он не помер, подобно известному чеховскому персонажу, и не наложил на себя руки. Подгузов всего лишь тихо двинулся умом. Так тихо и незаметно, бывало, трогался литерный спецсостав («писатели едут на БАМ»): глядишь, перрон поплыл. Но это не перрон, а ты «поплыл», вот только куда?
Как-то Сергеев навестил его в поисках нужной книжки. Подгузов оброс, сидел дома в халате и старых гамашах. На вопрос о самочувствии он махнул рукой и отвернулся, чтобы скрыть накатившую слезу. «Что с вами случилось?» — настаивал Сергеев в праве давнего знакомого.
— Случилось? Случилось вот что…
И писатель поведал свое приключение.
Сергеев дослушал без улыбки. Потом уточнил:
— Стало быть, вас послали на три буквы?
— Вот именно, — горько подтвердил Подгузов. — Меня, члена Союза писателей, представляешь!
— М-да… — посочувствовал Сергеев. — А раньше вас никогда не посылали?
— Да ты что! Никогда! — возмутился Подгузов. Но, подумав, вспомнил: — Нет, было раз, в обкоме… Но то ж в обкоме!
Он обхватил голову руками:
— Что делать, Сергеев?.. Все эти годы я жил в башне из слоновой кости…
Сергеев усмехнулся:
— В нашем доме вы жили.
— Я образно… Но скажи мне, как теперь-то жить?
Подгузов начал раскачиваться.
— А что… Возьмите и напишите об этом.
Подгузов сардонически скривился:
— Куда писать? Ты что, с луны свалился? Некуда теперь писать…
— Я не в том смысле… Вы же литератор, вот и опишите свой случай.
Но Подгузов не стал описывать свой случай. Он вообще с тех пор не написал ни строчки. Правда, однажды он было сел за стол и попытался работать, но у него ничего не получилось. Мысли никак не хотели ложиться на бумагу: ручка давала пропуски, словно скользила по кафелю, фразы свертывались в дрожащие капли и скатывались с листа. Снова и снова он пробовал прилепить их к упрямой бумаге, но безуспешно. И Подгузов отступился. Какое-то время он недвижимо сидел, вглядываясь в чистый лист, как в белую пропасть. Потом, будто по наитию, протянул руку, сложил лист пополам, перегнул, завернул уголки и… сделал «галочку». Он пустил «галочку» по комнате, и та, описав изящный полукруг, вернулась к нему на стол. Внезапно Подгузов испытал прилив восторга; наслаждение, близкое к оргазму, охватило его и сменилось чувством благодатной разрешенности.
Эффект, произведенный полетом «галочки», потряс писателя. Его духовному взору открылось нечто настолько важное, что было бы преступлением удерживать это в себе. Подгузов вышел из затвора и явился обществу. Одеваться он стал весьма торжественно, и хотя парадный костюм его от частого употребления быстро испортился, Подгузов этого уже не замечал. Взгляд его сделался мудрым и проницательным, речь — пророческой. Портфель, конечно, всегда был при нем. Днями напролет писатель ходил по улицам, пуская «галочек». Не для себя — для людей, а они шарахались от него и крутили пальцами у виска. Только ветер либо дождь могли прервать его миссию. Правда, гордость Подгузова порой роптала: «Уймись, не мечи бисер перед свиньями!», — но куда ей было тягаться с до предела обострившейся писательской совестью.
Вот в каком состоянии ума шел он по Станционной улице в то солнечное утро. Был будень, многолюдья не наблюдалось. Только голуби (настоящие, а не бумажные) бросались к редким прохожим в надежде на подачку. К десяти часам не было выпущено ни одной «галочки». Взгляд Подгузова, к его огорчению, не фиксировал несчастных, нуждавшихся в утешении, ведь «галочки» предназначались им. Не было в городке несчастных — в то утро они как сквозь землю провалились. Но Подгузов был достаточно опытен и знал, где их искать…
Странная перемена случилась с российскими вокзалами. Давным-давно вместо дам, щеголявших шляпками, населили их люди с остановившимися глазами. И непонятно, почему такая безысходность во взгляде у людей именно едущих…
Войдя под гулкие своды, Подгузов не был разочарован. Целое семейство беженцев, бомж и больная собака — сразу десяток страждущих, неустроенных душ. Темноликие беженята разом повернулись к нему и умолкли, старуха перестала шмыгать шваброй, бомж поздоровался. Собака подняла голову, принюхалась и вновь положила голову на лапы, переведя глаза в зенитное положение. Подгузов сел рядом с женщиной, укутанной в платки; она испуганно покосилась на его портфель и отодвинулась.
— Не бойсь! Он тобе не обидить, — ободрила ее старуха.
Он приласкал чумазого ребятенка, немного помолчал и спросил:
— Откуда едете?
Женщина вздрогнула, посоображала, бормотнула что-то в платки и махнула рукой в сторону, как ей думалось, юга.
— Беженцы?
Она опять посоображала:
— Бежаль, бежаль…
— А муж твой где, бабонька?
Пауза.
— Убиваль.
Глаза ее, заледенев, перестали моргать. Подгузов больше не спрашивал; лицо его сделалось морщинистым. — Погоди… — сказал он и открыл портфель. — Погоди… — бормотал он, ловкими точными движениями складывая «галочку». — Все будет хорошо, вот увидишь.
Он пустил свою «галочку», за ней другую, и беженята с криками бросились их ловить.
Бомж добродушно посмеивался, бабка-уборщица качала головой, опершись на швабру. Собака вздохнула и отвалилась на бок — она поняла, что теперь ее не турнут.
Винил
Сергеев проснулся и взглянул на стенку — ходики стояли. Чем старше они становились, тем с большей жадностью глотали время — так, что Сергеев не успевал поправлять гири. А что значит проснуться под стоячими часами — может быть, это вообще не значит проснуться? Были, конечно, в доме и другие часы: в спальне на тумбочке и на кухне, — но они мерцали каким-то своим временем, не имевшем к Сергееву прямого отношения. На руке же он и вовсе носил «Сейку», самозаводного паразита, пившего из него время, как кровь… Часовой вопрос занимал его довольно долго именно потому, что на сегодня в нем важности не было: день-то предстоял воскресный.
Он уже собрался было встать и, возможно, даже завести старые ходики, как вдруг зазвонил телефон. Вообще-то эта коробочка (тоже, кстати, электронная) сама уполномочена отвечать и выслушивать неурочные «мессиджи». Но жена не выдержала, потянулась за трубкой: сработал, наверное, материнский инстинкт — успокоить, кто бы ни запищал.
— Алё?.. Да… Что?.. Когда?.. — она терла лоб свободной рукой, прогоняя остатки сна. — Буду. Еду. Я же сказала: еду!
Разговор закончился, но жена не легла обратно, а потянулась за халатом.
— Кто это? — спросил Сергеев. — Куда ты едешь?
— Соседка тети-Машина… Упала — инсульт, что ли…
— Тетя Маша?
— Ну не соседка же.
Тетя Маша была дальняя родственница жены, жившая в Москве.
Сергеев вздохнул:
— Грустная история… А мне так хотелось отдохнуть сегодня.
— Ну и оставайся, все равно тебе там делать нечего.
По-хорошему, ему все-таки надо было поехать с женой — хотя бы из семейной солидарности, но это было его всегдашнее свойство — долго запрягать. Жена успела позавтракать, проститься с ним и проехать полдороги до Москвы, пока этот вихрь, унесший ее, не добрался до Сергеева, не зашевелил и в нем смутное желание действовать. Сидеть одному дома не хотелось, ехать вдогонку за женой было глупо, и он решил, коли так случилось, исполнить свое давнишнее намерение — обойти кое-кого из приятелей в поисках старых виниловых пластинок. Вряд ли, полагал он, кто-нибудь из них еще слушает музыку своей молодости; сам же Сергеев почему-то все чаще обращался мыслями в те, уже ставшие далекими годы.
Удивляясь собственной решимости, он стал одеваться и через четверть часа уже шагал по улице в бодром ритме свежезаведенных ходиков. Многое переменилось в городке с милых сердцу виниловых пор, но все так же пока хорош он солнечным зимним днем. Нигде в природе не мокро, не потно; все так же бодро пованивает «свежаком» от прохожих мужичков. Все бело, чисто: прикрылись снегом помойки; собачий и иной кал не смердит: он затвердел на морозе, превращаясь под действием света в безобидный порошок. Вот только не стало уже почти слышно печного дыма, а жаль… Нет, все же много перемен, если приглядеться… Раньше, бывало, встанет корова посреди улицы, задерет хвост — и ничего: успеет спокойно сделать, что хотела. А теперь улицу запросто не перейдешь — машины несутся: одни похожи на обсосанные леденцы, другие — на крыс с ноздрями. Сергеев примечал и новые вывески, и новые ржаво-кирпичные особняки, и новую, особую выходку некоторых скоробогатых горожан.
Да, надо признаться, время работает и в нашем городке. Государственного значения большак, извилисто разрезающий его, делит городок примерно пополам. Жители называв ют эти половины «старой» и «новой». «Новая», известное дело, — дитя советской власти, которая, канув в Лету, бросила на произвол судьбы все свои порождения. Власть понастроила гражданам силикатных жилгробов, увековечила себя в горделивых названиях улиц и… тихо издохла где-то в подвалах пятиэтажек (зловоние и теперь стоит в их подъездах). Зато «старый» городок, рассыпавшийся в сени монастырского собора, севшего давным-давно шапкой на холме, он теперь задышал, ожил, подобно древесной колоде, давшей вдруг молодые побеги. Зазвенели колокола, засновали деловито «овцы Божьи», да и миряне оживились: строят близ святого места приличные коттеджи.
Словом, понятия эти — «старое» и «новое» — перепутались у нас изрядно. Новым когда-то был строительный вагончик, стоявший на обочине упомянутого большака, а теперь он облез и врос в землю. Именно этот потерявший цвет анахронизм значился первым пунктом сергеевской экспедиции. Собственных колес у вагончика не имелось, зато кругом — где стопками, где просто так — лежали «лысые» и драные старые покрышки. Изнутри его по временам сотрясали стук компрессора и футбольные прыжки шин; шины эти принимала у граждан и выкатывала готовыми рука, шершавая не менее, чем они сами. Принадлежала рука Кольке Безукладову, школьному еще сергеевскому сотоварищу.
— Кого я вижу! — обрадовался Безукладов. — Заходи, дружище! Я как раз о тебе вспоминал.
— Ну уж, не ври, — усмехнулся Сергеев и полез внутрь.
Густой воздух Колькиной берлоги креплен был вонью горелой резины и тем сложным запахом рабочей теплушки, которым вагончик пропитался еще в прежней жизни. В недрах его, куда пробрался Сергеев, обнаружилась пышнотелая тетка в расстегнутой кофте. Она расположилась на старом автобусном сиденье, служившем Безукладову диваном.
— Здрасьте, — вежливо поприветствовал ее Сергеев.
Толстуха рассеянно кивнула. Трудно было понять, довольна она или нет его появлением. На столике перед ней стояли бутылка водки и два стакана с отпечатками пальцев. Вспомнив о приличиях, женщина хоть с опозданием, но застегнулась.
Неожиданно она оглушительно заорала:
— Колюня!! Ну сколько тебя ждать?!
— Иду, мои хорошие! — донесся ответный крик. — Уно моменто — обслужу клиента!
Жизнерадостный хозяин ввалился в тесную «кандейку» и сразу протянул подруге свою ужасную руку. Она заученно «сервировала» ему тыльную сторону ладони маленьким куском хлеба и ломтиком «краковской» (брать еду пальцами Безукладов не решался). Они с теткой выпили.
— Хочешь? — спросил Колька и кивнул на бутылку.
Сергеев отрицательно помотал головой.
— Ну и лапы у тебя, — заметил он.
Безукладов посмотрел на свои руки.
— Он мне ими затяжки на колготках делает, — сообщила застенчиво толстуха и нежно улыбнулась Кольке. Потом она, посерьезнев, неохотно, но решительно засобиралась:
— Пойду… Мне еще на рынок надо — буду мужу борщ готовить.
— Ступай, моя радость, — отозвался Безукладов. — Не забывай Колю.
Тетка ушла.
— Люблю толстых, сообщил Колька.
Сергеев усмехнулся:
— Все знают, что ты их любишь.
Любовь к толстушкам стоила Безукладову инженерской карьеры. Как ни хороша была Марго из профкома, все-таки не следовало драться из-за нее в заводоуправлении. Зато, расплевавшись с начальством и уйдя с завода, он стал едва ли не первым «индивидуалом» в городке. Бесколесый вагончик его возглавил когда-то движение к новой жизни; эти фанерные стены отразили немало напастей. Но… «пелетон» давно уже его обогнал, а сам он потихоньку сошел с дистанции и завяз на обочине. Сергеев знал, что «дело» приятеля доживает последние дни: Безукладова закрывало само время. Не то время, от которого стареют мужчины и разваливаются вагончики, а то, которое понаставило на всех въездах и выездах мастерских со станками на электронике, с умытыми молодцами в ладных комбинезонах, «Иди работать к хозяину, — советовали Кольке товарищи, — вон ты как ловко с колесами управляешься». — «Ну, нет уж, — возражал он, — под кого-то я теперь не пойду. И бабу туда не приведешь, а я без них завяну». — «Ну и дурак, — отвечали приятели. — Ты и туе завянешь, с бабами, — опомнишься, да поздно будет».
Сергеев осторожно повернулся в тесной «кандейке».
— Коль, я к тебе по делу…
— Ясно, лошадь, — ответил Безукладов, — без дела теперь никто не ходит.
— Нет, правда… Я помню, ты раньше музыку любил. Может быть, у тебя остались пластинки — вряд ли ты их сейчас слушаешь.
Колька вскинул брови:
— А тебе на кой?
— Ну… Собираю.
— Ностальгия прошибла? Ладно, не мое дело…
Безукладов задумался. Потом лицо его прояснилось.
— Придумал — будут тебе пластинки. Погоди только — сейчас переоденусь и запру свой гадюшник.
Сергеев с удовольствием выбрался на свежий воздух, а спустя короткое время из вагончика показался и Колька, переодевшийся и слегка отмытый. Запрокинув голову, он сделал пятилитровый вдох.
— Хорошо…
— Ну, чего ты там придумал? — спросил Сергеев.
Безукладов почесал голову под шапкой.
— Надо бутылку взять…
— Бутылку — это понятно, а придумал-то ты что?
— Возьмем бутылку и пойдем к Боку.
— К немцу?
— Ага.
Сергеев засомневался:
— Слушай… неудобно как-то без звонка. Он, говорят, теперь большой бизнесмен стал.
— Неудобно идти в гости без бутылки, — возразил наставительно Колька, — а мы возьмем. И Томке вина возьмем… Увидишь, тот же Бок, только вид сбоку, — и он засмеялся своей шутке.
Однако увидеть Бока оказалось непросто. Железная дверь долго лязгала и лишь затем отворилась, отодвинув собой приятелей. За этой дверью была другая, открывавшаяся внутрь квартиры. Наконец показались две физиономии, первая из которых была не Бока, а его пса по имени Карл. Сам Генрих Иваныч, придерживая Карла за шиворот, смотрел несколько оторопело и великой радости не выражал. Карл, шевеля бровями, поглядывал то на пришельцев, то на хозяина.
— Ишь, в сейфе живет, как доллар, — проворчал Безукладов. — Ну что, так и будем стоять или в дом пригласишь?
— А, да-да, заходите, — встрепенулся Бок. — Я думал… Просто ко мне рабочие должны были прийти.
— Гена, кто пришел? — раздался женский голос.
— К нам… ребята, — ответил он, оттаскивая задумавшегося Карла.
Вышла жена Генриха Иваныча, Тома. Она казалась крупнее мужа и цвела развитыми формами. Безукладов не замедлил выразить восхищение, на что Бок насмешливо фыркнул. Он бросил приятелям тапки.
— Ладно, давайте на кухню, что ли… Тома, есть там у тебя?..
— Не надо, мы с собой принесли, — поторопился сообщить Безукладов.
Тома оживилась:
— Проходите, ребята… А у Гены сегодня повод есть — да, Ген? Он заказ удачный спихнул.
Гена молча подтвердил.
Потянулись на кухню. По дороге Колька споткнулся о большую гирю.
— Ого, — усмехнулся он. — Сам поднимаешь или рабочих заставляешь?
Бок опять фыркнул и переставил гирю.
— Он у меня жилистый, — с улыбкой заметила Тома и добавила: — Хотя и маленький…
Бок не выдержал:
— Отстаньте от меня!
Тома захлопала трехэтажным холодильником. Кухня бизнесмена сияла белизной, как зимний день, только время подмигивало в проталинках разных дисплеев. Однако вскоре полные руки хозяйки расцветили стол; потеплело и в душах… Слюнявая морда Карла легла между закусками с выражением печали и лукавства.
Выпили за встречу, за Генкин заказ, и наступила пауза. Безукладов оглядывался.
— Однако маловата кухня — для такого деятеля, — заметил он. — Строиться не думал?
— Строиться — имеешь в виду дом? Дом я уже построил, летом переезжаем.
— Мы еще две квартиры купили, — похвастала Тома. — На нашей площадке.
— Это еще зачем?
— На всякий случай… Их соединить можно.
— Понятно…
Выпили опять. Бок помалкивал, очевидно соображая, по какому все-таки случаю гости. Тома решила поддержать разговор:
— Ну а вы-то как живете? Сергеев, говорят, ты с женой развелся…
Сергеев вздрогнул:
— Что за бред?
— Ну… — Тома замялась, — вас давно вместе не видели.
— Просто я стал из дома редко выходить.
— Сиднем стал? — Бок нахмурился. — Смотри, весь век просидишь… Зачахнешь, как этот вот, — он кивнул на Кольку.
— Ничего я не зачах! — огрызнулся Безукладов.
— Нет, уж ты мне поверь, — внушительно возразил Генка. — Снесут скоро твою мастерскую, и тебя вместе с ней.
— Такие, как ты, снесут — людоеды!
— А потому что нельзя думать только о бабах.
Они заспорили, а Сергеев задумался о своём. Странный вопрос задала ему Томка. «Зря я все-таки с женой сегодня не поехал», — пожалел он.
Пора, однако, было переходить к делу.
— Генрих!.. Ген, извини, что прерываю… Помнишь, ты в молодости дисками фарцевал? Ну, пластинками…
— Пластинками? — Генка насторожился. — НУ И ЧТО?
Попросить тебя хотел… Если у тебя что-нибудь осталось и если не жалко, конечно, отдай мне.
Бок удивился:
— Кому они сейчас нужны — теперь у всех «си-ди».
— Вот, как видишь — мне понадобились.
— Понятно… — пробормотал Генка, но в глазах его читалось недоумение. — Ты знаешь, старик, я вообще-то хлама в доме не держу.
— Понятно, — сказал уж? Сергеев.
Теперь можно было вежливо отваливать, тем более что Безукладов заскучал от Генкиной правды-матки. Они было начали собираться, но Тома, порозовевшая от вина, стала упрашивать:
— Останьтесь, ребята, ведь в кои веки…
Они вопросительно взглянули на Бока.
Генка развел руками:
— Хозяйка просит…
Сам он тоже подозрительно зарумянился — ему, очевидно, хотелось «продолжения банкета». «С чего бы?» — вскользь подумалось Сергееву.
В итоге они «зависли» у Боков — без пользы для предприятия, но, кажется, с пользой для души. Приходили Генкины рабочие и были отправлены восвояси. Безукладов бегал за водкой и вместо одной, естественно, принес две бутылки. Сервировка стола становилась все более свободной; все больше кусков летело в розовую Карлову пропасть.
Наконец круглые Томины щеки улеглись на подставленные ладони.
— Ребята, может, хватит нам трепаться. Сто лет Гена не пел… я уж и забыла, что выходила за музыканта.
Бок смущенно отнекивался, но потом все-таки принес гитару.
— Ну вот, а сказал — хлама не держишь, — съехидничал Безукладов.
— Еще подколешь — и петь не буду, — предупредил Генка.
В юности, получив музыкальное образование прямо во дворе и усвоив необходимые аккорды, деятельный Бок организовал в нашем городке вокально-инструментальный ансамбль. С тех пор он без ложного стыда носил у ровесников титул музыканта. Впрочем, как убедились Колька с Сергеевым, щипать гитару он еще не разучился — пел и играл вполне душевно, а компания, как могла, подтягивала. Сам расчувствовавшись, Генка внезапно прихлопнул ладонью струны и выпил не в очередь. Потом посмотрел на приятелей с пьяным вызовом:
— Вы, небось, думаете, что Бок зажлобился — мол, у него одни бабки на уме?
— А то нет! — усмехнулся Колька.
— А вот и нет! Для кого я стараюсь, о ком думаю? О детях да вот о ней! — он кивнул на Тому.
Сергеев поднял голову:
— Правда, Том, это он о тебе печется?
Тома засмеялась:
— А как же — печется! У него даже в записной книжке написано: «Не забыть приласкать Тому».
Генка обиделся:
— И ты с ними заодно! Все, не буду вам больше петь.
— Ну спой!
Пели еще.
Расходились поздно. Генриха развезло; он порывался провожать, а Тома, смеясь, его удерживала: s —.
— Куда ты пойдешь, такой пьянющий!
«Чему она радуется? — подумал Сергеев. — Генке нельзя столько пить».
С Безукладовым они расставались на перекрестке.
— Ты давай… осторожно, — напутствовал Кольку Сергеев.
— И ты… смотри под ноги.
Мерзлая дорога била в пятки; сугробы перегораживали путь. Однако Сергеев счастливо избежал их предательских объятий и вскоре достиг своего дома. Поперек подъезда стояла чья-то большая иномарка, но, обойдя и это препятствие, он поднялся на третий этаж, разобрался с замком и оказался наконец в собственном жилище. В квартире горел свет; посреди передней красовались чужие мужские ботинки. Заглянув в комнату, Сергеев увидел сидящего на диване лощеного господина, в котором не сразу признал бывшего жениного одноклассника Гарика Моргулиса.
— Приве-эт, — удивленно протянул Сергеев. — Так это твоя лайба там… пройти не дает?
— Привет. — Моргулис привстал и протянул руку. — Ты не волнуйся, мы сейчас уезжаем.
Сергеев нахмурился:
— Кто это «мы» и куда это вы уезжаете?
Из спальни показалась жена — в макияже и одетая «на выход»:
— Привет!
Но улыбка ее быстро погасла.
— Ф-ф-у-у… Значит, пьянствовал? Вот, смотри, Гарик, стоило мне за порог, как он уже…
Гарик ухмыльнулся и покачал ногой.
— Куда это вы уезжаете? — повторил Сергеев почти грозно.
— В Москву, куда же. У тети Маши удар, сидеть с ней некому. Я только за вещами: придется пожить у нее несколько дней.
— Так, — сказал он мрачно-недоверчиво. — А этот здесь при чем? — он кивнул на Моргулиса.
— А вот скажи ему спасибо. Хорошо — мир тесен — случайно встретились, а то кто бы меня свозил туда-обратно, да еще среди ночи.
— Случайно, стало быть… Ну, спасибо, Гарик-друг.
— Нот эт олл, — отозвался Моргулис и опять противно ухмыльнулся.
Сборы продолжились. Мужчины сидели некоторое время в молчании; Гарик оглядывал со снисходительным видом убранство сергеевского жилья.
Сергеев поерзал:
— Гарик, ты что, — в зоопарке — что ты все рассматриваешь?
— Ремонт тебе надо делать…
— Будут деньги — сделаю. Ты-то, я смотрю, процветаешь?
— Ай эм файн, — ответил Моргулис небрежно и, будто невзначай, посмотрел на свои швейцарские часы.
Гарик работал в Москве то ли риэлтором, то ли криэйтором и в городок наведывался нечасто — навестить родителей и порисоваться перед старыми знакомыми. С детства он был пронырой, однако не все его предприятия оканчивались успешно: например, попытки ухаживать за девочкой Наташей, ставшей потом сергеевской женой. Лично Сергеев не раз украшал большими «бланшами» физиономию будущего риэлтора. Дело, конечно, прошлое, но, как видно, старая любовь не ржавеет — иначе с чего бы этот пижон стал катать ее среди ночи в такую даль…
Между тем жена, наконец, собралась. Она дала ему необходимые хозяйственные инструкции, вручила Гарику самую тяжелую сумку и была такова. Даже не стала целовать Сергеева на прощанье.
— От тебя дурно пахнет, — сказала она. — Смотри, поменьше тут пьянствуй без меня.
И Сергеев остался один. Хмель не давал как следует осмыслить произошедшее, но это было и хорошо. Он лег спать и накрылся хмелем, как одеялом; «Потом, потом…» — пробормотал он, засыпая, хотя смутно осознавал, что это гадкое «потом» уже здесь и будет с терпением сиделки дожидаться его пробуждения.
Так оно и случилось: наутро Сергеев сообразил, что у тети Маши нет телефона, а он не знает ее адреса. Получалось, что жена покинула совершенно всякие пределы досягаемости. Это открытие сделало его похмелье еще более тягостным. Он пытался себя успокаивать, мол, ничего страшного не происходит, сидит она с теткой и скучает по нему; поживет там — вернется, и все будет по-старому. Но успокоиться не давала мысль о Моргулисе, память о его подлой ухмылке. Что-то здесь было не так, и фантазия подсказывала ему — что. «Да, — говорила фантазия, ты обманут; сидит она там не с тетей Машей, а с Гариком в ресторане, а он, гад, гладит ее по руке…» Почему-то других сцен фантазия ему не рисовала — видимо, щадила и без того несчастного Сергеева.
Прошло два дня, а от жены не было ни слуху ни духу. Сергеев приходил с работы, готовил себе ужин, ей его без аппетита, мыл посуду. Потом он доставал из шкафа портвейн и садился слушать (вот когда они понадобились!) свои виниловые пластинки. Поздно вечером он переваливался в кровать и спал — не спал, ворочался до утра — в эти две ночи он говорил с женой больше, чем во весь последний год.
Наконец, эта «ломка» в одиночестве стала ему невыносима. На Третий вечер он, неожиданно для самого себя, оделся и подался из дому так решительно, словно по обдуманному важному делу. В действительности дела у него никакого не было, а был порыв, определенный, впрочем, в смысле направления. Сама страдающая душа повлекла Сергеева к товарищу его, священнику отцу Михаилу — человеку, сведущему в скорбях и знающему слова утешения.
Жил о. Михаил неблизко — в подгородней деревушке Гаврилки. Идти туда следовало через железную дорогу, через речку и дальше полем. А надо сказать, нигде человек настолько не чувствует свое одиночество, как зимним вечером в российском поле. И так это ощущение срезонировало в больной сергеевской душе, что ему ужасно захотелось сесть прямо тут, в снегу, замерзнуть и превратиться в бесчувственную кочку… Но он себя пересилил и все-таки добрался до отца Михаила.
О. Михаил (для своих — просто Миша) приходу Сергеева не удивился, а только посетовал, что тот давно не появлялся. Гости у батюшки случались часто, несмотря на удаленность проживания. Сергеев вошел, и его обдало приятным запахом старого бревенчатого дома.
— Здравствуй, Надя, — приветствовал он подошедшую матушку, и они поцеловались по-православному.
Михаил пригласил его:
— Проходи… Только не пугайся — у меня тут лазарет.
Сергеев прошел в комнату, и первый, кого он увидел, был… Генка Бок, лежавший на кровати. К кровати был приставлен стул, к стулу привязана швабра, а к швабре — капельница; трубка от капельницы тянулась к руке Генриха Иваныча.
— Привет, — слабым голосом поздоровался Бок.
— Приве-эт, — недоуменно отозвался Сергеев. — Ты что это тут валяешься?
— Что, что… Запой у меня, — Бок вздохнул. — Томка не знает, я для нее в командировке.
— А что ж ты не в больницу?.. А, ну да…
— В больницу нельзя — весь город станет пальцами показывать. Вот — Надя выхаживает.
— И давно у тебя эти… запои?
— Не очень… Понимаешь, работа достала — одни нервы. Хочется расслабиться, и вот — дорасслаблялся…
— М-да…
Сергеев сочувственно крутнул головой. Он помолчал несколько секунд и вдруг неожиданно признался:
— А от меня, Ген, жена ушла.
— Болтаешь… — Бок даже приподнялся с подушки. — У вас же любовь со школы.
— Стало быть, кончилась любовь… — Сергеев печально усмехнулся. — Лямур пердю, как говорят французы.
Сзади подошел отец Михаил:
— Чего «пердю»?
— Лямур… — повторил Сергеев. — От меня жена ушла.
— Не может быть… Наташа? — это изумилась Надя.
— Другой у меня нет… и этой, кажется, тоже.
Генка заворочался в кровати:
— Надька, вынимай из меня иглу.
— Зачем это?
— Водку будем пить, вот зачем… По такому поводу…
Все бросились его отговаривать, но Генрих был непреклонен.
Спустя два часа они уже… пели песни. Курица, осененная отцом Михаилом, лежала растерзанная; окна старого дома выходили прямо в космос… Впервые Сергеев почувствовал, что у него отлегло от души…
Проснулся он от хода часов. Мерно, с явным удовольствием, они хрустели секундами, как буренка жвачкой. «У попа-то часы идут», — подумал Сергеев и стал ждать, когда они начнут бить. Но часы все не били, зато с улицы донеслись голоса: казалось, женщины пели, но без мотива. Он открыл глаза и огляделся; напротив, сбросив одеяло, спал Бок — его крепкое тело отливало искусственным загаром. Сергеев встал и выглянул в окно. По дороге двигалась похоронная процессия; впереди в куртке, надетой поверх подрясника, шагал с кадилом отец Михаил. Процессия подходила все ближе, и Сергеев спросонья испугался: «Сюда, что ли, Несут?» Но нет — недружно перебирая ногами и попадая валенками в обочины, гаврилковцы протащились мимо, в сторону недалекого местного погоста. «На дому отпевал», — сообразил Сергеев и задернул занавеску. Ударили часы, и, словно отвечая им, громко захрапел Генка. Сергеев подошел к нему и бережно, как ребенка, перевернул. «Спи уже… алкоголик» — пробормотал он, и вернулся в свою койку.
Он снова уснул и даже увидел сон из тех, утренних, что запоминаются особенно хорошо. Приснилась ему Генкина жена, Тома. Она что-то мыла и прибирала в сергеевской квартире, а он все никак не мог отправить ее домой. «Иди к себе, — убеждал он Тому. — У тебя там Генка лежит больной!» А она, смеясь, соглашалась: «Да, да — он совсем зачах!» — и не уходила.
Часы принимались бить еще несколько раз — их он слышал сквозь сон, но не слышал, как встал Генрих Иваныч и ушел на свою нервную работу, как заглянул к нему вернувшийся с кладбища батюшка и, пошевелив бородой, снова закрыл дверь.
Сергеев проспал чуть ли не до обеда. Солнце вовсю жгло занавески; часы приветствовали его насмешливым напоминанием: день в разгаре. Он оделся и тихонько вышел из комнаты. На кухне кто-то заговорщицки шептался:
— Опять, зараза, скинула… Что с ней делать — ума не приложу.
— Врача-то приводила?
— Да приводила, что от него толку… Может, старуху позвать — пусть пошепчет?
— Господь с тобой, Марь Петровна, ты же в церковь ходишь!
— А что же делать?
— Продай ты ее, и дело с концом.
— Жалко продавать-то — привыкла я к ней… А нельзя батюшку попросить — может, молебен какой?..
— Не знаю… надо спросить.
Сергеев вошел:
— Здравствуйте.
— А, проснулся, — Надя улыбнулась. — Умывайся, скоро кушать будем.
— А где отец Михаил?
— У себя — письмо благочинному пишет.
Сергеев пошел к батюшке в «кабинет». Открыв дверь, он удивился, найдя его за компьютером, довольно ловко щелкающим клавишами.
— Ай да поп! — вырвалось у него.
Михаил вздрогнул и обернулся:
— Ты меня напугал… И чем это я тебе не поп?
— Нет, ничего… Смотрю, и ты в ногу со временем шагаешь.
— А как же. Телефон провел, к «нету» подключился — удобно. А тебе что — не нравится? Хочешь, чтобы время остановилось?
Сергеев не ответил.
Михаил подвигал бородой:
— Кстати… Бок тут говорил, что ты старые пластинки собираешь. Хочешь, дам — у меня их целая куча валяется.
— Давай… Теперь только их и слушаю вечерами.
Батюшка почесал заросли на шее:
— Угу… Ну ты унывай-то не очень… С чего ты вообще взял, что она ушла? Глядишь, вернется, а тебе стыдно будет.
— Нет, Миша, — тихо возразил Сергеев, — чувствую я, что не приедет.
— Чего ты там чувствуешь, — Михаил заговорил строже, — психуешь просто… Ты посмотри на этого павлина Моргулиса — нашел к кому ревновать. И даже если она с ним закрутила (во что я не верю), все равно к тебе вернется. Ты только укрепись духом и жди… А вернется — простить обязан, это я тебе как духовное лицо говорю.
— Ладно тебе, духовное лицо, — грустно возразил Сергеев, — ты уж не заходись. Никто еще не вернулся, и прощать некого.
Миша, слегка смутясь, остался, однако, на своем:
— Вернется, вот увидишь. Ты только… не опускайся… Я хотел сказать: не опускай руки.
Сергеев усмехнулся:
— Спасибо за совет.
Обратно он шел тем же полем. Снег под солнцем блистал такой сахарной белизной, что хотелось его полизать. Мимо Сергеева с ревом пронеслись два снегохода; краснолицая девчонка, обхватившая руками своего ковбоя, скользнула победным взглядом по пешему недотепе. Сергеев улыбался; он шел не спеша, помахивая сумкой с пластинками и сушеными грибами. Это Надя заставила его взять грибы:
— Наташе скажи, пусть суп тебе сварит.
Потом, подумав, добавила:
— Пожарить тоже можно.
Назавтра к нему пришел Безукладов.
— Привет, Сергеев. Давненько я у тебя не был… Я вот тебе «пластов» принес — у ребят достал.
Без церемоний оглядевшись, Колька заметил:
— А что — прилично живешь…
— Как же мне жить? — удивился Сергеев.
— Ну… Поп говорит, ты одичал совсем — на компьютер лаешь.
— A-а, ты Мишку видел… Ну, понятно…
— Не знаю, чего тебе понятно… Закусить-то у тебя найдется? — Колька подмигнул. — А то знаем мы вас, вдовцов соломенных.
Сергеев приготовил закуску, и они принялись за принесенную Безукладовым бутылку. Выпив и прожевав бутерброд, Колька вдруг сообщил:
— А знаешь, Сергеев, мне ведь хана… Прав был немец — закрывают мою лавочку.
— Ну и куда ты теперь?
— Да есть мысли… Но на все нужно время, а жрать надо каждый день; хорошо еще, что не женат, — никто с меня бабки не спрашивает.
— Да, это хорошо… — усмехнулся Сергеев.
Они еще выпили и помолчали. Безукладов барабанил пальцами.
— Что-то хочешь сказать? — спросил Сергеев.
— Скажу… если не обидишься, — Колька посмотрел ему в глаза. — Плюнь ты на нее! Из-за баб расстраиваться — последнее дело. У этого козла «бээмвуха», баксы… А бабы в сорок лет не бывают идеалистками.
— Она не такая, старик. — Сергеев возразил, но как-то вяло.
— Брось, все они одинаковые… — Колька поиграл желваками. — Одно тебе обещаю: если этого сучка встречу, своей рукой ему мозги вышибу!
Ответить Сергеев не успел — в дверь позвонили.
Он открыл. На пороге стоял Генрих Иваныч.
— Привет, — обрадовался Сергеев, — ты как чувствовал — у меня уже Безукладов сидит. Заходи, вместе меня жизни поучите.
Бок не ответил на улыбку; похоже, он был здорово пьян. Молча пройдя в прихожую, Генрих плюхнулся на банкетку.
— Ты что, старик, все еще в запое? — спросил участливо Сергеев.
Генка молчал, уставясь перед собой невидящим взглядом.
Из кухни Показался Безукладов:
— Кто пришел?.. A-а, немец, здорово… Что это с ним?
— Не знаю… Ген, что случилось?
— Карл… погиб, — выдавил Генка и заплакал.
Бедный старый Карл, задумавшись, попал под машину — очень уж их много развелось в городке… Сегодня Генрих Иваныч закопал своего друга… ах, если бы он мог похоронить в той же яме воспоминания, что вчера еще грели, а теперь жгли ему душу…
— Мы с ним на Азовское море ездили… как он любил купаться… — Бок вздыхал, и глаза его вновь увлажнялись.
Приятели пили за упокой собачьей души и утешали, как могли, Бока, как вдруг опять раздался дверной звонок.
— Кто там еще?.. — Сергеев отставил невыпитую рюмку и пошел открывать.
Он отворил дверь и… вот уж кого он меньше всего ожидал увидеть, так это Моргулиса! В руках Гарик держал две большие сумки.
— Хай! — Моргулис вошел по-хозяйски, с обычным своим самоуверенным видом. Он поставил сумки: — Ну, чего застыл? Принимай жену.
Наташа действительно показалась в дверях.
Однако немая сцена оказалась скомкана: на кухне загремели стулья и вышли оба сергеевских собутыльника. Безукладов попытался оценить ситуацию, но Бок, неожиданно для всех, молча и яростно набросился на Моргулиса.
— Чего?!. Чего?! — завизжал Гарик тонким голосом, увертываясь от пьяных кулаков.
Генку схватили за руки.
Моргулис истерически вопил:
— Сволочи, чего я вам сделал?!. Трое на одного… Наташка, уйми их!
— Будешь, гад, знать, как наших баб уводить, — мрачно пригрозил Безукладов. — Погоди, еще я до тебя доберусь…
— Каких баб? — вытаращился Гарик. — Кого я уводил?
— А с кем она была? — Сергеев кивнул на жену.
— Ты что — идиот? — Наташа выступила из-за Гариковой спины. — Ты что, не знаешь, с кем я была? Я тебе звонила каждый вечер… А где ты был, я не знаю. Из-за тебя, между прочим, Гарика сорвала.
— А ответчик?.. — недоверчиво возразил Сергеев.
— Ты посмотри, может, у тебя телефон не работает, — посоветовал Моргулис, приходя в себя.
Сергеев поднял трубку. Телефон молчал…
— Ну?
— Тьфу ты, черт!.. — вырвалось у него.
Похоже было, что недоразумение разъяснилось. Жена пошла переодеваться с дороги. Моргулис потребовал водки.
— А не боишься — за рулем-то?
— Плевать…
— Молодец, — похвалил Колька, — это по-нашему… Ты того… на Генку не обижайся — он сегодня Карла похоронил.
— Карла?.. А что за Карл — тоже немец?
— Молчи, дурак…
Чувствуя, что Наташе их попойка не в радость, сергеевские приятели довольно скоро засобирались. Моргулис объявил, что в Москву сегодня не вернется, и они решили продолжить у Безукладова.
Сергеев провожал их до двери:
— Вы уж извините, мужики, я дальше — пас…
— Понятно, понятно…
— Гарик, ты меня прости… И спасибо тебе за помощь.
— Если что — обращайтесь, — небрежно ответил Моргулис.
После их ухода жена разбирала сумки. Она была не в духе и потому без почтения хлопнула на стол стопку пластинок.
— Вот. Это тебе Гарик прислал.
— Спасибо.
— Спасибо… А ты что здесь устроил? Не просыхал все время, грязищу развел… Мусор-то хоть раз вынес?
— Нет…
— Вот иди и вынеси.
И Сергеев пошел выбрасывать мусор. Еще спускаясь по лестнице, он услышал крики и шум сражения; они доносились из квартиры Васьки Матюшина. Когда он возвращался с пустым ведром, Васькина дверь была уже нараспашку, а побоище, похоже, достигло кульминации. Безотчетно Сергеев шагнул в открытую дверь. Васька кидал в жену чашками, но попадал все время в стену, и это приводило его во все большее бешенство.
— Эй, артиллерист, — сказал Сергеев, — ты так всю посуду переколотишь!
Васька обернулся и выкатил на него красные глаза:
— А тебе чего надо?! Канай отсюда!
— Ты это… зачем женщину обижаешь?
— Твое какое дело? Учу, чтобы не блядовала… Может, ты тоже ее трахал? Так я тебе щас..
— Попробуй, — тихо ответил Сергеев и поставил ведро.
Васькина жена, всхлипывая, пыталась их остановить, но было поздно… Сергеев с таким упоением, так отчаянно махал руками, что совершенно ошеломил здорового Матюху. Минуты через три бойцы выдохлись.
— Хорош, Сергеев… Ты мне зуб выбил… — прохрипел Васька и полез пальцами в окровавленный рот. — Тьфу!
Оба тяжело дышали. Васька переступил, и под ногой его что-то хрустнуло; он, сопя, нагнулся. Это были сергеевские часы.
— «Сейка», бля… — сокрушенно прочитал Матюха и протянул часы Сергееву.
Больница (1)
Почему это доктора все пишут такими каракулями, будто находятся в состоянии аффекта? Лидия Филипповна вручила жене листок направления, похожий больше на предсмертную записку, чем на документ.
— Что ж, — участковая посмотрела на Сергеева без улыбки. — Допрыгался ты до пневмонии. Завтра с утра в стационар… как говорится, с вещами.
Она допила свой кофе, надела пальто, не успевшее просохнуть, и, коротко простившись, ушла в осенний сырой и непроглядный вечер.
— Допрыгался… — жена задумчиво повторила врачихины слова.
Сергеев виновато пожал плечами.
— Филипповна-то совсем постарела… — пробормотал и откинулся на подушку.
Ночь Сергеев пролежал на спине, стараясь не шевелиться и удерживая кашель: всякое движение отдавалось колющей болью в правом боку. По временам над ним склонялась жена и давала таблетки и воду. Покачивались ее груди, которые Сергеев останавливал влажной благодарной рукой…
А утром, собрав необходимое в полиэтиленовый пакет, они пошли в больницу. На дворе стоял поздний октябрь, и весь городок представлял собой одну большую лужу. Мокрыми были все: и вороны, и собаки, и машина, сломавшаяся посреди дороги, и шофер, чинивший ее стынущими руками. Перекошенный, бредущий с трудом Сергеев лишь дополнил своей фигурой общую унылую картину, — еще бы лучше это сделала похоронная процессия.
Городская больница размещалась в нескольких одноэтажных бараках, разбросанных по некрутому взгорку и почти терявшихся в колоннаде рыжих старых сосен. У подножия вековых деревьев происходило малозаметное, но непрерывное движение. Медленно прогуливались нечесаные, странно одетые личности — больные; мимо них, будто не замечая ходячую нежить, сновали деловитые медработники в халатах. Сергеев, еще не войдя в отделение, почувствовал, что ступает в другой, особый мир, где не будет места его прежним заботам.
— Тэк-с… Угу… — «тук-тук». — М-да, ну что ж…
Доктор Эйбель благоухал утренним лосьоном и выглядел как-то уж слишком здоровым рядом со сгорбившимся, потным от слабости Сергеевым.
— Что скажешь, Александр Иваныч? — в женином вопросе прозвучали и тревога, и надежда вместе.
— Жить будет, — Эйбель дружески улыбнулся. — Тебе ведь без мужа никак нельзя… верно я понимаю?
Свободных коек в палате оказалось несколько, но Сергеев, едва найдя в себе силы переодеться, рухнул в первую попавшуюся. Однако кровать не дала ему опоры: Сергеев почувствовал, что продолжает куда-то проваливаться, глохнет, тонет в простынях, пахнущих тиной… Жена, склонившись, запечатлела на его влажном лбу прощальный поцелуй и ушла. Сергеев, встрепенувшись, последовал было за ней — из больничного барака по мокрой асфальтовой дорожке, прыгая через лужи, раздвигая липкую завесу то ли дождика, то ли тумана… но он не догнал ее. Сквозь сон Сергеев слышал чужие голоса и звуки; как отвязавшуюся лодку, его кружило и медленно несло меж незнакомых берегов…
И вот он в больнице. Первые сутки прошли для Сергеева в температурном забытьи. В организме его происходило нешуточное сражение: болезнь огрызалась, но медицинские сестры, сами заголяя Сергееву зад, умелой рукой вводили в дело все новые маршевые батальоны антибиотиков. Это продолжалось, покуда вечером следующего дня все поры тела его внезапно не отворились и пот не извергся из него обильными потоками. Затем наступило облегчение. Колотье в боку утишилось, разум Сергеева прояснился.
Приподнявшись в койке, он нашел подле себя на тумбочке тарелку с холодной котлетой и картофельным пюре, которые тут же съел, не почувствовав вкуса. Рядом с тарелкой стояла пустая стеклянная банка с наклеенной самодельной этикеткой. Сергеев повернул банку этикеткой к себе и прочитал: «Сергеев, 2-е от., общ. ан. мочи». Он усмехнулся: пора было осваиваться в новой жизни. Держась за спинку кровати, он встал на ноги, дождался, пока пройдет головокружение, и с именным сосудом в руке отправился на поиски туалета.
Впрочем, долго искать ему не пришлось: стоило Сергееву выйти в коридор, как нос его сам повел в нужном направлении. Сортир второго отделения слышен был далеко — как своими запахами, так и звуками, довольно порой впечатляющими. И конечно же, он никогда не пустовал. Сергеев обнаружил здесь трех меланхолических курильщиков, из которых двое — в спортивных штанах с отвислыми задами — стояли, а третий — без штанов — сидел «орлом» на цементном возвышении. Тут же сердитая уборщица в сером халате тыкала шваброй в ноги изможденному субъекту, качавшемуся над писсуаром. И еще… еще какой-то лохматый человечек крался вдоль стены, выглядывал что-то в ее трещинах и время от времени быстро выстреливал резинкой — прямо как лягушка своим языком.
Сергеев поборол минутную застенчивость и облегчился, не забыв уделить разумную толику для «общ. ан». Здесь же на подоконнике он нашел целое общество банок, уже наполненных мочой всех цветов радуги, и свою пристроил туда же. Казалось, ничто больше не удерживало его в этом зловонном «заведении», но… Сергеева заинтересовал странный человечек с резинкой.
— Кто это? — тихо спросил он у одного из курильщиков.
— Кто?.. А… Это Сёма, — курильщик равнодушно покосился на лохматого. — Тараканов бьет.
Сергеев вгляделся — Сёмино лицо показалось ему знакомым.
— Эй, — спросил он, — ты не Стрекалов Сёма?
Лохматый едва удостоил его взглядом.
— Не мешай ему, — курильщик хмыкнул. — Вишь, сколько у него работы.
Это была правда. Теперь только Сергеев заметил их — самых многочисленных обитателей второго отделения. Тараканы здесь были повсюду: и на стенах, и на потолке, и на полу; всех возрастов, живые и мертвые, они висели гроздьями в углах и хрустели под ногами, словно шелуха семечек. Иные сидели в глубокой задумчивости и только посторонялись немного, если сигаретный пепел падал им на голову; иные, наоборот, носились как угорелые — так, что даже Сёме было за ними не угнаться. Некоторые, судя по их внушительным размерам, доживали в сортире до глубокой старости, а некоторые гибли во цвете лет, угодив в «толчок» или в банку с мочой.
И хотя болезнь притупила в Сергееве остроту восприятия, он содрогнулся в отвращении.
— Ну и гадость! — вырвалось у него. — Лежать не захочешь в такой больнице.
Курильщики посмотрели на Сергеева, потом иронически переглянулись:
— Новенький, что ли?..
Один из них снисходительно усмехнулся:
— Погоди, мужик, обвыкнешь… — и медленно сплюнул на пол.
Собака Стрекалова
Валерка Стрекалов, старший брат лохматого Семы, тоже был маленького роста. От маленьких родителей своих братья унаследовали полдомика, разгороженного внутри на множество клетушек. Достигнув положенного возраста (но не роста), Валерка женился на пигалице Анчутке и создал собственную маленькую семью. Места в домике вполне хватало для троих маломерков, и даже для четверых, когда у Валерки случилось крошечное прибавление. За двести семьдесят пять рублей молодые купили в универмаге мопед, и это была их самая крупная покупка. В остальном же Стрекаловы тратились экономно, потому что лопали мало, а одежду покупали со скидкой в детском отделе.
Вечерами, окончив дневные делишки, собирались они за столом и ужинали из блюдечек. Потом Анчутка шла в огород. Валерка выкатывал из сарая мопед и продолжал нескончаемую его починку. Дурачок Сема садился рядом на корточки и задумчиво разглядывал гайки и шестеренки, разложенные на тряпочке. Прикасаться к машине ему воспрещалось, поэтому он держал руки за спиной, со страхом и надеждой ожидая, что мотор затрещит и выпустит голубой вкусный дым. Дите Стрекаловых лежало весь вечер спокойно, как все недоношенные дети, на крылечке в половинке от чемодана.
Жизнь их могла бы показаться идиллической, и была бы таковой, если б не одно обстоятельство. Заборчик Стрекаловых естественным образом соединялся с другими заборами по улице Котовского. Полдома их стояли в ряду с прочими домами, и хуже того — смыкались стеной с половиной Глебки Макарова. Макаров, мужик деловой и сильный, давно уже вырастил свою пол сдвину в большой дом, под стать себе и своему хозяйству. Так что стрекаловское жилище, прилепившееся сбоку, казалось рядом с ним не более чем курятником. Сему, понятно, эта унизительная пропорция не беспокоила, на то он и дурачок, но вот Валерку съедала обида. Обида не только на Макарова, но и на других соседей, живших, как назло, богаче Стрекаловых.
Валерка много думал, отчего его жизнь складывается, как бы это сказать, незначительно. Он и техникум закончил, и выпивал всегда в меру, и на работе старался, и… ничего. И выходило по размышлении, что виноват во всем его малый рост. Бригадиром стать надеялся — не выбрали: ни голоса командного, ни вида представительного. Стащить с завода чего-нибудь в хозяйство — силенки не хватало: Макаров прет целые брусья через забор, а ему и пары досок не осилить. Отношение к коротышке пренебрежительное: за пивом к бочке пойдешь — и то ототрут всегда в самый хвост. Однажды поддали они с Семой и пошли к Макарову ругаться, Валерка сам уж не помнил, за что — за канаву какую-то. И что вышло? Покидал их Глеб обратно через забор обоих, и все.
Однако Макарову следовало знать, что маленькие мужички обид своих не прощают. Стрекалов долго думал, как ему с Глебкой посчитаться, и надумал…
Как-то Сергеев, минуя стрекаловский палисадник, заметил, что Валерка играет со щенком.
— Привет, Валерка!
— Здорово.
— Ты, я смотрю, собаку завел. Что за порода?
— Кавказец.
— Да ну! Что-то мелковат…
Валерка обиделся:
— Сказано тебе, кавказец. Вырастет — зверюга будет…
— И зачем тебе зверюга? — усмехнулся Сергеев.
— Надо… — уклончиво ответил Стрекалов и покосился на макаровский участок.
— Смотри, — предостерег Сергеев, — как бы он вас самих не сожрал. Откусит твоей Анчутке зад, будешь знать…
— Ничего, — возразил Валерка, — я его на цепь привяжу.
— А кормить станешь с лопаты… — Сергеев опять усмехнулся. — Эх, парень, наживешь ты с ним хлопот.
Судьба, однако, судила по-своему. «Кавказец», конечно, подрос, но не настолько, чтобы кормить его с лопаты: ростом он вышел с небольшую дворняжку. Единственное, что оказалось в нем кавказского, — это свирепый нрав и неспособность к дрессировке. Но Стрекалов в нем души не чаял.
— Отличная собака, — похвалился он как-то Сергееву, — всех кур у Макарова передушил. Большого-то пса Глебка давно бы уже пристрелил, а в Мурзайку сколько ни стрелял — попасть не может.
Больница (2)
За несколько дней, проведенных здесь, Сергеев втянулся — «обвыкся», как ему и было предсказано. Он познакомился со своими соседями по палате, с тремя медсестрами, сменявшимися через сутки, и даже с рыжим кобельком Мишкой, навещавшим второе отделение в отсутствие Эйбеля. Давно уже Сергеев приобрел статус «ходячего» и получал свои уколы в процедурной комнате, следом за больничными старушками. Этих старушек нельзя было опередить: они имели предубеждение только к таблеткам, а инъекции и клизмы, напротив, принимали с истовым усердием. Задолго до урочного времени они выстраивались в коридоре перед дверью в процедурную, толкались и ссорились из-за очереди злобным шепотом. Сергеев освоился также с географией второго отделения, представлявшего собой барак с длинным коридором внутри. Коридор в одном месте утолщался, образуя подобие холла. Здесь стояли две кушетки, приспособленные для сидения, и общественный древний холодильник, служивший по совместительству пьедесталом своему ровеснику-телевизору. В этом холле многие обитатели отделения проводили по вечерам свои культурный досуг. Женщины, собравшиеся из разных палат, судачили о чем-то и сплетничали, а когда начинался сериал, умолкали и с дружным вниманием обращались к телевизору. Героев «мыльных опер» узнавать приходилось подчас лишь по голосам: зрительный ряд на экране тоже был сплошное мыло. Иногда старому телеприемнику даже доставалось кулаком, но он от этого только морщился.
Однако ни сам Сергеев, ни его товарищи по палате телевизор не смотрели. Все они оказались, по счастью, картежниками и вечера свои коротали за игрой в «козла». Новые приятели вообще «зажили» довольно дружно, по общему их мнению, хотя и не были знакомы до больницы. Они объединялись не только за карточным столом, но также при съедении яств, присылаемых каждому «с воли». Даже курить компания ходила обычно полным составом одновременно. К слову сказать, место для курения они нашли свое собственное: чтобы не дышать сортирным смрадом, приятели наладились дымить на веранде. Заколоченная снаружи, веранда эта, холодная и темная, использовалась в отделении как чулан или свалка для всякого хлама. К чему она предназначалась по проекту, было уже не понять, — если барак вообще строился по какому-нибудь проекту. Сюда же, когда были свободны, выходили побаловаться сигареткой медсестры, точнее, две из них — Алевтина и конопатая Маринка. Алевтина была женщина неразговорчивая и с виду несколько суровая, Маринка же, напротив, любила потрепаться, особенно с Сергеевым, которого уверяла, что помнит по школе. Однажды, куря и болтая с ней на веранде, Сергеев заметил в шутку, что здесь на холодке можно держать покойников — вместо часовни. Маринка согласно кивнула, но тут же посулила ему типун на язык — потому де, что «летальных» в отделении не было уже полгода и век бы их не видать.
Поначалу их было четверо сопалатников: сам Сергеев, Сашка — краснорожий конюх из Матренок, Николай Федорыч — пожилой токарь с завода и толстый Михалыч — известный в городке предприниматель, изготовлявший для квартир железные двери, похожие на те, какими раньше закрывались трансформаторные будки. Несмотря на такое свое разное положение в гражданской жизни, ужились они, как было сказано вполне неплохо. Конечно, у кого не бывает недостатков. Сашка, например, чудовищно храпел по ночам — так, что соседняя палата стучала им в стенку. Михалыч храпел потише, зато часто пускал громкие ветры — и ночью, и среди бела дня. Николай Федорыч хотя был культурнее их обоих, но оказался страшным занудой, чем особенно изводил своих партнеров по картам. Надо думать, и Сергеев не был безупречен, но… об этом он знать не мог, потому что все четверо проявляли в отношении друг друга разумную деликатность. Словом, коллектив в палате подобрался нормальный, мужской. Только Эйбель Александр Иваныч во время обходов тянул своим немецким носом и велел им почаще проветривать помещение.
Так они жили до того дня, когда к ним подселили Сучкова. Новенького привели перед самым обходом, и Эйбель осматривал его прямо в палате. Тощий полуголый субъект стоял, задрав негустую, но длинную бороду, и косил на Александра Иваныча мутноватым глазом. На груди его выделялся «киль», как у курицы, а в сочельнике видно было, как бьется сердце.
— Тэк-с… Угу… Как вас зовут, уважаемый?
«Уважаемый» пошатывался от докторских прикосновений. Круги от стетоскопа долго не проходили на его желтом теле.
— Яков Денисыч, — не сразу сообщил бородатый каким-то сдавленным голосом. — Су… Сучков.
— Вот и славно.
Доктор сложил стетоскоп, велел Якову Денисычу одеваться и вышел из палаты. Но уже развеялся в воздухе аромат Эйбелева лосьона, а Сучков все стоял, желтея убогой наготой и глядя отрешенно перед собой.
— Проснись, борода! — засмеялся Михалыч. — Сеанс окончен.
Но «сеанс» только начинался. Неожиданно Яков Денисыч бурно задышал и забормотал что-то неразборчивое; руки его беспокойно задергались. Затем бессвязная речь его перешла в завывания, глаза закатились; Сучков повалился на пол и заскреб ногтями линолеум, искривляясь и корчась всем телом. Из всех оторопевших сопалатников первым нашелся Сергеев. Он схватил с тумбочки обеденную ложку и, придавив Сучкова коленом, сунул ее в мычащий рот. Минуты три Яков Денисыч грыз эту ложку, пуская в бороду кровянистую пену, но постепенно конвульсии его стихли и он обмяк Его перетащили в койку. Припадок закончился, но страдалец еще долго не мог прийти в себя: то и дело он вскидывался, таращил глаза и вскрикивал: «Что?! Что?!»
Припадок Якова Денисыча сделался, конечно, предметом обсуждения и даже послужил поводом для заглазных шуток, но вскоре он был заслонен другим, более значительным событием. На следующий день в палату к ним пришла Надежда — так звали третью, некурящую, медсестру отделения. Вид у нее был расстроенный.
— Что я вам скажу, ребята… — сообщила сестра. — В четвертой палате бабушка отходит. — И сокрушенно добавила: — Как раз в мое дежурство подгадала…
Мужчины выразили Надежде сочувствие и посоветовали вызвать для бабушки попа.
— Попа-то попа, — грустно возразила она, — а если ночью помрет — кто выносить будет?
— Ну, пусть до утра останется — чай, не убежит.
Она покачала головой:
— Не положено их с живыми держать: больные от этого расстраиваются. — Надежда вздохнула. — Притом женщины…
Вот, стало быть, зачем она пришла… Приятели чесали затылки: никому из них не улыбалось возиться ночью с покойницей. Надежда искательно засматривала им в лица. Наконец, после паузы, голос подал Михалыч.
— Что же, — произнес он задумчиво, — помочь-то можно… Только нам опосля надо будет руки помыть…
Сестра, просветлев, пообещала поговорить с Эйбелем насчет «помыть руки», и на том порешили.
Тем временем печальное известие быстро распространилось по всем палатам. Из уважения к бабушке, еще, впрочем, не покойнице, второе отделение приспустило флаги. Больные в коридорах разговаривали вполголоса, и даже телевизор вечером работал тише обычного. О виновнице событий Сергеев узнал, что звали ее Нефедова Варвара, но что на имя свое она давно уже не откликалась, а издавала по любому поводу один только звук «о».
— «О» да «о»… А ить раньше какая говорунья была!
Одна из больничных старушек знала Нефедову с юности:
— Кансамолка была… стриженая… ох и речиста!
Сидя в «холле» на кушетке, бабульки спорили — годится ли, чтобы батюшка причащал бывшую комсомолку: «Оне ведь в церкву с гармошкой ходили». Но покуда старушки решали, он и явился — священник; прошелестев мимо них черным ветром, отец Михаил скрылся в четвертой палате. Пробыл он у Нефедовой минут пятнадцать, потом вышел и обратным путем, благословляя недужных, случившихся в коридоре, покинул отделение.
По уходе отца Михаила все, даже бабушки, примолкли и разбрелись по койкам. Отделение затихло в ожидании. Однако вестей из четвертой палаты все не поступало, и ожидание мало-помалу перешло в сон. Только Сергеев с приятелями не гасили света, сидели у себя, вяло шлепая картами, и прислушивались к шагам, доносившимся из коридора.
— Скорей бы уж…
Наконец дверь в палату приоткрылась, и в проеме показалась голова Надежды.
— Все! — сказала сестра, сдерживая волнение. — Пошли, ребята.
В дверях четвертой палаты они столкнулись с дежурным врачом, единственным ночью на всю больницу. Он уже констатировал летальный исход и возвращался назад, досыпать в ординаторскую первого отделения. Мертвая Нефедова лежала совершенно голая; тело ее выглядело на удивление молодым. Несколько женщин сидели в своих койках, оцепенев, словно ночные куры. Надежда принесла и разложила на полу старые брезентовые носилки. По ее команде мужчины за четыре угла взяли простыню, на которой лежала покойница, и подняли тело с кровати. В этот момент мертвая издала стон, похожий на звук «о».
— Ешь твою душу! — они от испуга чуть не выронили покойницу.
— Воздух выходит! — прошептала Надежда, но видно было, что и она струсила от неожиданности.
Нефедову все-таки переложили на носилки; на матрасе после нее осталось только мокрое пятно. Покойницу отнесли на веранду, которая таким образом сослужила службу, предсказанную Сергеевым. Носилки приятели поставили на два стула — от крыс повыше. Потом они перекурили и пошли получать обещанный спирт.
Могила
В то утро впервые по-настоящему приморозило. Земля стелилась сизая, небо туманилось сизое, а солнце горело неярко, как свечка в изголовье усопшего. Дорога на кладбище шла меж полей, взборожденных окаменевшей, неряшливо припудренной пахотой. Речка кривила черствые губы, и в черном рту ее блестел золотой зуб. И речные берега, и обочины дороги жестко щетинились мертвой травой; сухие кусты на кочках торчали неопрятно, напоминая старческие бородавки. Словом, сама природа в то утро сильно смахивала на покойницу, и только легкий парок над речкой показывал, что она притворяется.
Козлов, Твердое и Барабулькин не были профессиональными копцами-могильщиками. На это дело их отрядили с завода, пообещав, естественно, по отгулу. Добравшись до кладбища, они постучались в дверь маленького домика, выстроенного при въезде. На домике прибита была вывеска «Зал прощания», но копцы знали, что это никакой не зал, а всего лишь сторожка, где хранился инвентарь и грелся у печки кладбищенский смотритель Ильич.
Ильич внимательно оглядел мужиков — не ханыги ли — и выдал им две лопаты, лом и лестницу. Бородатый, как Сусанин, он повел их, уверенно вспушая снег, на край кладбища — туда, где еще не выросли деревья и где желтели молодые кресты-новобранцы.
Барабулькин, замыкавший отряд, задержался у чьей-то старой могилы.
— «Прохожий, остановись! Ты в гостях, а я дома», — вслух прочел он на покосившемся кресте. — Читал? — толкнул он Твердова.
— Угу… — ответил Твердов.
— Хорошо сказано!
Ильич привел их на место и проинструктировал, где и как им копать.
— Ничего, — ковырнул он лопатой землю, — еще не прихватило… Хотя все равно с глиной намаетесь. Так что отдохнуть ко мне милости просим… небось, захватили с собой — для сугреву?
За работу они взялись довольно резво, однако вскоре поняли, что смотритель был прав: кладбищенская глина оказалась тверда как камень и с трудом подчинялась даже лому. Провозившись с перекурами часа четыре, неопытные копцы действительно умаялись.
— Хорош! — объявил, наконец, Козлов. Пошли обедать.
Они побросали инструмент в недорытую яму и побрели по собственным следам назад в «Зал прощания». Козлов с Твердовым дорогой толковали о каких-то делах, а любопытный Барабулькин озирался. Могильные холмики были покрыты свежим снегом, и казалось, что это и есть сами покойники, лежащие под общим белым одеялом. Вороны, обычный гарнизон любого российского кладбища, сидели на безлистых деревьях и молча без интереса наблюдали за мужиками: они понимали, что поживы от могильщиков не будет.
В «Зале прощания» было жарко натоплено, К Ильичу из городка пришли две собаки и лежали у печки, воняя псиной. Увидев мужиков, смотритель обрадовался.
— Молодцы, робяты! — похвалил он. — Полдня уже, а они тверезые… Давеча одни копали — так все к обеду и полегли в могиле.
Козлову, как старшему в их бригаде, на заводе выделили со склада ЛВЖ литр технического спирта; кроме того, каждый из копцов принес из дома по увесистому «тормозку» со снедью. Обед получился обильный — угощали не только Ильича, но и собак. Спирт, как ему и положено, ударил в головы не сразу, а с запозданием, исподтишка, так что к концу трапезы «тверезых» среди них уже не было. Старик Ильич, захмелев, развеселился и молол всякую чушь.
— Я, — болтал он, — тута, как Ильич в мавзолее… мумия! Меня смерть не берет, как я есть ее прислужник.
Дворняги, налопавшись объедков, заснули друг на друге, словно пьяные. Ильич тоже начал задремывать. Козлов вздохнул и скомандовал «подъем»: хочешь не хочешь, а работу надо было заканчивать. Вернувшись на место, они поняли, что могилу придется докапывать вдвоем: молодой Барабулькин, как оказалось, совершенно окосел и к делу стал непригоден. Тем не менее к сумеркам могила была готова. Козлов подровнял стенки и по лестнице вылез из ямы. Появился проспавшийся Ильич. Он поглядел вниз и похвалил:
— Молодцы, дотемна спроворили.
Смотритель взял инструменты, а Козлов с Твердовым подхватили под руки бессмысленно улыбавшегося Барабулькина. Расставались с Ильичом у сторожки; довольный старик пожимал мужикам руки:
— Прощевайте, робяты. Случай чего, заходите…
Козлов, усмехнувшись, возразил:
— Кто же к тебе сюда придет без нужды…
Старик согласился:
— И то верно — никто… окромя энтих, он кивнул на собак. — Ладно, ступайте с Богом, только свово не потеряйте. Не то замерзнет и обратно сюды… хе-хе… по нужде.
Разумеется, Козлов с Твердовым Барабулькина не бросили. Его, измазанного в снегу и кладбищенской глине, доставили домой, завели на этаж и прислонили к квартирному косяку. Потом они позвонили в дверь и… быстро выбежали на улицу, чтобы не объясняться с барабулькинской женой. Там, на улице, мужики рассмеялись сами себе — тому, как дали стрекача, словно пацаны.
На другой день были похороны. Барабулькина не пустила жена, а может быть, он просто не явился с похмелья. Козлову с Твердовым предстояло нести гроб; к ним присоединились еще Титов и Лопанов. Хоронили Варвару Нефедову, мамашу Александра Палыча, их начальника участка. Нести ее было одно удовольствие, Потому что она почти ничего не весила. Гроб с покойницей выставили перед домом на табуретки и немного около него потолклись. Потом его занесли вместе с венками в кузов грузовика и повезли в церковь на отпевание. Желающие тоже поехали следом в заводском автобусе. Перед церковью процедура повторилась в обратном порядке: гроб со стуком вытянули из кузова и на плечах понесли в храм. Покойница от этих манипуляций покачивала головой, будто сетовала на лишнее беспокойство. Одна старушка в публике даже сказала другой:
— Знать, не хочет Варвара в церковь…
И та согласилась:
— Угу… Как была кумунисткой, так и осталась.
Мужики внутрь не пошли, а остались курить за церковной оградой.
— Теперь надолго… — сказал задумчиво Твердов.
— Да уж… — согласился Козлов. — Покурим — пойдем греться.
— Раньше по-другому хоронили: прямым ходом.
— Зато с оркестром… — Козлов усмехнулся.
Действительно, в прошлые времена хоронили у нас с оркестром. Что ни неделя, с разных направлений ветер доносил скорбные нестройные завывания труб и глухое буханье переносного барабана. Музыканты порой «выходили на жмура» такими пьяными, что спотыкались не только в мелодиях, но и просто ногами. Но то было раньше…
Что ж, хоть и без оркестра, но старуху Нефедову похоронили по-людски. Александр Палыч остался доволен. Перед тем как поставили и заколотили крышку, он долго всматривался в серое лицо мертвой матери и что-то поправлял у нее в гробу. Конечно, в продолжение тягостной процедуры все провожатые порядком замерзли, однако вернуться в автобус не решались из приличия. Впрочем, это ничего: с кладбища их повезли в заводскую столовую на поминки, и там они отогрелись.
Больница (3)
— Мишка!
— …?
— Заболел!
Кобелек подумал и лег на бок, косясь на колбасу в Маринкиной руке.
— Мишка!.. Летальный!
Он закрыл глаза, хотя хвост его продолжал постукивать по полу.
— Ай да молодец!.. А еще что он умеет?
Маринка засмеялась:
— Мишка!.. Эйбель идет!
Пес заскулил и полез под стул.
— Ну прямо цирк!
Конечно же, Маринка обманывала. Эйбель сегодня в отделении отсутствовал, потому что день этот был воскресный.
Накануне ночью разыгралась непогода. Встряхивая ветхий барак, ветер налетал, ускорял бой капель по жестяному подоконнику. Ближняя осина кренилась и скреблась, скреблась в окно, будто просилась в палату… Потом дождь сменился метелью, которая, стихнув, перешла в густой снегопад. Утром все звуки в отделении звучали глуше обычного, словно бы его простегали снаружи ватой.
Выглянув в окно, Сергеев увидел, что пришла зима.
Сдавая смену, Алевтина озабоченно щупала батареи:
— Не подвел бы Емельяныч…
Но Емельяныч не подвел. В окно было видно, как густо, бойко дымила больничная кочегарка, полуврытая в землю наподобие дота. Истопник Емельяныч только изредка показывался на поверхности — зачерпнуть ведром из не разобранной покамест угольной кучи. Этот «дот», как свой огневой рубеж, он должен был теперь стойко держать до весны. Сам одетый в невзрачный мундир из угольной пыли, Емельяныч даже не взглядывал за недосугом на свою противницу — зиму. А она между тем наступала во всей красе: в белом новеньком кителе, ослепительно сияя золотой кокардой, зима развертывала свои полки под голубым без пятнышка огромным знаменем…
С утра по свежевыпавшему снежку в отделение потянулись посетители. Граждане «с воли» входили, тронутые морозцем, краснощекие, бодрые. Однако, попав в сумеречное паркое чрево барака, пахнувшее клозетом, бинтом и казенной кухней, они как один конфузились и робели. Здесь им делалось не по себе, как тому древнегреку, что попал в загробное царство. Посетители со скрытой тревогой высматривали «своих» среди бледных обитателей отделения. Но они ли это? Те ли их близкие, домашние, выплывали навстречу, сгустившись из душного воздуха, перебирали передачи и выслушивали семейные интимные доклады?
И к Сергееву пришла жена — принесла сумку с разными вкусностями. И она, как полагается, пыталась оживить, развлечь его беседой. А где-то за семью одежками млело ее женское естество и спрашивало о своем…
В это воскресенье посетители были у каждого из сергеевских сопалатников. К Сучкову приходила супружница — такая же худая и нервная, как он сам. Она шептала ему что-то на ухо и подозрительно посматривала по сторонам — выясняла, наверное, не обижают ли тут ее Якова Денисыча. Николая Федорыча навестила дочь. Без лишних слов она вымыла ему тумбочку, перестелила постель, посидела молча минут десять и ушла, поцеловав его на прощанье в шершавую щеку. Но хотя дочь держалась с ним чрезвычайно сдержанно, Федорыч почему-то разволновался: сопел, протирал очки и после ее ухода курил один на веранде. Ближе к обеду за дверью раздались топот и зычные голоса. В палату, следя на линолеуме, ввалились трое дюжих мужиков — Михалычевы работяги. Они бросили ему в кровать большой пакет с апельсинами.
— Ты че это, в натуре, удумал, Михалыч? Работы невпроворот, а он залег! Хотя бы на мобилу позвонил… На вот, реестры подпиши…
Михалыч подписывал и ухмылялся почти застенчиво.
— Не умею я с этой хреновиной обращаться, — оправдывался он. — Какие там кнопки нажимать — никак не усеку…
Позже всех, уже когда стемнело, побывала посетительница и у краснолицего Сашки. Была эта женщина ему сожительница или просто знакомая, приятели так потом и не выяснили, потому что Сашка на их расспросы отвечал уклончиво. Сначала в окне палаты показалось ее белое круглое лицо, а через несколько минут уже вся тетка вошла с другой стороны — через дверь. Была она полная, немолодая, и все косилась на мужчин с боязливой улыбкой, пока Сашка выгружал в тумбочку принесенные ею харчи. Потом он взял ее за руку и увел на веранду, где они шушукались битых полчаса.
Но лишь один посетитель выразил желание остаться на ночь — рыжий кудлатый Мишка. Будучи изгнан изо всех других палат, он нашел себе приют в мужском общежитии: здесь запах псины никого особенно не раздражал. Правда, Маринка хотела его вытурить, но вместо этого осталась сама — поужинать с мужчинами за их общим, богатым сегодня столом. Потом вся компания до полуночи играла в «козла» навылет…
Ночью Сергеев проснулся от женского истошного визга. Первая мысль была, что в отделении опять кто-то умер. Но в следующее мгновенье он услышал звон бьющегося стекла и почувствовал едкий запах гари. Он вскочил. В щели под дверью вспухал белый, словно ватный валик.
— Горим, братцы! — Сергеев схватился за штаны.
— Полундра! — заорал Михалыч, и вся палата повскакивала с коек.
Сучков, как был в трусах, рванулся к окну, но Сергеев его оттащил:
— Куда, дурак! Хочешь, чтобы полыхнуло?!
Полуодетые, они выбежали в коридор.
Там, задыхаясь в дыму, металась Маринка:
— Мужчины! Лежачим помогите!
Женщины, воя от страха, лезли на подоконники и кулями переваливались наружу, в снег. Лежачие сползали с кроватей и падали со стуком на пол. Крик и стоны стояли повсюду. Сергеев с товарищами хватали старух и переправляли их через растворенные окна. Но через эти же окна, вместе с уличным воздухом, пожар получал свою силу. Все новые кроваво окрашенные сгустки дыма выхаркивались откуда-то, и уже отчетливо слышалась грозная хрусткая поступь огня…
— Сергеев! — Маринка кинулась к нему, давясь кашлем. — В пятой бабка парализованная осталась!
Зажав рукой нос и рот, Сергеев бросился по коридору и исчез в дыму…
Сколько длилась вся эта суматоха — кто может сказать. Спустя, быть может, четверть или полчаса люди, уже сбившись дрожащей кучкой, стояли и в оцепенении смотрели, как гибнет второе отделение.
Только когда окна барака превратились в красные рыкающие пасти, когда над проваливающейся крышей взметнулись победные языки пламени, взвыла где-то рядом пожарная сирена. Машина протаранила забор и увязла в сугробе; в снег из нее попрыгали нетрезвые огнеборцы. Но покуда бойцы, мешая друг другу, разматывали рукав, их усатый командир уже командовал «отбой». Тушить пожар было поздно.
Ведомые кашляющей Маринкой, с охами и причитаниями, несчастные потянулись в первую терапию. Перебудив аборигенов, они набились в чужое отделение целой толпой, принеся с собой запах шашлыка и наполнив барак стенаниями. Вскоре туда же прибежал всклокоченный Эйбель и появился откуда-то милицейский капитан с блокнотом. Началась перекличка. Капитан записывал фамилии аккуратно, иногда уточняя, а когда закончил перекличку, зачитал список и спросил, все ли налицо.
— Сергеева нет! — послышался мужской голос.
— И бабушки одной! — добавил женский.
— Сергеева нет, — капитан записывал, — и бабушки одной… Как ее фамилия?
Растительная жизнь
Наши ветерки местные — порядочные лентяи: по большей части спят котами в лесу, прядая еловыми верхушками. Разве приснится что — и ударят, махнут по полю пыльными хвостами, взъерошат траву, и кружатся потом пчелы, вспоминая, за каким цветком обедали. Но бывает, конечно, и им, сибаритам, заохотится размяться. Они приходят в городок на мягких лапах и гуляют по улицам, играют с чем попало и пристают к людям: уберут со лба волосы, перевернут, наконец, теребимую пальцами страницу. А то вздуют кверху клешеную юбчонку или примутся кувыркать в небе галок, взвизгивающих от восторга.
Наши ветерки любят пошалить: захотят — и затолкают обратно дым в печную трубу или заберутся к мужику в самое брюхо, покрутят там да и выскочат на волю со страшным шумом. Но как бы им ни вздурилось, играя, наши ветерки когтей не выпускают. Другое дело ветры залетные, пришлые, — эти рвут не шутя. И несут они с собой не лесной йод, а вонь гари, и слышится в них не птичий гам, а волчий вой (но это, говорят, не волки, а муэдзины воют за лесами). Злые ветры докрасна раскаляют топки телевизоров, и те изрыгают пламя, пытаясь опалить нам лица. Эти ветры валят вековые деревья и срывают домовые крыши; признаться, немало шапок унесли они и с наших голов. Однако не сами головы — такое даже им не под силу: слишком крепко пришиты головы к плечам, слишком глубоко тела наши врыты в родной суглинок Мы непросты. Мы научились греться у телевизора, как у комелька. Нас невозможно напугать и очень, очень трудно разозлить. Ветер налетел и… стих — увяз в дремучем лесу. А телевизор — он же такой маленький, меньше собачьей будки, в которой скачут блохи. Мы усмехаемся миру, копошащемуся в ящике, зеваем и уходим спать. Возможно, и миру, моргающему воспаленными телеглазами, мы безынтересны. Но это уж всяк сам решает, что важнее: завтрашняя прополка в огороде или, положим, обострение в Гваделупе. Мы не навязываем никому свои ценности, однако привержены им до последнего вздоха. Взять для примера Селиверстова Пал Егорыча. В сентябре прошлого года (а год был очень сухой) лежал он в нашей больнице и помирал от рака. (И главное, знал, что помирает.) Так он все дела свои успел устроить: дарственные, какие надо, написал, с попом, отцом Михаилом, сам заранее договорился. И в числе важного Татьяне, жене своей, велел обязательно хорошенько яблони пролить. Тетя Таня сперва не поняла — даже подумала, что он бредит: как это, осень — и поливать? А он ей разъяснил: «Дура, — говорит, — лето ж сухое было! Обязательно надо полить на зиму. И вообще… делай, что велю». (Правильно, кстати, сказал.)…
Вот так мы о своем заботимся: если что посадили, растим до последнего. Это и есть растительная жизнь — когда все растет и все живет. Растительная жизнь — чем она плоха? И воздух где чище, нежели в лесу, среди растений? Однако находятся критики — кого ветром занесет, кто самоходом (жабу свою выгуливает). Те самые бедолаги, которые путают свои нервные болезни, понимаешь, с духовностью. Поживут три дня, и уж готов у них приговор: «Скушно, — говорят, — тут у вас. На какой участок ни заглянешь, везде одно и то же: яблони да огород, а в огороде картошка да огурцы, кабачки да капуста».
Что им возразить? Во-первых, пробовали мы сажать и патиссоны, и топинамбур, но они нам не понравились. Во-вторых, если разобраться, то и огурцы, и капуста у всех разные: кому что удается. И в-третьих, пусть не часто, но и в наших огородах такое порой диво вызреет, что руками разведешь. Но нарочно чудеса выращивать — это увольте. Пускай природа сама распорядится, не надо ее насиловать, и себя тоже. У природы нет таких растений, чтобы цвели беспрерывно, а каждое тихо сидит, набирается соков и лишь иногда, поднатужась, выпустит цветок — кому на пользу, а кому на радость. А вечные цветы — кладбищенские; сидят на проволочках, и радости от них нету ни им, ни покойникам. И душа человеческая цветет не каждый день — бывает, что раз в жизни. Что ж, лишь бы не на проволочке цвела, лишь бы не бумажным цветом.
Скучно? Да уж, так и веет скукой от этих физий, заглядывающих через наши заборы. И нечем, кроме скуки, и пустоты своей, и болезней своих, им с нами поделиться. Иному, разве, придет охота о нас, убогих, порадеть. Приставит ко лбу ладошку, окинет глазом: «Эй вы, — крикнет, — овощные культуры! Разогнитесь, посмотрите, как интересен мир, сколько в нем такого разного… прекрасного». — «Мир-то, может, интересен, — отвечаем мы, не разгибаясь, — одначе жизнь коротка. Посадить бы успеть да вырастить». — «Это что же — вы, стало быть, этим и счастливы?» — удивляется он. — «Стало быть, так. Иди с Богом и не мешай». И отступается благодетель, и кривится от скуки: «Эх, растительная ваша жизнь… Тьфу на вас!»
Тьфу и на тебя. Мир твой мы и по телеку посмотрим, а здесь десять соток, и со всем надо управиться. Бумажные цветы годятся, быть может, для кладбища, но не вешай нам их на уши. А настоящие цветы тоже, между прочим, в земле растут, и кто хочет их выращивать, забудь о таком всяком, забудь о болезнях нервных, обо всем лишнем и трудись, как если бы растил овощи. Эдак мы ему образно отвечаем.
Вон Галька Уткина — на цветочках, можно сказать, всю семью содержит. И на рынке не гнушается стоять. То же и муж ее, Вовка-художник, — плохой-хороший, мы не понимаем, главное трудится, рук не покладая, и все его уважают. В каждом почти доме по картине его висит, а спроси его, где эта Гваделупа, — он не знает. Зачем ему Гваделупа или всемирная интеграция, когда он даже в Союз художников не вступает? «Не нужны Мне, — говорит, — буклеты и вернисажи с шампанским — у меня и костюма-то приличного нет». Зато у него есть поле и речка, и Галя белокожая, и фантазии хоть отбавляй — он тебе такое нарисует, чего в жизни-то не увидишь. Зато сосед ему, неловкому, всегда калитку или крыльцо поправит, а возьмет за работу свой пруд собственный с гусями, которых Вовкин талант в лебедей оборотил.
А союзы эти — они до добра не доводят, между прочим. Что гулящему человеку некогда в доме крышу ладить, то и суетящемуся — починять свою голову. Вот пример: писатель наш, Подгузов. Был когда-то член Союза, большой человек, почет имел. И что же? Первым ветром крышу ему снесло — не вынес, видишь ли, трагизма перемен. Ходит теперь, болезный, по улицам, «галочки» пускает.
А вот обратный пример. Есть, говорят, у нас такой Сергеев — однофамилец твой. Обычный мужик, на заводе работает; квартира, семья — все как у людей. Однако рассказы пишет не хуже писателя — уже книжку написал. Но обрати внимание, про что пишет — про нас, про наш городок, про вот эту самую растительную жизнь. А мировые проблемы ему до фени… Да что я тебе толкую, сам, поди, о нем слыхал?
Инфо
____________________
Сканирование, обработка,
вычитка и конвертирование dnickn.
Специально для «Книжного трекера»
(http://book.libertorrent.com)
Самый большой выбор книг!
____________________