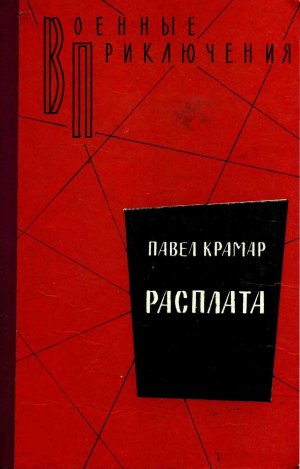
Павел Крамар
РАСПЛАТА
повесть
Глава I
В РЯДАХ АРМЕЙСКИХ ЧЕКИСТОВ
Весна в том году пришла в Хабаровск рано и была холодной, капризной. Не сумев одолеть своим первым бурным натиском устоявшуюся за суровую зиму стужу, она надолго затянулась, заметалась непроглядными колючими метелями и вихрями. Солнце все сильнее пригревало в полдень. Оно уже успело согнать почерневший за зиму снег с протянувшихся по крутым холмам и высокому берегу Амура улиц и скверов города. Но по ночам от реки тянул резкий северняк, как бы советуя горожанам: расставаться с зимней одеждой спешить не надо. А за городом снег лежал почти нетронутый. Величавый Амур еще спокойно дремал, закованный метровым льдом и укутанный снежной пеленой, по которой гуляла пенисто-кружевная поземка. И казалось, что нет на свете силы, способной оживить и всколыхнуть таежного речного великана.
Ранним утром, когда по студеным улицам проворно пробегали редкие прохожие, к многоэтажному зданию, в котором размещались межкраевые курсы по подготовке оперативного состава органов госбезопасности, быстрым твердым шагом подошел, поеживаясь под порывами леденящего ветра, высокий широкоплечий военный в форме майора-пехотинца. Предъявив стоявшему при входе часовому удостоверение личности на имя сотрудника Управления особых отделов МГБ войск Дальнего Востока Батищева Петра Петровича, он поднялся на второй этаж, шагая по крутой лестнице рывками, через две ступеньки. Затем направился к кабинету начальника курсов, с которым они накануне условились встретиться до начала занятий.
— А, Петр Петрович, заходите, пожалуйста, — приветствовал начальник курсов майора Батищева и поздоровался с ним за руку. — Оказывается, амурскому ветерку и сибиряки подвластны, продолжал он шутливым тоном, всматриваясь в разрумянившееся широкоскулое волевое лицо майора и жестом руки приглашая присаживаться к столу.
— Вы правы, амурский сквознячок продолжает шалить и продирать, словно наждачком, щеки и уши, — сдержанно улыбнулся Петр Петрович.
— Мне сообщили, что руководство управления утвердило ваше обзорное выступление перед курсантами по ранее проведенным оперативным мероприятиям. — Гремя стулом, начальник курсов тоже сел за стол, застланный зеленой скатертью. — Об этом я и хотел поговорить. Возможно, у вас есть какие-то соображения на этот счет?
— Материалы мной уже собраны, выступление подготовлено, — раздумчиво произнес Петр Петрович. — Намереваюсь рассказать курсантам о проведенных армейскими чекистами операциях по разгрому японских разведорганов в Маньчжурии во время войны с Японией в 1945 году. А также о розыске и обезвреживании агентуры этой разведки в Приморье… О тех событиях хотелось бы не просто рассказать, но в меру сил проследить, как они назревали и вытекали из конкретной обстановки. Кроме того, хочу коснуться вопросов становления и мужания молодых контрразведчиков. Как видите, задумано немало. Поэтому просил бы выделить мне время, возможно, за пределами ваших официальных напряженных плановых занятий, чтобы разговор повести не в академическом ключе, а в более свободной манере — это доходчивее для молодежи.
Задав ряд вопросов Петру Петровичу об объеме материала, о фамилиях и судьбах участников событий, о которых пойдет речь, начальник курсов поднялся, заглянул в лежавшую на столе синюю папку с какими-то документами, прошелся по кабинету взад-вперед, о чем-то размышляя, и, остановившись перед собеседником, сказал:
— Значит, поступим так: завтра ваши соображения мы рассмотрим на учебном совете. Думаю, время для ваших выступлений найдем.
Потом он — по его словам, для ориентировки — кратко проинформировал Петра Петровича об учебе, дисциплине и социальном составе курсантов.
Через полчаса они тепло распрощались.
Несколько дней спустя Петру Петровичу сообщили, что руководство курсов отвело для его выступлений необходимое время — за счет уплотнения вечерних занятий и часов самоподготовки курсантов. Затем в просторном конференц-зале состоялось его первое выступление. Начальник курсов представил рассказчика аудитории и сам остался здесь послушать его.
Петр Петрович поднялся на сцену, подошел к трибуне. Не без волнения окинул он взглядом зал, почти битком заполненный слушателями.
«Оправдает ли мой рассказ их ожидания? — подумал он, борясь с закравшейся на мгновение в его душу нерешительностью, прокашлялся, пробуя голос. — Ну что ж, раз взялся, надо постараться…»
Он положил руки перед собой на трибуну и тут же почувствовал привычную уверенность в себе. Но все же он молчал, возможно, дольше, чем нужно в таких случаях, собираясь с мыслями и как бы углубляясь в них. Наконец задумчиво вглядываясь в исполненные нетерпеливого ожидания и любопытства лица курсантов, потирая руки, словно на морозе, что делал Петр Петрович по давней привычке в минуты сильного душевного напряжения, он заговорил вполголоса:
— Прежде чем приступить к главным событиям своего рассказа, надо, на мой взгляд, сделать несколько вступительных пояснений…
Он глубоко вздохнул, окончательно преодолев внутренний барьер, и повел рассказ о самом себе так, словно бы о постороннем:
— В целом ряде событий, о которых пойдет речь, будет фигурировать и моя личность. Поэтому уместно немного сказать о той моей личности, какой тогда она была, то есть откуда и с каким идейно-нравственным багажом пришел я в армейскую контрразведку, как мне тогда представлялась чекистская профессия… Кстати сказать, чекистов, в частности военных контрразведчиков, кое-кто считает людьми особыми, необыкновенными, с почти что сверхчеловеческой выдержкой и упорством в достижении цели, с незаурядными умственными и физическими способностями. Возможно, все это так. Во всяком случае, под влиянием прочитанных книг и различных рассказов раньше я тоже считал чекистов людьми особыми, которые, как говорится, видят под землей на метр и даже глубже. О том, чтобы самому стать в их ряды, я тогда не думал. И не скрою, был даже удивлен, когда, уже во время войны, особый отдел предложил мне перейти к ним на работу. Я начал отказываться от этого предложения, просил оставить меня на прежнем месте. Мне посоветовали подумать и — «зайти завтра утром». И вот накануне, в ту бессонную ночь, я мысленно перебирал по косточкам свою недлинную, двадцатитрехлетнюю биографию. Чем упорнее думал, тем больше сомневался: справлюсь ли с обязанностями чекиста? Ведь вырос я в простой крестьянской семье в таежном сибирском селе. В детстве вместе с другими мальчишками, как водится, озоровал, дрался со сверстниками и любил бродить по таежным дебрям. «Какие уж тут чекистские задатки!» — думалось мне. А в студенческие годы, в педучилище, успехи мои были скромными. Среди студентов я встречал действительно заметных, вроде бы необыкновенных ребят. Даже тайком завидовал им. Они уже летали на самолетах, обучались при Осоавиахиме, прыгали с парашютом, бойко выступали на собраниях, были запевалами на студенческих линейках, что очень высоко у нас ценилось. «Вот это ребята!» — восхищался я. А что моя личность представляет? Разве только то, что иногда меня похваливали за безотказность в работе. Ну что еще? Я рано стал интересоваться политическими вопросами, а в двадцать лет вступил в партию. А еще: любил с детства честность и справедливость. И вот говорил тогда себе (да и сейчас говорю): «Но это же обычные качества многих советских людей. Ничего тут нет особенного».
Итак, на другой день утром я пришел в особый отдел нашей воинской части и попытался снова отказываться — не достоин, мол. Мне сказали: о моей кандидатуре уже доложено комиссару полка и, как член партии, я обязан быть там, где более всего нужен. Тогда я опустил руки по швам — и моя судьба была решена…
А до этого, окончив педучилище, я два года работал учителем. После призыва в армию в сентябре 1939 года служил в 66-й стрелковой дивизии, стоявшей в городе Приморского края. Вначале служил рядовым, а потом заместителем политрука… Никогда не сотрется в моей памяти первый день войны. В то воскресное утро мы проводили в батальоне соревнования по волейболу. И вдруг — тревога. Война!.. Это известие потрясло всех нас, бойцов и командиров, вызвало в душе гнев и ненависть к фашистским захватчикам и какое-то новое, глубоко тревожное чувство, не покидавшее меня всю войну.
Вскоре мы совершили марш и заняли оборонительные позиции на правом берегу реки Уссури, у самой границы с Маньчжурией, где тогда окопались японские самураи.
В то время японские милитаристы, наглея с каждым днем, устраивали здесь одну провокацию за другой. Демонстративно разъезжая на катерах по Уссури, они ликовали, размахивая своим и немецко-фашистским флагами. Небольшие отряды самураев иногда средь бела дня высаживались на нашем берегу. Но мы вынуждены были терпеть все это, не стрелять до поры по провокаторам, поскольку был приказ проявлять выдержку…
Но одна из провокаций японцев была столь наглой, что едва не переросла в вооруженный конфликт, вызвав нервный срыв у нашего командира отделения Конопленко Антона.
Антон служил в одном со мной взводе. Прилежный я крепкий физически, он стойко переносил армейские тяготы. К товарищам относился просто, душевно. Но как оказалось, наш добрый Антон не всегда мог сдерживать свои эмоции, терял голову от гнева. Будь я тогда внимательнее и поопытнее как замполитрука, возможно, помог бы ему избавиться от этих недостатков или хотя бы не допустить, чтобы Антона посылали в наряды на горячие участки границы. А повод, чтобы получше раскусить Антона, был. Однажды в задушевной беседе мы коснулись фактов людской несправедливости, и я рассказал Антону об одном случае.
Произошло это давно, было тогда мне лет двенадцать. Крестьянских детей к труду приучают с малолетства, и я уже тогда пахал землю. И вот возвратился как-то с поля, отвел лошадей на колхозный двор, а конскую сбрую кинул на предамбарник. Уже домой зашагал, да тут возьми и окликни меня плотник Лосев Евмен: «Эй, Петька, подожди! Ты взял мои гвозди?» — «Какие гвозди? Нет, я не брал». — «Да вот здесь лежали и куда-то делись — двести гвоздей, связаны в два пучка шпагатом, я привез их из района», — совсем расстроился Лосев.
При этом разговоре присутствовал старший конюх Гнуско Матвей. Тряся своими жирными, красными щеками, он начал сыпать скороговоркой: «Кум Евмен, ето он взял, больше никто сюда не подходил, а он тут все терся возле нас». — «Не брал я гвозди! — набычился я. — Зачем вы напрасно говорите, дядя Матвей? Вот смотрите, у меня ведь ничего нет ни в руках, ни в карманах».
Пристально посмотрел на меня Лосев и вроде бы неопределенно проговорил: «Да и правда у него ничего нет». — «Кум Евмен, — хрипел, едва не задыхаясь Гнуско, — он где-то тут спрятал гвозди, а потом заберет. Пошукай, хлопец, может, и найдешь». — «Не видел я гвоздей и не брал!» твердил я уже сквозь слезы, будучи кровно обиженным нападками Гнуско.
Тем не менее вместе с Лосевым и Гнуско я стал искать пропажу. Засунул руку под пол амбара, и точно — нащупал там пачки гвоздей, вытащил их и закричал от радости: «Вот гвозди, под амбаром лежали!» — «Видишь, кум Евмен, прижали ево, он и достал. Ето он украл и спрятал. Дай-ка ему по шее хорошенько!» — сквозь зубы говорил Гнуско и хотел было схватить меня за руку, но я отскочил в сторону. «Как же ты мог такое сделать? — укоризненно и вроде сочувственно проговорил Лосев, качая большой седой головой. — А ведь фамилия ваша всегда была порядочная». — «Дядя Евмен, неужели вы ему поверили? Если правда, что к вам никто не подходил, то гвозди спрятать мог только сам дядя Матвей, а на меня спирает». — «Ах ты, сукин сын, безбатченко, я вот тебе сейчас задам!» — взвыл не своим голосом Гнуско и всей своей полной, бесформенной тушей ринулся на меня.
Я отбежал от него, забрался на забор и уселся на нем, готовый спрыгнуть на другую сторону, в переулок. Гнуско не преследовал меня, но продолжал кричать и ругаться.
На шум к амбару собралось уже с десяток колхозников. Меня душила обида и злоба: я безвинно был опозорен перед людьми, но не знал, чем доказать свою правоту. Наконец задыхаясь, я закричал на весь двор: «Дядя Матвей, вы сами прибрали гвозди! Вы и еще кое-чего тягаете из колхоза!» — «Что я тягал? Ты видел, паршивец, говори!» — «Не видел, а знаю!» — кричал я. «Что ты знаешь и мелешь тут?» — «А вот что я знаю! В воскресенье вместе с вашим сыном Гошкой я зорил воробьиные гнезда в вашем старом гумне в конце огорода! И мы нашли там запрятанные в соломенной крыше колхозные уздечки, вожжи и выездную дугу! Это вы утащили и спрятали!» — со слезами на глазах, но уже торжествующим тоном кричал я.
Гнуско опешил и замолк на несколько секунд, а затем ухватил палку и прытко бросился на меня, матерно ругаясь. Я соскочил с забора в переулок и побежал за огороды к речке. Гнуско гнаться за мной не стал, но его злобный, наигранно-торжествующий голос долго не затихал.
А я тем временем горько плакал у речки, умываясь ее прохладной водой. Меня мучило не только лживое обвинение в воровстве, но и обидное слово — «безбатченко». Не прошло и года, как умер наш отец, и больная мать выбивалась из сил, бедуя с нами семерыми. Да, без отца нас можно унижать и обижать как вздумается, а заступиться — некому. Как же мне доказать сельчанам свою невиновность?!
После долгих переживаний и раздумий я решил ничего пока не говорить о случившемся больной матери. Подождать прихода домой старших братьев, которые работали трактористами в нашем колхозе, и попросить их как-нибудь отомстить Матвею Гнуско. Такое решение меня немного успокоило. Я пришел домой, поужинал и лег спать, а рано утром уехал в поле.
Пока я ходил за плугом со своим горем в душе, не отрывая опухших глаз от ловко перевертываемого начищенным лемехом пласта чернозема, в селе вокруг случая с гвоздями развернулись самые неожиданные для меня события, о которых я и предполагать не мог.
Оказывается, разговоры о хищении гвоздей и краже колхозного имущества в тот же вечер дошли до председателя колхоза. Заподозрив Матвея Гнуско в нечестности, он отдал распоряжение осмотреть его клуню, что и сделали бригадир и два комсомольца рано утром, когда хозяин клуни еще спал. Разворотив соломенную крышу этого ветхого строения, они нашли там и принесли в правление колхоза две наборные уздечки с ременными поводами, трое вожжей, дугу, шкворни, сошники от плугов, сыромятные супони, чересседельники. Все это положили рядком на скамейку. Позвали Матвея Гнуско. Когда тот глянул на эту картину, тотчас онемел, а потом, придя в себя, стал, нервничая, отпираться: «Впервой вижу такое. Небось ето сын мой Гошка натаскал в клуню. Ну, подлец, испорю ево до крови».
С тем и убежал домой.
В тот же день Матвея Гнуско отстранили от должности старшего конюха. Чтобы как-то сбежать от позора, он выпросил у колхозного председателя разрешение уехать в дальнюю бригаду — на полевые работы почти на все лето…
Петр Петрович замолчал, поблагодарив кивком молоденького лейтенанта, поставившего на трибуну графин с водой и стакан, затем продолжал:
— Выслушал меня наш слабонервный командир отделения Антон Конопленко и спросил с неудовольствием: «Это и все? И ты не посчитался с Матвеем Гнуско?»
Я ответил, что тому достаточно влетело и без меня. Вора разоблачили, пристыдили всем селом, и тем самым как бы снято было пятно с нашей семьи.
«Нет, я бы тем не ограничился!» — зло прищурился Антон. — «А что бы ты сделал?» — «Я бы его избу спалил — не простил бы подлюге!» — «Как же можно палить? Ведь у него шестеро ребят и — мал мала меньше. В чем они виноваты?» — «Ну и что? — Глаза Антона засверкали, как у сумасшедшего. — Лес рубят — щепки летят…»
Пожурив собеседника за излишнюю его эмоциональность, я на этом разговор с ним закончил, не предполагая, что необузданная мстительность — действительно в его характере и что она себя вскоре проявит в самый неподходящий для нас момент…
Петр Петрович отнял руки от трибуны, как бы отталкиваясь от нее. Прошелся по сцене не спеша, чуть враскачку, вроде прощупывая твердь ее, и вдруг резко остановился, напряженно глянул в затаившийся зал:
— Да, не секрет, что японские самураи с первых же дней нападения гитлеровцев на нашу страну постоянно устраивали провокации на дальневосточной границе, то и дело имитируя нападение на нас, понимая, что мы не заинтересованы в вооруженном конфликте с ними. Так было и в одну из июльских ночей тяжелого 1941 года….
С японской стороны донесся гул танковых двигателей, послышались взрывы. Предполагая, что это возможное скопление вражеских войск, присланных для удара через Уссури, наше командование приняло необходимые меры. Пехотинцы заняли приграничные окопы, и артиллеристы вышли на исходные позиции. На рассвете шум за рекой утих, и по ней забегали японские катера. Я лежал в тот час возле пулемета «максим», чуть позади меня — Антон со своим «максимом».
Вдруг в наш берег ткнулся носом японский катер. С его борта спрыгнули пять солдат с винтовками. Катер тут же отчалил к середине реки. Высадившиеся японцы находились от нас метрах в ста, не больше, и были видны как на ладони: на пологом песчаном берегу никакого укрытия. С командного пункта нашего батальона передали по цепочке приказ: «Усилить наблюдение, не стрелять!» И самураи, зная, что мы не будем стрелять, решили проверить наши нервы, поиздеваться над нами. Положив винтовки на землю, они повернулись к нам спинами, приспустили штаны и присели. Такую пакость они нам преподнесли впервые. Но мы проявили должную выдержку. Сорвался только Антон. Сняв штык с винтовки и ухватив ее за ствол, как палку, он ринулся на японцев.
Помкомвзвода Губарев крикнул: «Конопленко, стой, назад!»
Но Антон бежал, утопая в песке и задыхаясь от бешенства. Я бросился ему наперерез, схватил его, и мы оба упали на землю. Подоспел мне на помощь помкомвзвода Губарев — отобрали у Антона винтовку. Он весь трясся, еле шевеля белыми как мел губами: «Я покажу этим сволочам!.. В порошок сотру…»
Всю эту провокационную возню заметили бойцы из соседних окопов — подняли головы над брустверами. Тогда японцы и открыли из-за реки по нашим позициям беглый ружейно-пулеметный огонь, а к берегу, к незадачливому «десанту», устремились на большой скорости два катера. Все мы заняли свои места. К счастью, от огня японцев никто не пострадал. Однако все еще попахивало жареным: один из вражеских катеров с солдатами на борту остановился возле нашего берега. Мы замерли. Что же произойдет? Если японцы прислали подкрепление и начнется высадка нового десанта, тогда мы должны, по всей вероятности, получить приказ открыть огонь. Но на катер поспешно вскарабкались перепуганные провокаторы, и он полным ходом пошел к противоположному берегу.
Антона за его нервный срыв наказали — в дисциплинарном порядке…
Всякого рода провокации со стороны японцев все учащались. Было ясно, что своими наскоками они не только прощупывали наши дальневосточные войска, но и хотели держать их в постоянном напряжении, чтобы не допустить переброски их на фронт — для военных действий против гитлеровцев, которые уже находились на подступах к Москве.
В эти тревожные для нашей Родины дни я и подал командованию рапорт с просьбой направить меня на фронт. В просьбе отказали. А послали на курсы командиров. После их окончания и началась моя служба в военных органах госбезопасности. Попал я, скажу без преувеличения, в отличный боевой коллектив чекистов. Старшие товарищи терпеливо учили меня, с каждым разом доверяя все более сложные оперативные задания. А потом довелось мне участвовать и в мероприятиях по обезвреживанию опасных преступников…
Петр Петрович, потирая по привычке руки, замолчал. Он поглядывал на слушателей с таким видом, словно бы ожидал от них вопросов. Так, видно, и понял его кто-то из курсантов.
— Скажите, а какие все же качества чекистов считаете характерными? — спросил он. — Чем более всего сильны чекисты?
Рассказчик отпил из стакана воды глотка два, доверительно улыбнулся:
— Чекисты — рядовые бойцы за наше общее дело. И служат ему не щадя себя… Они умеют ценить в людях человеческое достоинство и стремятся понять мотивы их поступков. Поэтому они и снискали уважение у наших граждан, которые оказывают им всемерное содействие… И наконец, чекисты владеют творческим стилем работы, когда разумный риск и оперативная фантазия идут рука об руку. Вот показательный пример — дело Савинкова. Феликс Эдмундович Дзержинский тогда преподал нам удивительный урок оперативного искусства… А еще вот что добавлю к своему ответу на вопрос курсанта. Мои земляки, сибирские таежники, сравнивают чекистов с охотниками. Да, чекисты — отважные следопыты. Зачастую затаив дыхание они терпеливо наблюдают, выжидают, накапливая и анализируя информацию. А когда приходит пора — наносят точно выверенный удар по противнику…
Глава II
ДЕЗЕРТИР ИЛИ ШПИОН?
— Как путь любого идущего человека начинался о первого шага, — продолжал свой рассказ Петр Петрович, — так и последующие мероприятия, о которых я намерен вам сообщить, вроде бы возникли из одного изначального случая. Произошло это в марте 1945 года в городе Приморского края. Здесь располагался отдел контрразведки 1-й Краснознаменной армии, где я служил заместителем начальника отделения, имея звание капитана.
Война с гитлеровцами подходила к концу, и наша страна, верная своим союзническим обязательствам, должна была месяца через три после капитуляции фашистской Германии вступить в войну с ее союзником — милитаристской Японией. По указанию Верховного Главнокомандования началась усиленная подготовка наших войск к предстоящим сражениям. На Дальний Восток перебросили несколько армий, много отдельных соединений и частей; в дальневосточных войсках провели обновление материальной части, сформировали крупные штабы. Эти важные войсковые мероприятия не могли не привлечь внимания коварной и падкой на подрывные действия против Советского Союза японской разведки.
Органы контрразведки получили указание принять все меры по ограждению войск, и особенно штабов, от шпионских происков иностранных разведок.
В один из мартовских дней — случилось это под вечер — меня и старшего следователя капитана Таранихина Григория Фомича вызвал к себе начальник отделения армейского аппарата контрразведки подполковник Глухов Алексей Федорович. Когда мы вошли в его кабинет, он кивнул нам, предлагая сесть. Подполковник Глухов, моложавый и всегда подтянутый, любил во всем обстоятельность и аккуратность. Дочитав какой-то документ, он привычным движением руки не спеша пригладил на голове и без того хорошо лежавшую прядь редких белесых волос.
«Только что по телефону сообщил комендант гарнизона, — сказал он, — патрули задержали у воинского эшелона несколько подозрительных лиц. Сходите разберитесь с ними. Главное — выясните; кто они такие и почему там оказались. Результаты прошу сообщить по телефону. Ясно?.. Тогда действуйте».
Через несколько минут, закрыв свои кабинеты и надев шинели, мы шагали по залитым закатным солнцем улицам, перепрыгивая через парующие, словно дымившиеся, на асфальте лужи.
«Вот что, Григорий, — обратился я к своему спутнику — капитану Таранихину, — давай договоримся не горячиться при разбирательстве. Вначале досконально изучим документы, выслушаем объяснения задержанных, а потом уже начнем изобличать их, если будет такая нужда».
Сказал я это потому, что Таранихин иногда пользовался, как он считал, безошибочным «психологическим методом воздействия на преступников», который мы, чекисты, сослуживцы капитана, не принимали всерьез, иронизируя над ним.
Таранихин — мой ровесник, коренной дальневосточник. Это был энергичный коренастый крепыш с приятным розовощеким лицом, на котором постоянно играла, словно светилась из-под аккуратно подстриженных черных усиков, едва заметная улыбка.
В органы контрразведки его взяли около года назад — из военной прокуратуры. Там он и прошел следственную практику.
На станции нас встретил военный комендант капитан Кравцов Павел Акимович. На эту должность его назначили недавно — после того как он подлечился в госпитале: был тяжело ранен на фронте.
Он сказал, что с тремя задержанными, о которых сообщил подполковнику Глухову, сам разобрался. Двое из них оказались солдатами стоявшего на окраине города авиатехнического батальона. Их опознал и увез с собой присланный командиром части старшина. Третий — сторож сельпо, непригодный к военной службе, торговал возле эшелона табаком; он известен милиции, куда и передан.
«А четвертый ждет вашего разбирательства. Вот его документы: командировочное предписание, выданное воинской частью на имя рядового Кунгурцева Михаила Осиповича, продаттестат, накладная и доверенность на получение имущества связи на станции Мучная, 830 рублей. Кроме того, у Кунгурцева изъяли незаполненный бланк командировочного предписания со штампом и печатью той же части». — «Какие еще документы были у Кунгурцева?» — спросил я. «Больше никаких. Когда задержанного привели в комендатуру, тот по моему распоряжению выложил на стол содержимое своих карманов. Все, что там было, перед вами. Оружия не имел. Изъятые документы описаны вот в этих рапортах».
Мы внимательно осмотрели документы, побеседовали с патрульными. Те рассказали, что в 15 часов, заступая в наряд, видели на вокзале пехотинца — Кунгурцева — среди авиаторов и артиллеристов, а через час у эшелона с артиллерийскими орудиями, которые разгружались на платформу, вновь заметили Кунгурцева возле солдат охраны. На вопрос старшего патруля о том, что он здесь делает, Кунгурцев ответил, что, находясь в командировке, ожидает своего поезда, а к солдатам подошел покурить и узнать, нет ли среди них земляков. Патрульные отвели его в здание вокзала, где он дважды пытался ускользнуть, уклоняясь от проверки документов: вначале возле билетной кассы — хотел скрыться в толпе; затем вроде бы по ошибке шмыгнул в дамский туалет. Но патруль его не упустил, доставил в комендатуру.
Комендант Кравцов сказал нам, что на станции в тот день разгружалась прибывшая с Карельского фронта артбригада большой ударной силы. Затем он проводил нас в комнату, куда вскоре ввели задержанного.
Кунгурцев — выше среднего роста, сухощав, с широким, крутолобым лицом. Густые темные брови почти срослись на переносице. Глубоко запавшие черные глаза придавали лицу угрюмый вид. Кунгурцев нервничал, то и дело прихватывал крупными зубами-лопатами верхней челюсти нижнюю губу; плечи и руки его суетливо передергивались. Одет он был в поношенную шинель, однако она показалась нам необычной — плотно облегала фигуру задержанного, словно специально на него, солдата, была пошита. Мы ему сказали, что являемся сотрудниками контрразведки, и попросили сообщить, где он служит и как попал в город. Кунгурцев ответил, что служит связистом в городе Бикине, откуда едет в командировку в Мучную за специмуществом — радиодеталями. На «уточняющие» вопросы отвечал поспешно, подчас сбивчиво, но в основном логично.
«Как вы оказались здесь?» — «Ехал скорым поездом Москва — Владивосток, но, когда в вагоне сказали, что этот поезд не останавливается в Мучной, я сошел с него на станции в десять часов утра. Здесь ожидал отхода местного поезда, который отправляется в двадцать часов».
Названное Кунгурцевым время прохода скорого поезда и отправления местного совпадало с графиком.
«Как у вас оказался и для чего вы хранили чистый бланк командировочного предписания?» — «Нашел в казарме нашей части, но не успел сдать в штаб, виноват». — «Где ваша служебная книжка?» — «Забыл в части, виноват». — «Почему выехали в командировку, когда до возвращения в часть оставалось только три дня?» — «Командировку мне дали на десять дней, но, когда документы были выписаны, я заболел и пролежал в санчасти неделю. После выздоровления сразу уехал, рассчитывая, что успею уложиться в оставшийся срок. Если бы не уложился, то продлил бы командировку в Мучной». — «Почему убегали от патрулей?» — «Выло очень неудобно перед людьми, что меня вели под охраной, как преступника». — «Откуда вы родом и с какого времени в армии?» — «Родился в 1924 году в городе Борисове Минской области, до войны учился. Отец и мать работали на мебельной фабрике. Когда началась война, они погибли при бомбежке, а я остался в оккупации, где работал на мебельной фабрике грузчиком. С приходом в июле 1944 года наших войск меня призвали в армию, я окончил трехмесячные курсы связистов и нас направили на фронт. При бомбежке немцами эшелона под Варшавой я был контур жен и лечился в Новосибирске. Там меня признали ограниченно годным к военной службе и с командой связистов прислали в Хабаровск. А оттуда в январе 1945 года перевели». — «Назовите номер части, с которой вы убыли на фронт?» — «Не помню, забыл после контузии». — «Ваш адрес в Борисове?» — «Улица Старо-Московская, 28».
На этом мы прервали опрос. Кунгурцев энергично просил отпустить его. Но отпускать мы не собирались.
Оставшись одни, я и Таранихин, поделились друг о другом своими соображениями относительно личности задержанного. Сошлись на том, что показания Кунгурцева нужно обстоятельно проверить. Доложили об этом по телефону подполковнику Глухову, который распорядился доставить задержанного со всеми его документами в отдел контрразведки армии. Тогда комендант Кравцов передал нам Кунгурцева, предупредив: «Смотрите в оба. Как бы Кунгурцев не сбежал. Что-то он мне не нравится. Да и на улице темнеет. Может, патрульных дать?» — «Не нужно, вдвоем справимся», — ответил я.
Когда мы вышли на улицу, город уже погружался в сумерки.
Мы двигались вдоль железнодорожных путей — к виадуку. Я взял задержанного вроде бы под руку, подсунув правую ладонь под его поясной ремень. Вот и виадук. Поднялись по ступенькам на первую его площадку. Таранихин был рядом, справа. И вдруг Кунгурцев, вскрикнув: «Поезд!», рванулся в сторону, расстегнув одновременно пряжку поясного ремня. В два прыжка достиг перил виадука, одним махом перескочил через них — прыгнул вниз примерно с трехметровой высоты.
Мы с Таранихиным на миг остолбенели. Я стоял и смотрел на ремень беглеца, который крепко держал в вытянутой руке. Придя с себя, мы бросились догонять его. С виадука соскочили удачно, начали настигать Кунгурцева. А тот уже несся метрах в тридцати от нас, поперек железнодорожных линий, к стоявшей невдалеке цепочке товарных вагонов. О применении оружия мы от неожиданности не подумали. Видя, что беглец вот-вот достигнет вагонов, где может запросто укрыться, неистово кричали ему вдогонку: «Стой, стой!» И ускоряли бег, как могли. Тут нам повезло: Кунгурцев вдруг упал, споткнувшись о рельс. Ушиб, видать, ногу. Однако он мигом, как на пружинах, вскочил и побежал дальше, но уже заметно тише, прихрамывая.
Наконец мы настигли беглеца и мертвой хваткой вцепились в него, вернулись к виадуку, отдышались. Теперь я опоясал беглеца уже своим, более надежным поясным ремнем — пряжкой назад. Снова подсунул ладонь руки под ремень и предупредил парня, чтобы тот не взбрыкивал, не пытался бежать — из этого ничего не получится. Так мы и шагали.
В свой отдел прибыли благополучно и, оставив Кунгурцева в кабинете капитана Таранихина под надзором двух солдат из роты охраны, направились к подполковнику Глухову. Тот приказал срочно проверить, действительно ли Кунгурцев служит в Бикине и оттуда ли направлен в командировку. Часа через два отдел контрразведки соседней 35-й армии сообщил нам, что на службе в Бикине Кунгурцев не значится, указанной им части там нет и в командировку оттуда не направлялся. Об этом сообщении мы немедленно доложили руководству нашего отдела и получили распоряжение оформить документы на задержание Кунгурцева, обыскать и снова допросить его, а на ночь поместить в камеру предварительного заключения — под охрану специального караула.
Подполковник Глухов намеревался сам допросить Кунгурцева в 8 часов утра следующего дня, чтобы затем все материалы о задержанном представить руководству отдела.
Около часа ночи мы с капитаном Таранихиным составили протокол задержания Кунгурцева, обыскали и допросили его. Кстати, в протоколе значились те же показания, которые задержанный дал нам накануне. Затем я отвел Кунгурцева в камеру предварительного заключения под охрану караула, назначенного лично комендантом отдела лейтенантом Пименовым. Караул состоял из трех солдат во главе с сержантом Ковалевым. Ему я отдал ключ от дверей камеры. Были составлены, подписаны руководством и отправлены срочные запросы с целью проверки личности и показаний задержанного.
К себе домой, в общежитие, пришел часа в три ночи. Потихоньку лег на кровать, стараясь не разбудить своего соседа по комнате — розыскника нашего отдела — капитана Сошникова Ивана Федосеевича. Когда бы мы ни ложились спать — поднимались в одно и то же время. И на этот раз в семь утра мы были подняты верным нашим стражем — старым будильником.
Около восьми утра я и капитан Таранихин направились в кабинет подполковника Глухова, прихватив с собой документы задержанного. Здесь уже нас ожидали подполковник Глухов и начальник следственного отделения майор Федоров. Побеседовав с нами, они ознакомились с документами, обговорили порядок предстоящего допроса задержанного и предложили мне вести этот допрос в их присутствии. Я же должен был доставить сюда из камеры Кунгурцева.
Караульное помещение располагалось в административной части здания и имело отдельный вход со двора. В этой же части здания, в самом конце коридора, находилась камера предварительного заключения. Начальник караула сержант Ковалев доложил мне, что ночью задержанный не шумел — видно, спал, — да и сейчас, очевидно, спит.
«Тогда пойдем будить его, — сказал я. — На допрос поведем».
Возле двери в камеру стоял на посту караульный. Сержант Ковалев повернул ключ в замке — тяжелая дверь с подвывом отворилась. И тут обнаружилось невероятное: камера была пуста — Кунгурцев исчез.
«Где он?!» — стараясь не выдать волнения, вполголоса спросил я сержанта Ковалева. «Где же он?!» — в свою очередь спросил тот, ни к кому не обращаясь и бледнея.
В камеру вбежал караульный, сдернул с железной кровати суконное одеяло — пусто, никого под ним нет.
«Выводили его из камеры ночью или утром?» — обратился я к сержанту Ковалеву. «Не выводили». — «Куда ж он девался?» — «Н-не знаю», — пожал плечами сержант Ковалев, теперь вдруг покраснев как вареный рак.
Я вышел в коридор. Осмотрел две другие камеры, вход в которые был отдельный. И там Кунгурцева не было. Вернулся снова в камеру, куда его поместили ночью, пригляделся к ней попридирчивей. Дверь, стены, пол и потолок — вне подозрений. Проломов, трещин нигде не видно. Оконная рама на месте, стекла не выбиты. За рамой, с внешней стороны, — целехонькая железная решетка…
Нужно было идти доложить обо всем начальству. Но я словно окаменел. Никак не мог сдвинуться с места. Это были, пожалуй, самые мучительные минуты за все время моей службы в особом отделе…
Через несколько секунд я доложил о случившемся подполковнику Глухову. Тот молча выслушал и вместе с майором Федоровым тоже осмотрел камеру, из которой исчез Кунгурцев, опросил караульных. Результат тот же…
Было уже около девяти часов утра. Начальник отдела полковник Бухтиаров прибыл на службу и сразу же вызвал к себе подполковника Глухова. Тот перед уходом бросил на меня полный укора взгляд…
Из руководящего состава нашего отдела подполковник Глухов был, пожалуй, самый опытный и авторитетный чекист. Нрав он имел спокойный, ровный. Обладал завидной интуицией. В клубке переплетенных между собой событий он умел нащупывать главные, чтобы затем распутать его… По-отечески заботливый в отношении своих подчиненных, он вместе с тем строго с них спрашивал. Служить под его началом нам, молодым чекистам, считалось большой честью. А совсем недавно он рекомендовал меня — и эту рекомендацию приняли — на должность заместителя начальника отделения. То есть я стал как бы его правой рукой. И вот на тебе — не оправдал доверия!.. Еще и по этой причине я так остро воспринял свой промах. Казнил себя нещадно. Не зная, в чем заключается моя конкретная вина, я чувствовал, что здорово подвел своего непосредственного начальника.
Минут через десять место происшествия обследовал и начальник отдела полковник Бухтиаров Николай Дмитриевич…
Что вкратце о нем сказать? В органы госбезопасности он пришел с завидным опытом партийно-советского руководителя — был до этого завотделом горисполкома одного из больших промышленных городов на юге нашей страны. Это был незаурядный организатор. Чекистскую работу осваивал на фронте — в особых отделах воинских подразделений. Начальником нашего отдела был назначен в сорок четвертом году…
Камеру предварительного заключения полковник Бухтиаров, насупившись, осматривал молча. Его настроение выдавали лишь плотно сжатые тонкие, как лезвие бритвы, губы и появившиеся на впалых щеках багровые пятна. Мы чувствовали, что он с трудом сдерживает ярость. Через несколько минут он, все также молча, ни на кого не глядя, прошел в свой кабинет и закрылся там один. Затем вызвал нас к себе — подполковника Глухова, меня и капитана Таранихина.
«Что вы предлагаете?» — не произнес, а словно бы проскрипел он сквозь крепко стиснутые тяжелые челюсти. «Николай Дмитриевич, разрешите мне организовать немедленно розыск Кунгурцева, — сказал подполковник Глухов (внешне спокойный) так, словно ничего особенного не произошло. — Что касается караула, им, возможно, займется начальник следственного отделения майор Федоров».
Полковник Бухтиаров слегка постучал незаточенным концом карандаша по столу. Чуть прищурился и кивнул подполковнику Глухову, принимая его предложение с оговоркой: разбирательство промашки караула поручил своему заместителю полковнику Абрамову Михаилу Петровичу, а помогать ему в этом деле — майору Федорову.
Через час силами оперсостава и роты охраны нашего отдела, военной комендатуры, милиции и райотдела госбезопасности были блокированы вероятные пути ухода беглеца из города. Одновременно с этим велся опрос караула, упустившего Кунгурцева.
Полковник Абрамов — заместитель начальника отдела — чекист весьма осторожный и проницательный. В свое время был награжден знаком «Почетный чекист» за предотвращение диверсии на крупном уральском заводе.
Осмотрев камеру предварительного заключения, он сделал вывод, что задержанный мог сбежать через форточку окна, которая была сравнительно большой и почти полностью совпадала с ячейкой решетки. Об этом он доложил полковнику Бухтиарову. Затем они оба еще раз осмотрели камеру и решили провести эксперимент. В роте охраны нашлись два невысокого росточка солдата. Им предложили пролезть через форточку и решетку. Однако солдаты сделать это не смогли. А Кунгурцев был крупнее тех солдат, следовательно, беглеца выпустил из камеры караул. Сержанта Ковалева и обоих караульных отправили на гауптвахту и подвергли строгому допросу.
Двое суток длился безрезультатный розыск бежавшего и изнурительный допрос караула. Ночные патрули и засады за это время задержали в городе около двух десятков различных правонарушителей и мелких воришек. Однако Кунгурцева среди них не было. Обстановка в нашем отделе накалилась. Работали мы с удвоенным напряжением, особенно через день после побега, когда пришли сведения по проверке Кунгурцева. Управление госбезопасности Минской области сообщило, что подтвердить проживание Кунгурцева, его отца и матери в Борисове возможности нет, поскольку учет населения после немецкой оккупации пока что не производится. В Борисове действительно есть улица Старо-Московская, но дом 28 находился в квартале, который полностью сгорел.
В сообщении Главного управления контрразведки «Смерш» указывалось, что Кунгурцев на учебе и излечении в Новосибирске не находился. По данным Генштаба, номер воинской части, указанный в изъятых у Кунгурцева документах, принадлежит 237-му отдельному автобату, который в 1941 году в районе Белостока попал в окружение и был разбит. Центр просил докладывать ему о ходе разбирательства дела Кунгурцева.
Все эти сообщения свидетельствовали о том, что Кунгурцев — дезертир или, возможно, шпион. Убедительные материалы для изобличения преступника находились в наших руках, а самого его не было…
Кунгурцева задержали лишь на третьи сутки, в пятом часу утра, здесь же, на железнодорожной станции. Тут в засаде находилась наша опергруппа — несколько сотрудников расположились в пустом товарном вагоне, стоявшем чуть в стороне от виадука, на запасном пути. В тот час на главный путь станции подали товарняк, который должен был вот-вот отправиться. И вдруг чекисты увидели, как на тормозную площадку одного из вагонов поезда вскочил подозрительный с виду солдат. Вскочил — и тут же исчез. Как растаял. Состав задержали и осветили прожектором с виадука. Тут-то и обнаружили Кунгурцева — лежал он ничком на крыше вагона…
Беглец выглядел помятым, надломленным, затравленным. Допрашивал его начальник отдела полковник Бухтиаров.
На вопрос, как ему удалось бежать из камеры предварительного заключения, Кунгурцев ответил, что пролез через форточку окна и решетку. Полковник Бухтиаров не поверил, и Кунгурцева ввели в камеру, чтобы он продемонстрировал, как это сделал. Он снял с себя сапоги, шинель, гимнастерку, шапку и выбросил все это во двор через форточку. Встал на подоконник, просунул голову и прижатую к ней правую руку в форточку, а затем — в ячейку решетки, одинаковую по размеру с форточкой. Работая ногами и помогая себе двигаться левой рукой, повернулся лицом вверх. Сделал еще пол-оборота телом, ухватившись правой рукой за решетку, и оказался за пределами здания.
За этой удивительной процедурой наблюдал почти весь руководящий состав отдела. Мы ахнули, глядя, как задержанный словно не вылезал из камеры наружу, а, подобно ужу, вывинтился из нее.
После этой сцены, вернувшись в свой кабинет, полковник Бухтиаров, вроде бы чуть посветлев лицом, продолжил допрос Кунгурцева. На этот раз тот частично изменил свои объяснения, уверяя: дескать, коль вторично попался, то расскажет всю правду. И он рассказал, что родился и жил до 1944 года в городе Борисове Минской области — то есть проживал по тому адресу, который называл и раньше. В июле 1944 года Борисов был освобожден от фашистских оккупантов, и Кунгурцев пристал здесь к одной из воинских частей. Воевать не пришлось — вскоре был контужен и отправлен в тыл в какой-то госпиталь. По дороге туда пришел в себя и случайно отстал от эшелона. Ездил из города в город в поездах и в одном из них подобрал забытые кем-то чистые бланки, которые использовал для изготовления фальшивых документов. Он просил отправить его в действующую армию. Якобы и бежал он из камеры предварительного заключения по той же причине — чтобы попасть на фронт…
Согласно санкции военного прокурора Кунгурцеву предъявили обвинение по статье об уклонении от службы в Советской Армии, поместили в городскую тюрьму и продолжали допрашивать.
Уже и тогда были основания подозревать Кунгурцева в шпионаже. Но обвинение предъявляется не по подозрению, а на основе доказанных фактов. Поэтому Кунгурцева пока официально обвиняли в дезертирстве, но глубокое расследование его дела продолжалось…
Полковник Бухтиаров собрал оперсостав для подробного разбора ошибок, допущенных при задержании, организации охраны и розыска Кунгурцева. Мне и капитану Таранихину досталось в тот день больше всех на орехи. Но мы не роптали, для нас, молодых работников, это был поучительный урок.
Досталось, конечно, и коменданту нашего отдела лейтенанту Пименову. «Почему поставили решетку со столь большими ячейками? — наседал на него полковник Бухтиаров. — В чем дело?»
А дело было в том, что отдел в это здание переехал минувшей зимой. Тогда наспех и оборудовал лейтенант Пименов камеру предварительного заключения. Человек он был, безусловно, прилежный. Но профессию имел сугубо гражданскую — библиотекарь. Комендантом он стал совсем недавно и о размерах ячеек решетки для камеры предварительного заключения долго не раздумывал: поставил ту, которую по его заказу сковали на глазок, экономя металл, ремонтники армейской мастерской.
Так и объяснил чистосердечно свою промашку лейтенант Пименов…
В конце разноса полковник Бухтиаров, постукивая карандашом по столу, напомнил нам крылатую фразу: «Бдительность — это оружие и профессия чекистов». И мы еще раз прочувствовали тогда суровую справедливость ее. Да, в чекистской работе нет мелочей. Вся она — каждое ее звено — должна быть пронизана и соткана из точного расчета и высокой бдительности. Малейший недогляд может обернуться тяжелыми последствиями.
Но не успели мы как следует опомниться от побега Кунгурцева — произошел другой, не менее каверзный случай. И он, разумеется, произошел не столько из-за нашей халатности, сколько из-за неопытности. Ведь в то время, накануне войны с Японией, бывалые оперсотрудники уходили в новые войсковые формирования, а взамен им набиралась малоопытная молодежь…
Так вот, Кунгурцева пока официально обвинили в дезертирстве. Но расследование его дела продолжалось. И принял его, как говорится, к производству старший следователь нашего отдела капитан Таранихин. А на того тогда словно туча нашла: все чаще хмурился. И куда девалась его милая, добродушная улыбка, которая раньше словно бы светилась из-под его аккуратно подстриженных усиков! Он заметно нервничал, сказав мне однажды: «Понимаешь, чувствую, что Кунгурцев — хитрый, изворотливый преступник. Но уличить его нечем. Он прямо-таки ускользает, как вода сквозь пальцы».
Действительно, на следствии Кунгурцев занял очень выгодную для себя позицию, заявляя, что после контузии у него ослабела память. Когда следователь начинал уличать его в умышленном искажении фактов, он спокойно заявлял: «Может быть, вы правы, не помню, забыл после контузии…»
Такая позиция обезоруживала старшего следователя Таранихина. И он потребовал, чтобы армейские медики провели официальное амбулаторное обследование обвиняемого. Врачи дали следствию письменное заключение: следов контузии не обнаружено, практически здоров. Таранихин ознакомил Кунгурцева с этим заключением, а тот заявил: дескать, с выводом врачей согласен, потому как от контузии за это время отошел, но память порой словно проваливается. Его сфотографировали в различных позах, описали его приметы, запросив о нем многие отделы «Смерш» для проверки, не появлялся ли тот на крупных железнодорожных станциях, в гостиницах, продовольственных и пересыльных пунктах, в столовых, запасных полках, госпиталях, медпунктах. Его показания проверяли по материалам розыска госпреступников, а фотокарточка предъявлялась на опознание разоблаченным агентам иностранных разведок. Так что в наш адрес поступали все новые и новые материалы. Однако «решающие» материалы, как это ни странно, нашли мы у себя — в кабинете следователя.
Началось все с того, что недели через две после задержания Кунгурцева не вышла на работу из-за болезни уборщица отдела Мария Афанасьевна. Комендант отдела лейтенант Пименов приказал старшине роты Касторнину произвести вместе с солдатами уборку здания отдела. Старшина Касторнин был въедливый и бывалый служака. Ходил он по кабинетам и поторапливал своих подчиненных: «Давай пошевеливай, протирай, чтоб все блестело!»
В кабинете капитана Таранихина лежала на полуметровой ширины, изрядно потертая ковровая дорожка. Один конец ее уходил под стол, а на второй опирались ножки старенькой кушетки. Солдаты приподняли стол и кушетку, свернули дорожку в рулон и вдруг увидели на полу, под кушеткой, небольшой пакет из плотной прорезиненной ткани. Вскрыли пакет — в нем какие-то документы и широкое резиновое кольцо. Находка показалась солдатам подозрительной, они отнесли пакет старшине. Тот сразу же передал его оперативному дежурному. Осмотрев документы, дежурный сообщил о находке начальнику следственного отделения майору Федорову, который немедленно прибыл в отдел и вызвал к себе капитана Таранихина.
В пакете оказались незаполненные бланки командировочных предписаний и других документов, аналогичные изъятым у Кунгурцева, и справка полевого госпиталя о том, что там он, Кунгурцев, в октябре — ноябре 1944 года лечился в связи с полученной на фронте контузией. Кроме того, в пакете были обнаружены пять листов ученической тетрадки, на которых — цифровые записи, сделанные простым карандашом. Записи были вскоре изучены — это оказалось не что иное, как время движения и разгрузки на ряде железнодорожных станций Приморья воинских эшелонов с указанием вида и количества боевой техники. То есть найдено было то, чего не хватало, чтобы уличить Кунгурцева в шпионаже.
Был составлен акт о том, как и где обнаружен пакет. Доложили об этом полковнику Бухтиарову. Тот тут же прибыл в отдел, ознакомился с находкой и разволновался страшно. Мы стояли перед ним в его кабинете по стойке «смирно»: начальник отделения подполковник Глухов, начальник следственного отделения майор Федоров, старший следователь капитан Таранихин и я — заместитель начальника отделения. И без того худое лицо полковника Бухтиарова еще более заострилось, щеки глубже запали, как бы оголив крупные скулы. На бледной коже лица местами сияли багровые пятна. От негодования, которое полковник Бухтиаров заметно силился унять, говорил он приглушенным, шипящим голосом: «Что это у меня — армейская разведка или детский сад? Почему дали себя одурачить? Как я буду теперь докладывать?!»
Мы молчали, сознавая свою вину. Но она на сей раз вроде бы сглаживалась от сознания того, что преступник будет изобличен, деваться ему некуда.
Но все же, как Кунгурцев смог запрятать компрометирующие его материалы в кабинете следователя?
Случилось это в то время, когда задержанный на вокзале Кунгурцев был доставлен из комендатуры в отдел и находился под охраной солдат в кабинете старшего следователя капитана Таранихина. Пакет с документами был прикреплен резиновым кольцом к ноге преступника — возле щиколотки. Он обманул солдат: попросил разрешения переобуться — и незаметно спрятал пакет под ковровую дорожку. Солдаты подтвердили: да, с их разрешения Кунгурцев действительно тогда переобувался. Об этом он сам рассказал на допросе.
Все обнаруженные у Кунгурцева документы, а также те, что он спрятал под ковровую дорожку, вместе с его записями на тетрадочных листах, мы спешно направили на экспертизу в научно-технический отдел Управления госбезопасности по Приморскому краю. Оттуда через несколько дней пришло интересное сообщение:
«1. Структура и химический состав бумаги, спектральный анализ пепла и характер красителя свидетельствуют о том, что материалы, изъятые у Кунгурцева, а также те, что он спрятал в кабинете следователя, изготовлены японской разведкой.
2. Записи на пяти тетрадочных листах исполнены рукой Кунгурцева».
Теперь Кунгурцеву некуда было деваться.
После многочисленных запирательств и оговорок он признался, что является агентом японской разведки. А показания о том, что он родился в городе Борисове, что в 1944 году находился на фронте и лечился от контузии, — выдумка, попытка уклониться от ответственности за шпионаж.
О себе он теперь рассказал, что родился в 1922 году в городе Мулине, в Маньчжурии, в семье русского эмигранта. Его отец, Кунгурцев Осип Яковлевич, и мать, Кунгурцева Пелагея Сидоровна, бежали из России в Маньчжурию вместе с колчаковцами, однако, что они делали у белых, ему неизвестно. В настоящее время отец и мать живут в Мулине на улице Вторая Харбинская, дом 17, работают в конторе угольной шахты. Весной 1944 года отец Кунгурцева, согласно показаниям допрашиваемого, часто заводил с сыном разговоры о том, что, дескать, пора кончать с большевиками в России и что это должно сделать, совершить поколение, к которому принадлежит он, Кунгурцев-младший. А тот вроде отвечал, что это невозможно, что Советы скоро разобьют гитлеровскую Германию и тогда еще более укрепятся. Отец возражал: неудачи немцев на фронте временны — скоро они добьются победы. После таких бесед отец однажды сказал сыну, что пришел его черед выступать на борьбу с большевиками.
«Что я должен делать?» — спросил сын. «Нужно сходить в Приморье». — «Но… русские могут меня поймать?» — «Тебя научат быть неуловимым. Бояться нечего».
Кунгурцев не пошел против воли отца. И тот вскоре познакомил его с японцем Ионэ Муцаи, который в присутствии отца несколько раз беседовал с сыном. А потом сын ходил уже сам к японцу. Ионэ Муцаи провел как бы первую обработку завербованного агента. Восхваляя силу и мощь Японии и ее друзей, он уверял, что Советы ожидает неминуемый крах.
Кунгурцеву было предложено понаблюдать за молодыми русскими эмигрантами и китайцами, недовольными японскими порядками в Маньчжурии и сочувствующими Советам. Молодой агент добросовестно исполнял поручения.
В июне 1944 года японцы отправили Кунгурцева в Харбин. Отец его знал о цели этой отправки, а матери сказали, что сын ее будет там учиться в колледже, В Харбине он находился при японской военной миссии, располагавшейся на территории радиотехнической воинской части. Там прошел разведывательную подготовку: обучался военному делу, закалялся физически, знакомился с методами сбора военной информации и различными приемами уклонения от провалов. Летом и осенью он побывал возле советской границы. Здесь с помощью сильного бинокля вел наблюдение за движением поездов и автомашин на территории СССР, а также изучал особенности пограничной полосы. На Сунгари, южнее Харбина, научился бесшумно переправляться на лодке в условиях ночи через реку. Теперь он казался японцам подающим надежды агентом. Его экипировали в форму рядового Советской Армии, снабдили документами и ненастной, дождливой ночью переправили через пограничную реку Уссури, севернее города Имана.
Вот как это было.
Кунгурцев и японец Хасира, который отвечал за его подготовку, прибыли в небольшое селение, расположенное возле границы. Здесь, в одиноко стоявшей фанзе, их ожидал помощник командира охранного отряда Лишучженьской японской военной миссии Симачкин Савелий — долговязый, жилистый молчун с круглыми желтоватыми, как у ястреба, глазами. Вся эта компания довольно часто — и днем и ночью — поднималась на холм, возвышавшийся над пограничной рекой и густо заросший мелколесьем. Отсюда агенты осматривали окрестности, прикидывали, каким путем половчее перейти границу.
И вот в дождливую, холодную ночь, которую давно с нетерпением поджидал Хасира, решились на переправу. Перед этим потрапезничали. Присели на циновку, покрывавшую пол фанзы. Хасира достал из портфеля три металлические рюмки, плеснул в них что-то из фляжки. Кунгурцев, хмурясь, подумал, что его хотят угостить спиртным «для храбрости». Японец, видно, понял его — ощерился, показывая свои крупные желтоватые зубы: «Давайте, по старому японскому обычаю, выпьем перед большой дорогой по глоточку… холодной воды».
Они выпила, посидели с минуту молча и вышли из фанзы. Возле берега покачивалась на неспокойной воде лодка с гребцом. Кунгурцеву указали на нос лодки. Симачкин пристроился рулевым на корме, а посредине лодки — неизвестный гребец. Хасира похлопал Кунгурцева по плечу и толкнул лодку в кромешную тьму.
Гребец, видно, туго знал свое дело: сильными бесшумными толчками бросал легкую посудину вперед. Столь же опытным в подобных переправах оказался и Симачкин. Он ориентировался по течению реки — временами опускал в воду руку.
Наконец сквозь сетку дождя стали угадываться контуры прибрежного, ивняка. Лодка мягко ткнулась в песок. Кунгурцев спрыгнул на землю и несколько мгновений стоял неподвижно. С ужасом всматривался он в непроглядную тьму. Поборов страх, оглянулся — лодки и след простыл. Он высмотрел развесистое дерево и стал под него, поеживаясь от холодной сырости.
«Я заколебался в эти минуты, — говорил он следователю. — Даже хотел позвать ваших пограничников. Ведь я, русский, не по убеждению, а поневоле стал врагом России. Однако японцы не пощадили бы моих родителей».
Он медленно удалялся от берега. Возле вспаханной контрольной полосы надел на ноги специальные ступы, похожие на широкие короткие лыжи. Едва заметный след, который они оставляли на рыхлой земле, тут же размывало проливным дождем. Перейдя вспаханную полосу, он закопал под кустом орешника ступы и размашисто зашагал по лесной опушке. Минуя ее, двигался осторожно: где-то здесь, в кустарнике, как предупреждал Хасира, затаился пограничный дозор. Потом выбрался на проселочную дорогу и вскоре подошел к зданию небольшой железнодорожной станции.
Он промок до нитки. Его то знобило, то бросало в жар. Отдышавшись и присмотревшись, он различил при тусклых и редких станционных огнях длинный поезд — воинский эшелон. Направился к нему. Возле приоткрытой теплушки остановился. Мимо сновали люди в военном. Один из них, с лычками сержанта на погонах, ткнул его в бок: «Чего галок ловишь? Марш в вагон, отправление дали!»
Это придало решимости Кунгурцеву. Он вскарабкался в теплушку, в которой возле жаркой печки «буржуйки» хлопотал уже немолодой улыбчивый солдат. К нему и обратился Кунгурцев: «Слушай, браток, я отстал от своего эшелона. Он в сторону Хабаровска шел. Ваш не туда направляется?» — «Туда, туда! Аж до самой Куйбышевки-Восточной шпарим. А потом — в Благовещенск». — «Помоги, браток, эшелон догнать. Можно у вас тут пристроиться?» — «А чё, можно. — Это был дневальный, по имени Сеня, словоохотливый, с веселыми глазами добряк. — Давай располагайся. Гляжу, на тебе лица нет. Не захворал, случаем? Ишь промок весь. Сейчас мы тебя обсушим».
Дневальный Сеня, непрерывно болтая, напоил Кунгурцева крепким чаем, дал сухую одежду и уложил на нары, укрыв брезентовой накидкой. На Кунгурцева уже наваливалась тяжелая дремота, когда дневальный «утешил» его: «Не волнуйся. К своему земляку, в соседний вагон, наш сержант пошел. До другого дня тебя не обеспокоит. Дрыхни себе».
Встреча с добродушным Сеней вроде бы сняла излишнее напряжение, которое возникло у Кунгурцева от ожидания встреч с советскими людьми. «А Сеня — славный парень. Такой болтун — большая удача, — подумал он, засыпая. — Может, они тут все такие?»
Он проснулся рано — чуть рассвело. Поезд шел быстро, в вагоне солдаты еще спали, а вместе с ними — и дневальный.
«Что же предпринять?» — упорно размышлял Кунгурцев.
Наконец он принял решение: ехать с этим эшелоном, меньше говорить о себе, а больше слушать — осваиваться, внедряться.
На другой день, видно, дала о себе знать простуда — Кунгурцева стал бить неудержимый кашель, поднялась температура. На какой-то остановке Сеня попытался уговорить Кунгурцева сходить в медпункт, но тот вдруг встрепенулся: дескать, оклемается как-нибудь без лекарств — не признает их. Все же в Куйбышевке-Восточной Сеня уломал упрямого больного. В медпункте врач осмотрел его и установил диагноз: грипп с подозрением на пневмонию, — выписал направление в госпиталь.
Таким образом, благодаря помощи Сени Кунгурцев оказался в госпитале как больной боец, снятый с воинского эшелона. Такая запись в здешней комендатуре вполне его устраивала. Среди личного состава эшелона он не числился, поэтому его никто не разыскивал и не навещал, — видно, даже Сеня забыл про случайного знакомого.
Кунгурцев пролежал в госпитале весь декабрь и половину января нового, 1945 года. Здесь он неплохо освоился в солдатской среде. Даже познакомился со штабным писарем. Тот и помог Кунгурцеву приобрести предписание, продаттестат и проездные документы для следования не в Благовещенск, куда ушел эшелон, а в Биробиджан, в запасной стрелковый батальон. Однако туда не поехал. Используя полученные в госпитале документы в качестве образца, фабриковал на бланках, врученных ему японцами, предписания — разъезжал по Приморью, собирая военную информацию, пока его не задержали.
Следователя и, разумеется, нас, оперативников, интересовали не только обстоятельства проникновения Кунгурцева в Приморье, но и способы передачи своим хозяевам собранных им материалов. Хасира, по словам Кунгурцева, поручил ему посещать под видом командировочного крупные железнодорожные станции, где путем визуального наблюдения и бесед с военнослужащими узнавать, какие изменения происходят в войсках, нет ли наращивания вооруженных сил и подготовки к военным действиям.
В январе и феврале 1945 года Кунгурцев, курсируя между Хабаровском и Владивостоком, побывал на пяти крупных железнодорожных узлах и пришел к выводу, что больших передвижений войск и признаков подготовки к военным действиям не наблюдается.
Свои записи вместе с подлинными документами, полученными им в госпитале, как его научили японцы, он во второй половине февраля вложил в тайник номер 1, расположенный под мостом через реку. О закладке тайника сделал пометку — нарисовал крестик на крайней стойке перил моста. Недели через две он проведал место закладки тайника и обнаружил возле своей пометки другой крестик, означавший, что содержимое тайника хозяева изъяли. Затем он перешел на другую сторону моста, где на аналогичной стойке перил должна была стоять такая же отметка, которая означала бы, что для него заложен тайник номер 2 — на кладбище, на окраине города. Но такого знака там не оказалось ни в тот раз, ни при других посещениях этого места в феврале и марте. Через тайник номер 2 японцы обещали передать Кунгурцеву деньги, бланки документов, описание тайника номер 3 и указание по внедрению в одну из советских частей. Почему не сработала цепочка связи — он не знал.
Показания Кунгурцева проверялись и документировались. В основном они находили подтверждение. В то же время чувствовалось, что он не был искренним до конца. Он скрыл от следствия, что в феврале задерживался патрулями и сбежал из комендатуры, оставив там свой рюкзак, принесенный из Маньчжурии, Этот факт установили путем опросов работников комендатуры. При осмотре находившихся в рюкзаке вещей в пустотелой рукоятке сапожной щетки были обнаружены бланки документов и набор карандашей для их обработки.
Следствие наконец закончилось, и в июле сорок пятого дело Кунгурцева было передано в суд.
Петр Петрович не спеша, с явным удовольствием выпил почти полный стакан воды, прокашлялся и сказал, что на этом заканчивает свое первое выступление. Он попросил курсантов задавать вопросы.
— А спрятанные Кунгурцевым ступы нашли? — выкрикнул кто-то из зала.
— Нет, хотя мы настойчиво искали. Кстати, местность, где Кунгурцев переходил границу, опознали, по его рассказу, довольно точно.
— Почему был возможен такой переход границы?
— Для охраны ее тогда использовалось воинских частей маловато. Кунгурцеву, кроме того, здорово помогли непогода и профессиональная подготовленность.
— Почему японцы послали своего агента под видом солдата, а не офицера?
— Для визуальной разведки солдат лучше подходил. Рядовому легче маскироваться.
— Почему Кунгурцев среди «действующих» документов хранил чистый бланк?
— В день, когда его задержали, он допустил грубую ошибку: заранее достал чистый бланк из пристегнутого к ноге пакета. Сделал это потому, что срок «командировки» у него кончался и надо было приготовить новое «предписание». Кстати, все документы он подделывал искусно, их неоднократно проверяли комендантские посты, но подделок не обнаруживали.
— Почему прервалась связь Кунгурцева с его хозяевами?
— Возможно, японцев насторожило столь быстрое и легкое приобретение Кунгурцевым подлинных документов для проникновения в воинскую часть. Поэтому они решили перепроверить своего агента: не действует ли он под диктовку нашей контрразведки.
— А Сеня отыскался?
— Конечно. Им оказался рядовой Ухов Семен Ильич, сорокадвухлетний забайкалец. Просто Сеней его звали за малый рост и щуплую фигуру. Это был ценный свидетель, его вызывали на допрос. Кунгурцев опознал Ухова среди группы военнослужащих, а Ухов в свою очередь подтвердил ряд показаний арестованного. Кстати, узнав, что Кунгурцев шпион, Сеня пришел в ярость, грозился кулаком: «Тебя как человека приютили, а ты змеей оказался!» Сеня долго плевался и брезговал находиться в одной комнате со шпионом…
Глава III
КОНЕЦ ОСИНОГО ГНЕЗДА
На очередную встречу с Петром Петровичем прибыли все свободные от нарядов курсанты и многие преподаватели — зал был заполнен до отказа.
— Наступил август 1945 года, а с ним и канун важных событий на Дальнем Востоке, — увлеченно продолжал свой рассказ Петр Петрович. — Дни в Приморье стояли теплые, мягкие. Нещадно палившее до ©того солнце словно бы подобрело, а несильные ветры приносили с океана освежающую прохладу…
Наши войска, находящиеся на Дальнем Востоке, практически уже были готовы согласно договоренности с союзниками вступить в войну с дальневосточным партнером разгромленной гитлеровской Германии.
Японские милитаристы хозяйничали в Маньчжурии более десяти лет — основательно закрепились здесь, превратив этот район в важный стратегический плацдарм для осуществления своих разбойничьих планов. Маньчжурия — одна из первых жертв японских самураев, мечтавших о мировом господстве. Кстати сказать, еще в середине двадцатых годов тогдашний премьер-министр и министр иностранных дел генерал Гиити. Танака так вещал: «Япония не может устранить затруднения в Восточной Азии, если не будет проводить политику «крови и железа»… Для того чтобы завоевать мир, мы должны сначала завоевать Китай… Имея в своем распоряжении все ресурсы Китая, мы перейдем к завоеванию Индии, Архипелага, Малой Азии, Центральной Азии и даже Европы, Но захват в свой руки контроля над Маньчжурией… является первым шагом, если раса Ямато желает отличиться в континентальной Азии… в программу нашего национального роста входит, по-видимому, необходимость вновь скрестить наши мечи с Россией…»
Мечи скрестились на Хасане и Халхин-Голе. Японские самураи получили сокрушительный удар, но не отказались от своих агрессивных планов.
Дальневосточный агрессор особенно тесно увязывал свои грабительские цели с планами гитлеровцев. Германия, Италия и Япония подписали так называемый «антикоминтерновский пакт». В японских правительственных и военных кругах был взят курс на подготовку «большой войны» против СССР.
Но японцы не хотели снова быть битыми — выжидали, тщательно готовились к войне с нами. На протяжении всей войны Советского Союза против гитлеровской Германии они систематически устраивали на границе провокационные наскоки, держали в готовности на границе с СССР миллионную Квантунскую армию.
Победа советского народа над фашистской Германией спутала и сорвала агрессивные замыслы японских милитаристов. Однако факт оставался фактом: агрессивный плацдарм в Маньчжурии еще существовал. Здесь под ружьем стояла хорошо обученная, самая сильная армия Японии. Одержать победу над ней непросто: нужно было всесторонне подготовиться к предстоящим сражениям…
Сотрудники отдела контрразведки «Смерш» 1-й Краснознаменной армии перебазировались тогда в таежный распадок ключ Гремучий, в район госграницы. Разместились в штабных автобусах, палатках и шалашах. С началом военных действий нам предстояла схватка с коварной и изощренной японской разведкой. Квантунская армия наряду с войсковыми разведывательно-подрывными подразделениями располагала в Маньчжурии большой сетью крупных территориальных разведорганов, так называемых японских военных миссий. Они пытались вести широкую шпионско-подрывную работу на территории советского Дальнего Востока, Забайкалья и Сибири, а также руководили специально подготовленными отрядами «Асано», предназначенными для диверсионных и террористических актов в тылу советских войск.
1-й Краснознаменной и 5-й армиям, входившим в ударную группу 1-го Дальневосточного фронта, предстояло нанести мощный рассекающий удар из Приморья на Муданьцзян и Харбин и, вместе с войсками Забайкальского фронта, разобщить основные японские войска в Маньчжурии.
В полосе наступления 1-й Краснознаменной армии, которой командовал старый дальневосточник генерал-полковник Белобородов А. П., находились крупные Лишучженьская, Муданьцзянская и Харбинская японские военные миссии. Ближайшая из них, Лишучженьская миссия, расположенная километрах в восьмидесяти от границы, имела в своем составе более десяти офицеров из числа японцев и русских эмигрантов, охранный отряд, а также ряд филиалов и постов у границы, занимавшихся переправой на нашу территорию своей агентуры, подслушиванием телефонных разговоров, визуальной и другой разведкой. Органам контрразведки «Смерш» фронта и армии из добытых материалов, ориентировок Центра и Управлений госбезопасности по Приморскому и Хабаровскому краям были известны несколько десятков агентов, резидентов и различных пособников японской разведки в Маньчжурии.
План военной контрразведки 1-й Краснознаменной армии в общих чертах сводился к тому, чтобы не допустить проникновения в наши войска, особенно в штабы, на командные пункты и узлы связи, вражеских шпионов, обеспечить сохранение в тайне от противника замыслов командования. Используя свои оперативные возможности, мы также собирали и представляли в штабы воинских частей сведения об укреплениях и аэродромах противника, о состоянии дорог…
С началом военных действий нам предстояло в полосе наступления нашей армии разгромить и захватить силы и средства вражеской разведки, парализовать деятельность диверсантов и террористов в армейском тылу, сорвать все попытки дезорганизации передвижения и снабжения войск. Для этого при продвижении в глубь Маньчжурии предусматривалось наряду с другими средствами применить оперативно-чекистские группы, которые должны действовать совместно с вводимыми в прорыв подвижными войсками, а при необходимости — вместе с армейской разведкой проникать в тыл врага.
Как-то вечером, в самый разгар этой подготовительной работы, приехал на командный пункт армии старший следователь капитан Таранихин, присутствовавший на заседании военного трибунала, судившего Кунгурцева. Капитан Таранихин рассказал, что на суде обвиняемый подтвердил данные им на допросах показания, никаких сомнений у суда в совершении им преступления не возникло.
Военный трибунал осудил Кунгурцева за шпионаж к семи годам исправительно-трудовых лагерей строгого режима.
С капитаном Таранихиным мы договорились о совместных действиях по розыску тех, кто заслал Кунгурцева в нашу страну, и перепроверить эту личность…
Наступил последний день перед боем. Каким он запомнился? С утра 8 августа вместе с полковником Абрамовым мы добывали во всех отделах контрразведки соединений, сосредоточенных у границы для наступления, еще раз проверили готовность наших сотрудников и оперативных групп. К вечеру возвращались на командный пункт. Прифронтовая дорога вывела нас в глубокий распадок, залитый ярким светом уходящего за крутые сопки солнца. А там, на живописной долине, сколь было видно глазу, стройными рядами стояли полки 300-й стрелковой дивизии с развернутыми, игравшими на солнце красными знаменами. Шел митинг, на котором зачитывалось обращение Военного совета 1-го Дальневосточного фронта, и воины клялись выполнить приказ Родины. На башнях танков, укрытых в зарослях, через зеленую листву просвечивались надписи: «Смерть дальневосточному агрессору…», «Даешь Харбин!».
С импровизированной трибуны властный командирский голос разносился по широкой долине: «…наступает час расплаты… Японские агрессоры должны сполна ответить за пролитую ими кровь, за муки и страдания порабощенных ими народов, за разбойничьи наскоки на границы Советского Союза, за нападения на Хасане, Халхин-Голе…»
Когда мы прибыли на командный пункт армии, полковник Бухтиаров объявил о назначении меня руководителем оперативной группы по захвату агентуры и сотрудников Лишучженьской японской военной миссии.
В эту группу входили оперуполномоченный — розыскник старший лейтенант Тимофеев Николай Алексеевич и два автоматчика. Был у нас «виллис» с шофером. Мы еще раз проверили свое оружие и запасные канистры с бензином. Отпечатанные на тонкой рисовой бумаге списки известных нам сотрудников и агентов вражеской разведки поместили в непромокаемые капсулы, зашив их в одежду.
В ночь на 9 августа моя опергруппа прибыла на командный пункт 77-й танковой бригады, которая вместе с другими танковыми соединениями предназначалась для ввода в прорыв обороны японских войск.
В тот день, 9 августа, начались военные действия.
Соединения 1-й Краснознаменной армии преодолели топкие болота и таежные завалы, считавшиеся непроходимыми, и 10 августа вышли на оперативный простор — в долину реки Мулинхэ. Настал черед и 77-й танковой бригады. Войдя в прорыв, она двинулась на Лишучжень, не давая японцам организовать оборону на промежуточных рубежах. Наш «виллис» упрямо продвигался среди боевых порядков советских войск.
Утром 11 августа передовой отряд бригады ворвался в Лишучжень и завязал уличные бои. Вместе с танкистами прибыла и моя опергруппа. Не мешкая мы отыскали жителей, владевших китайским и японским языками и знавших местную обстановку. Они и после оказывали нам помощь. Из них запомнились учительница, русская патриотка, дочь белоэмигранта Мария Сергеевна и служащий хлебопекарни, бывший колчаковский офицер, Иван Николаевич, тяготившийся пребыванием на чужбине и, как он заявил при нашей первой встрече с ним, готов был умереть за «прославившую себя в веках Советскую Русь». Вместе с ними мы осмотрели здание японской военной миссии, расположенное у подножия невысокой сопки на окраине города. Это был большой, обнесенный почти двухметровым забором одноэтажный каменный дом с десятью — двенадцатью рабочими и жилыми комнатами и тремя входными дверями.
По зданию миссии словно бы только что прошел ураган: двери и окна были широко распахнуты, на полу валялись чемоданы, одежда и вороха бумаги. Из сотрудников никого не оказалось. Были пусты и десять камер тюрьмы, наполовину врытой в сопку на задворках здания миссии. Но в открытых камерах еще стоял тяжелый, спертый воздух — покинуты они были узниками совсем недавно.
С помощью переводчицы Марии Сергеевны я принялся изучать обнаруженные в миссии документы. Часть закрытых сейфов, от которых не нашлось ключей, пришлось взломать. Мы искали в первую очередь списки, картотеки и адреса вражеской агентуры. Старший лейтенант Тимофеев с Иваном Николаевичем обошли прилегающие к зданию миссии улицы, собирая у местных жителей сведения о ее сотрудниках.
Мария Сергеевна вдруг вскрикнула, сказав, что нашла картотеку лиц, сотрудничавших с японцами. Но при более внимательном изучении картотеки оказалось, что в ней учтены так называемые вспомогательные контингенты японской военной миссии из числа китайцев и русских эмигрантов. Все они — а их было около 30 человек, по свидетельству Марии Сергеевны, а позже это подтвердилось другими источниками — находились у себя дома и против нашей страны активно не использовались.
Возвратившийся на ту пору из города старший лейтенант Тимофеев сообщил, что при опросе жителей ему удалось кое-что выяснить о проживающем в Лишучжене колчаковском офицере, полковнике Белянушкине. Он не бежал с японцами, а, видимо, скрывается у себя дома. По нашим данным, Белянушкин служил начальником охранного отряда при миссии, будучи резидентом японской разведки. Белянушкина мы, конечно, немедленно задержали, после чего наша работа стала еще напряженней.
Но прежде чем о ней рассказывать, хотелось бы упомянуть вот о чем. В те дни на земле Маньчжурии, освобождаемой Советской Армией от японских захватчиков, поднялась небывало высокая волна патриотического самосознания — как среди китайцев, так и среди многих русских эмигрантов, проживающих здесь. Это, разумеется, весьма благоприятно сказывалось на проводимых нами мероприятиях. Еще где-то неподалеку гремели бои, а тысячи мирных жителей выходили на улицы городов и сел с красными флажками в руках, красными бантами на одежде, с цветами. Люди смеялись, шутили, пели, кричали «шанго» (хорошо), провозглашали лозунги, приветствуя Советскую Армию-освободительницу. Стремясь хоть чем-нибудь помочь нашим воинам, китайцы выносили и расставляли возле дорог овощи, фрукты, родниковую воду в бочонках, ведрах, чайниках, мисках, кружках, пиалах. Бойцы утоляли жажду, делая мимолетные остановки, благодарили восторженных людей за доброту и сердечность. Эта впечатляющая картина народного ликования словно бы говорила: тщетными оказались потуги японских самураев и их прихвостней из окружения марионеточного императора Маньчжурии Пуи посеять среди китайцев ненависть к нашей стране.
Все это вконец деморализовало наших врагов. Многих задержанных агентов противника не приходилось в те дни изобличать — они сразу же выкладывали все о совершенных ими преступлениях против Советского государства. А кое-кто даже сам приходил с повинной и заявлял, что добровольно сдается на милость победителей.
Брать колчаковского полковника Белянушкина ходил вместе с автоматчиком старший лейтенант Тимофеев. Белянушкин жил в большом коттедже, утопавшем в цветущем саду и занимавшем почти целый квартал. Войдя в кабинет хозяина «без доклада», старший лейтенант Тимофеев сказал, что его вызывают в советскую комендатуру (мы начали действовать под видом комендатуры). Белянушкин уже ждал этой встречи и, став перед образами, начал усердно вполголоса читать какую-то молитву. Его жена, высокая, полная, дряхлеющая блондинка и три взрослые дочери, как по команде, заголосили, словно по покойнику, и начали складывать в открытый чемодан различные пожитки. Старший лейтенант Тимофеев объяснил домочадцам Белянушкина, что тот приглашается в комендатуру для беседы. Это подействовало: Белянушкин, одетый по форме, вышел на улицу и неторопко под конвоем зашагал к зданию миссии, сопровождаемый толпой любопытных китайцев.
Когда старший лейтенант Тимофеев доложил мне, что привел Белянушкина, я разрешил Марии Сергеевне уйти домой и попросил ввести задержанного. И вот в открытую дверь не вошел, а ввалился огромного роста человек лет шестидесяти пяти с седыми усищами на кирпично-красном, одутловатом лице, в парадной форме, при многих орденах и медалях. Печатая шаг, приблизился ко мне и зычным голосом пробасил: «Господин капитан, полковник русской армии Белянушкин явился к вам и сдается на милость победителей».
Сказав это, он, словно подкошенный, рухнул на колени, коснулся лбом пола и зарыдал.
Я и старший лейтенант Тимофеев от неожиданности оцепенели. Потом подошли к Белянушкину, подняли его под руки, усадили на стул, дали воды. Когда он успокоился, я поинтересовался, кто присвоил ему звание полковника. Белянушкин со стула вскочил и опять зычно рявкнул: «Адмирал Колчак!»
И тогда мимолетная жалость к этому старому русскому человеку, навеянная необычной сценой встречи, сразу же прошла. В памяти всплыл рассказ моего отца. В 1919 году отступавшие через Сибирь колчаковцы заподозрили группу крестьян нашего и соседнего села в сотрудничестве с партизанами. И — без суда и следствия — растерзали их, привязав за ноги к хвостам лошадей, рванувших диким галопом по селу. Как знать, не этот ли полковник сотворил такое злодеяние? Однако на выяснение прошлого колчаковца времени не было.
Придя в себя, Белянушкин начал поспешно рассказывать — видимо, не один раз продуманную им версию, — что он, боевой русский офицер, невольно, по ошибке, примкнул к белому движению, что происходит из семьи разорившегося дворянина Калужской губернии, что участвовал в первой мировой войне, где был несколько раз ранен. В 1917 году, после Октябрьской революции, находился на излечении в Самаре, где под воздействием офицеров, враждебно настроенных к Советам, не смог правильно сориентироваться и оказался в рядах колчаковцев. Боясь ответственности, ушел вместе с остатками разбитых войск белых в Маньчжурию.
Рассказ Белянушкина затягивался, пришлось его прервать. Мы предупредили: судьба его будет решена лишь после тщательного расследования. А пока что предложили искупить хотя бы часть вины — помочь нам обезвредить японскую агентуру. Он безоговорочно согласился и сразу же дал ценные показания. А именно: начальником Лишучженьской японской военной миссии являлся действительно подполковник Ясудзава. Днем 8 августа он выехал на автомашине в Муданьцзян с каким-то докладом к своим начальникам. В первый же день военных действий помощники его, а среди них был и Ионэ Муцаи, разбежались, захватив с собой часть, видимо, наиболее секретных документов. Содержавшихся в тюрьме миссии пятнадцать арестованных, в основном китайцев, выпустили на свободу. Находились в тюрьме и прогрессивно настроенные русские эмигранты, выданные японцам в Мулине беглым кулаком из Приморья Терещенко. Личностей и судьбы тех арестованных Белянушкин не знал. За несколько часов до прихода в Лишучжень советских танкистов Ясудзава поспешно прибыл в здание миссии. Вызвал туда Белянушкина и его, Белянушкина, помощника — поручика Симачкина. Сообщил им, что по указанию своих шефов с большим трудом вернулся по забитым войсками дорогам из Муданьцзяна, чтобы эвакуировать наиболее важные документы и перебазировать хотя бы часть агентуры, находившейся в резерве, в Муданьцзян, куда следовало прибыть и ему самому для организации подрывных акций в тылу советских войск. Белянушкину и Симачкину японец предложил увести охранный отряд миссии и находившуюся при ней группу «Асано» в урочище Барсука, расположенное в сопках, километрах в пятнадцати от города. Там выждать время, когда удалится фронт, чтобы приступить к активному шпионажу, нападениям на тылы советских войск, взрывам мостов и убийствам наших военачальников.
Уйдя из здания миссии, Белянушкин и Симачкин по обоюдной договоренности решили, что их объединенный диверсионный отряд уведет в сопки Симачкин, а Белянушкин останется в городе, чтобы через своих соглядатаев разведывать обстановку и наводить диверсантов на объекты нападения. Однако Белянушкин в беседе с нами клялся и божился, что он и не помышлял тогда продолжать тайную войну с Советской Россией. А пошел на эту договоренность, боясь поручика Симачкина, который является ярым врагом Советов и верным холуем японцев. Тот мог застрелить его, Белянушкина, лишь за нерешительность или колебания выполнить приказ японца. В ночь на 11 августа Симачкин увел около 150 диверсантов в сопки.
Белянушкин назвал более 20 агентов и резидентов японской разведки, а также места их нахождения. По его мнению, больше половины этих агентов являлись резервными, подготовленными для активных операций против Советской Армии. Видимо, Ясудзава и хотел перебазировать их в Муданьцзян, чтобы они могли там прикрыться. О многих шпионах, названных Белянушкиным, мы уже знали, так что могли проверить, насколько он откровенен. Куда девался Ясудзава, успел ли он увести своих агентов в японский тыл — всего этого Белянушкин не знал.
В полдень 11 августа к зданию миссии, где мы работали, подошла толпа китайцев. Они громко кричали, энергично жестикулировали. Пригласив Марию Сергеевну, говорившую по-китайски, мы пытались понять, что же произошло. Оказалось, некоторые китайские жители, увидев, как советский офицер и солдат вели по улице города задержанного Белянушкина — белогвардейца и японского холуя, — решили по своей инициативе помочь нам. И вот где-то схватили и привели к нам двух русских колчаковцев, верно служивших японцам на административных должностях в угольной шахте и притеснявших китайских шахтеров. Эти колчаковцы, приколов красные банты к своим пиджакам, тоже вроде приветствовали наших воинов на улицах города. Китайцы говорили об этом с возмущением, подталкивая к нам задержанных. Их называли китайцы, переводила Мария Сергеевна, «редисками». Дескать, редиска сверху красная, а внутри, если ее раскусить, белая…
Мы записали фамилии и адреса колчаковцев и отпустили их, предложив снять с пиджаков красные банты. А китайских граждан поблагодарили за информацию, пообещав, что со всеми японскими пособниками будет проведено необходимое разбирательство после окончания войны. Китайцы таким разъяснением были вполне удовлетворены и стали расходиться, горячо обсуждая между собой, как мы поняли, свои, возможно, первые, успешно проведенные коллективные выступления против поработителей.
Не успели мы возвратиться в здание, как к нему с шумом подошла новая группа местных жителей. На этот раз два китайца, перебивая друг друга и страшно волнуясь, рассказали нам, что накануне вечером они, эти два жителя Лишучженя, примерно в сорока километрах от своего города были задержаны советскими военными. Те приняли китайцев за переодетых японских солдат, так как они были наголо острижены. На другой день на пункте сбора японских военнопленных, куда этих двух китайцев доставили, советский офицер после беседы отпустил их. И вот, когда они взбирались на попутную автомашину, чтобы домой следовать, увидели среди прибывших военнопленных подполковника Ясудзаву, одетого в форму японского солдата.
Мы сердечно поблагодарили китайцев за эту весьма ценную информацию, заверив их, что незамедлительно примем нужные меры.
Да, это были далёко не редкие случаи, когда китайские жители, выражая свои глубокие чувства уважения и благодарности советским воинам-освободителям, оказывали нам, небольшой группе чекистов, бесценную помощь по вылавливанию замаскировавшихся агентов Лишучженьской японской военной миссии, а также смертников. Тем самым предупредили их преступные акции…
Но что задумал матерый разведчик Ясудзава? Улизнуть от ответственности? Или, совершив побег из плена с нужными для него людьми, провести в нашем тылу какую-нибудь дерзкую операцию?..
У нас не было прямой связи с отделом контрразведки армии, который находился где-то в движении. Между тем о собранных нами материалах надо было срочно докладывать. И вот я двинулся в путь на «виллисе» в поисках косвенной связи с руководством, одновременно нацеливаясь на розыск Ясудзавы. Для этого и прихватил с собой бывшего колчаковского офицера — Ивана Николаевича, лично знавшего японца.
Накануне поездки были приняты и другие немаловажные меры. Мы не имели реальных сил для блокирования и обезвреживания отряда диверсантов поручика Симачкина. Но медлить с этим нельзя было. Поэтому пошли на риск. Решили послать в тот отряд Белянушкина — с его, разумеется, согласия. Белянушкин должен был убедить диверсантов в бесперспективности их подрывных действий. А также, опираясь на верных ему людей, деморализовать и склонить их к тому, чтобы они добровольно в полном составе явились в советскую комендатуру, то есть к нам, чекистам. В случае если Симачкин на это не согласится, то принудить силой оружия… Старшему лейтенанту Тимофееву поручалось задержать беглого кулака из Приморья Терещенко, а также других наиболее опасных преступников…
Часа два разъезжали мы на «виллисе» по тылам наших войск. Кроме шофера и меня в машине трясся на ухабах и бывший колчаковец Иван Николаевич. Наконец разыскали командный пункт 84-й кавдивизии. Здесь я связался по телефону с начальником нашего отделения подполковником Глуховым. Тот одобрил планы и мероприятия моей группы. Предложил докладывать о них ежедневно. Пообещал прислать роту из дивизии охраны тыла для ликвидации отряда Симачкина. Ориентировал на подлежащих розыску агентов — по материалам других опергрупп. И поставил перед нами задачу номер один — обезвредить Ясудзаву.
Мы снова катим на «виллисе» по тревожным фронтовым дорогам. С трудом преодолеваем разрушенные и наспех восстановленные мосты, топкие пади. Несколько раз патрульные посты проверяли наши документы. Особенно придирчиво — у эмигранта-колчаковца Ивана Николаевича. В свою очередь мы тоже требовали для проверки документы у подозрительных лиц. Осматривали пункты сбора военнопленных.
А их были тысячи — сдавшихся в плен в первых же боях японцев. Вроде бы заранее они готовились к такой участи. В плену вели себя как бы по-домашнему — деловито хлопотали возле костров, готовя горячую пищу. На их лицах не было печати нервного напряжения, какое было, скажем, у пленных немцев. Японцы шутили, беспечно болтали, смеялись. Было очевидно, что затеянную самураями войну простые японцы не приняли, она им чужда, стоит поперек горла и что они рады своему выходу из войны — хотя бы через плен…
В тот день, уже перед заходом солнца, мы прибыли на третий пункт сбора пленных. Здесь-то и нашли Ясудзаву. Привезли его в Лишучжень поздно ночью. Сами валились с ног от усталости, но решили допросить сейчас же бывшего шефа шпионской миссии — в бывшем его кабинете.
Ясудзава — плотный, невысокого роста мужчина лет сорока двух — окончил, по его словам, военную академию и разведывательный колледж. В разведке — более десяти лет; в последней должности — пять лет. Неплохо владеет русским языком. Сперва на вопросы не отвечал: был настолько подавлен, что лишь бормотал что-то невнятное. Позже мы поняли, что это была своего рода молитва: «Надо достойно умереть». Ему мы с трудом втолковали, что до досконального расследования и решения суда, который еще впереди, никаких репрессивных мер применять не будем и что ему предоставляется возможность смягчить свою вину перед Советским Союзом откровенным признанием.
Ясудзава мало-помалу разговорился. Сообщил известные ему данные о дислокации японских войск и о наличии военных укреплений в районе городов Муданьцзяна, Хандаохедзы, Харбина, Гирина и ряда других. Назвал многих сотрудников, агентов и резидентов японской разведки, охарактеризовал их практическую подрывную деятельность. Указал и на тех из них, которые забрасывались к нам на Дальний Восток и должны были участвовать в разведывательно-диверсионной деятельности в тылу наступающих в Маньчжурии советских войск. А всего он назвал около ста человек, сотрудничавших с Лишучженьской военной миссией в разведывательном и контрразведывательном направлениях. Объяснил и свое недавнее пребывание в Муданьцзяне — 8 августа: ездил туда по вызову своего начальства, получив указание об усилении агентурной разведки против советских войск в Приморье. Но выполнить это задание не успел — начались военные действия. Прибыв в Лишучжень, он не смог взять нити руководства в свои руки и организовать шпионаж и диверсии, поскольку офицеры миссии разбежались — к городу подходили советские танки. Он и сам в тот же день покинул город. Вначале хотел пробраться в Муданьцзян, но дороги туда уже были перехвачены советскими войсками. Вынужден был скрываться в лесу, облачившись в солдатское обмундирование. Здесь и взяли его в плен наши автоматчики. Будучи до глубины души потрясенным трагическими для Японии событиями, он все-таки и в лагере военнопленных лихорадочно выискивал, но не находил пути дальнейшей борьбы с Советской Армией.
С тайным нетерпением я ожидал того момента, когда Ясудзава сам расскажет о заброске в СССР Кунгурцева. Однако свое повествование японец закруглял, но фамилию эту еще ни разу не произнес.
Тогда я спросил без обиняков: «Кого вы заслали в СССР осенью 1944 года?» — «Я никого не засылал». — «А кого перебросили тогда через границу ваши помощники?»
Лишь после столь прозрачного намека матерый разведчик все же кое-что выдал. Он, в частности, сказал, что в ноябре 1944 года один из его помощников, колчаковский поручик Симачкин, участвовал в заброске в Приморье, в районе города Имана, агента, которого готовила Харбинская японская военная миссия. Его фамилию и другие какие-либо данные о нем Ясудзава якобы не знает. Харбинские разведчики лишь использовали для переброски в СССР своего агента помощь Лишучженьской миссии, как разведоргана, находящегося в непосредственной близости к границе с СССР и, естественно, лучше других знающего здесь более проходные для засылки агентуры места.
«Возможно, Муцаи и Симачкину известна фамилия этого агента, спросите у них», — прижмурил японец глаза, иронически улыбаясь.
Для нас было ценным даже это краткое сообщение японца о переброске в ноябре 1944 года в СССР агента в районе Имана. Оно совпадало с имевшимися у нас сведениями о том, что этот агент готовился в Харбине и что в его переброске через границу участвовал Симачкин. Следовательно, показания Кунгурцева по этим вопросам правдивы, след его в Маньчжурии отыскался. Однако кем в действительности агент являлся, какое получил задание от разведки и дали ли ему японцы явки в советском Приморье — ответы на эти важнейшие вопросы еще были за семью печатями.
Эта «беседа» затянулась почти до утра. Когда я, вставая из-за стола, сказал, что вынужден взять его, Ясудзаву, под стражу, он не без ехидства спросил: «Разве я уже не заслужил снисхождения, чтобы отдыхать не в тюрьме?»
В тон ему последовал мой ответ: дескать, его заслугу мы ценим и поэтому даем право выбрать для ночлега любую камеру тюрьмы…
На дворе было ветрено, сыро и еще темно.
Я решил отвести сам японца в камеру. Чтобы исключить побег, использовал старый прием: опоясал Ясудзаву своим офицерским поясным ремнем пряжкой назад и просунул ладонь под него. При этом стоял слева от конвоируемого, автоматчик — справа. Наблюдая за мной, Ясудзава вдруг побледнел, затрясся весь и залопотал свою «молитву». Думая, что он страшится стен тюрьмы, я сказал, чтобы он их не пугался, поскольку эту тюрьму сам же строил. Правда, она не совсем удобная, но зато надежная. Японец все кивал, вроде бы соглашаясь. Спустя несколько дней он признался, что, когда его опоясали ремнем перед выводом в камеру, он перепутался, подозревая, что его хотят задушить.
«Теперь я на собственном опыте убедился, — говорил Ясудзава еще позже, широко скаля зубы, — советская контрразведка не опускается до грубых акций в своей работе, о которых так много говорили пропагандисты Японии и белого движения».
Рано утром старший лейтенант Тимофеев уехал на ближайший командный пункт, чтобы доложить в отдел контрразведки армии о задержании Ясудзавы и его показаниях. А перед отъездом предупредил меня, что он не успел допросить задержанного Терещенко. И я решил это сделать сам.
Терещенко — пожилой, но с виду еще крепкий мужик, широкоплечий, с багровым, поклеванным оспой лицом и с глубоко запавшими глазами, смотревшими настороженно из-под густых, почти сросшихся бровей. Разговаривал не спеша, как бы взвешивая каждое слово, хрипловатым слабым голосом.
О себе говорил неохотно. Родился на хуторе Подлесном, около Лесозаводска, в Приморье, там вырос и женился. Родители давно умерли, родственников нет. В 1930 году могли раскулачить — зажиточно жил. Вовремя, не дожидаясь этого, распродал что можно было и зимой 1930 года ушел в Маньчжурию с женой и двумя сыновьями. За границей осел в Мишани. Рассчитывал «вольно» пожить, прибыльно поторговать. Но туда скоро пришли японцы. Его арестовали и забрали почти что все имущество. Под стражей держали около года, обвиняя в связях с советской разведкой, на допросах иногда жестоко били. Потом освободили, но имущество не отдали. Японцы принудили дать им письменное обязательство тайно на них работать: выявлять людей, недовольных их режимом. Устроили его кладовщиком на лесоскладе в Мишани, дали земли под огородишко. Так и жил все эти годы в полной зависимости от японской разведки. Его подсаживали в камеры к арестованным, заставляли переправлять в советское Приморье агентов. А в 1940 году сам ходил через границу в города Бикин и Иман с целью изучения обстановки и разведки войск. Терещенко назвал более двадцати лиц, сотрудничавших с японской разведкой.
Я чувствовал, что он — крупная дичь, большая находка: многое знает о японской агентуре и может об этом рассказать. К сожалению, и мне, как и старшему лейтенанту Тимофееву, пришлось прервать допрос на самом, кажется, интересном.
Надо было срочно искать и изолировать других шпионов. И в этом направлении наша небольшая группа оперативников работала напряженно. Уже к 13 августа, то есть всего за считанные дни, мы взяли — ни много ни мало — более пятидесяти шпионов. Это был явный перегруз — мы не успевали их допрашивать и затребовали подкрепление — подмогу для ведения следствия…
Но пришел черед изолировать и отряд поручика Симачкина. Правда, случаев нападения; диверсантов на наши армейские тылы не наблюдалось. Однако диверсионный отряд существовал, и само по себе это — серьезная опасность.
Обещанного подполковником Глуховым воинского подразделения для ликвидации диверсантов все еще не было. Молчал и Белянушкин…
Позже мы узнали, что в это время стремительно наступавшие советские войска разобщили и разъединили целые дивизии и армии японцев, загнали в сопки и таежные дебри многотысячные группы противника и там их доколачивали. Ясно, что наше командование не могло снимать с фронта силы для ликвидации мелких отрядов — в 100–150 человек, каким был отряд поручика Симачкина. И я начал готовиться к тому, чтобы с группой автоматчиков и проводников-китайцев пойти в урочище Барсука и попытаться обезоружить диверсантов. Мне очень хотелось побыстрее поймать поручика Симачкина и допросить его. Однако идти в урочище не пришлось. К нам явился посланец Белянушкина и сообщил, что диверсанты находятся километрах в пяти от города, просят прибыть туда советского офицера для переговоров. Взяв с собой двух автоматчиков и этого посланца, я на «виллисе» немедленно выехал в отряд. Диверсанты, ожидая нас, группами сидели и стояли возле чумизного поля, на пустыре, поросшем небольшим кустарником. Подъехав к ним, я остановил «виллис» и увидел Белянушкина, поздоровался с ним и предложил построить отряд, что тот и сделал. На правом фланге стали высокий полнотелый Белянушкин и еще более рослый, но поджарый поручик Симачкин, которого узнал по приметам. Я прошел вдоль строя, внимательно всматриваясь в стоявших. Передо мной были грязные, с обросшими лицами, в мятой одежде и, видно, голодные люди — в основном молодые русские парни, одетые в военные, полувоенные и гражданские костюмы. Вооружены японскими карабинами, ручными гранатами и ножами. В широко раскрытых глазах кроме естественного любопытства в связи со столь необычной встречей были уныние и тоска от сознания неясности дальнейшей судьбы, а кое у кого — страх перед возможным суровым наказанием. Я решил не мешкая внести ясность, как говорится, в обстановку. Подозвав к себе Белянушкина и поручика Симачкина, обратился к отряду со словами: «Советская Армия пришла сюда, чтобы разгромить японских агрессоров, ликвидировать нависшую над нашей границей угрозу — разбойничье гнездо самураев — и тем самым помочь многострадальному китайскому народу обрести независимость от иноземных поработителей. Японские войска в Маньчжурии полностью разбиты. Мы считаем, что японцы обманом заставили ваш отряд подготовиться к диверсионной борьбе с нами. Но хорошо то, что практически вы, очевидно, не успели натворить много зла. Поэтому вам предлагаем подойти по одному к нашей автомашине и сложить возле нее оружие. В отдельные кучи положить карабины, патроны, гранаты, ножи… После этого разойдитесь поодиночке по домам. Занимайтесь полезным для общества делом и не вздумайте что-либо предпринимать плохого против Советской Армии…»
Диверсанты не сразу поверили, что их отпускают домой без немедленного наказания. Но вот лица их начали светлеть, появились улыбки, строй заколебался, загудел. Симачкин первым подошел к «виллису» и бросил на землю маузер в деревянной колодке, гранаты и японский штык в чехле. Потом стали сдавать оружие остальные. Фамилии диверсантов и их адреса я записывал в блокнот, достоверность сведений о каждом подтверждал Белянушкин. Не прошло и часа, как диверсионный отряд перестал существовать. Оружие мы уложили в «виллис», который тихим ходом двинулся к зданию миссии. А нам пришлось идти за ним пешком, поскольку свободного места в автомашине не оказалось. Рядом брели, понурив головы, Белянушкин и Симачкин, которым я предложил идти в комендатуру для разговора. Прибыв к зданию бывшей шпионской миссии и разгрузив оружие, я прежде всего побеседовал с Белянушкиным. Тот рассказал вот что о своем пребывании в отряде Симачкина.
В урочище Барсука Белянушкин прибыл в полдень 12 августа. Возле большого костра его окружили диверсанты. Начался нервный, бестолковый разговор. Рассказу Белянушкина о том, что случилось лично с ним — как его вызвали в комендатуру, где по-хорошему беседовали, — диверсанты сперва не поверили. Послышались даже злобные выкрики: «Знаем мы гепеушников». — «Они из нас жилы будут тянуть! Потом в расход пустят…»
Белянушкин поднял руку. Полегоньку толпа утихла.
«А вас они били?» — спросил кто-то. «Нет, не били, честно скажу: я сам от слабости и переживаний упал на колени. Они подняли меня…» — «Вишь, на колени ставили!» — раздался нервный смешок. «Да не ставили! — гаркнул по-полковничьи Белянушкин. — Сам я упал от переживаний…» — «А какие они из себя?» — «Обыкновенные русские ребята. Молодые, симпатичные, веселые…» — «Много у них войск?» — «Видел несколько автоматчиков». — «Что они предлагают?» — «Предлагают сложить оружие и разойтись по домам». — «Вы-то верите, что они домой нас отпустят?» — «Верю! И советую сдаться на милость победителей». — «А что вы сами решили?» — «Я уже сдался победителям. Пусть они и решают обо мне… — Низко опустил голову Белянушкин. — Набегался досыта за свою жизнь. Больше не хочу. Да и куда сейчас побежишь?!»
Долго не расходились диверсанты — шумели, спорили. А Симачкин вроде бы скис, увял, больше отмалчивался. Видно было: в отношении самого себя он еще не принял никакого решения.
В тот день Белянушкин встретил несколько близких ему людей, поговорил по душам…
Вечером диверсанты опять сгрудились у костра, продолжая судачить. Одни считали, что нужно сложить оружие и разойтись кто куда хочет, Белянушкин пусть вернется к русским и укажет им место, где это оружие находится; другие — послать в русскую комендатуру делегацию из трех человек, которая должна выяснить условия сдачи и, в частности, отпустят ли их домой или арестуют; третья группа — пойти всему отряду к Лишучженю, остановиться на опушке леса, выставив наблюдателей, и послать гонца в комендатуру с просьбой прислать представителя для переговоров. В случае если вместо представителя к ним станет приближаться советская воинская часть, то тогда всем вернуться в урочище и разойтись по тайге.
Большинство диверсантов высказались за второе предложение. Избрали делегацию из трех человек, которые поздно вечером отправились в путь. Однако, не успев покинуть урочище, заколебались, вернулись в отряд, заявив, что пусть к гепеушникам идет тот, кому жить надоело. Тогда диверсанты проголосовали за третье предложение. И рано утром расположились на опушке леса километрах в пяти от города, отправив гонца в комендатуру.
Белянушкин уверял, что он не нажимал на диверсантов, а убеждал их. Возможно, поэтому почти все они сдались. Сбежали лишь двое.
Я отпустил Белянушкина домой, предупредив, чтобы он прибыл сюда на другой день в гражданской одежде.
В кабинет вскоре вошел Симачкин. Усевшись на стул, глядел на меня злобно, словно затравленный волк, немигающими желтоватыми глазами. О себе рассказал: ему 51 год, родился в Западной Сибири, в селе Приозерье, Юргинского уезда, в крестьянской семье. Три года воевал на германском фронте, после революции вернулся в родное село. Зимой 1919 года его мобилизовали колчаковцы — воевал, отступал и ушел в Маньчжурию. Поселился в Лишучжене, работал у торговцев грузчиком. Завел семью — есть жена, двое детей, имеет собственный небольшой дом. В 1932 году через колчаковского офицера Подлысина познакомился с японцами, которые и втянули его в тайные мероприятия. Официальная должность была — помощник начальника охранного отряда Лишучженьской миссии. На самом деле переправлял в советское Приморье японских агентов, вел наблюдения, по заданию японцев, за Белянушкиным, Терещенко и другими эмигрантами, которым они до конца не доверяли. Симачкин назвал 15 агентов этой миссии, упомянув о их конкретных действиях против СССР.
И на этом опросе я сидел как на горячих углях, с нетерпением ждал: вот-вот Симачкин произнесет фамилию Кунгурцева. Но — тщетно. А между тем Симачкин сообщил, что в его распоряжении имелось два пункта на границе, через которые переправляли японских агентов в Приморье. Перечисляя их, назвал Коршуна — двадцатилетнего агента, переброшенного вместе с японцем Хасирой в ноябре 1944 года севернее Имана.
«Кто такой Коршун?» — «Как я понял, Коршун — кличка агента, фамилии его не знаю». — «Где родился Коршун и кто его родители?» — «Не знаю». — «Кто готовил Коршуна?» — «Харбинская японская военная миссия, а переброской в СССР руководил Хасира». — «Каким способом переправили Коршуна в СССР?» — «Перебросили на лодке через Уссури». — «Сколько человек было в лодке?» — «К реке мы подошли втроем: Хасира, Коршун и я. Там уже находилась лодка с гребцом. Хасира нас проводил, а сам остался на берегу. Я сидел на корме лодки, управляя ею. Коршун — на носу. Его мы высадили на правом берегу реки и сразу же отправились обратно. Вскоре я нашел Хасиру и доложил ему о благополучной переброске Коршуна. До рассвета мы сидели с Хасирой у места переправы, укрывшись плащами, — надо было убедиться, что Коршуну удалось уйти в советский тыл». — «Какое задание имел Коршун?» — «Это мне неизвестно». — «Способ связи с ним?» — «Не знаю». — «Что сообщил Коршун с территории СССР о выполнении задания?» — «Если сообщил что-либо — только японцам».
Итак, сомнений не было: Кунгурцева перебрасывал в Приморье Симачкин. Но и тот не раскрыл его шпионскую личность…
Заканчивая разговор с Симачкиным, я сказал, что его придется взять под стражу. Он к этому был готов и робко попросил отпустить его домой — «на побывку». Я разрешил сходить домой, но только утром, вместе с моим помощником.
В то же утро взяли под стражу Белянушкина.
В Лишучжень прибыл второй эшелон отдела во главе с заместителем его начальника подполковником Тесленко: оперативные работники, следователи, технический персонал и более половины роты охраны.
Подполковник Тесленко осмотрел здание миссии, проверил документацию, поинтересовался о задержанных, а их было уже более шестидесяти. Остался доволен: «Молодцы, молодцы, ребята! Столько шпионов в кучу собрали. Такого букета в жизни не видел».
Мне и старшему лейтенанту Тимофееву было велено сдать дела и убыть на командный пункт армии.
Прибыл с этой группой сотрудников отдела и старший следователь капитан Таранихин. Перед самым отъездом я ознакомил его с материалами, касающимися дела Кунгурцева. Не забыл сказать и о том, что ездил в Мулинэ где якобы жил Кунгурцев. Следов его пребывания здесь не нашел. Указанный им адрес, где будто бы живут его родители, — ложный: на этом месте — контора шахтоуправления.
Со вторым эшелоном нашего отдела пришли крытые автомашины. На них должны были доставить в Ворошилов-Уссурийск под усиленной охраной задержанных шпионов. Начальником конвоя назначили лейтенанта Рябцева — ему и передали в отпечатанном виде все следственные материалы. Перед отправкой этой колонны автомашин Ясудзава, находясь еще в камере тюрьмы, вдруг стал истошно кричать и просить беседы со мной.
Японец, оказывается, пожелал сказать мне нечто важное наедине. Я доложил об этом подполковнику Тесленко. Тот распорядился привести Ясудзаву к нему. Войдя в кабинет, бывший шеф шпионской миссии некоторое время препирался, желая поговорить со мной с глазу на глаз. Я сказал, что от подполковника Тесленко у меня секретов не может быть. Японец с медовой улыбкой на лице заявил, что русские с ним обошлись очень хорошо. Поэтому в знак благодарности он желает сообщить, что задержанный нами Терещенко жил в Маньчжурии не под своей фамилией; под какой, правда, он, Ясудзава, не знает. Затем он сказал, что дарит мне свою очень дорогую собаку. Ему ответили, что учтем его информацию, а собаку, которая нам не нужна, постараемся передать хорошим людям. Японец, стиснув зубы, заулыбался и, не поворачиваясь к нам спиной, вышел в сопровождении конвойного из кабинета.
Подполковник Тесленко, провожая суровым взглядом подобострастно согнутую фигуру арестованного, сказал: «А неспроста он такой жест сделал, хотел прощупать нас — узнать, какая участь ждет его…»
И распорядился немедленно отправить задержанных в пункт назначения.
Эта поспешность обернулась ошибкой, которая нам позже дорого обошлась. Нам надо было в тот же день, как говорится, по свежему следу, после многозначительного «жеста» Ясудзавы, немедля допросить Терещенко, чтобы установить его подлинную личность. Мы этого не сделали, решив побыстрее отправить конвой, чтобы он засветло прибыл на нашу территорию.
Правда, я сразу же после убытия конвоя спохватился и, как бы ему вдогонку, выслал почтой в пункт его назначения рапорт о заявлении Ясудзавы относительно Терещенко. Предлагал приобщить к его следственному делу этот материал, полагая, что там дадут ему ход. Со временем выяснилось: ничего этого не произошло — рапорт где-то затерялся…
После передачи дел я, старший лейтенант Тимофеев и несколько автоматчиков вечером выехали на командный пункт армии — в район Муданьцзяна. В пути встретили офицеров штаба армии, узнали от них, что Муданьцзян почти полностью занят нашими войсками и что японцы заявили о своей капитуляции. Поздно ночью мы нашли отдел «Смерш» армии у станции Хандаохедзы. Здесь подробно ознакомились с обстановкой. Она была противоречивой. Несмотря на капитулянтское заявление японского правительства, его войска в Маньчжурии продолжали сражаться, ибо еще не получили приказа сдаться. И наши армии усилили натиск — разобщили основные группировки японцев, дезорганизовали управление, захватив с помощью десантов важнейшие стратегические пункты.
Лишь после этого, 17 и 18 августа, японцы в массовом порядке начали складывать оружие. Квантунская армия была полностью разоружена и пленена.
К этому же времени были ликвидированы подрывные органы японской разведки. Лишь кое-где на лесных дорогах и в таежных падях проявляли активность японские смертники, но и они сразу же обезвреживались.
Отдел контрразведки армии вместе с ее штабом вскоре прибыл в Харбин. Здесь мы разыскивали и задерживали агентов и сотрудников японской разведки, главарей белой эмиграции (БРЭМ), русского фашистского союза (РФС) и других подрывных организаций. Кроме того, проводили мероприятия по изъятию документации, представляющей историческую и оперативную ценность.
Но на первых порах с ходу включились в борьбу по ликвидации террористической вспышки. Дело в том, что в Харбине вдруг объявились бандитские группы, состоявшие из перешедших на нелегальное положение полицейско-жандармских чиновников и деклассированных элементов. По ночам в городе совершались грабежи, поджоги и убийства, иногда — и советских военнослужащих. Деятельность этих бандитско-террористических групп скоро была пресечена…
В Харбине нам усердно помогали не только местные жители, но и китайская криминальная полиция. Правда, помощью ее мы пользовались недолго.
Я хотел бы напомнить, что в Маньчжурии до прихода туда наших войск существовал марионеточный госаппарат во главе с императором Пуи. Существовал формально — страной управляли японские советники. После разгрома Квантунской армии Пуи был интернирован, а японские советники, кроме успевших скрыться, взяты под стражу. Оставшись без них, местная маньчжурская администрация и криминальная полиция старались поддерживать общественный порядок.
Нам, чекистам, за почти трехмесячное пребывание в Харбине довелось обнаружить следы варварской жестокости японских оккупантов. Захватив Маньчжурию, эту горемычную провинцию Китая, они бессовестно провозгласили ее «зоной взаимного процветания». Японцы были господами, во всем только повелевали — ведь за их спиной стояла вооруженная сила, которая безжалостно истребляла все непокорное без суда и следствия. Положение простых китайцев было сведено до рабского. Они до изнурения за нищенскую плату трудились всюду — в шахтах, рудниках, на полях, в лесах. Из богатой полезными ископаемыми Маньчжурии оккупанты хищнически выкачивали все ценное: железо, медь, олово, цинк, золото, серебро, лес, хлеб, ткани…
Да, трудящийся китаец был нищ, обобран захватчиками. Но вот что любопытно. Пока он оставался жив, его не покидало неистощимое изобретательство, чтобы не только выжить, но, если удастся, выкарабкаться из нищеты и даже разбогатеть. Его предприимчивость, борьба за выживание особенно проявились после изгнания из Маньчжурии японцев.
Вот пример. Однажды, следуя по городу на автомашине, мы, несколько сотрудников нашего отдела, остановились у тротуара. То, что я здесь увидел, и сейчас стоит перед глазами. Вдоль глинобитного забора, загораживая половину широкого тротуара, стоял длинный ряд одетых буквально в рубища китайцев, продававших всевозможный хлам: куски ржавого железа, никуда негодную, ржавую жесть, болты, гайки, мизерные кучки чумизы, вялую лобу… У самого края тротуара под палящим солнцем, обливаясь потом, расположился китаец лет семидесяти, одетый в робу, всю в заплатах. Он продавал одну-единственную бутылку воды сомнительной свежести, стоявшую на нагретых камнях. От этой картины мне стало не по себе. Я подошел к старику, забрал у него бутылку, уплатив раз в десять больше того, что он просил, и жестами объяснил, чтобы он шел домой отдыхать. Китаец низко поклонился и тихо засеменил прочь, раскачиваясь от истощения из стороны в сторону, радостно бормоча что-то.
А на другой день этот же китаец на том же самом месте продавал… уже три бутылки воды.
Многие наши воины давали деньги бедным торговцам подчас за никчемные безделушки не торгуясь. Да, тут была неописуемая нищета! Но особенно не могли переносить наши солдаты рикш.
В один из дней после обеда вместе с начальником отделения подполковником Глуховым мы направились к реке Сунгари. Встретив на одной из улиц толпу, остановились. С лошадей хорошо обозревалась такая картина…
Прогуливаясь по улице, группа наших солдат — ветеранов войны, гимнастерки которых украшали ордена и медали, — увидела, как худой и оборванный китаец-рикша вез в коляске дородного, лоснящегося от жира господина, покрытого шелковой мантией, развалившегося на мягком бархатном сиденье. Солдаты остановили коляску, поменяли рикшу и господина местами. А чтобы рикша не остался в убытке, вручили ему порядочную сумму юаней, которых он наверняка не заработал бы и за неделю. Китайцу в шелковой мантии предложили везти рикшу по улице, что тот и делал, поминутно оглядываясь назад…
Все это происходило на глазах у быстро собравшейся многочисленной толпы, китайцы одобрительно кричали: «Шанго!.. Шанго!» А развалившийся в коляске рикша, потрясая зажатыми, в руке деньгами, неистово хохотал, вертя во все стороны головой на длинной, худой шее…
Занимаясь своими повседневными делами, мы со старшим следователем капитаном Таранихиным, который прибыл в Харбин чуть позже меня, не забывали и про Кунгурцева, старались собрать о нем дополнительные сведения. Однако большинство офицеров Харбинской японской военной миссии, занимавшихся агентурной разведкой против СССР, скрылись, а задержанные нами не рассказывали о нем, заявляя, что ничего не знают. Но чувствовалось, что японская разведка умело конспирировала свою агентуру, обнаружить ее было не так-то просто. В японских военных миссиях никаких документов, проливающих свет на личность Кунгурцева, обнаружить не удалось. Не значились ни он, ни его отец, ни мать по учетам русских эмигрантов в Харбине и в столице Маньчжурии Мукдене.
В конце октября, в погожий осенний день, мы, всей нашей группой чекистов, возглавляемой полковником Абрамовым, вылетели в Куйбышевку-Восточную. Под крылом самолета медленно проплывали маньчжурские сопки, пестрые заплаты осенних полей и широкие таежные дали и долины, нарядно расцвеченные почти сплошь пожелтевшими кронами берез, бурыми полосами дубняка, багряно-красными прожилками дикого винограда и осины, притаившейся по распадкам темнеющей хвоей величавых кедров, лиственниц, сосен.
Недолго, всего около трех месяцев, я пробыл в Маньчжурии. Но крепко запечатлелся в моей памяти ее трудолюбивый и многострадальный народ. И, думая о нем, взгрустнул тогда в самолете. Но рядом с этим настроением в душе нарастало и крепло радостное чувство встречи с Родиной, с родными и близкими, которые уже давно нас ожидали. Ждали новые дела и новые заботы.
Глава IV
КТО ЖЕ ТЫ, КУНГУРЦЕВ?
— Прошло три года после моего возвращения из Маньчжурии, — рассказывал Петр Петрович курсантам на очередной встрече с ними. — Я давно отошел от дела Кунгурцева. Лишь временами оно вспоминалось. И тогда возникало во мне томящее чувство нечетко осознаваемой вины за незавершенность этого дела, за то, что не удалось докопаться до всей глубины сведений о личности этого преступника. Но я чувствовал, что судьбе будет угодно еще раз свести меня с этим человеком. И не ошибся.
В 1947 году меня перевели в Хабаровск и назначили начальником оперативного отделения Управления особых отделов Дальнего Востока. По роду новой службы я часто выезжал в командировки.
В середине сентября 1948 года, возвращаясь в Хабаровск, заехал по пути навестить близкий для меня коллектив особого отдела 1-й Краснознаменной армии. Встретился с сослуживцами и друзьями — Бухтиаровым, Абрамовым, Таранихиным, Сошниковым… Полковник Бухтиаров выглядел бодрым, посвежевшим, приветствовал меня шумно, радостно. «А, начальство приехало! ЦУ (ценные указания) нам давать будешь?.. Ну, здравствуй, здравствуй!.. Рассказывай, как там, наверху, живется», — говорил он, крепко пожимая мне руку.
Обмен новостями с ним длился несколько часов. В конце беседы я сказал, что хотел бы заночевать здесь, а завтра в их отделе посмотреть розыскные материалы. Он с охотой приветствовал это. Мы распрощались.
Выйдя из кабинета полковника, я сразу же попал прямо в объятия поджидавшего меня за дверью розыскника капитана Сошникова. Он пригласил к себе домой в гости. В квартире Сошникова за чашкой чаю добрым словом вспоминали свою старую службу, когда жили в одной комнате, коротая в ней свои холостяцкие дни.
Сошников в начале 1945 года женился на машинистке нашего отдела Аннушке, симпатичной девушке с веселым, неунывающим характером. Мы вспомнили прошлое, смеялись над тем, как после скромной вечеринки, окрещенной нами фронтовой свадьбой, я покидал нашу комнату, уходя жить в общежитие. В шутку тогда я поругивал Аннушку, называя ее захватчицей, захватившей моего друга Сошникова, и оккупанткой, оккупировавшей нашу скромную холостяцкую комнату.
Вечер в уютной квартире Сошниковых прошел в задушевном разговоре. Мои колени попеременно «обживали» их дети — трехлетний сын Борис и годовалая Нина.
А утром, придя в отдел, Сошников показал мне розыскные материалы. Он занимался розыском агентуры иностранных разведок, которая по окончании войны скрылась от правосудия, находясь на территории дислокации 1-й Краснознаменной армии. Знакомством с этими материалами я остался доволен, как и полнотой проводимых по ним мероприятий. Ощущалась здесь настойчивая и опытная рука розыскника. Шаг за шагом он распутывал сложнейшие паутинные нити следов скрывшихся преступников. И только по отдельным делам — в ходе их обсуждения — мы намечали дополнительные меры. После обеда рассмотрели еще несколько розыскных дел, и вдруг я взял в руки очередную папку, раскрыл ее — и даже вздрогнул… Передо мной находились — что бы вы думали? — материалы по розыску агента и резидента японской разведки Терещенко. Вначале я подумал, что это однофамилец того Терещенко, которого мы со старшим лейтенантом Тимофеевым задержали в августе 1945 года в Лишучжене. Но при ознакомлении с документами выяснилось, что это тот самый «беглый кулак из Приморья».
«Как к тебе попали материалы на Терещенко?» — спросил я капитана Сошникова.
Он ответил, что их прислало для ведения розыска Управление особых отделов 1-го Дальневосточного фронта.
Не задавая больше вопросов, я дотошно изучил все имевшиеся в деле знакомые и незнакомые материалы: анкетные данные, объяснения, показания Ясудзавы, Белянушкина, Симачкина и других сотрудников и агентов Лишучженьской японской военной миссии. Я узнал, что Терещенко 15 августа 1945 года бежал из-под стражи при конвоировании группы лишучженьских агентов, задержанных нами, и до сих пор разыскивается. Из объяснений начальника конвоя лейтенанта Рябцева и других конвоиров вырисовывалась такая картина. Выехав из Лишучженя около пятнадцати часов 14 августа, колонна с задержанными в составе трех автомашин спокойно двигалась, периодически останавливаясь по просьбам конвоируемых — для отправления ими естественных надобностей.
К вечеру Ясудзава, а затем Терещенко, ссылаясь на усталость, потребовали более продолжительного привала — для ужина и ночлега. Лейтенант Рябцев объяснил, что ночевать они будут там, где это предусмотрено. Японец пытался подбить и других задержанных к неповиновению. Но лейтенант Рябцев не растерялся, предупредил: если крикуны не успокоятся, он прикажет конвойным связать их. Это подействовало — задержанные притихли. Около 20 часов их покормили сухим пайком, и вскоре все они прибыли на госграницу. Пройдя необходимую процедуру проверки у пограничников, колонна двинулась дальше и заночевала в военном городке саперного батальона, что было заранее предусмотрено.
На ночь задержанных разместили в пустой казарме батальона. Здесь их осмотрели медики и сделали профилактические прививки. Перед окончанием этой процедуры обнаружилось отсутствие Ясудзавы.
Лейтенант Рябцев, оцепив казарму, организовал поиск японца. Были осмотрены подвалы, каптерки, конюшня, сараи.
Часа через два японца нашли на чердаке казармы. Рядом с ним лежал узел с полным комплектом поношенного солдатского обмундирования. Несмотря на явные признаки подготовки к побегу, Ясудзава, высокомерно и пренебрежительно улыбаясь, заявил, что спрятался на чердаке от уколов, которых очень боится, а обмундирование видит впервые.
Этот случай насторожил начальника конвоя, и он организовал усиленную охрану задержанных, продежурив и сам всю ночь без сна. Рано утром после завтрака снова отправились в путь. Около двенадцати дня остановились на привал — подальше от населенных пунктов и леса — на большой открытой лужайке, поросшей по краям редким кустарником.
Организовав обед и охрану конвоируемых, лейтенант Рябцев, уставший от бессонной ночи, решил немного вздремнуть — до посадки задержанных в автомашины. Командовать конвоем на это время назначил своего помощника сержанта Петракова. Но тот приказание лейтенанта не выполнил: хотел дать ему возможность поспать лишних полчаса — разбудил тогда, когда задержанные уже находились в автомашинах. Он заверил лейтенанта, что лично сделал перекличку и что все конвоируемые налицо. Рябцев ему поверил на слово и распорядился двигаться дальше. Однако по прибытии вечером — при передаче задержанных следственной комиссии фронта — обнаружилось отсутствие Терещенко. Сразу же принятые меры для розыска оказались безуспешными.
Сержант Петраков, будучи много раз опрошенным, сказал, что в лицо он бежавшего не помнит, но, когда делал перекличку, Терещенко якобы откликнулся: «Здесь». Сидевшие рядом с ним задержанные объяснили, что после остановки конвоя на обед Терещенко в автомашине не появлялся. Однако они ничего об этом конвою не сказали, полагая, что Терещенко перевели в другую автомашину. То есть тот бежал из-под стражи на дневном привале.
После этого пытались установить его личность. Хутора Подлесного в Лесозаводском районе, как и во всем Приморье, не существовало. По учету населения, а также лиц, привлекавшихся к уголовной ответственности, Терещенко не значился. В ходе допросов вывезенных в СССР задержанных преступников, знавших Терещенко по Маньчжурии, никаких дополнительных сведений о нем получить не удалось.
Оказавшись фактически в тупике с розыском беглеца, Управление особых отделов 1-го Дальневосточного фронта в апреле 1947 года переслало розыскные материалы в особый отдел 1-й Краснознаменной армии на том основании, что Терещенко в Маньчжурии был задержан этим отделом.
В деле не оказалось моего рапорта от 14 августа 1945 года с изложением заявления Ясудзавы о том, что Терещенко живет под чужой фамилией. Тогда я написал рапорт заново. Разработанные нами мероприятия, утвержденные полковником Бухтиаровым, выглядели малоперспективными: ведь следы разыскиваемого начисто оборвались, и ничего реального мы придумать не могли. Я приступил к изучению других дел, но никак не мог на них сосредоточиться — Терещенко не выходил из головы.
Да, секрета в том нет: после войны мы искали сотни преступников. Но одно дело, если ты лично не знал разыскиваемого, и совсем другое, когда он побывал в твоих руках и — скрылся. В этом случае ощущаешь особую ответственность за розыск. Так было и у меня с Терещенко. Мысль о том, что он где-то скрывается на территории СССР и, возможно, мстит за свои неудачи, совершая новые злодеяния, не давала мне покоя.
Между тем после войны с Японией репатриация из Маньчжурии русских эмигрантов продолжалась. Они могли принимать советское гражданство. И в одном из пунктов нашего розыскного плана мы предусмотрели их опрос о Терещенко, особенно тех, кто жил в Лишучжене, Муданьцзяне и Харбине. Это мероприятие не было особенно перспективным, но не исключалось, что мы могли получить новые сведения о личности разыскиваемого. Размышляя об этом, я пришел к выводу, что нужно опросить о Терещенко не только тех, кто возвращается в нашу страну после окончания войны с Японией, но и ранее находившихся в Маньчжурии лиц, прибывших оттуда в СССР в разное время.
И тут я вспомнил Кунгурцева, которого о Терещенко еще не спрашивали, хотя, как показал Кунгурцев на следствии, родился он в Мулине, расположенном недалеко от Лишучженя.
И вот мы втроем — бывший старший следователь, а теперь начальник следственного отделения, майор Таранихин, розыскник капитан Сошников и я — обсуждаем вопрос, как лучше организовать опрос Кунгурцева. Фантазируем, немного спорим. Я предположил: вдруг при опросе Кунгурцев заявит, что Терещенко не только его знакомый, а даже родственник.
«Да нет, это разные люди», — заметил капитан Сошников. «Откуда ты знаешь, что они разные! — горячился майор Таранихин. — Чего на белом свете не бывает».
Долго мы еще спорили, обсуждая различные варианты не раскрытых ранее событий. Возражения капитана Сошникова становились как бы неувереннее, мягче, наши позиции сближались. По анкетным данным, у Терещенко два сына. Но так ли это — в момент задержания не проверялось. А задерживался он в 1945 году капитаном Тимофеевым. Я связался по телефону с капитаном — спросил о сыновьях Терещенко. Капитан Тимофеев ответил, что, насколько он помнит, в августе 1945 года Терещенко прибыл в здание Лишучженьской японской военной миссии самостоятельно, по вызову; на его квартире Тимофеев не был и ничего не знает о его сыновьях. После этого разговора с капитаном Тимофеевым в нас стала укрепляться новая идея: а не является ли Кунгурцев сыном Терещенко?
Мы изложили все эти свои изыскания и предположения полковнику Бухтиарову.
«Ну что ж, неплохо продумано, — выслушав нас, заметил он. — Между прочим, одним из методов оперативного мышления является обоснованная оперативная фантазия, которая базируется на реальных фактах. Думаю, что ваше предположение о родстве Кунгурцева и Терещенко вполне оправданно. Это нужно срочно и тщательно проверить».
Было решено, что я наведу справки о поведении Кунгурцева в исправительном лагере и — при наличии возможностей — организую опрос…
Через сутки я уже находился в кабинете заместителя начальника Управления особых отделов Дальнего Востока генерал-майора Шишлина Ивана Васильевича, который непосредственно контролировал нашу розыскную работу. Доложил о мероприятиях относительно Терещенко и Кунгурцева. Генерал подметил, что наши посылки имеют некоторую перспективность, но и некоторую шаткость. Он сказал, что будет лично контролировать выполнение нашего плана.
На наш запрос Управление госбезопасности по области сообщило, что поведение его удовлетворительное, что он овладел специальностями плотника и столяра, перевыполняет нормы выработки, участвует в художественной самодеятельности. Генерал Шишлин ознакомил меня с этим сообщением и предложил выехать туда для беседы с Кунгурцевым. Заранее предупредил, что она будет сложной. В случае подтверждения нашей версии Кунгурцеву придется говорить о преступлениях отца, а это не так просто. Материалов для уличения его в неискренности на следствии было немного. Поэтому генерал предлагал вести беседу предельно доброжелательно и постараться убедить заключенного, что в его интересах быть искренним.
Несколько дней я готовился к той беседе. Собрал нужные документы, сделал выписки из следственных показаний. Еще раз проштудировал дело Кунгурцева. И странно, чем старательнее готовился, тем почему-то все больше испытывал нечто вроде сомнения.
Генерал Шишлин по этому поводу сказал: «Это хорошо, что испытываются затруднения. Значит, процесс осмысливания мероприятия идет нормально. Думай, майор, думай. Я уверен, что нужная тактика разговора у тебя вырисуется. Но, пожалуй, не раньше того часа, как увидишь собеседника и вступишь с ним в контакт».
И вот подготовка к встрече с Кунгурцевым вроде завершена. Самолетом вылетаю. День ясный, солнечный. Чтобы отвлечься от своих дум, не отрываясь смотрю в иллюминатор. Любуюсь маняще-неоглядными таежными далями, искусно расчерченными темнеющими долинами, причудливыми изгибами рек…
Прилетели вечером. Солнце уже скрылось за зубчатые далекие горы, и все вокруг затягивалось густеющей темнотой.
Накануне встречи с Кунгурцевым я узнал, что его уже несколько раз опрашивали в лагере. При этом использовались те улики его прошлой неискренности на следствии, с которыми я приехал и которые он легко уже парировал. Кунгурцев заявлял на опросах, что на следствии рассказал все полностью и что если его показания не сходятся с нашими кондуитами, то нам надо искать выход самим.
Все это не прибавляло мне уверенности в желательном исходе предстоящей встречи с преступником.
И вот он сидит передо мной в кабинете следственного изолятора, возле стены, на табуретке, жестко прикрепленной к полу.
«А вы изменились, Кунгурцев, за три года», — сказал я, всматриваясь в него. «Вы тоже изменились, стали, кажется, майором, но я вас сразу узнал, вы ловили меня».
Кунгурцев пополнел, возмужал. Его лицо от физической работы на воздухе в зной и в стужу словно задубело. Но ни загар, ни задубелость не скрадывали броских примет: чуть раздвоенный подбородок и почти сросшиеся у переносицы густые брови. Наклонив голову, он рассматривал свои, словно раздавленные, огрубевшие ладони, бросая на меня короткие пытливые взгляды. Его напряженная поза, бегающие глаза и первые сухие безэмоциональные реплики говорили о том, что эта встреча его не обрадовала, во всяком случае от нее он не ожидает ничего хорошего.
Как я ни всматривался в Кунгурцева, ничего определенного не мог сказать — похож ли он на Терещенко. Наука об идентификации личности по фотографиям продвинулась далеко вперед и при наличии хороших фотоснимков способна дать категорический ответ: это ли лицо сфотографировано, даже десятки лет назад. И все же здесь немало трудностей. Когда я сосредоточивал свое внимание на признаках сходства Кунгурцева и Терещенко, то они казались похожими друг на друга. Но стоило начать искать различия — приходил к противоположному выводу. Поэтому я вынужден был признать, что одна из возможностей, казавшаяся ранее бесспорной, — установить их родство по приметам — фактически отпала.
«Как вы себя чувствуете?» — поинтересовался я после некоторой паузы, надеясь развить беседу о его жизни в лагере. «Нормально, не жалуюсь». — «А все же?» — «Как видите: жив, здоров, работаю». — «Вам письма пишут?» — вырвалось у меня, пожалуй, некстати. «Пишет из Омска знакомый по лагерю Кириллов Иван. Он освободился в прошлом году, а сидел за неосторожное убийство». — «Что же он пишет?» — «Разное». — «Где бы хотели жить и чем заниматься после отбытия наказания?» — «Сидеть еще долго, времени хватит подумать. А если вы, гражданин майор, хотите пришить еще статью и продлить лагерный срок, то, что ж, давайте старайтесь, мне теперь все равно», — нервно проговорил Кунгурцев и еще ниже наклонил голову. «Напрасно обижаетесь, ничего вам пришивать не собираемся. А срок ведь вы сами заработали, проникнув в нашу страну из Маньчжурии, так ведь?» — «Пришел сам, конечно, да не по своей воле».
Я чувствовал, что контакт с Кунгурцевым никак не устанавливается. Беседа была какой-то отрывочной, напряженной. И я решил со всей откровенностью выложить перед ним все свои соображения, без постепенного подхода к ним — будь что будет!
«Вот что, Кунгурцев, я приехал для разговора с вами. Сегодня вы можете только слушать и спрашивать, а ответ дадите, если, конечно, пожелаете, после размышления и обдумывания при следующей нашей встрече. А дело вот в чем. Советские власти разрешили русским эмигрантам из Маньчжурии возвращаться на родину, в Советский Союз. Кто из них не имеет нашего гражданства, могут приобрести его, но — в персональном порядке. Многие эмигранты возвращаются к нам, а некоторые остаются в Китае или уезжают в третьи страны. Должна принять решение и ваша семья. Но возникли трудности, поскольку ваша семья разобщилась. Кроме того, на следствии вы неправильно назвали своих родителей. По тому адресу в Мулине, по которому вы будто бы проживали, находится контора угольной шахты, в чем я сам убедился». — «Так вы были там?» — почти выкрикнул Кунгурцев и смутился. «Был, конечно. Ваша семья, как мы предполагаем, живет в другом городе Маньчжурии. Судьба ее во многом сейчас зависит от вас. Если после отбытия наказания вы захотите остаться в СССР, то мы поможем вам уже сейчас сообщить об этом семье, которая, возможно, согласится тоже приехать сюда. Но чтобы такой вариант состоялся, вам следует откровенно рассказать о себе, об отце и матери. Вы вольны оставить все так, как есть сейчас, и после окончания срока можете уехать обратно в Маньчжурию. Хочу вам определенно сказать, что органы госбезопасности стоят за первый вариант, считая, что вы, ваша мать и вся семья можете стать достойными гражданами нашей страны. Такова создалась обстановка. Если у вас есть вопросы, то, пожалуйста, спрашивайте», — закончил я, пытаясь по выражению лица Кунгурцева определить его отношение к моим словам. «Вопросы у меня есть, — как-то суетясь, нервно заговорил Кунгурцев. — Начну с такого. Значит, вы убеждены, что я не Кунгурцев?» — «Конечно, убежден, в Маньчжурии эмигрантов с такой фамилией не оказалось вовсе». — «Значит, вы считаете, что я должен сам рассказать о том, что имею другую фамилию, и получить новый срок. За кого вы меня принимаете?» — «Никакого нового срока за это не будет». — «А как же, ведь выходит, что я обманул власть?» — «Сделаете просто: напишете заявление лагерной администрации, кто вы есть такой на самом деле. После документального подтверждения личности администрация сделает представление суду, который восстановит ваше подлинное имя». — «А как же старый приговор?» — «Суд внесет соответствующие изменения и в приговор». — «Где селятся эмигранты в Советском Союзе? Не ссылают ли их на север?» — «Нет, никуда их не ссылают, а селятся они по своему желанию — на Дальнем Востоке, в Сибири, в Средней Азии и в других местах». — «Какая гарантия, что я могу стать гражданином СССР?» — «Нужно по-честному, как это вы делаете сейчас, отбыть оставшийся срок. Кроме этого уже сейчас необходимо рассказать правдиво о себе и родителях». — «Моя мать знает, где я сейчас нахожусь?» — «Видимо, нет». — «А отец?» — «Думаем, что предполагает». — «Если моя мать приедет жить в СССР, скажем, в следующем году, смогу ли я с ней повидаться до отбытия срока?» — «Конечно, сможете. Обещаем помочь вам в этом». — «Гражданин майор, для меня очень странно, почему вы опять занялись моим делом, приехали и беседуете со мной? В чем ваш интерес?» — «Потому что интересы у нас совпали. Мы хотим, чтобы вы и вся ваша семья приняли советское гражданство, чтобы вас не смогла еще раз в будущем использовать против Советского Союза какая-нибудь империалистическая разведка. Как видите, мы беспокоимся о безопасности страны, а также о вашей безопасности. А вы в свою очередь не можете не думать, как вам лучше устроиться в будущем. Согласны с этим?» — «Да, согласен, резон в вашем объяснении есть. А вот еще вопрос. В лагере я слышал, что на мою статью должен распространиться закон о досрочном освобождении — конечно, при постоянном перевыполнении планов работы. Так ли это? Может быть, вы поэтому приехали, чтоб решить, куда меня девать?» — «Не огорчайтесь, но такого закона нет». — «За что могут мне добавить срок наказания?» — «За преступление, совершенное в лагере, или если, скажем, вскроются какие-либо старые преступные дела». — «Какие, например?» — «Ну, допустим, если не одну ходку делали в СССР из Маньчжурии с целью шпионажа, а несколько, либо убили кого». — «Нет, здесь я спокоен, ходил я на задание один раз, о чем правдиво рассказал, убийств не совершал. Скажите, гражданин майор, вот если мой отец, к примеру, занимался нехорошим делом, то как это отразится на мне и на всей нашей семье?» — «За совершенное им преступление он сам и будет наказан. У нас действует правило: сын за отца не отвечает».
Много еще вопросов задал Кунгурцев, но вел себя очень настороженно, ни в чем не проговорился, продолжая надежно утаивать то, о чем умолчал на следствии ранее. Но чувствовалось, что в его душе пробудился большой интерес к судьбе семьи и к тому, что ожидает его самого в будущем. Я не торопил его, не тянул признание, а давал, как говорится, плоду созреть. В конце разговора предложил Кунгурцеву хорошо подумать над дальнейшей своей судьбой и о своем решении сообщить в другой раз.
О состоявшемся разговоре я сразу же доложил генералу Шишлину, который остался доволен его результатами. Но мне казалось, что беседа, по существу, ничего не дала. Генерал рекомендовал не спешить с Кунгурцевым — пусть тот подумает.
На следующей встрече Кунгурцев был в лучшем настрое, меньше осторожничал. Хотя все еще был суетлив, и я понял, что он еще не приблизился к той черте, за которой обычно наступает искреннее признание. Значит, мне предстояло еще поработать с ним. Как ни странно это может звучать, но мне уже не раз приходилось волноваться, когда преступник начинал давать существенные признательные показания. Ведь тот момент является венцом использования улик и установления психологического контакта с подследственным. По моим наблюдениям, перед признанием своей вины преступники нередко мечутся, много раз прикидывая, правильно ли они поступают, поможет или навредит им признание, каким образом потом поведут себя следователь и суд. Поэтому в момент признания они исключительно обостренно наблюдают за следователем, интонацией его голоса, настроением, мимикой. И если преступнику покажется, что его признание производит не то впечатление, на которое он рассчитывал, то он может немедленно остановить свой рассказ, намертво замкнуться и даже отказаться от того, что уже признал. Поэтому я понимал, что в момент признания мне нужно вести себя строго беспристрастно и, если так можно выразиться, необычайно по-обычному. Быть внимательным и уважительным, не допускать в себе перемены настроения, неуверенности, робости, заискивания, а также радости и особенно высокомерия.
Иногда кое-кто говорит, дескать, зачем следователю переживать в связи с признанием или непризнанием подследственным вины; пусть сам преступник переживает. Ведь его согласно закону все равно осудят и без признания, если, конечно, преступление доказано. Формально это так. И об этом хорошо и эффектно говорить с кафедры. А вот когда перед тобой сидит пойманный шпион или другой особо опасный преступник, то все выглядит по-другому. Следователь должен быть заинтересованным в том, чтобы преступник признал все содеянное им, чтобы до конца раскаялся и тем самым уже сейчас твердо стал на путь исправления. Это ведь одна из главных основ борьбы с преступностью. Откровенный рассказ подследственного очень важен также для оценки и квалификации преступления. Ведь никто другой, как сам обвиняемый, не может так глубоко рассказать об обстоятельствах совершенного им правонарушения, его причинах, мотивах, сопутствующих факторах, соучастниках, подстрекателях и многих других сторонах его дела. В искреннем раскаянии заинтересован конечно же и сам преступник, поскольку оно смягчает наказание. Для наших органов откровенность, допустим, пойманного шпиона важна еще и потому, что при его участии можно нанести противнику ощутимый урон, тем самым обеспечивая укрепление госбезопасности…
Как видите, признание преступника — это не формальность, не престижное желание следователя и прокурора, а очень важный юридический фактор. Поэтому оно не может не затрагивать помыслов и чувств следователя и оперативного работника. Вот почему волнение не оставляло меня и в этот раз. В душе я уже радовался улучшению настроения Кунгурцева, хотя понимал, что тот еще и не готов пойти на признание.
«Какое же решение у вас созрело к сегодняшнему дню?» — «Да, кажется, никакого, — охладил он меня, опустив голову. — Вся эта игра мне не нравится. Вы говорите, гражданин майор, что я должен в чем-то признаться для пользы обеим сторонам — вашей и своей. А стороны у нас не равные и сильно разные. Вы получите показания, вызовете конвоира и отправите меня обратно в лагерь ишачить, а сами положите показания в портфель, уедете в Хабаровск — и концы в воду». — «А вы хотите, чтобы я без ничего уехал?» — «Не знаю, вам видней». — «Если я вернусь без вашего решения, то в таком случае мы все проиграем: у вас на будущее останется неопределенность, а ваша мать лишится возможности выбрать необходимое место жительства, не будет знать о судьбе сына, о том, что он жив и здоров. Ну а я проиграю, видимо, больше всех, потому что не сумел убедить вас…» — «Гражданин майор, а вы можете от меня передать весточку моей маме?» — «Да, конечно, это возможно». — «Как же вы это сделаете?» — «Это уже наша забота. Но если это так важно для вас, поясню, что сделаем это через наше дипломатическое представительство в Китае». — «Как же я узнаю, что моя весточка дойдет до мамы?» — «Я могу сообщить вам об этом». — «Я согласен». — «Вот что, Кунгурцев. Я навел справку о том, что вы читаете в лагере. Вами прочитаны книги о Дзержинском и о других чекистах. Читая их и беседуя с разными людьми, вы не могли не заметить, что такой метод в работе, как обман, никогда не был присущ чекистским органам. Почему же вы не хотите сейчас поверить в то, что сотрудники госбезопасности пришли к вам с искренними предложениями?» — «Но я, гражданин майор, в лагере наслышался немало и плохого о работниках НКВД». — «Кунгурцев, вы же умный парень и должны понимать, что в лагере хватает неразоружившихся преступников, которых поймали и разоблачили сотрудники госбезопасности. Поэтому ясно, что они не в восторге от чекистов». — «Я это понимаю, в лагере о чекистах действительно хвалебных речей мало услышишь». — «Вот видите, мы кое-что уже одинаково понимаем. Давайте-ка мы вместе разберемся, что конкретно вас смущает и не позволяет принять наши предложения?» — «Не нужно этого делать, ничего меня не смущает. Гражданин майор, можно мне закурить?»
Я дал ему папиросу. Раскурив ее, Кунгурцев стал жадно затягиваться дымом. Так прошло несколько томительных минут. Я молчал, еле сдерживая охватившее меня волнение в предчувствии признания. Потом он вдруг бросил на пол недокуренную папиросу и небрежно растоптал ее, думая, видно, о чем-то другом. Я терпеливо молчал, не сделав ему никакого замечания, чтобы не обострять обстановку и не отвлекать его. И вот тогда Кунгурцев взволнованно заявил: «Так и быть, гражданин майор, записывайте, я все вам расскажу».
Но вдруг он замолк, закрыл лицо ладонями, несколько минут раскачивался взад-вперед, а затем продолжал: «Если говорить по правде, мы не Кунгурцевы и не Терещенки, а Дрозды. У моего отца фамилия Дрозд, зовут его Назар Архипович, жил он в Приморье, в Чугуевском районе, селе Тамбовке. А я не Кунгурцев, а тоже Дрозд, Игнат Назарович, родился не в Маньчжурии, а в той же деревне Тамбовке в 1922 году. Моя мама — Дрозд Лукерья Елисеевна, мой брат, Андрей, моложе меня — родился тоже в Тамбовке, в 1929 году. Тамбовку я помню смутно, потому как уехал оттуда давно, когда мне было 9 лет. Больше мне помнятся горы и тайга. Когда мы там жили, то отец пахал землю и охотился. Во время коллективизации он почему-то настроился против колхозов и скандалил с властями. Поэтому его хозяйство хотели забрать, а семью выселить. Но отец, как он позже не раз хвастался, опередил большевиков, распродал все добро и вместе с нами со всеми сбежал в Маньчжурию. Знакомые отцу хунхузы, как он называл контрабандистов, обещали за границей райскую жизнь. Но получилась большая ошибка. Не успели мы появиться за границей, как Маньчжурию заняли японцы. Отца они сразу арестовали, но через год отпустили, дали немного земли в Мишани, где мы поставили фанзу, а затем домик. Так мы и жили. Кроме занятий в своем хозяйстве отец иногда работал плотником, портным и сторожем. Но главное, чем он занимался, как я понял позже, — тайно прислуживал японцам. Отец часто куда-то ездил по их заданию — вроде бы на заработки, оставляя хозяйство на мать. За это от японцев имел хорошие деньги и подарки, чем порою тоже хвастал. И хотя японцы не дали ему развернуться и завести свое торговое дело, о котором он мечтал всю жизнь, отец все-таки во всех своих неудачах и невзгодах винил Советы. В 1941 году, когда Германия напала на Советский Союз, он часто становился на колени перед образами и молил всевышнего даровать победу германцам. В Маньчжурии мы все жили под фамилией Терещенко, откуда и как она появилась, я не знаю. Когда по настоянию отца в 1944 году я дал согласие сотрудничать с японцами и меня увезли в Харбин на подготовку, то мне дали другую фамилию — Кунгурцев, а во время обучения называли еще и по кличке Коршун. С тех пор отца, мать и брата я не видел, они остались жить не в Мулине, как я объяснял раньше на следствии, а в Мишани, по улице Сунгарийской, дом 54». — «Где родился ваш отец?» — «Не знаю». — «Кто у него есть из родственников?» — «Кажется, нет никого». — «А у матери?» — «У мамы есть сестра Устинья, она живет в Тамбовке, замужем за Зайчиковым. Родилась мама где-то в Приморье, но девичьей фамилии я не знаю». — «Кто такой Зайчиков?» — «Зайчиков — муж моей тетки Устиньи, зовут его Кузьма, он, должно, тоже живет в Тамбовке». — «Что вы еще неправильно показали на следствии?» — «Кроме фамилии, имени и отчества я неверно показал, что являюсь сыном русского эмигранта, а также что родился и жил в городе Борисове, затем якобы в 1944 году попал в Советскую Армию, был ранен и лечился от контузии. Вся эта часть моих показаний является легендой, которую придумали для меня японцы. Мне было тяжело усвоить эту легенду, поскольку я вырос в Маньчжурии и плохо представлял обстановку в Советском Союзе. Поэтому перед направлением в Приморье меня тренировал специальный инструктор, прибывший, видимо, по просьбе японцев в Харбин из Германии. Фамилия или кличка его была Артюх. Он средних лет, низкого роста, с рыжими, торчавшими во все стороны волосами и глубоко запавшими бесцветными глазами. До войны сидел в тюрьме за мошенничество. Попав на оккупированную немцами территорию, стал им прислуживать. Артюх хвастался, что знает всю подноготную о России и что обученных им агентов, переброшенных в Советский Союз, разоблачить невозможно. Он придумал для меня прикрытие, как он говорил, железное. Я должен был выдавать себя за родившегося в городе Борисове, что никто не сумеет проверить, так как все архивы оттуда немцы вывезли и почти весь город спалили. Не показал я на следствии также то, что в случае явной угрозы моего провала в Приморье мне следовало переодеться в гражданский костюм и прибыть к Зайчикову, где переждать опасность, а затем снова выполнять задание». — «Зайчиков тоже сотрудничал с японцами?» — «Нет, по-моему, не сотрудничал. Как мне объяснили японцы, Зайчиков находится в какой-то большой зависимости от моего отца, поэтому он в любое время мог меня укрыть. В случае прибытия к Зайчикову мне запрещалось рассказывать о сотрудничестве с японцами. Я должен был объяснить ему, что сбежал от призыва в японскую армию и нелегально через границу проник в Советский Союз… Хочу еще добавить: по настоянию Артюха японцы выработали мне так называемую ступенчатую линию. Суть ее состояла в том, что в случае задержания в СССР и проверки я вначале должен выдавать себя за командировочного. Если же будет назревать угроза разоблачения, тогда мне нужно переходить ко второй ступени, называя себя раненым фронтовиком, а на третьем этапе мне предписывалось симулировать потерю памяти в связи с контузией. На каждом из этих этапов, разъяснял Артюх, меня будут проверять… Хорошим поведением мне полагалось усыпить бдительность русских и, улучив момент, сбежать, выехать в другой район и снова браться за выполнение задания. После получения от меня информации через тайник японцы обещали дать другой способ связи через связника, а также указания о способе проникновения на службу в советскую воинскую часть. Но это почему-то не получилось — так я говорил и на допросах».
Беседовал я с Кунгурцевым в этот раз очень долго, спокойно. Мы по-хорошему расстались. О сообщенных им сведениях я немедленно доложил в Хабаровск, где организовали их срочную проверку. Через сутки оттуда сообщили, что новые объяснения осужденного в основном соответствуют действительности: Дрозд Назар в Тамбовке не обнаружен и вроде бы там не появлялся.
И вот наступила последняя встреча с Кунгурцевым. Пока я читал написанное им, по моей просьбе, объяснение, он внимательно наблюдал за выражением моего лица, видимо пытаясь определить, как я оценю его письменные признания, сохранится ли доброжелательность к нему, установленная в конце предыдущей беседы, или последуют окрики, придирчивые вопросы и обрыв разговора. Объяснение он написал, как говорится, от души. Оно полно отвечало на все до того неясные для нас вопросы. Я так и сказал Кунгурцеву — со всей доброжелательностью: «На вашу искренность хочу ответить тем же. Мы уже навели некоторые справки, и сведения относительно вашей семьи нашли подтверждение. Благодарим за правду».
Кунгурцев даже вспыхнул, услышав эти слова, весь преобразился, и за все эти дни впервые на его напряженном лице появилась улыбка. Он написал и передал мне записку для родителей: «Дорогие мама, папа и Андрей! Я жив и здоров, нахожусь в Советском Союзе. Думаю, что вам всем нужно переезжать жить сюда. А людям, которые передадут эту записку, прошу верить. Игнат».
Ответ на письмо я обещал прислать Кунгурцеву из Хабаровска.
Глава V
В ОТРОГАХ СИХОТЭ-АЛИНЯ
— Закончив работу по делу Кунгурцева, — продолжал свое очередное выступление перед курсантами Петр Петрович, — я ночью прилетел в Хабаровск. А утром у руководства управления уже всесторонне обсуждались новые показания этого заключенного. Много было сказано о ранее допущенных промахах по этому делу. Но к выводам пришли однозначным: Терещенко-Дрозд после побега из-под конвоя в 1945 году, вероятнее всего, вернулся в Маньчжурию. Правда, осуществить это не так просто. Поскольку обстановка в Приморье по сравнению с тридцатыми годами несравненно изменилась: граница усиленно охранялась, — зарубежные контрабандные ходки давно были ликвидированы и беглец утратил свои многие старые связи. Поэтому не исключалось, что он скрывается где-то на нашей территории, возможно, у своих старых знакомых или родственников. Враждебно относясь к Советской власти, Дрозд, возможно, совершал новые преступления. Поэтому руководство и поручило мне и капитану Сошникову срочно провести самый тщательный розыск беглеца на Дальнем Востоке и точно установить, кто он такой.
В наше харбинское представительство по репатриации русских эмигрантов из Маньчжурии мы направили письмо с просьбой выяснить, не проживает ли в Мишани с семьей разыскиваемый; если проживает — передать ему записку от сына Игната. Если там такового не окажется, то, по возможности, уточнить, что известно его жене о судьбе мужа.
Кроме таких справочных мер мы с капитаном Сошниковым предусмотрели также поездку в село Тамбовку, где надеялись напасть на след Терещенко-Дрозда. Сперва прибыли поездом в Даубиху. Затем наш путь пролегал по Чугуевскому тракту, петлявшему среди таежных перевалов и круч.
Октябрь уже был на исходе. В тайгу полновластной хозяйкой входила зима. С побелевших вершин и крутых отрогов Сихотэ-Алиня все ниже и ниже в долины и распадки спускался снежный покров; крепчали морозы, стыли реки и ручьи. Последние два дня огромными хлопьями валил сырой, липкий снег, занесенный в горы теплым океанским ветром.
На попутной полуторке, которая едва катила по обледеневшей дороге, мы за день преодолели с трудом западный склон большого горного отрога и благополучно спустились в Улахинскую долину. К вечеру того же дня добрались до районного центра — села Чугуевки. Это добротное таежное село широко разбросалось по извилистому берегу бурной горной реки Улахэ. В нем стояли похожие друг на друга, срубленные из вековых сосен и лиственниц пятистенные, с тесовыми крышами дома, украшенные затейливыми резными наличниками на окнах и обнесенные плотными дощатыми заборами. В одном из таких домов мы нашли райотдел госбезопасности, начальником которого был подполковник Акишев Зиновий Иванович.
«Наш район хоть и таежный, но с многоотраслевым хозяйством, — рассказывал нам подполковник. — В поймах Улахэ и ее притоков набирает силу после войны животноводство. Есть несколько леспромхозов. Словом, район богатый, да рабочих рук не хватает. Вот и прибывают к нам вербованные и переселенцы из разных краев. В общем-то, народ хороший, работящий. Однако и мусор наплывает: бездельники, любители легкой наживы, преступники… Недавно мы в одном леспромхозе несколько бывших полицаев разоблачили. Нынешним летом сгорели два штабеля леса и коровник… Не исключено, что поджог — дело вражеских рук… О Назаре Дрозде-Терещенко собрали кое-какие сведения. В Тамбовке он поселился после гражданской войны. Сперва охотой занимался, потом — землепашеством. Очень скоро разбогател. Батраков имел. В тридцатом году подлежал раскулачиванию, но успел распродать свое имущество и сбежал в Маньчжурию. Ходили слухи, будто Назар Дрозд разбогател на сделках с контрабандистами. Старожилы, кто знал его, померли. Правда, есть в селе семья, которой, пожалуй, известно, каким ветром занесло его сюда и где он сейчас. Это — супруги Зайчиковы. Кузьма Зайчиков и Дрозд Назар женаты на сестрах, свояки то есть, вместе в тайгу ходили — за пушным зверем. С Зайчиковыми не беседовали — вас дожидались».
Большим хлебосолом, по-таежному гостеприимным и радушным, оказался подполковник Акишев. Сводил нас в жарко натопленную парную баньку. А за ужином чем только не потчевал! И духовитым медвежьим салом, вяленой рыбой, мариноваными грибками, пахучим липовым медом…
В помощь нам подполковник Акишев отрядил молоденького лейтенанта Дедова.
Рано утром на легковушке мы выехали в Тамбовку. По просторной долине петляла заснеженная, но вполне пригодная для быстрой езды дорога. Однако пришлось и поволноваться. Не без опаски одолевали еще не совсем замерзшие, стремительные Улахэ и Ли Фудзин. Мостки через эти речки снесло осенним половодьем после проливных дождей, а новые сооружены были наспех, еле держались на опорах…
В солнечный морозный полдень мы въехали в Тамбовку — небольшое таежное село. Подрулили к зданию сельсовета. Возле него уже поджидал нас, сидя на завалинке, председатель сельсовета — Бочаров Демид Львович. Это был рослый, крепкий мужчина. Здороваясь, он протягивал сразу обе руки — с жесткими, как дерево, ладонями. Вместо левой ноги волочил по земле фабричный протез.
«Летом сорок четвертого под Яссами долбануло», — сказал Бочаров, когда мы вошли в просторную комнату, единственную в переделанном под служебное помещение крестьянском бревенчатом пятистенке.
Эта комната служила в разные, разумеется, часы и кабинетом председателя, и сельским клубом (тут были скамейки и низенький помост — нечто вроде сцены, в глубине которой светился небольшой квадрат белого полотна — экран для кино).
«Когда, значит, меня в госпитале подштопали — вернулся в Приморье. Ведь я коренной дальневосточник. Родом из села Камень-Рыболов. В Тамбовке как оказался?» — переспросил он, снимая с себя медвежий тулупчик и предлагая нам раздеться.
В комнате, хоть и потягивало холодком из-под дощатого пола, все же было тепло. Печь голландка, огромная, уходящая в высокий потолок, полыхала жаром — к ее железному кожуху нельзя было притронуться. Где-то внутри печи смачно потрескивал смолистый, пахучий кедрач.
«В Тамбовке я оказался, значит, так… — Бочаров поставил на стол, за которым мы расположились, ведерный самовар, водрузив на него заварной чайник. — В войну жила тут тетка моей женки. И женка с ребятишками перебралась сюда из Камень-Рыболова, когда я на фронте находился. В ту пору люди, значит, кучнее жить старались. Так мы тут и прижились».
Рассказывал он неторопко, с крестьянской рассудительностью и степенностью. И все подливал и подливал нам в огромные металлические кружки терпко пахнущий чай, изготовленный из каких-то таежных растений.
«Председательствую с сорок пятого. С народом обзнакомился. А как же — служба. Про родичей Дрозда Назара, про супругов Зайчиковых, значит, про Кузьму и про женку его Устинью, только хорошее можно сказать. Многострадальная семья, право слово. У них пять сынов было. Трое в войну полегли. Иван, предпоследний сын, сейчас в армии. А самый меньшой — Толик — в одиннадцать годков в речке утоп, прошлой весной. На тот час солнце уже за обед перевалило. Устинья на берегу была — бочонок из-под квашеной капусты отмывала. Вдруг видит: из-за кустов на стремнину потоком вынесло ее сынка — Толика, значит. А рядом с ним — ровесник его, соседский мальчонка Володя, с утра еще на рыбалку они ушли. И вот тебе… Замерла Устинья от ужаса. Да скоро пришла в себя. Бросилась в воду в чем была. А речка у нас не больно широкая и не сказать что глубокая, по шейку мне будет. А течение быстрое. Кое-как настигла утопавших Устинья, обратала их в обе руки — да к берегу. Но возле самого берега поскользнулась на валуне, упала, сама стала захлебываться. Тогда и оставила сынка Толика и кое-как выбралась на берег с Володей. Тут же обратно кинулась в речку. За своим сынком, значит. Да поздно — волна захлестнула его и унесла. Чуть не обезумела от горя Устинья. Долго бежала вдоль берега. Рвала на себе мокрые седые волосы. То тут, то там в воду кидалась, дико кричала. Подоспели люди, кое-как увели ее домой силой. И до той поры была Устинья немного нелюдимой. А после случившегося словно окаменела. Даже слезы не брали ее. Наши сельские уважали Устинью за кроткий нрав, за рассудительность, за честность. Однако после того слишком досужие кумушки прожужжали друг дружке уши — понять все хотели, почему Устинья спасла не своего, а чужого ребенка…»
Председатель сельсовета, рассказывая нам об Устинье Зайчиковой, вспомнил и такой случай. Однажды в июльский полдень колхозницы, сгребавшие подсохшее сено, скошенное накануне на заречной поляне, устроились подле берега обедать. Была среди них и Устинья. Жевала как поневоле и вдруг, повернувшись к речке, увидела спасенного ею Володю. Он нес в высоко поднятой левой руке корзину с обедом для своей матери, а правой прижимал к себе девочку лет семи — шли они через неглубокий перекат. Вода здесь доходила детям чуть выше коленок. Устинья безмолвно смотрела на детей, и слезы катились по ее лицу. Потом тяжело поднялась и, покачиваясь, отошла в сторонку, отвернувшись от речки. Под могучим кедром опустилась на землю, прислонилась к шершавой его коре.
Гомон среди женщин утих. Они поняли, какое неуемное горе всколыхнулось в душе Устиньи. А легкомысленная, болтливая Лизка Труханова, жена скотника, присела рядом с Устиньей, стала утешать ее. «Не бедуй так сильно, милая. Ведь сына назад не воротишь. Надо было своего на берег тянуть, а ты…»
Но она не договорила: Устинья оторвала мокрые, в слезах, руки от лица, отпихнула прочь от себя Лизку, закричала, рыдая: «Уйди, дурочка! Да разве мне было бы легче, если бы я спасла своего, а чужой утоп?»
Она еще долго голосила, а женщины напряженно и виновато помалкивали, не зная, чем ее утешить.
Потом она поднялась, подошла, пошатываясь, к речке, умылась, черпая пригоршнями прохладную, ключевую воду, и, успокоившись, принялась за работу.
«Вот такая она, Устинья Зайчикова», — сказал Бочаров, вздыхая.
Лейтенант Дедов и Бочаров ушли из сельсовета поздно вечером, пообещав навести через сельских активистов интересующие нас справки по делу Дрозда Назара.
В тот вечер, оставшись вдвоем, Сошников и я еще долго прикидывали, все ли гладко в наших мероприятиях. Перед приездом в Тамбовку у нас была вроде бы полная ясность, с чего их начинать и как дальше действовать. Поскольку Зайчиковы — родственники Дрозда, рассуждали мы, то они могут скрывать правду о нем. И мы намеревались под каким-нибудь предлогом вызвать Кузьму и Устинью в сельсовет и, чтобы исключить возможность их сговора, опросить поодиночке — в разных помещениях. А лейтенант Дедов должен был обеспечить скрытое наблюдение за домом Зайчиковых, чтобы выяснить, как они поведут себя после опроса, не укрывают ли Назара. Но вот после беседы с председателем сельсовета этот наш план оказался никуда негодным. Разве можно было еще и недоверием травмировать эту исстрадавшуюся женщину? И мы решили вообще исключить опрос Устиньи, ограничившись беседой с Кузьмой. Однако Кузьма без супруги мог бы ничего нам не сказать — такую уж она имела над ним власть, по утверждению председателя сельсовета. Следовательно, нужно было встречаться и с Устиньей. Так и порешили.
Рано утром в сельсовет прибыл лейтенант Дедов. Кстати, он оказался очень смышленым и энергичным оперативником. Сообщил нам, что признаков пребывания Назара в селе никто из его жителей не замечал. А с рассветом Зайчиков Кузьма вместе с Гладких Женей, комсоргом колхоза, на пяти подводах уедут за сеном. Устинья будет дома одна.
«Я мог бы заменить Кузьму, если он нужен для беседы», — предложил лейтенант. «Нет, заменять не надо. Пусть все будет как есть. Кузьма пусть едет за сеном. А мы будет беседовать с Устиньей у нее дома», — распорядился я.
Лейтенанту было поручено продолжать наблюдение за домом Зайчиковых и попросить комсорга Женю Гладких понаблюдать за Кузьмой, не встретится ли он во время поездки с кем-либо из посторонних людей.
Минут через тридцать лейтенант Дедов подал сигнал: Кузьма отбыл из села.
Капитан Сошников и я отправились к избе Зайчиковых, расположенной почти в центре Тамбовки. Подходы к их двору просматривались со всех сторон. Ко двору одним концом примыкал огород с редким частоколом. Другой конец огорода уходил почти к самой речке, еще не замерзшей посредине; дальше темнела густая тайга.
Добротная изба Зайчиковых была срублена из аккуратно отесанных, побуревших от времени лиственных шестигранников. Ее вершила необычно низкая крыша, какие чаще всего встречаются в ветреных степях. На окнах — незатейливые наличники. Во дворе, обнесенном почерневшим драньем, — сарай, баня, клади дров.
Мы вошли в избу.
На наше приветствие сидевшая у стола за вязанием сухощавая пожилая женщина с маленьким морщинистым лицом ответила равнодушным взглядом светло-серых, словно выцветших, глаз и еле заметным кивком.
«Вы Устинья Елисеевна?» — спросил я. «Я — Устинья. А чего вы хотите?» — ровным голосом ответила она, не отрываясь от вязанья. «Мы прибыли из района. По поручению властей хотели бы побеседовать с вами. Если, конечно, не возражаете».
Посматривая то на нас, то на свою работу — недовязанную варежку, — Устинья равнодушно сказала: «Ну что ж, беседуйте». — «Устинья Елисеевна, нам нужно поговорить о вашей сестре Лукерье. Беседа может немного затянуться, поэтому разрешите нам раздеться».
Упоминание о Лукерье вмиг преобразило Устинью. Бросив недовязанную варежку со спицами на стол и быстро поднявшись, она спросила: «А вы разве знаете Лукерью? Где она сейчас?» — «Мы немного знаем ее семью». — «Ну хорошо, раздевайтесь, кладите шинели вот сюда, на скамейку, и садитесь к столу», — захлопотала она, быстро семеня по избе.
В это время я увидел на стене в рамке фотокарточки трех молодых военных в гимнастерках и высоких буденовках. Я подошел к снимкам поближе. Ребята молоды, вроде бы мои ровесники, и сфотографированы они, как видно, на предвоенной действительной службе. У меня вдруг кольнуло в груди, и к горлу подкатил комок. Устинья заметила мою взволнованность, вскрикнула: «Вы что, знали их?!»
Я сделал над собой усилие, чтобы ответить. Но некоторое время не мог произнести ни слова. Сошников, уже раздевшийся, тоже с недоумением смотрел на меня. Наконец переведя дыхание, я ответил: «Нет, не знал… Это ваши… которые не вернулись?» — «Да, сыночки мои. Гриша, Андрюша, Ефим — погибли родимые», — сказала Устинья дрожащим голосом, вытирая взмокшие глаза концом платка. «Извините, Устинья Елисеевна… — сказал я. — Вот взглянул на ваших погибших сыновей и вспомнил своих братьев. Двое из них тоже не вернулись. Дома у матери висят точно такие их фотокарточки предвоенных лет… На братьях такие же буденовки…»
Я отвернулся от нее и быстро снял шинель.
Через минуту мы все трое уселись на скамейки, поставленные у стола.
«Устинья Елисеевна, ваша сестра Лукерья живет с семьей в Маньчжурии. Нашими властями принято решение дать возможность всем русским, кто этого захочет, переселиться оттуда в СССР. Мы хотели бы знать, сможете ли вы хотя бы на время принять к себе Лукерью с семьей, если они пожелают приехать сюда из Маньчжурии?» — «Да как же это? — запричитала Устинья. — Да что мы, ироды какие, что своих не приютим?! Пусть хоть сегодня едут к нам, места всем хватит… А что, они уже выехали?» — «Нет, еще не выехали, но могут приехать. Правда, одна есть сложность в вопросе об их приезде. Дело в том, что исчез и неизвестно где находится муж Лукерьи — Назар. А до установления его местонахождения власти не могут принять решения о переезде всей семьи».
Не успел я это произнести — Устинья встрепенулась, соскочила со скамейки и забегала по избе, запричитала:
«Ой, Назар… Да это же не человек, а бродяга какой-то! Измучил, погубил сестру и детей. Когда только все это кончится…» — «Где он находится?» — спокойно спросил капитан Сошников. «Кто его знает, не ведаю, ей-богу». — «А у вас сейчас его нет?» — «Нет, конечно. Да что вы, родимые, не верите мне?! Вот вам крест святой!» — Устинья повернулась лицом к висевшей в углу, возле потолка, иконе, прикрытой полотенцем, расшитым красными крестиками, быстро и коротко перекрестилась. «Когда он в последний раз приходил к вам? — продолжал, не меняя тона, спокойно спрашивать Сошников, в то же время цепко вглядываясь в побледневшее лицо женщины. — После войны он был у вас?» — «Был он у нас после войны. Как на духу скажу, два раза был: как-то осенью приходил и годом раньше». — «Устинья Елисеевна, мы верим вам, успокойтесь, пожалуйста. Садитесь и расскажите по порядку все, что знаете про Назара», — попросил я. «Хорошо, все расскажу как на духу, — тихо произнесла Устинья, усаживаясь на скамейку и поднося ко рту конец платка. — Назар объявился в Тамбовке впервой, кажись, в 1920 году со своим другом Афоней. Стал на постой у одинокой солдатки Ильяшенко Марьи. Охотился с другом. Потом они куда-то ушли, на прииск, что ли. На другой год Назар под осень вернулся в село один. Сказал: Афоня вроде бы утоп в речке. Пришел Назар богатый, сытый, хорошо одетый. И вот, видно, на свою беду, в то самое время к нам в гости приехала из Сучана моя младшая сестра Лукерья — двадцати лет от роду. Красивая была. Как они увиделись, Назар и околдовал девку. Горазд был на веселые побасенки. Да и удалый был, ничего не скажешь. Дорогие подарки ей носил: шелковые да атласные наряды. И двух недель не прошло — повенчались молодые. Хотя мы с мужем, Зайчиком, и возражали, поскольку Назар был без родства, неизвестно, кто он такой и откуда взялся». — «А почему вы мужа Зайчиком зовете?» — «Его все так прозывают. Еще в царское время приехали мы с ним в Тамбовку из Сучана. Ставили эту избу, и Кузьма за лесинами в тайгу отлучался и там простудился — ногу потянуло. Сколько ни лечился с тех пор, а все ходит хромый, потому люди и прозывают его Зайчиком, а в метриках записано: Зайчиков… Назар оказался мужиком ухватистым. После женитьбы быстро поставил хутор, распахал и засеял поле по притоку речки, накупил скотины. Потом из года в год добрел, расстраивался. Со стороны людей нанимал — батрачить, стало быть. Во всем у Назара с Лукерьей был достаток: ели-пили что хотели, стали наряжаться, только счастье стороной обошло их. Признавалась мне Лукерья: загубил он ей жизнь. Окромя хозяйства ворочал какими-то темными прибыльными делами. С контрабандистами в тайге якшался. Сестра христом-богом умоляла его бросить гибельное занятие. Назар, как от мухи, отмахивался. И даже под пьяную лавочку пригрозил: сболтнет что кому-либо — несдобровать ей, жизни решит. А детей нажитых он и сам, дескать, выведет в люди… Так все у них и тянулось…
Зимой 1930 года Назар быстро распродал свое имущество и ночью уехал с семьей неизвестно куда. Даже не попрощался с нами. А уже по весне в Тамбовку заходил незнакомый охотник. Передал он от Назара поклон и сказал: дескать, тот с семьей ушел жить в Маньчжурию. О них с тех пор ни слуху ни духу. И вот объявился Назар. В непогодь, глухой ночью, пришел к нам. Мы уже спали, как вдруг собака забрехала. И все кидается к огороду, с цепи рвется. Мы думали — волки. Кузьма набросил на плечи тулуп, во двор вышел. Два раза пальнул из ружья. Потом вернулся, в постель улегся. А собака еще злее залаяла. Тогда мы с Кузьмой вдвоем вышли из избы: он — с заряженным ружьем, я — с топором. Во дворе, около бани, голос послышался: «Зайчик, не стреляй, иди сюда, не бойся». — «Ты кто такой, чего тебе надо?» — крикнула я. «А, Устинья, и ты здесь. Это я, Назар, идите сюда да не шумите», — хрипло проговорил человек.
Тогда я признала Назара.
«Ну, здравствуйте, родичи. Христом-богом прошу приютить меня, не дайте погибнуть христианской душе». — «Здравствуй, Назар, пойдем в избу», — недовольно сказала я, а Кузьма поздоровался с ним за руку. «А кто у вас дома есть?» — «Чужих никого, только наши ребятишки». — «Э, нет, лучше зайдем в баню, — вроде бы попятился от нас Назар. — Мне пока нельзя показываться властям, все потом объясню».
Окно в бане я плотно закрыла рядном. Лампу зажгла, печь растопила. Назар присел у печки на чурбак, протянул к огню свои лапастые, скрюченные от холода руки.
На нем была старая, вся изодранная фуфайка. На штанах, вроде брезентовых, — заплата на заплате. Обут был в сыромятные звериные шкуры — перетянул их веревками. Борода седая, взлохмаченная. Кашлял он утробно. Страшно и жалко на него было глядеть. Муж мой, Зайчик, тоже пожалел Назара: «Ты что же, ента-таво, свояк, заплоховал крепко, как я вижу?»
Назар ему не ответил. С трудом унял кашель, попросил: «Мне бы, Устинья, кипяточку трошки да и самогону не мешало бы».
Принесли ему кипяток, кой-чего поесть, бутылку самогону. Назар повеселел и говорит: «Я полежу у вас в бане и уйду по своим делам. Вы не бойтесь. Только пусть сюда не заходят чужие люди и ваши дети. Для этого ты, Зайчик, развали на бане крышу, закрой проходы к дверям, оставь только небольшой лаз. Потом будешь ладить заново крышу и заходить ко мне. А людям объясни: крышу ветром снесло».
Выпил самогону, закусил и тут же повалился на пол, пригреб к голове соломы. Мы с Зайчиком и переглянуться не успели — захрапел, уснул как убитый.
Прожил Назар в нашей бане до конца зимы. Его кормили, поили, подлечивали. Каждый день баню подтапливали. А заодно мы тут готовили запарку для скотины. Отлежался Назар, в себя пришел, разговорчивей стал. Сознался: дескать, ушел в Маньчжурию по уговору знакомых хунхузов. Те носили в тайгу спирт и разные товары и обещали помочь ему завести за кордоном торговое дело. Но ничего этого вроде не получилось. Занимался там хлебопашеством, и семья была в достатке».
Назар сказал тогда Зайчиковым, что старший сын его Игнат осенью сорок четвертого с группой юнцов из эмигрантов вроде бежал из Маньчжурии в Приморье. Обещал дать о себе знать, что да как у него, но как в воду канул. А год спустя, когда уже кончилась война с Японией, Назар тоже тайно пробрался в Советский Союз, чтобы найти сына. Не имея на руках никаких документов, к властям не обратился, а лишь расспрашивал о сыне случайных людей. Он поинтересовался, не приходил ли Игнат к Зайчиковым. Узнав, что не приходил, почернел весь, замкнулся в себе. Несколько дней не разговаривал. А когда снова разоткровенничался, признался Устинье, что, не найдя сына и нигде не пристроившись без документов на работу, решил зазимовать в тайге. В середине ноября сорок пятого добрался до хорошо известного ему старого стойбища гольдов на Рокотуне, рассчитывая отсидеться там в пещере до весны. Но вход в пещеру оказался заваленным скатившимися с хребта камнями. Около месяца расчищал проход и, пока это делал, изорвал в клочья всю одежду, крайне отощал и перемерз. Когда же все-таки своего добился и пробрался в пещеру — настолько ослаб, что уже не мог ходить по тайге, добывать пищу и поддерживать огонь. Тогда он и решился обратиться за помощью к Зайчиковым.
Назар однажды намекнул Устинье, что пришел в Тамбовку не с пустыми руками — сумел найти ранее припрятанные им в пещере золотые монеты, которые добыл за пушнину у хунхузов еще до ухода в Маньчжурию.
Он предлагал золото Зайчикову и просил его съездить во Владивосток, где приобрести для него подходящую одежду, а также подкупить какого-нибудь милиционера, чтобы узнать о судьбе Игната. Может, тот, дескать, арестован. Когда Назар это говорил Устинье, был сильно хмельной и кричал, что отдаст все нажитое им золото, чтобы вырвать сына. Зайчиков отказался ехать на поиски Игната, а побывав в Чугуевке, купил там за свои деньги Назару теплый пиджак, брюки, шапку и сапоги. Чем ближе подходила весна, тем нетерпеливее становился окрепший Назар. Растаяли снега, схлынуло половодье, и он однажды ночью ушел неизвестно куда. Прощаясь, только и сказал Зайчиковым, что идет искать сына Игната.
Поздней осенью, по рассказу Устиньи, перед ледоставом, Назар во второй раз заявился к Зайчиковым. В село, правда, не зашел, а подкараулил Кузьму во время выпаса скотины. Узнав, что тот никаких вестей от Игната не получил, опять где-то скрылся. Выглядел тогда нормально и одет был прилично. После того Зайчиковы его не видели.
«Скажите, вы поверили тому, что Назар говорил вам насчет причины его появления в Приморье в 1945 году?» — продолжал я вести беседу с Устиньей. «Мы с Кузьмой очень сомневались. Но что поделаешь?» — «Могли бы сообщить о нем властям. Почему этого не сделали?» — «Скажу по правде, боялись пойти супротив воли Назара. Может быть, вам лучше объяснит это Кузьма». — «Как вы считаете, где может находиться Назар сейчас?» — «Если не убег опять за кордон, то скрываться может в тайге аи устроился где работать». — «У вас есть в Сучане родственники?» — «Там живет моя родная сестра — Мазун Матрена Елисеевна. Ее муж Петра умер еще до войны, сын погиб на фронте, а дочка вышла замуж и уехала куда-то на Урал». — «Матрена Елисеевна знает Назара?» — «А как же! Они не раз встречались, как он женился на Лукерье». — «Нет ли сейчас Назара у Матрены?» — «Такое дело может быть. Но разговора о том Назар не заводил. После войны мы с Матреной не виделись и не переписывались. И все вроде бы некогда было ее навестить. Потому мы ей о приходе к нам Назара не сообщали».
Мы попросили Устинью сказать своему мужу Кузьме, когда тот придет домой, чтобы он в беседе с нами был тоже откровенным, как она сама. Потом договорились встретиться с ней еще раз — до нашего отъезда из Тамбовки.
Не успели мы с капитаном Сошниковым прийти в сельсовет и обменяться впечатлениями о беседе с Устиньей, как вскоре прибыл сюда и лейтенант Дедов. Он известил нас: в село только что вернулся Зайчиков. Мы выждали время, когда он сходит домой пообедать, после чего пригласили его в сельсовет. Зайчиков поздоровался с нами, скороговоркой выпалил: «Мне Устинья сказала, вы Назара ищете. Так, ента-таво, я не знаю, иде ён».
Мы попросили его не волноваться, не спешить. Пригласили к столу…
Зайчикову было лет семьдесят. Но выглядел он моложе своих лет. Имея завидную память, тайгу знал с детства и мог увлеченно о ней рассказывать.
На охоте Зайчиков не раз вступал в опаснейшие схватки с медведями и кабанами. Однако в разговорах с людьми иногда терялся, будучи застенчивым от природы, легко уступал в споре, поэтому казался им несамостоятельным, то есть беспринципным. У жены был, что называется, под каблуком, во всем слушался ее. Но это все не означало, что характер Зайчикова не имел твердости.
«Кузьма Данилович, расскажите, что знаете о Дрозде Назаре, — обратился я к Зайчикову. — Ваша супруга, спасибо ей, нам откровенно поведала о нем, но хотелось и вас послушать». — «Ну что ж, расскажу, ента-таво», — начал Зайчиков, передергивая плечом.
Сперва он повторил многое из того, о чем мы узнали от Устиньи, а затем добавил к этому, и немало, кое-что новое: «Назар — мужик дюже плохой. В тайгу его не надо было пускать. Тайге нужен честный человек, а Назар хуже разбойника. Как ён уразумел о богатствах тайги, так и потерял всякий стыд. Ему захотелось быстрее разбогатеть, и ён вместе с дружком Афоней стал кидаться в разные аферы. Но тайга, ента-таво, не амбар без хозяина — приходи да бери. У нее тоже есть закон: честно добытое — твое, а зазря ничего не губи, не разевай рот на то, чего не проглотишь. Уважай ближнего, не мешай, а помогай ему. Шибко много старателей — русских, гольдов, орочей, удэгейцев — блюдут тот закон. Но тогда тайга кишела всякими прохвостами. Были среди них и русские, и китайцы, и корейцы — тайком от властей приносили из-за границы для продажи таежникам зипуны, материю, обутки, топоры, пилы, берданки, порох, спирт, котелки, чайники, кружки, чай, сахарин. А к примеру, для женщин еще и нитки, иголки, пуговки, зеркала, бусы, кольца, серьги и многое другое. Взамен сбытого добра уносили за границу золотой песок, монеты золотые, женьшень, панты, пушнину, шкуры тигров и медведей. По тайге мошкарой вились всякие скупщики и перекупщики, бумажные деньги не ценились вовсе, в ходу были натура и золото…»
Увлекшись, Зайчиков рассказал, что Назар и Афоня начали с охоты и другого промысла, а потом стали подряжаться носить товары. Набили руку на скупке и перепродаже ходового товара. Случалось — грабили: разоряли таежные склады контрабандистов. Охраняемых складов в тайге, разумеется, не было, а принесенный из-за границы товар сразу не сбудешь. Поэтому торговцы и скупщики прятали свое добро в пещерах, ямах, дуплах. Вызнав, где эти тайники, Назар и Афоня опустошали их, обрастая немалым богатством. Но и этого им казалось мало. Ходили слухи, что некоторых контрабандистов они убивали. Но однажды при дележе большого куша поссорились, и Назар, как позже сам он рассказывал Зайчикову, убил Афоню.
После того, вернувшись в село, Назар и поставил хутор, до к земле не прирос — продолжал заниматься в тайге темными делами.
«Встретил ён меня на охоте в тайге, — снова передернул от волнения плечами Зайчиков, — и подарил, ну, как бы для сродственников шелковую и плисовую китайскую материю, чай, сахарин и бутыль спирта. И предложил мне стать его напарником по таежному промыслу. Пьяный Назар шибко тогда размечтался. Дескать, мы вдвоем могли бы здорово разбогатеть на обработке хунхузов. И разрисовал передо мной всякие картины своих и Афониных дел. Даже плакал — жалковал о напарнике Афоне. Дескать, ён глупо погиб — из-за своей жадности… Я, ента-таво, наотрез отказался от авантюры Назара, а когда принес его подарки домой и рассказал все жене, она заставила выбросить их к ентовой матери. Даже не притронулась к шмуткам. И пригрозила, ента-таво, ежели я буду якшаться с Назаром, то сонному отрубит мне голову. Назар сторонился меня до самого ухода за кордон» — «Кузьма Данилович, почему о преступных проделках Назара вы не сообщили властям?» — «Э… э… ента-таво, добрые люди, власть от нас далеко, а Назар с кинжалом за поясом рядом. Пока власти до него доберутся, так ён десять раз может выпустить мне кишки в лесу. А у меня семья… Так что медведю ногу не подставишь». — «Ведь он убил человека — Черных Афоню, а вы молчали. Почему?» — «Об убийстве Афони Назар мне сознался опосля — лет почти через десять после того случая, как уходил он в Маньчжурию. Сам я убийства, ента-таво, не видал. Чего ж и кому ж мог я донести и доказать?» — «Что вам сказал Назар о своих дальнейших намерениях при встрече осенью 1947 года?» — «Ён сказал, что идет искать свово сына Игната». — «Где Назар сейчас?» — «Не знаю». — «Не скрывается ли он в тайге?» — «Может, и скрывается. Ён мужик еще в силе; Такому при доброй одежде и харче запросто можно зимовать в тайге». — «В каком месте?» — «Тайга большая, в ней легче легкого можно укрыться. Может ён зиму скоротать в Рокотуне. Ён уже там пытался зимовать в 1945 году. Место глухое, дичи шибко много, пещера имеется, родничок не замерзает». — «У вас есть родственники в Приморье?» — «Никого. Только в Сучане проживает моей жены родная сестра Матрена».
Зайчикова мы поблагодарили за беседу и отпустили домой, а сами, придвинув председательский стол к печке, расшуровали ее, вскипятили «таежный чаек». Совещались допоздна…
Ранним утром Сошников и лейтенант Дедов уехали в Чугуевку — для доклада по телефону Хабаровску, после чего они отправились на свои розыскные участки. А я с помощью председателя сельсовета Бочарова начал готовиться к рейду в тайгу. С большой охотой в ответ на мое предложение согласились сходить со мной на Рокотун, якобы поохотиться, Зайчиков и комсорг колхоза Женя Гладких. Под началом Зайчикова, такого опытного таежника, заметно ожившего и вроде помолодевшего, мы быстро снарядились. Для меня он раздобыл пиджак, оленьи брюки, унты, короткие, но широкие лыжи. Разложили походный груз поровну в три заплечных мешка.
Из Тамбовки вышли на другой день, еще затемно. Впереди неспешно, но легко двигался Зайчиков, за ним, по порядку, — я и комсорг Женя.
Было тихо, безветренно. Щеки пощипывал несильный морозец. За нами тянулась по жесткому, сухому снегу неглубокая лыжная колея — вдоль невысокого и редколесного правого берега таежной речушки Алихан, вверх по ее течению. Часа через полтора на восточном небосклоне появилось и стало медленно разрастаться светлое пятно. И постепенно там, впереди нас, где-то на горизонте, словно прорезались зубчатые хребты Сихотэ-Алиня. А спустя еще полчаса лучи красного негреющего солнца, медленно выплывавшего из-за гор, расцветили таежные распадки, долины и вековые деревья диковинным нарядом. Тайга заблистала в разноцветье, еще больше похорошела.
Чем дальше мы шли, тем она становилась непролазнее, вроде бы теснее. Пройдя по ней километров десять, присели отдохнуть на беспорядочно лежавшие валежины. Ветра тут не было. Но по вершинам огромных деревьев катился, видно, никогда не угасающий тугой шум. Мне было приятно забыться — как бы окунуться в неповторимую, монотонно шумящую таежную глушь. Только напряженный настрой в связи с поиском признаков пребывания Назара не позволял спокойно любоваться всеми ее причудами и прелестями.
Когда двинулись дальше, Женя вдруг окликнул убежавшего далеко вперед Зайчикова: «Дядя Зайчик, пошто мы идем по бурелому, а не по левому, свободному от валежин берегу речки?» — «Да нешто ты, ента-таво, не видишь, — ответил Зайчиков, — тут больше снега для лыж, а там, под крутизной, вон какие голые каменистые осыпи, по ним лыжи не пойдут…»
Так мы и шли еще несколько часов с короткими передышками. Выбрали наконец подходящее место, решили пообедать. Пока разгорался костер и грелся чай, Зайчиков задавал мне свои бесхитростные вопросы.
«Вы, Пётра, не обижаетесь, что я так величаю вас?» — «Конечно нет, мне даже приятно, что мое имя как-то по-новому звучит». — «Ну хорошо, а меня зовите просто Зайчик, я к такому званию давно привыкший… А вы раньше в тайге бывали?» — «Я родом из сибирской тайги, немало полазил по ней». — «Ну а какая она там, как здесь, аи другая?» — «В тайге, и там, и здесь, много одинакового. Саянские наскальные нагорья схожи с сихотэ-алинскими дебрями. А дальше к северу, в прибрежье Енисея, Кана, Бирюсы и Ангары, местность более ровная, низменная. Но тайга и там дремучая. Однако приморские леса богаче, разнообразнее сибирских. Еще до войны, во время срочной службы, побывал я в верховьях рек Имана и Ваки — был просто поражен необычным разнообразием растений здешних лесов». — «Значит, вы, Петра, тут и до войны находились, — в раздумье произнес Зайчиков. — Вот и мои сыны — считай, ваши ровесники — до войны тоже служили в армии. Они сейчас ходили бы, как и вы, молодые и ладные, да вот… всех троих война сглотнула».
Зайчиков надолго умолк…
Пообедав, мы двинулись дальше. Но вскоре на нашем пути сплошной стеной встали непроходимые дебри. Пространство между огромными вековыми соснами, кедрами, лиственницами и осинами сплошь забил мелкий и густой, словно щетка, пихтач вместе с колючим ельником, вязким лозняком, бесконечными кустами черемухи, высоким травяным сухостоем. Местами все это было переплетено и скручено крепкими, словно железными, лозами дикого винограда, гибкими лианами и завалено беспорядочно рухнувшими и наслойно лежащими вековыми, огромными деревьями. И если до этого удавалось находить или прорубать топорами пролазы для хода, то дальше идти стало вовсе невмоготу. Тогда Зайчиков посоветовал перебраться на левый, менее заросший растительностью скалистый берег речки Алихан, что мы и сделали.
Ее в этом месте уже сплошь покрывал игравший на солнце серебряным блеском молодой лед, который потрескивал под нашими ногами. На ненадежный лед мы положили рядком две длинные, срубленные и очищенные от сучьев осины, по которым можно было пройти только до средины речки. Первым по ним осторожно зашагал, с вещмешком за спиной и повешенным на шею ружьем, Зайчиков. Одной рукой он ловко опирался на палку, а другой потихоньку продвинул по льду продолжение «мостка» — еще две осины, достигшие противоположного берега, по которым сразу же и перебрался туда. За ним перешел речку и я. А с Женей случилась беда. Он пошел по столь шаткому настилу без опорной палки в руке, хотя мы с Зайчиком предупредили его об опасности. За плечами у него был вещмешок и привязанные к нему лыжи, на шее — ружье. Женя скоро было и легко зашагал по осиновым жердям, балансируя, словно циркач, расставленными в стороны руками. Пройдя половину пути, он вдруг оступился на крутнувшейся неровной осине и, потеряв равновесие, упал, проломив лед, забарахтался в образовавшейся полынье. Одежда и мешок быстро намокли, а сильное течение втянуло юношу под лед по самые плечи. Еще миг — и он бы скрылся там навсегда. Но, к счастью, Женя все-таки успел дотянуться до осины и намертво вцепиться в нее обеими руками. Но конец жерди, а с ним и пострадавший уже стали погружаться в воду. Я бросился к другому концу жерди и успел ухватиться за нее, хотя и сам по грудь оказался в воде — и подо мной рухнул лед. Упираясь ногами в каменистое дно, я изо всей силы потянул жердь с Женей к берегу, а подоспевший Зайчиков вовремя помог мне. Женя цепко держался за дерево и все пытался забраться на лед. Однако непрочные края его обламывались, все больше расширяя полынью… И все-таки доволокли пострадавшего до берега…
Несколько часов мы обогревались и сушили одежду у огромного костра; беспокойный Зайчиков щунял, почти не переставая, Женю за его беспечность.
Дальше шли без лыж, карабкались по крутым каменистым, местами изрядно обледенелым хребтам и скользким осыпям. Идти стало куда тяжелее, мы чаще делали привалы. На одном из них возле самой вершины каменистого хребта Женя окинул недовольным взглядом окрестности: «Какой страшный горный хаос. Тут можно запросто заблудиться».
Зайчиков на это заметил: «В горах полазишь поболе — и здесь порядок увидишь. Вон глянь: там, шибко-шибко далеко, синеет спина Сихотэ-Алиня. Тянется, ента-таво, на всю тыщу верст. В молодости я лазил туда. Оттель океан даже видать. И от спины хребта протягиваются влево и вправо отроги и отрожки. Это не по линеечке разложено, но, ента-таво, порядок имеет… Пойдем мы по самому верху тех отрогов. Через долины тоже теперь гляди да гляди в оба. Могём тут и на след Назара напасть, а то и яво самого повстречать. Любил ён шастать по тем отрогам…»
Мы шли до самого темна. Я и Женя едва успевали за неутомимым Зайчиком. А когда стемнело — остановились. Выбрали место для ночлега в глубокой низине, у шумевшего подо льдом ручья, костер развели возле огромной, поваленной бурей ели. После ужина отгребли головешки и золу подальше от места, где был костер, и сюда, на горячую землю, набросали разлапистых веток пихтача и улеглись на них рядком, прислушиваясь к убаюкивающему таежному шуму. От земли шло благодатное тепло, и слегка дурманило от пряного аромата нагретой ею, словно разомлевшей, пихтовой хвои…
«Скажите, Кузьма Данилович, — спросил я Зайчикова, — почему урочище, куда мы идем, называется Рокотун?» — «Ента-таво, знатное урочище. Там, на склоне широкого распадка, давние обвалы вроде как бы площадку и пещеру образовали. На краю площадки, у самого подножия каменной стены, пробился незамерзающий родник. Его шибко большая вода с высоты на камни падает, пенится, шумит, рокочет на камнях. Вот и прозвали родник и все урочище Рокотуном. Ежели идти вниз по течению ручья, встретишь пихтовую долину. Когда-то здесь было, ента-таво, стойбище лесных людей-гольдов». — «А разве теперь их там нет?» — включился в разговор Женя, до того молчавший, вроде бы уснувший. «Давно нету. Они, ента-таво, ушли далеко на север». — «А почему ушли?» — «На то были шибко большие причины, ента-таво. Переселенцы тут обстраивались. По долинам, по берегам речек — все ближе к хребту Сихотэ-Алиня продвигались. Так те переселенцы и заготовители леса нещадно секли дубовые рощи, кедрач, ягодники, виноград. Потому оттель и бегли на север, к верховьям Имана, Бикина, Хора и к Амуру, целые табуны кабанов, изюбрей, белок… И хищники за ними потянулись — тигры, рыси, лисы… Стало быть, охота шибко оскудела — гольды и снялись отседова». — «Разве гольды живут только охотой?» — «Шибко большие они охотники и рыбаки. Сбирают ягоды, грибы, орехи. Но не пашут и не сеют. Чтоб огород или скотину заводить — шибко большая у них редкость». — «Они зверей, говорят, не стреляют». — «Правильно, спокон веку без ружей охотятся. Был у меня знакомый гольд Максимка…»
И вдруг Зайчиков пробормотал что-то невнятное и замолчал.
«Ну так что — Максимка?» — спросил чуть погодя Женя.
Зайчиков не сразу ответил, словно бы затаился. Повздыхал едва заметно, а заговорил нехотя, продолжительно и неестественно позевывая. Ему вроде бы однажды Максимка рассказывал, как гольды охотятся без ружей на диких кабанов… Поздней осенью, когда холодало и выпадал снег, гольды выслеживали табуны кабанов, ходивших к водопою. Заметив, что звери барахтаются в воде, гольды быстро вставляли длинные, хорошо наточенные ножи, лезвиями кверху, в заранее сделанные дырки в бревнах и колодинах, лежавших поперек кабаньих троп. А потом неистово кричали, наступая на стадо. Напуганные, обезумевшие звери неслись в тайгу по своим привычным тропам и, прыгая через лесины, натыкались на ножи. Охотникам оставалось лишь добивать смертельно раненных кабанов. Это гольды называли большой зимней заготовкой мяса.
«Э, да мы шибко заговорились!» — воскликнул Зайчиков, протяжно зевая; вскоре он захрапел.
Рано утром пошли дальше, блуждая по склонам каменных горных отрогов. Зайчиков все чаще останавливался и внимательно изучал наброды зверей на снегу. А пологий склон одного из отрогов наискосок пересекали людские следы. Зайчиков еще более насторожился. Здесь, по его мнению, спешно и налегке прошли два молодых охотника.
«Вот видите, ента-таво, как они широко шагали. А где шибко круто — на носки становились. Стало быть, это молодые мужики. Спешили куда-то. Даже на самой вершине отрога не передохнули». — «Может, один из них и был Назар?» — предположил Женя. «Нет, Назара не было. Ён уже старый, чтобы так бегать по кручам. К тому ж и ступни ён ставит заметно врозь».
Около полудня добрались до Рокотуна.
С первого взгляда этот родник покорял своим величием. Из многих природных источников приходилось мне пить студеную, чистую воду. И всегда восхищала неповторимая их прелесть. Они всегда несли с собой свежесть и бодрость, душевную легкость и удивительно добрый настрой. От них я уходил с грустью, как от надежных друзей. И думалось порой: хорошо бы таким родникам, как уникальным явлениям природы, дать названия, чтобы увековечить эти живительные источники, обложив разноцветными каменьями, прикрыв резными навесами…
Рокотун — единственное в своем роде чудо природы. Вода его вытекает из довольно большого, с ведерный круг, отверстия, черневшего под отвесной скалой, наполняя глубокую чашу двухметрового диаметра. Нижняя часть ее — словно бы специально выгнутая гранитная глыба; верхняя часть — плотно пригнанные одна к другой каменные плиты — сооружение безымянных мастеров. Мощной, тугой струей проливается изумрудно-чистая вода через как бы слегка склоненный край чаши — и рокочущим водопадом хлещет по валунам распадка…
Напившись студеной воды из столь необыкновенного источника, мы разошлись в разные стороны, осматривая местность в радиусе двух-трех километров. После ее осмотра я поделился своими впечатлениями с Зайчиковым: сегодня на рассвете из источника пили кабаны, потом они небольшим табуном ушли по тропе; за ними кралась одинокая рысь; часа два назад здесь находилось стадо коз, убежавших затем по склону к орешнику; есть вчерашние и более ранние следы изюбрей. В последний раз снег выпал дней восемь назад; на нем следов человека не было, следовательно, человек не подходил к роднику не менее этого срока…
«Все верно, Пётра, — сказал Зайчиков, — ничего добавить не могу, следы вы прочитали, как книжку».
Мы направились к пещере, внимательно осмотрели ее.
Это был каменный мешок — метров пятьдесят в длину и тридцать в ширину — с очень низким сводом. Мы обследовали каждый метр каменистого пола пещеры и ее стен, но никаких признаков недавнего пребывания здесь человека не обнаружили.
До самой темноты мы бродили поодиночке по склонам сопок, чащобам и распадкам — в радиусе километров десяти от пещеры. Ничего подозрительного никто из нас не обнаружил. Встретились у Рокотуна. Развели большой костер, приготовили ужин. И тогда я заметил какое-то странное изменение в поведении Зайчикова. Обычно говорливый, он теперь помалкивал, часто вздыхал и не стал ужинать, заявив, что есть не хочет, так как переутомился. Добродушный Женя, пытаясь втянуть его в разговор, спросил: «Дядя Зайчик, вот вы угощали нас вкусным медвежьим салом. Скажите, где вам удалось убить этого медведя?» — «В тайге, где же еще, ента-таво, его забьешь!» — ответил Зайчиков, думая о чем-то своем.
Была уже глубокая ночь. Женя и я улеглись возле костра, но Зайчиков все топтался возле него, подбрасывая в огонь смолистые сучья.
Мне показалось, что охотник чем-то встревожен, хочет что-то сказать, но не решается.
«Может, вам не здоровится?» — как можно мягче спросил я его.
И Зайчикова словно прорвало. Порывисто теребя свою седенькую бороденку, он уставился на меня сердитыми глазками, заговорил громче обычного: «Вот вы, Петра, пошто нам такую распоряжению дали: кругом пещеры ходить не скопом, а в одиночку — и пошто для себя выбрали место за вон тем скалистым выступом?»
Я спокойно ответил, что такое обследование позволяет быстрее изучить местность. Для себя же выбрал тот выступ, поскольку он мне показался более трудным — из-за крутизны и осыпей.
«Ну ладно. А пошто вы сперва с моей женой Устиньей говорили в Тамбовке, ента-таво, а со мной во вторую очередь?» — «Потому что вас не оказалось дома, ведь вы за сеном уехали с утра». — «А я это все иначе понимаю», — уже потише проговорил Зайчиков, шуруя палкой в костре.
Такое заявление для нас с Женей было неожиданностью, и мы с недоумением уставились на старика.
«Я думаю, ента-таво, Назар находится в ваших руках, — волновался Зайчиков. — И ён дал показания про мою душу. Вы прибыли в Тамбовку и вот сюды неспроста, а хотите взять меня на пушку».
Совсем сбитый с толку таким заявлением Зайчикова, я поднялся с лежанки, подошел к нему: «Назара мы ищем и за этим пришли сюда. Вам доверяем — ведь кругом тайга, а в ваших руках оружие… Если у вас есть какие-то сомнения, давайте выкладывайте. Что у вас на душе? Не люблю недомолвок». — «На душе у меня, ента-таво, болячка. — Губы Зайчикова задрожали. — Мы с Назаром вот тута, у выступа скалы, закопали человека».
Следуя правилу — коль началось признание правонарушителя, нужно терпеливо слушать, не вспугнуть его, — я заставил себя молчать. Удивленный происходящим, помалкивал и Женя, глядя на Зайчикова широко раскрытыми глазами.
И тот рассказал нам, что там, у выступа скалы, под камнями, закопан гольд Максимка. Убил его Назар. Дело было так. Когда гольды ушли на север Приморья, с ними убрел и Максимка — так его русские прозвали. Но Максимка иногда приходил к Рокотуну. Каждый охотник имел в тайге облюбованные им для промысла места. Рокотун и был таким местом для Максимки. Словно душой к нему прикипел. А был он мужик из себя длинный, жилистый, гибкий, как лоза, и очень ходкий, как молодой лось. Мог не уставая за день оббежать десятки круч. В тайге Зайчиков иногда встречался с Максимкой на охоте. Тот умел блюсти таежный порядок. Чуть свет был уже на ногах и, подбадривая других, любил повторять гольдскую пословицу: кто часто встречает восход солнца, тот поздно увидит закат своей жизни. Охотникам он внушал мысль, чтобы они промышляли по-хозяйски — отстреливали только самцов: «Нужно бах-бах бик, только бик».
Контрабандисты втянули Максимку в свои темные делишки, задабривали и спаивали его. И тот надежно хранил товары в своих тайниках, затем сбывал их охотникам и другим таежным людям. Познакомился здесь он и с Назаром, предложив ему кое-что купить.
Для преступника Назара гольд оказался находкой. Вначале Назар скупал и выменивал за пушнину у Максимки недорогие товары, исподволь изучая порядок их доставки из-за границы и места хранения в тайге. А однажды, подвыпив, начал уговаривать гольда, чтобы тот подавал ему условные сигналы, когда хунхузы будут возвращаться из тайги после торговли с богатой выручкой. Сообразив, куда клонит Назар, Максимка с негодованием отверг его предложение: «Наша нету чик-чик человек, наша чик-чик зверя».
Назар возненавидел гольда и начал разорять его тайники. Тот устроил засаду возле одного из своих тайных складов, около пещеры, у Рокотуна, и застал Назара, как говорится, на месте преступления.
Матерый грабитель растерялся, заюлил, дескать, хотел забрать товары, думал, что они ничейные, брошенные кем-то. Максимка решил отвести его в свое стойбище на суд стариков и сказал Назару об этом. Тот, улучив подходящий момент, ударил Максимку тесаком в бок.
В тот день в этих же самых местах охотился и Зайчиков. Поднявшись на гребень отрога, он присел на валежник отдохнуть и вдруг услышал крик и слабый стон. Подумал, что это волк задирает козла, схватился за ружье. Но тут отчетливо послышалось: стонет человек. Предположив, что, возможно, это зверь корежит какого-то охотника, Зайчиков бросил свой мешок со шкурками на отроге и запрыгал с горы на помощь пострадавшему. Возле пещеры и увидел умирающего гольда Максимку, а чуть в стороне от него — Назара, которого сразу не признал — тот стоял к нему спиной, заталкивая тесак в кожаные ножны, пристегнутые к поясному ремню. Зайчиков наставил ружье на убийцу, потребовав от него бросить тесак на землю. Назар резко крутанул головой, и они узнали друг друга.
Зайчиков закричал от испуга: «Что ты делаешь, побойся бога!»
И бросился бежать — подальше от места душегубства. Назар мощными прыжками, как тигр, настиг его, вырвал из рук ружье и, схватив за шиворот, поволок назад — к умирающему гольду, приговаривая: «А-а-а, и ты, родственничек, выслеживаешь тут меня? Я по обоим справлю поминки».
Он подтащил перепуганного насмерть Зайчикова к Максимке и, совсем озверев, начал с маху бить того ногами, обутыми в тяжелые кованые сапоги, норовя попасть в кровоточащую рану. И гольд, несколько раз всем телом дернувшись, затих. Тогда Назар обратился к Зайчикову, наступая на него с тесаком в руке: «Соглядатаи и свидетели мне не нужны».
Зайчикова оставили последние силы. Он упал на колени, закричал в отчаянии: «Убивец, душегубец проклятый, а не родственник!.. Детей сиротишь!..»
Назар словно очнулся от безумия — заскрипел страшно зубами, прохрипел: «Ладно, пощажу тебя — из-за детей. Но знай, если пикнешь о том, что здесь видел, пощады от меня не жди».
Зайчиков, ко всему безразличный, сидел на валежнике, трясясь в нервном ознобе, и плакал, закрыв лицо ладонями. Дав ему успокоиться, Назар приказал раздеть убитого и, когда это было сделано, кинул к ногам своего родственника окровавленную одежу гольда: кожаные брюки, байковую рубашку…
«Бери вот свою долю, постирай и носи».
Сумку и ружье гольда он взял себе.
Голый труп они захоронили неподалеку от пещеры, привалив неглубокую могилу камнями… Всю ночь просидели у костра. Назар часто крутил головой, как от зубной боли, постанывал и все прикладывался к фляге со спиртом, ругал за «непорядочность» Максимку, за то, что тот хотел увести его в стойбище на суд стариков гольдов: «Ишь чего захотел, туды его растуды… Не родился еще человек, который будет судить меня! Руки коротки! Вот теперь и лежи под камнями, нехристь таежная, а Назар еще погуляет…»
И тогда, во хмелю, он проговорился: дескать, ему пришлось пристукнуть даже напарника Афоню, когда тот попытался при дележе золотых монет обыскать его, заподозрив в нечестности…
«Так с каждым будет, кто мне поперек дороги станет! — грозился он. — Не забывай этого, Зайчик».
Утром, чуть только рассвело, он ушел куда-то в тайгу, а Зайчиков поплелся домой. Он спрятал в камнях брюки и рубашку Максимки. И о гибели его, страшась мести Назара, никому не говорил до сегодняшнего дня, когда, терзаемый подозрительностью, сидел со мной и с комсоргом Женей у таежного костра…
«А здорово вас напугал Дрозд», — заметил я, когда Зайчиков закончил свое неожиданное признание.
Он покряхтел, потупив взгляд и теребя бородку, пробормотал: «Кабы кто другой постоял на коленях перед кровавым тесаком Назара, то, ента-таво, думаю, тоже стал бы всю жизнь помалкивать».
Спали и в ту ночь мы по очереди — кто-то обязательно дежурил у костра, поддерживая огонь. А утром направились к месту захоронения гольда Максимки, где обнаружили полуистлевший скелет человека. Этим, по существу, и закончился наш поиск на Рокотуне, и можно было возвращаться в Тамбовку. Но я не решался пока что идти туда, чувствуя незавершенность проделанного, чувствуя, что Зайчиков рассказал еще далеко не все о Назаре, не весь выговорился.
Мы вернулись к роднику, и Зайчиков вдруг спросил меня, скоро ли пойдем в Тамбовку. Он ссутулился, словно прислушивался к чему-то с тревогой и робостью. Я ответил, что возвращаться в село еще рано, и предложил ему и Жене готовить обед, а сам ушел в распадок, чтобы там побыть наедине со своими мыслями о признании Зайчикова.
Я перевалил через ближний отрог и уселся на валежину. Итак, размышлял я, мы здесь не нашли Назара. Ну что ж, такой вариант не исключался. Но настораживает поведение Зайчикова. В первом разговоре с ним, в Тамбовке, он скрыл очень существенный факт из жизни Назара — убийство и Максимки, и Афони. А почему скрыл? Неужели Зайчиков — соучастник преступлений Назара? Не может быть! Я вспомнил проникновенные слова Устиньи о своем муже. Нет, Зайчиков не преступник. Но он должен знать многое из прошлого Дрозда, однако скрывает это. Ведь они женаты на сестрах, много ходили вместе по тайге, близко общались.
Часа через два я вернулся к костру с твердым намерением попытаться еще раз вызвать Зайчикова на откровенность, полагая, что позже, в иных условиях, это будет сделать труднее. Знание жизни преступника, несомненно, активизирует его дальнейший розыск…
Глава VI
ДРОЗД — ПТИЦА ЗАЛЕТНАЯ
— От жарких углей костра, к которому я вернулся, — продолжал Петр Петрович свой рассказ, — исходил необычайно аппетитный запах пшенного кулеша, заправленного медвежьим салом и какими-то травами. Зайчиков, видно, вложил в изготовление этого блюда все свое немалое таежное поварское искусство. За обедом понемногу разговорились о Назаре. Я вначале, для поднятия духа Зайчикова, похвалил его: он, дескать, в конечном счете не поддался грубому нажиму Дрозда и не погряз вместе с ним в преступных делах. Конечно, можно понять его, Зайчикова: он попал в неприятное положение свидетеля убийства, совершенного родственником. Но, вместе с тем, нельзя одобрить столь длительное умалчивание Зайчиковым о преступлениях Назара. Это равносильно укрывательству и согласно закону может быть приравнено даже к соучастию.
Зайчиков, хотя и с оговорками, соглашался со мной, сетуя на злобную мстительность Назара и свою природную нерешительность.
«Но ведь сейчас его здесь нет, — сказал я, — и власти, фактически, взяли вас и вашу семью под защиту от возможных его угроз. Тем не менее вы, Кузьма Данилович, явно неохотно и лишь с пятого на десятое говорите о нем». — «Я все рассказал, ента-таво, что знал!» — поспешно и неуверенно пробурчал он. «А я считаю, что не все. Вы наверняка знаете, кто такой Назар, откуда и зачем он прибыл в тайгу. Вот и расскажите об этом, не бойтесь».
Зайчиков, насупившись, долго молчал. Мы с Женей тоже притихли, выжидая. Потом я поднялся с валежины, подбросил в костер сухих сучьев и сел на прежнее место, как бы показывая всем своим видом, что никуда не собираюсь уходить и что для меня откровенный разговор с Зайчиковым важнее всех других дел. Старик, видно, это понял и, прервав наконец тягостное молчание, заговорил хрипловатым голосом: «Вы, Петра, как все равно в книжке, читаете в моей душе, ента-таво. С Назаром я, само собой, не один раз ночевал у костра и прятался от непогоды в пещерах. Ён рассказывал мне про свою прошлую жизнь. В том, что я утаил из нее кой-чего, тоже резон есть, поскольку дал Назару слово помалкивать. Ну да бог нам судья, деваться мне некуда, так и быть, расскажу все, что говорил ён сам, но, насколько все будет правдой, за то я не в ответе! — так начал свой рассказ Зайчиков и добавил, вздыхая: — Дрозд Назар — птица залетная, издалека…»
Родился он в Брянской губернии, в деревне Заполье. Вся родня его была голь перекатная. Отец имел клочок земли, избу под соломой, лошаденку.
Но так только считалось — «имел». На самом деле все это принадлежало местному помещику Нудилину. В свое время тот продал это «хозяйство» бедолаге, но драл с него такие проценты за долги, что он до самой своей смерти не смог рассчитаться с лихоимцем. Зато рассчитался Назар. В ту страшную голодную зиму он, пятнадцатилетний подросток, похоронил родителей и надел на себя их хомут: вынужден был за отцовские долги пять лет батрачить на помещика. Правда, батрачество было не в тягость. Ходил он в конюхах, любя лошадей. Хоть и жил на конюшне, но кое-что от господ перепадало: обноски кое-какие, харчишки. Словом, не голодал и голодранцем не был. Но понимал, что — холуй. Завидовал страшно господам. Бывало, ночи не спал, мечтая, как самому разбогатеть, чтоб жить, как Нудилины, — только птичьего молока, кажись, у них не было. И мечтал, что вознаградят его за старание, за верную службу на конюшне, когда закончится обговоренный пятилетний срок батрачества. Нудилин не уточнял, сколько червонцев выделит тогда, но намекал: не обидишься, дескать, на «дело» хватит. Страсть как мечтал Назар «дело завести» — лавчонку приобрести, купцом заделаться. Знал про себя: умом не обижен и хватка хозяйская есть. Были бы деньги. Но лихоимец не сдержал свое слово. За что и: поплатился. Вот что произошло…
В одну из погожих суббот августа надумал барин Нудилин съездить на ярмарку — поразвлечься, а заодно пару гнедых продать, чтобы с Назаром расквитаться: обещал ведь — после обговоренного срока. Конечно, холоп есть холоп — можно с ним и не церемониться. Но больно ревностно служил Назар, угодливо эдак, хотя и держал себя с достоинством. Ничего не скажешь: смекалистый парень — далеко пойдет. Грамоту легко одолел — впору его хоть в приказчики бери.
Словом, отпускать Назара со двора барину не хотелось — дармовой работник. Но и неволить не решался — пошаливать стали людишки, как бы и Назар петуха в усадьбу не пустил: больно диковат бывал временами да злобен…
Не в настроении был в то раннее субботнее утро Нудилин. И с неохотой он кроме Назара взял с собой своих взрослых сыновей — Мирона и Никифора. Но на ярмарке нудилинские рысаки так приглянулись покупателям, так они их расхваливали, что самолюбивый барин ошалел от восторга и даже решил не продавать красавцев. Лишь за высокую цену уступил их…
Уступить-то уступил, да тут же и зажалковал: прогадал — без хорошего, как Назар, конюха таких рысаков не выпестовать никому…
Хмурясь, Нудилин поднялся в коляску и приказал Назару ехать домой. Тот чуть тронул вожжи, и застоявшийся Гнедок рванул с места.
Сыновья барина на поджарых рысаках скакали по бокам коляски.
Вот уже далеко позади остался город Копин, где еще, очевидно, шумела ярмарка. А вот и дорога на две разделилась. Одна в нудилинскую усадьбу вела, до которой еще верст двадцать, вторая — в большое село Воздвиженское, маковка церкви которой отсюда виднелась.
Здесь, при дороге, подремывал от жары и безветрия развесистый дуб, журчал ручеек — давно Нудилиным облюбованное для полдневного отдыха место при летних вояжах.
Сыновья барина к пище почти не притронулись: чуть выпили с устатку — тут же засобирались в Воздвиженское. Там в тот день затевались скачки.
Но старый Нудилин, напротив, пропустил подряд, что с ним редко бывало, несколько чарок крепкого вина и закусил порядком — совсем разморило его на солнце…
На дороге уже нетерпеливо били копытами о землю кони, на которых восседали барчуки. Подойдя к ним, Нудилин достал из кармана сюртука кошелек, туго набитый червонцами. Дал сыновьям по хрустящей бумажке: «На гулянье. Поаккуратней там…»
Он еще долго стоял на дороге, глядя на облако пыли, поднимаемое быстроногими жеребцами. Потом вздохнул тяжело, словно беду предчувствовал, перекрестился на далекую Воздвиженскую церковь и окликнул Назара, хлопотавшего возле коляски, где они только что трапезничали. А тот стелил на траве, в тенечке, войлочную подстилку — барин любил поспать после обеда.
«Вот что, Назар… — У Нудилина то ли от волнения, то ли от спиртного язык с трудом ворочался. — Ты что, всерьез надумал уйти от меня?» — «Надумал», — насторожился парень. «Срок, говоришь, вышел?» — «Вышел». — «А я тебя не отпущу. — Нудилин прищурился, поглаживая свой огромный живот. — Еще год послужишь. А там видно будет…»
Он снова пошарил в своем кошельке, туго набитом хрустящими червонцами. Но, видно, не нашел, что искал, сунул два пальца в карманчик жилетки: «Вот… двугривенный. В трактир сходишь… Весь и расчет, коль уйти захочешь…»
От обиды у Назара потемнело в глазах.
«Значит, расчета не будет?» — «Через год!..» — повысил голос Нудилин. «А если сам уйду?»
Нудилин своей пухлой, но тяжелой ладонью со всего маху ляскнул Назара по щеке: «Холоп!.. Тогда в тюрьме сгною!..»
Назар втянул голову в плечи — не привык перечить барину.
«Уйдешь — под землей разыщут… — Нудилин глянул на двугривенный, который еще держал в руке, и вернул его в карманчик. — Вот так… Принеси-ка подушку мне».
Он по-стариковски подковылял к войлочной подстилке, присел на нее, но не совсем ловко — грузно завалился на бок.
Когда Назар с подушкой в руке подошел к Нудилину, тот, скорчившись, уже сладко похрапывал. К тройному его подбородку через левый край рта стекала жидкая слюна. Чувствуя отвращение к лихоимцу, Назар швырнул на землю подушку и… вдруг увидел на войлочной подстилке кошелек, из которого топорщились червонцы. Нудилин даже не успел закрыть его — так неожиданно сморил сон…
Назар после того, что тогда произошло, не мог припомнить, сколько времени он простоял, глядя, как ему казалось, на несметное богатство — на нудилинский кошелек с червонцами, не решаясь взять их. А когда взял, барин уже валялся на земле с перерезанным горлом…
Через несколько дней Назара поймали, судили за убийство и отправили на каторгу. Он отбывал ее в Томской губернии, на Чулыме, в Бутринском лагере. Летом здесь заключенные ломали камень в карьерах, зимой валили лес…
Через несколько лет, уже после революции, там, на Чулыме, над Назаром однажды не то тешился, не то вроде бы правду говорил одессит Гришка Пастух — тоже каторжанин, трижды судимый за кражу.
«Эй, Назар, — подмигнул он по привычке левым глазом, — а ты зазря на каторге отираешься и незаконно займаешь чье-то мисце». — «Как это зря, я за убийство осужден». — «Да кого ж ты убив?» — «Человека, помещика Нудилина». — «Який же вин чолови-ик?! — закатил под лоб свои плутовские карие глаза Гришка Пастух. — Дурья твоя башка! Вин же був эксплуататор — гнида, ежели оказать по-нашему. Вот и рассуди теперь. Выходит, мы ранише усих революцию почалы робыты. И зараз, по новым временам, тоби полагается ходить в кажаной куртке в революционерах. Так що треба тоби уступити в лагере месце фраеру более достойному, может, давно вже скучающему по нему…»
Назар обругал Гришку пустобрехом, но слова его запомнил и после долгих и мучительных прикидок и колебаний написал прошение в адрес лагерной администрации о том, чтобы было пересмотрено его дело. Он писал, какой кровопивец был помещик Нудилин, как много загубил бедного люда, в том числе и Назаровых голодающих родителей. А в конце прошения дописку сделал: на суде он, знамо дело, каялся и винился, что убил барина, а сейчас не жалеет об этом, потому как стоит за Советскую власть.
После такой добавки к прошению, полагал Назар, его просьба наверняка будет уважена — и до каторжан дошли слухи, что новая власть за бедноту.
Но все вышло иначе. Пришли вскоре в те сибирские края колчаковцы и мобилизовали Назара вместе с другими уголовниками в свою армию. А перед тем обнаружили где-то в хранилищах лагерной администрации прошение Назара, за то и всыпали ему с дюжину горячих плетей — для прочищения мозгов. Но тот не тужил. Напротив: за свою недолгую жизнь не одну злую порку перетерпел, так что эта, колчаковская, вроде шутейной показалась. Мало того, даже бога славил, что легко отделался, что не расстреляли колчаковцы за дурацкую дописку к прошению. И ничего, что под ружье поставили — воевать против своего же народа. Сила-то у Колчака вон какая! Может, он всех под себя подомнет…
Но когда колчаковская армия стала терпеть одно поражение за другим, осторожный Назар, поразмыслив, решил дезертировать из нее: чтоб ни за кого не воевать, а затаиться где-нибудь в тайге, переждать в сторонке лихое время. Нашлись для того дела и сообщники: бывалые солдаты, воевавшие еще на германском фронте — ловкач-охотник Афоня из Якутии и дальневосточник Еланев Прокоп. Но последнему не повезло. В одном из боев с красными, в самый канун ими задуманного дезертирства, был Прокоп Еланев тяжело ранен. Хрипя легкими, простреленными пулями, он только и успел перед смертью наказ отдать своим товарищам: дескать, ступайте в глухую дальневосточную тайгу, в село Тамбовку, где проживает его законная жена Еланева Марья — она на первое время и приютит дезертиров…
Долго бродили они по сибирским и дальневосточным дорогам, тропам и тропкам. Лишь в середине 1920 года добрались до Тамбовки. Еланева Марья поревела по умершему от ран мужу Прокопу и, делать нечего, исполнила его последнюю волю…
«Вот так и оказался Дрозд Назар в Тамбовке», — закончил свой рассказ уже совсем успокоившийся Зайчиков.
И мне тогда там, у костра, показалось, что он на этот раз сообщил о Назаре все, что меня могло заинтересовать.
«Спасибо за откровенность, Кузьма Данилович», — от всей души поблагодарил я Зайчикова.
Мы забросали костер снегом и отправились снова в путь — в Тамбовку.
Глава VII
СЛЕДЫ ЛОЖНЫЕ И НАСТОЯЩИЕ
— Вернувшись в Тамбовку из Рокотуна, — продолжал очередной свой рассказ Петр Петрович, — я быстро оформил необходимые документы и собрался в дорогу. Перед отъездом договорился с председателем сельсовета Бочаровым и комсоргом колхоза Женей Гладких позаботиться о безопасности Зайчиковых, а в случае появления Дрозда — задержать его и сообщить райотделу МГБ в Чугуевку. Состоялась встреча и с Устиньей. По моей просьбе она написала письмо сестре Лукерье, приглашая ее с семьей к себе на жительство. Прощаясь, она растрогала меня простыми, задушевными словами: «Молю бога, чтоб были вы счастливы…»
Вечером на попутном грузовике-лесовозе прибыл в Чугуевку. Связался по телефону с Хабаровском. Выслушав мой короткий доклад, генерал Шишлин сказал, что обстоятельства в связи с розыском преступника резко изменились. До этого мы вроде бы ходили по ложному следу. А вот сейчас капитан Сошников напал на настоящий, получив данные, что Дрозд скрывается в сучанской тайге. Генерал предложил мне срочно выехать туда для организации розыска и задержания преступника.
От такой, не совсем лестной оценки моей деятельности в Тамбовке и на Рокотуне мне стало как-то не по себе. Но я старался утешить себя мыслями об успехе капитана Сошникова и тем, что, возможно, скоро удастся захватить преступника Дрозда и покончить с этим делом. Попрощавшись с гостеприимным начальником Чугуевского райотдела МГБ подполковником Акишевым, выехал в Сучан, куда добрался лишь через двое суток.
Город шахтеров Сучан, расположенный в широкой долине, словно разрезавшей и раздвинувшей южные склоны Сихотэ-Алиня, встретил меня приветливо — стояла тихая и теплая погода. Разбросавшиеся по долине улицы города полукругом охватывали основательно выбеленные снегом вершины горных отрогов. Река Сучан еще не замерзла — клокотала на каменистых россыпях, стремительно неся к Тихому океану свои бурные и темные от угольной пыли воды…
В райотделе МГБ застал его начальника подполковника Внукова Федора Михайловича. Это был мужчина средних лет, высокий, с внимательными, прищуренными, словно бы от постоянной усталости, серыми глазами. Встретил и капитана Сошникова.
«А у нас, Петр Петрович, беда», — здороваясь, сказал он. «Что такое?» — «Дрозд скрылся». — «А разве он был вами пойман?» — «В том-то и дело, что не удалось поймать, — поморщился Сошников. — Четыре дня назад посланная нами команда обнаружила в тайге землянку, в которой скрывался, видимо, Дрозд. Однако из-за допущенной розыскниками оплошности он успел скрыться…» — «Что же делается по розыску?» — «Перекрыты железная дорога и Ольгинский тракт. На розыск в лес посланы две команды солдат во главе с оперработниками и восемь охотников-одиночек, хорошо знающих местность. Ориентированы пограничники. Ведется розыск в Сучане и в населенных пунктах всей Сучанской долины». — «Не мог ли Дрозд уехать поездом из Сучанского района до того, как вы организовали активный розыск?» — спросил я. — «После того как в город вернулась команда, обнаружившая следы Дрозда в тайге, минуло часов двадцать. За это время из Сучана ушел один пассажирский и три товарных поезда в сторону Шкотово, Угольной и Владивостока, — пояснил подполковник Внуков. — Проконтролировать эти поезда не успели. Были ориентированы органы МГБ и милиции по маршрутам движения поездов. Однако обнаружить беглеца не удалось. Возможно, он не вышел из тайги, скрывается там».
Подполковник Внуков отправился в районное отделение милиции, чтобы там организовать дополнительные мероприятия по розыску Дрозда. Как только закрылась за подполковником дверь и мы остались с Сошниковым наедине, тот вроде бы сгорбился и стал говорить о том, как напал на след Дрозда. Но говорил с той старательностью, словно подозревал, что его обвиняют в неумелых действиях, позволивших разыскиваемому улизнуть чуть ли не из-под самого носа.
«По прибытии в Сучан, — рассказывал Сошников, — я с помощью сотрудников МГБ и милиции сразу же установил, что сестра жены Назара — Мазун Матрена Елисеевна живет на окраине города, называемой Соколиной Горкой, работает в столовой угольной шахты. Проведенные беседы с ее соседями и работниками столовой показывают, что одинокая Матрена ведет себя тихо, скромно. По натуре — молчаливая, скрытная. Посторонние лица в ее доме не замечались. Тем не менее мы организовали круглосуточное наблюдение за ним. Побеседовали с работниками милиции, ночными сторожами, охотниками, егерями, ягодниками, путевыми обходчиками. И что вы думаете? Нам удалось получить интересные сигналы насчет подозрительных лиц. Молодой шахтер Бекетов рассказал о таком случае. В середине октября, когда в отрогах гор выпал первый снег, Бекетов охотился в Скалистом распадке. Здесь, возле незамерзающего ключа, обнаружил свежий след человека. Метров через триста, в небольшом кустарнике, след внезапно оборвался. Как Бекетов ни присматривался, но так и не смог понять, откуда начался этот след. Охотнику, по его признанию, стало как бы не по себе, и он ушел прочь с этого места».
Сошников сообщил мне и о таком сигнале.
Еще раньше, в сентябре, в том же Скалистом распадке три женщины, собиравшие дикий виноград, обнаружили в густых зарослях спавшего мужчину. Возле него стояла сплетенная из ивняка большая корзина, доверху наполненная виноградными гроздьями.
«Эй, дядя, проспишь царство небесное», — шумнула одна из женщин.
Мужчина вдруг резво вскочил на ноги и опрометью кинулся в чащобу, оставив свою корзину. Женщины посмеялись над незадачливым ягодником, рассудив, что мужчина бежал от них потому, что испугался спросонья. Но потом решили, что тот человек очень странно выглядел: был весь обросший, одежа на нем вся из шкур козла или рыси. Придя домой, женщины и рассказали своим соседкам о встрече в лесу со странным лесовиком. Так молва о нем докатилась до милиции.
Получив эти сигналы, Сошников допросил выделить для розыска поисковую группу. Рано утром команда из двадцати солдат во главе с оперуполномоченным старшим лейтенантом Чебану Сергеем Григорьевичем направилась для прочесывания Скалистого распадка. Старший лейтенант Чебану оказался расторопным, находчивым офицером. Во время войны был связным в молдавском партизанском отряде. В 1944 году, когда наши войска освободили Молдавию, был призван в действующую армию. Разведчиком стрелкового полка дошел до Кенигсберга. Затем на Дальнем Востоке сражался с японцами в Маньчжурии. Награжден орденом Славы III степени, двумя медалями. После окончания войны стал контрразведчиком.
Умело, как заправский следопыт, действовал старший лейтенант Чебану. Побеседовав с очевидцами и изучив местность по топокарте, он вывел свою группу в нужное место и приступил к тщательному его осмотру. Таежные дебри мешали этому. Особенно там, где переплелись виноградные лозы, лианы, высокие травы, кустарники. Здесь приходилось ребятам продвигаться порой ползком на расстоянии метра друг от друга.
Первый день поиска оказался бесплодным. А на вторые сутки, в полдень, произошло нечто неожиданное.
Старшему лейтенанту сперва показалось, что он провалился в медвежью берлогу. Левая нога его подвернулась — колено обожгла нестерпимая боль. Однако, не теряя самообладания, он выхватил из кобуры пистолет и дважды выстрелил, думая, что перед ним зверь: вокруг — кромешная тьма. Эти-то выстрелы и помогли солдатам отыскать своего командира, они не заметили его исчезновения и продолжали двигаться в заданном направлении.
Так была обнаружена замаскированная землянка, в которую через проломленную крышу свалился старший лейтенант Чебану. В ней была лежанка, печь, сложенная из камня-дикаря, грубо обработанные шкуры диких зверей. Землянка имела обжитой вид, в печке даже зола была теплой. Вполне возможно, здесь скрывался кто-то. Такое предположение подтверждалось и тем, что возле землянки отыскался человеческий след, уходивший в сторону ручья, протекавшего в распадке (тут след исчез).
Старший лейтенант Чебану распорядился соорудить неподалеку от ручья шалаш, где оставил трех солдат для наблюдения за землянкой до прибытия оперативных сотрудников. Остальные солдаты, неся попеременно на самодельных носилках своего пострадавшего командира, направились по его распоряжению в Сучан.
Узнав обо всем этом, капитан Сошников сделал вывод, что в землянке укрывается Дрозд, о чем и поспешил доложить нашему хабаровскому руководству.
В Скалистый распадок немедленно направили работников МГБ и милиции, которые осмотрели землянку и составили акт, указав в нем все достопримечательности этого логова.
Землянка была вырыта в каменистом косогоре. Выход из нее искусно маскировался густым кустарником. Из крыши чуть выдавалась печная труба, выходившая в кусты ивняка. Небольшую лежанку покрывали шкуры изюбра и козла. В углу — куски вяленого мяса, берестяные туесы и ивовые корзины с кедровыми орехами, сушеными грибами, диким виноградом (точно такую корзину нашли те три женщины). В стене — потайная ниша, в которой лежал обрез от винтовки с патронами. Никаких документов не обнаружили…
«Неплохая обжитость землянки и наличие давнего запаса продовольствия свидетельствуют о том, что владелец скрывается здесь не один год. И это, в свою очередь, свидетельство того, что там действительно мог скрываться Дрозд. Ибо после его побега минуло несколько лет», — закончил свой рассказ Сошников.
У меня не лежала душа к сделанному им выводу. Ведь оставалось еще неясным то, чего мог дожидаться Дрозд в течение целого ряда лет в таежной глуши. Но из-за отсутствия других, более убедительных предположений по розыску мы остановились на этом и, казалось, делали все возможное, чтобы найти хозяина землянки.
Не прекращали наблюдения и за Мазун Матреной.
В напряженном ожидании прошло несколько дней. И вдруг — обнадеживающая весть: следователь Управления госбезопасности по Приморскому краю капитан Мирончук сообщил нам по телефону, что пограничники в районе Посьета задержали при попытке проникнуть в Маньчжурию нарушителя границы. Тот назвал себя Чижиковым Тимофеем Назаровичем. Судя по приметам, он — тот человек, который скрывался в землянке в Скалистом распадке. На допросах в Управлении МГБ, куда его передали пограничники для ведения следствия, Чижиков дал о себе такие сведения.
Родился в 1924 году в Тульской области. В феврале 1945 года, перед отправкой на фронт, бежал из своей воинской части, находившейся под Москвой. Унес с собой винтовку с патронами, из которой сделал потом обрез. Переодевшись в гражданское, добрался до Урала. Здесь, в лесах, скрывался до конца войны. Боясь ответственности за дезертирство, домой не явился. Под видом демобилизованного воина уехал на Дальний Восток. Жил в тайге, ни с «ем не общаясь, более трех лет. Он рассказал о проживавших под Тулой родных и близких — отце, матери, о двух младших братьях, сестре… Назвал воинскую часть, из которой бежал, и фамилию ее командира… Управление КГБ организовало проверку показаний задержанного. А следователю предложили выехать с Чижиковым в Сучан для опознания дезертира женщинами, видевшими подозрительного мужчину в Скалистом распадке, и для того, чтобы задержанный сам показал место, где скрывался.
С нетерпением ожидали мы приезда следователя капитана Мирончука с Чижиковым. Сошников даже начал горячиться: «Я уверен, что на границе поймали Дрозда Назара. Какой бы дезертир сидел три года после окончания войны в тайге?! Это нереально». — «Потерпи, Иван Федосеевич, завтра все прояснится», — посоветовал я ему. «Думаю, завтра ты сам убедишься, что это Дрозд».
И вот мы встретились для беседы с Чижиковым. Произвел он на нас гнетущее впечатление. Выглядел просто дико: грязная, лохматая шевелюра на голове, такая же нечесаная борода, закрывавшая почти всю грудь, глаза — раскосые, бегающие, зеленоватые, как у кошки. Он постоянно озирался по сторонам и вздрагивал, как затравленный зверек, при малейшем постороннем звуке.
Мне подумалось: если этот человек еще не сошел с ума, то недалек до такого состояния.
«Здравствуйте», — поздоровался я с Чижиковым.
В ответ он сказал невразумительное: «Чей-та?..» — «Ваша фамилия?» — «Фамилия моя, чей-та, Чижиков». — «Как вы себя чувствуете?»
Чижиков порой судорожно, как выброшенная на берег рыба, хватал ртом воздух.
«Чей-та?..» — «Вот что, Чижиков, — обратился к нему капитан Сошников, — вы здесь дурака не валяйте. Говорите как следует и только правду. Назовите правильно вашу фамилию, имя и отчество». — «Я же говорю, чей-та, я Чижиков Тимофей Назарович». — «А разве вы не Назар?» — строго спросил Сошников. «Нет, не Назар, у меня тятька Назар», — с трудом выдавил из себя Чижиков, блуждая глазами по сторонам. «Так вы действительно дезертир?» — спросил Сошников. «Он самый. Сдезертировал, чей-та. Дюже боялся. Убили б меня на фронте». — «Чего ж вы дожидались в тайге?» — «Дюже боялся, чей-та, расстрелу. Вот и сидел там». — «Эх ты, чиж лесной, — вздохнул, сознавая, видно, свою ошибку, Сошников. — Да знаешь ли ты, что твое преступление — дезертирство — уже амнистировано законом Верховного Совета. Тебя простили, а ты все сидишь и трясешься в лесу, путаешься у честных людей под ногами. Тебе это понятно?»
Но Чижиков молчал, низко опустив голову.
В это время в кабинет вошел следователь Мирончук и увел дезертира на опознание. Через полчаса Мирончук вернулся и сказал, что женщины уверенно признали в Чижикове того самого человека, которого в сентябре видели в зарослях дикого винограда. Затем он обратился ко мне: «Петр Петрович, так это не Дрозд Назар? Ведь вы, кажется, того видели когда-то?» — «Нет, это не Дрозд. Тот значительно крупнее… Впрочем, распорядитесь привести Чижикова в порядок — помыть, подстричь, побрить…»
Когда это было сделано, я окончательно убедился — передо мной не Дрозд Назар.
«Может, все же Дрозд? Только похудел, усох в лесу за три года?» — все еще не отступая от своего, спрашивал Сошников с робкой надеждой в голосе. «Нет, это не Дрозд». — «А как вы думаете, кем может быть Чижиков?» — спросил меня следователь Мирончук. «Вполне возможно, он действительно дезертировал в войну. А в тайге до крайности одичал, доведя свою нервную систему до истощения. Он, пожалуй, еще не понимает, что его преступление амнистировано. До него это как бы не доходит…»
На том наша совместная работа со следователем Мирончуком закончилась. Он стал готовиться к рейду с Чижиковым и охраной в Скалистый распадок. А мы с капитаном Сошниковым вернулись к розыску Дрозда Назара, не дожидаясь результатов проверки личности Чижиков а.
«Иван Федосеевич, — не без горечи упрекал я Сошникова, — поторопился ты — вот и ввел в заблуждение руководство, доложив ему, что напал на след Дрозда». — «Да, поторопился». — Вид у моего коллеги был мрачный. «В любом деле, а в нашем особенно, преждевременные выводы опасны. Ложный след действительно легко можно принять за настоящий и уйти куда-нибудь в дебри. Хорошо, что не так далеко ушли», — говорил я больше для успокоения и самого себя, и Сошникова. «Согласен с тобой», — хмурился он. «Вот давай и учтем этот горький опыт. Давай искать след настоящий…»
Вместе с подполковником Внуковым, начальником Сучанского райотдела МГБ, и другими его сотрудниками мы стали, как говорится, прояснять обстановку. Необходимо было незамедлительно узнать, нет ли Дрозда в Сучане. Если нет, то нам надо вести розыск в других местах — в Приморье, в Тамбовке, куда он, возможно, подался.
«Пора вызвать Мазун Матрену и строго спросить, и понаблюдать за ней дней десять. Это даст неплохой результат», — предложил капитан Сошников не без доли категоричности. «Но это только загонит хворь вовнутрь, — возразил подполковник Внуков. — Матрена может не сказать, где Назар. Напротив, может потихоньку предупредить беглеца. И тот еще дальше сбежит и получше укроется. Нужно придумать для прояснения обстановки что-то понадежней». — «Вполне логично, — поддержал я Внукова. — Матрена — женщина нелюдимая и замкнутая. Вряд ли она будет с нами откровенна, тем более если Дрозд скрывается где-то недалеко».
Но кого попросить пойти к Матрене, чтобы узнать, что ей известно о Назаре? Перед кем она может раскрыться? Известные нам ее сучанские знакомые на эту роль вроде бы не годились. Подумали об иногородних связях Матрены. Вспомнили ее сестру Устинью — женщину серьезную и понятливую. Идея эта показалась нам вполне приемлемой.
О своих новых соображениях относительно розыска Дрозда мы сообщили генералу Шишлину. Однако он никакой оценки им не дал, но вызвал меня одного в Хабаровск для личного доклада.
В Хабаровске меня ознакомили с письмом, пришедшим из Маньчжурии из советского представительства по репатриации русских эмигрантов. В письме сообщалось, что, беседуя с сотрудниками этого представительства, Терещенко-Дрозд Лукерья Елисеевна выразила большую благодарность за весточку от сына Игната и желание переехать в Советский Союз. Но для принятия окончательного своего решения просила сообщить, где находится ее муж, которого она не видела с 1945 года.
Генерал Шишлин, досадуя на то, что в розыске Дрозда Назара мы некоторое время шли по ложному следу, все же согласился организовать поездку Зайчиковой Устиньи в Сучан, если она, разумеется, не будет возражать.
Довольный таким исходом своего пребывания в Хабаровске, я уже собрался выехать отсюда — вдруг позвонил капитан Сошников. Он сообщил, как обухом по голове ударил: дезертир Чижиков сбежал. Сошников снова стал горячо и настойчиво доказывать мне, что Чижиков и есть разыскиваемый нами Дрозд Назар, что мы зря не дождались результатов проверки его показаний. Я как мог успокоил коллегу и поинтересовался, при каких обстоятельствах совершил побег Чижиков. Вот что произошло.
В Скалистый распадок следователь капитан Мирончук для конвоирования Чижикова взял двух солдат, которые там уже были, и милиционера. Следователь с одним солдатом шел впереди, за ними — другой солдат с Чижиковым, а милиционер замыкал эту цепочку. Все было хорошо, пока они шли по открытой местности и редколесью. Но вот втянулись в дремучую тайгу — порядок движения нарушился. Теперь каждый продирался сквозь заросли в одиночку, постоянно теряя соседа из виду. На одном из привалов солдат, находящийся возле дезертира, доложил следователю, что Чижиков дважды уклонялся в сторону, но был настигнут, хотя и с большим трудом. Солдат предложил опоясать дезертира десятиметровой длины шнуром от палатки. Под вечер, когда продирались через густой бурелом, солдат этот замешкался, чем и воспользовался Чижиков. Он развязал шнур, которым был опоясан, прикрепил конец его к дереву и попросил: «Эй, боец, давай малость отдохнем. Да и легкую нужду мне надо справить». И — за дерево. Солдат присел на валежник, подергивая шнур. А когда догадался пройтись вокруг того огромного кедрача — Чижикова и след простыл… Об этом разговоре с Сошниковым я доложил генералу Шишлину, и тот отсрочил мой выезд в Тамбовку до задержания Чижикова.
Через день Сошников сообщил, что показания Чижикова о себе и своих родных полностью подтвердились. А еще через сутки его задержали на небольшом приморском полустанке.
И вот я еду по уже знакомым местам в Тамбовку. Чугуевская тайга на этот раз грозно шумела от обильного снегопада и метелицы. Стоял ядреный морозец. Реки и речки надежно сковал лед…
Председателя сельсовета Бочарова я застал на его службе. Он хлопотал возле печки, заваривая чай.
«Здравствуйте, Демид Львович! — обратился я к председателю сельсовета. — Как вы тут поживаете?» — «О, кого я вижу, Петр Петрович! Рад видеть… Как живем? У нас все добре. Вот только погода не балует, Третий день так пуржит — белого света не видать…»
Отогревшись за чаем, я попросил Бочарова проводить меня к Зайчиковым.
Супруги встретили нас настороженно. Сидя на лавке, Зайчиков подшивал валенок, но сразу же засуетился — швырнул его под стол: «Ента-таво, Петра, что, это вы опять по наши души приехали в Тамбовку?» — «Побеседовать нужно с вами, Кузьма Данилович». — «Ну, я пошел. Буду вас в сельсовете ждать». — Постукивая деревянной ногой, Бочаров не спеша направился к двери.
А посреди избы, словно прислушиваясь к тяжелым председательским шагам, неподвижно стояла Устинья, задумчиво и тревожно поглядывая на меня.
«Устинья Елисеевна, — заговорил я, стараясь быть спокойнее. — Привез вам добрые вести. Ваша сестра Лукерья и младший ее сын Андрей в полном здравии. Находятся в Маньчжурии. Сестра хотела бы приехать к вам жить, однако…» — «Ой, боже мой, — запричитала Устинья, повернувшись к иконе, крестясь. — Спасибо за такое известие… Кузьма, спустись в погреб, неси сало, капусту, огирки… Все вместе поужинаем…»
Я понимал, что разговор предстоит напряженный.
«Лукерья согласна приехать в Тамбовку, — оказал я и сделал небольшую паузу. — Но… просила сообщить, где Назар. Она хочет жить всей семьей здесь, на родине. Но если Назар отыщется, а не пожелает в нашей стране находиться, Лукерья готова пойти на развод с ним». — «Правильно решает Лукерья, хватит ей мучиться с этим бродягой и душегубом», — с возмущением сказала Устинья. «Знамо, правильно, ента-таво, — поддакивал жене Зайчиков. — Пусть они едут к нам хоть сегодня». — «О Назаре вы что-либо слышали… после нашей встречи в октябре?» — приступил я к главному. «Нет, ента-таво, не слышали», — шмыгнул носом Зайчиков. «Устинья Елисеевна, мы предполагаем, что Назар мог появляться где-нибудь на юге Приморья. Скажем, во Владивостоке. Мог зайти в Сучане к вашей сестре Матрене. Возможно, она знает, где сейчас Назар?» — «Так вы у нее и спросите, она вам и расскажет», — опять заерзал на скамейке Зайчиков.
Устинья все молчала. От волнения ее лицо покрылось красными пятнами. Было заметно, что она напряженно о чем-то думает и не может на что-то решиться.
Я чувствовал, что наше мероприятие во многом будет зависеть от того, что она решит вот в эту минуту, какую займет позицию.
«Нет, Кузьма Данилович, — поспешил я ответить на реплику Зайчикова, как бы тем самым отстраняя Устинью от разговора и давая ей время окончательно все обдумать и определить свою позицию. — Это не так просто. Если Назар живет где-то недалеко от Матрены, да еще припугнул ее хорошенько, как и вас когда-то он пугал, то вряд ли она вот так сразу расскажет о нем. Так что Матрену нам, работникам госбезопасности, никак нельзя спрашивать о Назаре, она может его предупредить, и тогда он убежит еще дальше». — «Да, это так, ента-таво, — передернул плечами Зайчиков. — Назар — волк стреляный, и шутки с ним плохи». — «А как же тогда быть, что же делать?» — встревожилась Устинья. «У нас есть просьба к вам, Устинья Елисеевна. Не смогли бы вы поехать в Сучан, чтобы побеседовать с Матреной». — «Я?!» — вроде испугалась Устинья. — «Да, вы». — «Так ведь я не следователь, чтобы ее допрашивать». — «Устинья Елисеевна, допрашивать не нужно. Вы погостите у сестры несколько дней, расскажете ей свои новости, а Матрена вам свои, поговорите о Лукерье и Назаре, об их семье. Мы полагаем, что Матрена в таком разговоре и поведает вам, что знает о нем». — «А вы потом схватите Назара, и вся наша родня узнает, что я его выдала. Как же я буду родным в глаза глядеть?» — «С Назаром мы еще будем разбираться… Но заранее обещаем, что вы в этом деле останетесь в стороне… А главное — надо найти Назара, чтобы спасти его семью и чтобы он не совершил новых преступных дел. Вот мы и просим помочь нам». — «А что я скажу Матрене, когда она спросит, зачем я к ней приехала?» — «Вот об этом давайте вместе подумаем и найдем подходящую причину. У вас в Сучане какие-нибудь дела есть?» — «Какие там дела, никаких надобностев! Правда, вот скоро причина появится. Наш сынок Ваня этой весной срочную службу дослуживает. После демобилизации хочет поехать в Сучан на угольную шахту. Мы уж его от этого отговариваем, да он заупрямился, на своем стоит. Вот тогда я и могу поехать к Ване, а заодно и сестру увижу». — «Вы сейчас поезжайте. Поинтересуйтесь, как живут шахтеры, сколько зарабатывают, есть ли какие курсы, чтоб Ваня научился шахтерскому делу, где жить будет… Вот сколько набирается вопросов. К тому же проведаете сестру, поскольку давно ее не видели». — «Да и правда так можно сделать, — вздохнула Устинья. — А когда нужно ехать?» — «Завтра сможете?» — «Можно и завтра… И вы, Петр Петрович, туда поедете?» — «Да, поеду вместе с вами». — «А мы из тайги выберемся? Метель-то какая!» — «Брось, Устинья, об чем зря говорить! — вмешался в разговор Зайчиков. — Круглые сутки здеся снуют машины, из тайги лес вывозят. Дорогу пробили, ента-таво, до самой Даубихи».
Через день пурга приутихла, и на машине, которую нам прислал начальник Чугуевского райотдела МГБ, мы с Устиньей благополучно добрались до Даубихи, откуда поездом прибыли в Сучан. Перед тем как разойтись, договорились встретиться через сутки у городской почты.
«Где пропадал, Петр Петрович? Целую неделю от тебя ни слуху ни духу», — притворно ворча, встретил меня капитан Сошников. «Где же еще, в Тамбовке был. Туда за день-два не смотаешься». — «Ну и как съездил?» — «Вроде бы неплохо». — «Устинья согласилась?..»
Я ответил, что вместе с ней прибыл в Сучан и она отправилась к сестре на Соколиную Горку.
«Вот это здорово, скоро мы этот клубок размотаем!» — «Не спеши, Иван Федосеевич, нам еще придется попыхтеть. Назар — орешек крепкий. А что нового у тебя?» — «Существенного ничего, хотя все намеченные мероприятия проводятся». — «Чем закончилась история с Чижиковым?» — «С ним и смех и грех», — заулыбался Сошников.
Оказывается, когда на полустанке поймали Чижикова, два дня с ним беседовали, даже прокурор самым доходчивым образом объяснил, что совершенное им преступление амнистировано. Дознание по его делу прекратили. Но Чижиков так и уехал домой в Тульскую область, не веря, что его отпустили без наказания.
А вскоре нам удалось напасть на след самого Дрозда…
В условленный час возле почты я встретился с Устиньей.
«Здеся Назар, тут живет, в Сучане. Да где ему, псу окаянному, можно жить…»
Успокоившись, она рассказала: Назар заявился к Матрене год назад. Сказал ей, что прибыл из Маньчжурии с нашей воинской частью, чтобы разыскать своего старшего сына Игната. А тот вроде бы раньше убежал в Приморье, еще до окончания войны. И вот несколько лет ищет Игната. Теперь решил вернуться к семье в Маньчжурию. Однако, к удивлению Матрены, он почему-то устроился на работу в пошивочный цех быткомбината и перебрался от нее на жительство в шахтерский поселок к какой-то вдове. К Матрене заходит редко и только ночью, иногда встречаются они в столовой. Как поняла Матрена, Назар чем-то напутан, всего боится, похудел сильно, и лицо осунулось, ходит сгорбившись, уставясь в землю, словно что ищет. А может, людям в глаза боится глядеть…
Я поблагодарил Устинью за эту ценную информацию. Она, уже окончательно успокоившись, посоветовалась со мной — как ей быть с сынком Ваней: уговаривать ли его вернуться в Тамбовку или пускай уж идет на шахту. Я посоветовал не мешать парню самому выбрать свою жизненную дорогу. Мы договорились: Устинья еще немного погостит у сестры…
Вскоре выяснилось: Дрозд-Терещенко проживает без прописки у одинокой престарелой женщины — Заболотной Евдокии Сергеевны и действительно работает портным в бытовом комбинате. Живет тихо, замкнуто. Руководителя комбината отзывались о нем как о хорошем мастере и услужливом человеке. Работники комбината предоставили мне возможность взглянуть с целью опознания на Назара. Он с кем-то разговаривал неподалеку от меня, не подозревая, кто я такой». Да, это был, несомненно, он. Жизнь потрепала его изрядна — постарел и поседел до неузнаваемости. Однако крупное лицо его, сросшиеся у переносицы густые брови, массивную фигуру — все это нельзя было не опознать…
Мы доложили Хабаровску, что нашли Назара. Нас похвалили, но и строго предупредили: ни в коем случае не спугнуть его, действовать осторожно, продуманно. Предложили скорее установить причину его отсиживания в Сучане. Из Хабаровска нам выслали все материалы по этому делу.
Не так скоро удалось нам с Сошниковым, при активном содействии подполковника Внукова — начальника Сучанского райотдела МГБ — и других его сотрудников, нащупать подходящее средство быстрой и эффективной проверки Назара. И по этому поводу у нас разгорелось нечто вроде дискуссий. Мы снова и снова возвращались к изучению материалов. Все это — а также наблюдения за Дроздом — помогло найти необходимую зацепку.
Однажды Дрозд на крыльце быткомбината поздоровался за руку с молодым моряком. Им оказался разбитной снабженец Находкинского морского торгового порта Редькин Вадим Семенович. По долгу своей службы он частенько наведывался на комбинат. Здесь шили рабочую одежду для матросов. С Редькиным мы побеседовали. Он оказался человеком общительным и доверчивым, возможно, даже слишком. Он встречался с мастером Терещенко (Дроздом) в мастерской и у него на квартире. А однажды детом 1948 года мастер попросил Редькина показать ему океан, который он никогда не видел, и они вскоре побывали в Находке. При каждой встрече Терещенко задабривал снабженца, дорогим коньяком угощал, а заказы по шитью матросской робы выполнял раньше намеченных сроков…
«Видно, не зря это делал?» — спросил Редькина подполковник Внуков. «Да, конечно, — ответил тот, конфузливо улыбаясь. — Теперь я понимаю, почему он это делал».
Однажды Терещенко пригласил Редькина к себе домой — на уху. Тот согласился. В чистом уютном частном домике их встретила его хозяйка — престарелая вдова Евдокия, которая тут же ушла в свою комнату. Постоялец растопил плиту, и через час на столе дымилась кастрюля с духмяно пахнущей рыбой… На дворе уже стемнело, накрапывал холодный осенний дождик. Подвыпив, Терещенко открыл, как он выразился, свой маленький секрет — как добывает кету и другую ценную рыбу. На одном из мелководных перекатов реки Сучан он сооружал преграду из плетеного ивняка и камней и отсюда прорывал отвод в неглубокую яму. Рыба металась возле преграды и вскоре, ошалев, оказывалась в ловушке. Орудуя острогой, Терещенко брал рыбины на выбор — какие хотел и сколько хотел.
После ухи он проводил гостя до автобусной остановки. Часто озирался по сторонам, рассказывая о себе. Мол, родился в Сибири, во время гражданской войны колчаковцы мобилизовали его, и пришлось вместе с ними бежать в Маньчжурию. Там женился. С приходом туда в сорок пятом году Красной Армии устроился портным в воинскую часть и с нею прибыл в Приморье. Рассчитывал вызвать сюда семью. Но тут у него не было, как говорится, ни кола ни двора, а в Маньчжурии — обжитой угол, клочок земли. Прикинул, поразмыслил — маху дал, решил вернуться назад. Но местные власти, к которым он якобы обращался, не разрешили выехать за границу. А писать в Москву — дело хлопотливое. Как бы не вышло чего. Вот он и попросил Редькина найти в Находке моряка, который бы помог ему бежать в Китай, божился, что щедро вознаградит и того моряка, и Редькина. Тот опешил от такой просьбы, растерялся даже и сразу не отказал нужному человеку, а потом стал водить его за нос, заявляя, что, мол, подходящий моряк еще не нашелся.
«Значит, Терещенко все еще ждет моряка?» — спросил Редькина капитан Сошников. «Да, ждет». — «А куда он хочет уйти на корабле?» — «Он говорил, что желал бы попасть в китайский порт Циндао». — «А разве не в Дальний?» — «Нет, хорошо помню, что речь шла о Циндао». — «Почему именно туда?» — «Он этого не объяснил».
Редькина мы попросили не разглашать содержание этой беседы и с ним на время расстались.
Разумеется, мы соблюдали большую осторожность, чтобы не спугнуть и не упустить насторожившегося преступника.
Глава VIII
СЫН ДАЕТ СОВЕТЫ ОТЦУ
— Итак, мы решили взять под стражу Назара Дрозда-Терещенко.
При обыске у арестованного обнаружили значительную сумму золотых червонцев и несколько справок с мест его работы в 1945–1947 годах в Приморье, до приезда в Сучан. Затем его доставили в райотдел МГБ, где объяснили, какими правами он пользуется как подследственный и каковы его обязанности согласно закону. Здесь же его и допросили.
«Вам предоставляется возможность чистосердечно рассказать следствию о совершенных преступлениях против Советского государства», — с этого начался допрос. «Никаких преступлений я никогда не совершал, и мне нечего рассказывать», — с ходу отпарировал Назар. «В 1945 году вас задержали в Маньчжурии за шпионское сотрудничество с японской разведкой против СССР. Но вы сбежали из-под стражи. Расскажите, с какой целью вы совершили побег?» — «В Маньчжурии я никогда не был, вы меня с кем-то путаете». — «У вас есть семья?» — «Была жена и два сына». — «Где они проживают сейчас?» — «Я давно потерял с ними связь. Где они — не знаю». — «Назовите правильно свою фамилию». — «Я Терещенко». — «Вы не Терещенко, а Дрозд, так ведь?» — «Какой я вам Дрозд, что вы на меня наговариваете!» — «Достаточно точно установлено: вы Дрозд Назар Архипович. Почему отказываетесь от своего имени?» — «Если вы все знаете обо мне, зачем спрашиваете?! Сразу судите и расстреливайте! — заскрипел он зубами. — А я больше ничего объяснять не хочу и не буду».
Он отказался от дачи показаний, и мы были вынуждены составить соответствующий протокол.
Мы понимали: внезапный арест застал Дрозда врасплох. Он растерялся и никак не мог определить, какую позицию надо занять на допросах, что признавать, а от чего пытаться уходить подальше. Поэтому он и решил все предъявленные ему обвинения огульно отрицать и даже вообще отказываться давать показания, выигрывая тем самым время для обдумывания сложной для него обстановки.
Мы поездом доставили арестованного во Владивосток, а оттуда — попутным специальным вагоном в Хабаровск.
Перед самым отъездом из Сучана я и капитан Сошников проведали старшего лейтенанта Сергея Чебану, повредившего ногу во время поиска в Скалистом распадке. Сергей пока ходил только по палате с помощью костылей. Его лечащий врач на наш вопрос, не грозит ли Сергею хромота, заулыбался: «Будет все хорошо. Старший лейтенант еще побегает. Скоро снимем гипс…»
Следствие по делу Терещенко-Дрозда было поручено опытному и волевому следователю подполковнику Мазаловичу Ивану Кузьмичу. Меня обязали помогать ему, а капитан Сошников отбыл на место своей постоянной службы.
Недели две Назар (Дрозд) держался на следствии вызывающе: отказывался подписывать протоколы допросов и отвечать на вопросы, которые ему «не нравились». Случалось, передавал нам через администрацию тюрьмы свои «ультиматумы», чтоб его не вызывали на допрос. Действительно, в такие дни встречаться с ним было бесполезно: от разговора уклонялся, показаний не давал. А во время беседы с военным прокурором не без бравады сказал:
«Гражданин начальник, я знаю: вы мне подготовили вышку — и пощады не жду. Зачем же я буду давать еще какие-то показания? Давайте кончать комедию».
Истерика обвиняемого была вызвана его отчаянием и страхом перед грозящей расплатой за совершенные преступления. Выигрывая время на затягивании следствия, он лихорадочно искал пути и средства к спасению, но не находил их.
А следствие было озабочено тем, чтобы, проявляя выдержку, помочь обвиняемому стать на путь признания и раскаяния, что, разумеется, не могло не отразиться на решении суда. Но пока что ничего не получалось.
Пока Назар бесновался и отмалчивался на допросах, расследование его дела не стояло на месте: уточнялись и документировались факты преступных деяний обвиняемого, проверялась его личность. В архиве МВД по Томской области удалось обнаружить уголовное дело, из которого можно было узнать, что Дрозд Назар Архипович родился в 1891 году в деревне Заполье Брянской губернии. В 1911 году осужден за убийство помещика к 14 годам каторжных работ. В 1919 году колчаковцы освободили его из каторжной тюрьмы, как добровольно пожелавшего пойти на службу в их армию.
Органы милиции, по нашей просьбе, в одном из стойбищ в верховьях реки Иман нашли людей, знавших гольда Максимку, который, по их объяснениям, погиб где-то в тайге. Время гибели и приметы пострадавшего совпадали с показаниями по этому вопросу Зайчикова.
Жене Дрозда через советское представительство по репатриации русских эмигрантов из Маньчжурии сообщили, что ее муж находится в Советском Союзе под следствием. Она сразу же заявила о своем намерении переехать вместе с младшим сыном Андреем в СССР…
Архивные документы полностью подтверждали сотрудничество Терещенко-Дрозда с японской разведкой в Маньчжурии…
Проходил день за днем — обвиняемый на допросах продолжал отмалчиваться. И все же ключи и к нему удалось подобрать, сделал это следователь подполковник Мазалович, неизменно согласуя свои действия с руководством управления и военным прокурором.
В тот день Мазалович уже заканчивал свой очередной бесполезный допрос обвиняемого. Перед самой отправкой его в камеру вдруг спокойным тоном проговорил: «Между прочим, вас хочет повидать ваш сын. Как вы к этому отнесетесь?» — «Какой сын? Что вы опять сочиняете?» — «Ваш старший сын Игнат». — «Што?! Игнат?! — закричал Назар. — Разве живой?! Как он здесь оказался?!» — «Игнат жив и здоров и желает встретиться с вами».
Назар, казалось, лишился дара речи.
«Ну ладно, подумайте. Дадите мне ответ на очередном допросе».
После этого разговора случилось так, что следователь, занятый другими делами, два дня не имел возможности встречаться с обвиняемым. А тот между тем уже сам несколько раз напрашивался на допрос, заявляя администрации тюрьмы, что хочет давать показания.
Кунгурцева — Игната Назаровича Дрозда — этапировали в Хабаровск и там побеседовали. Он согласился встретиться с отцом. И вскоре их свидание состоялось.
Юридически встречу оформили как опознание Игнатом своего отца, поскольку последний все еще продолжал отрицать, что является Дроздом. Официальная процедура опознания заняла не более десяти минут, а протокол — половину листа. Но встреча, проходившая в следственной комнате тюрьмы, длилась несколько часов. Тогда и произошел перелом в настроении арестованного — Назара Дрозда.
Отец и сын, словно не замечая следователя, испуганно и удивленно, во все глаза, смотрели друг на друга, потом уселись рядом на табуретки.
«Где сейчас живешь, сынок, и как сюда попал?» — «Разве ты не знаешь об этом? Я ведь по твоей милости и по требованию японцев пробрался сюда, в Советский Союз. Через несколько месяцев меня поймали и судили за сбор шпионских сведений для японской разведки». — «Сколько же тебе дали?» — «Осудили меня на семь лет, из них я больше половины уже отбыл». — «Где ты живешь? Я гляжу: такой упитанный и справный. Да и костюм на тебе что надо». — «Нахожусь в исправительном лагере, работаю там на лесокомбинате. На заработанные деньги кое-что покупаю. Вот — этот костюм, ботинки. А ты, отец, все борешься с Советами?» — «Нет, сынок, я давно ни с кем не борюсь, но чувствую, что запутался, не знаю, как быть…» — «Ты ведь скрывался от Советских властей?» — «Да, сбежал я в 1945 году и петлял, как заяц, пока не взяли». — «Зачем же укрывался, почему не повинился?» — «Боялся, что расстреляют и будут мстить нашей семье. В этом меня убеждали японские разведчики». — «Нет, отец, думаю, ты делал не то, что нужно. Я на себе испытал, что советские органы власти поступают гуманно, если человек, совершивший преступление, искренне раскаивается. Отец, а что ты знаешь о маме и Андрее?» — «С 1945 года ничего о них не знаю. А что тебе известно?» — «От следователя узнал, что мама и Андрей в Мишани, подали заявление на переезд сюда. Приютят их, пока обживутся, тетка Устинья и дядя Кузьма Зайчиковы. Я думаю, они правильно поступили…» — «Ой, горе мне, — застонал Назар, — запутался я окончательно, семью подвел. Сынок, прости меня, грешного, это я тебя в тюрьму закатал. Нету мне пощады… — Немного успокоившись, спросил: — Сынок, вот кончится твой срок, что будешь делать дальше, как жить?» — «Для меня все теперь ясно. Выйду из лагеря, буду помогать маме и Андрею. Буду работать, возможно, еще поучусь, здесь ведь многие учатся». — «Ну а я пропал, сынок. Натворил глупостей много, от них не уйдешь, нужно расплачиваться сполна. Не поминайте меня лихом, не осуждайте сурово», — с трудом проговорил Назар и разрыдался. «Не убивайся так, отец. — Голос Игната дрожал. — Постарайся переломить себя, будь во всем искренним, и ты еще заслужишь какое-то снисхождение…»
После встречи с сыном Назар стал покладистее, тише. Порою на него накатывалась хандра и терзало чувство безысходности, но рассказывал о себе, правда, все, каялся в совершенных преступлениях, словно на исповеди: «Засосала меня в это болото жадность. Хотелось разбогатеть любым путем…»
Так снималась маска с лица человека, жестокого и корыстного…
На одном из допросов следователь спросил арестованного: «Как же вы, сын бедного крестьянина, столь натерпевшийся от несправедливости помещика, пошли на службу иностранной разведке, действовали во вред рабочим и крестьянам родной страны?»
Назар долго молчал, но потом взглянул исподлобья на следователя, развел руками: «Да нешто я вот так, по своей воле и желанию все делал?» — «А разве вас кто неволил совершать преступления?» — «Нет, никто меня не заставлял, но… постепенно болото засосало…» — «Вот и расскажите правдиво, как все случилось». — «Сказ мой недлинный! — в отчаянии махнул рукой Назар. — Да, может, вам все уже известно…»
Он довольно полно сообщил следствию о себе: как убил помещика Нудилина, как отбывал каторгу, рассказал о службе в колчаковской армии, об уходе вместе с Афанасием Черных в приморскую тайгу…
«Почему вы сбежали с семьей в Маньчжурию?»
На этот вопрос Назар ответил, что, после того как от его руки погиб гольд Максимка, Зайчиков, будучи свидетелем той гибели, не на шутку перепугался и раболепно прислуживал убийце. Однажды, вернувшись из тайги, рассказал, что какой-то гольд ищет Максимку и плутает у Рокотуна. В разговоре с Зайчиковым гольд сказал, что след пропавшего потерялся недалеко от родника, и поинтересовался, в какой обувке Назар ходил в ту пору по тайге. И Назар понял, что ему грозит смертельная опасность: гольды — исключительно пытливые следопыты и очень мстительны. Они, видно, уже напали на его след.
Это была первая причина бегства Назара в Маньчжурию. Была и другая. Тот же Зайчиков в январе 1930 года, будучи своим человеком среди бедняков Тамбовки, узнал от них, что Назара хотят раскулачить. Сельсовет вроде бы вынес такое решение и направил его на утверждение в райцентр — в Чугуевку. Вот тут Назар и заметался. Проводил ночи без сна — в раздумьях, что предпринять.
Тогда и вспомнил своего старого знакомого — охотника Горбыля Леона, который жил в приморском городке Бикине и который водился с контрабандистами. Назар поехал к нему за советом. Горбыль тогда сильно сдал: постарел, поседел, совсем забросил таежный промысел. Усох в щепку. Назар почувствовал, что Горбыль чем-то обеспокоен.
«А ты иди, Назар, и повинись перед властями, — посоветовал усмехаясь Горбыль. — Да отдай людям лишнее богатство. Так тебя простят и не тронут…» — «Где же правда, Леон? — вскипятился тогда Назар. — Неужели добытое своим горбом добро, этими вот мозолями, я должен сам отдать кому-то?!» — «А ты тут не кричи, ежели пришел советоваться. Знаю, каким горбом ты нажил свое богатство! — посуровел Леон. — Тебе еще долго надо отмывать свои руки и каяться за погубленные души…»
Назар растерялся, не зная, с какой стороны к тому подступиться.
«Допустим, Леон, отдам властям свое имущество. Все равно там мне не жить — доконают гольды». — «Чего же хочешь от меня?» — «Вот что сделай, Леон. Устрой меня жить вместе с семьей в Бикине, может, как родича или еще как. Век не забуду доброты, отквитаюсь». — «Нет, не могу тебя здесь устроить. До меня тоже власти подкапываются — за контрабанду. А еще вот что: если гольды напали на твой след, то они найдут тебя и в Бикине, пощады от них не будет. Вот что присоветую. Не жалей золотишка. Найдутся китайцы — запросто переправят тебя в Маньчжурию. Там и спасешься от Советских властей и от гольдов. Торговлей займешься и заживешь, как барин…»
Леон, видно, хотел подальше спровадить Назара, который знал о его нехороших проделках в тайге и на границе.
Через несколько дней после этой встречи Назар спешно распродал нажитое свое добро и, прихватив кое-какое барахлишко, а также половину золотых монет (остальные на всякий случай закопал в пещере), с семьей приехал на собственной лошади в Бикин. Хунхузы сорвали с него добрый куш и в темную ночь по замерзшей реке Уссури провели его на ту сторону границы — в Маньчжурию.
«А куда девался Афанасий Черных?» — вдруг спросил следователь, и Назар заерзал на стуле. «Афоня утоп зимой в Имане… Под лед провалился». — «Где вы взяли золотые червонцы, которые у вас были изъяты при аресте?» — «Наторговал у хунхузов за женьшень и пушнину». — «По-вашему, получается, что китайские контрабандисты носили в тайгу золото для скупки пушнины и женьшеня, но так не могло быть. Где вы все-таки взяли золото?» — «Возможно, хунхузы нашли клад в лесу, почем я знаю». — «Тогда зачем они несли бы за границу не найденное золото, а скупленные на него товары? Ведь с золотом им сподручнее было возвращаться домой!» — «Не знаю, почему они так делали». — «Напрасно путаете свои показания. Ведь обещали говорить только правду. Следствию известно, что вы не наторговали золотые червонцы, а добыли их при других обстоятельствах. Рассказывайте правдиво об этом».
Назар вспыхнул, зашипел: «Раз вы знаете, где я взял червонцы, зачем спрашивать?» — «Расскажите, почему вы убили Афанасия Черных?»
Назар, конечно, ждал этого вопроса — снова начал юлить и скрытничать. Рассказывал небылицы, пытаясь уйти от правдивого признания, а потом, наконец запутавшись, все-таки вынужден был выкладывать правду.
…В 1920 году Назар и Афоня добрались до уссурийской тайги и к концу уже первой зимы неплохо здесь зажили. В глухом распадке, на берегу притока Имана, оборудовали зимовье. Афоня оказался искусным охотником. Вскоре у них скопилось немало ценных шкурок. Здесь же, в тайге, у хунхузов они выменивали на пушнину продукты, порох, а также рисовый спирт. Богатые хунхузы нанимали рикшей-спиртоносов, которые таскали за спиной в кожаных мешках плотно закрытые жестяные жбаны с этим спиртом. Его доставляли таежникам — русским и гольдам, находящимся в зимовьях.
Однажды Назар и Афоня выменяли у хунхузов большой жбан спирта — литров на двадцать. С той поры вся их жизнь словно перевернулась. Еще недавно честные охотники-добытчики, начав пьянствовать, превратились в подонков. Пили беспросыпно, неделями подряд. Спирт кончался — опять искали спиртоносов или перекупщиков. Охоту, конечно, забросили. Когда запасы пушнины иссякли, стали подкарауливать на таежных тропах и грабить хунхузов. Однажды ранним утром встретили на перевале двух хунхузов с большими мешками за спинами. Припугнув оружием, отобрали пушнину, надеясь променять ее потом на спирт. Хунхузы безропотно отдали грабителям мешки и уже собирались юркнуть в чащобу, радуясь тому, что остались живыми. Но Назар вдруг увидел на одном из них добротный теплый пиджак с рыжим лисьим воротником — решил забрать его. Хунхуз, бормоча и ругаясь, никак не хотел отдавать одежину. Назар дернул за воротник пиджака, тот затрещал по швам — и на земле брызнули засверкавшие на солнце золотые монеты. Назар кинулся собирать их, но хунхуз прыгнул на него, пытаясь ударить ножом. Нерастерявшийся Афоня стукнул хунхуза прикладом ружья по голове — удар оказался смертельным. Второй хунхуз бросился бежать, но Афоня догнал и связал его. Грабители обшарили одежду контрабандистов и нашли шесть золотых червонцев царской чеканки, зашитых в воротниках и лацканах пиджаков. Золото было поделено поровну.
Оно и распалило страсти, разожгло в приятелях волчий аппетит. Они начали допытываться у оставшегося в живых хунхуза, где взял золото. Но тот почти не говорил по-русски. Кроме слов «моя-твоя» и «туда-сюда», ничего другого не произносил. Кое-как грабители поняли, что у хунхуза есть жена и шестеро детей, живет бедно и очень просит отпустить его домой. Но они увели пленника в свое зимовье. Тут хунхуз разговорился и с грехом пополам объяснил, что выменял золото за спирт в таежном селе, и согласился показать это село, если хунхуза потом отпустят. Он повел Назара и Афоню в верховья реки Ваки и в селе Веденеевке указал на дом, где раздобыл золото. Хунхуза отпустили. А сами Назар и Афоня несколько дней бродили возле села Веденеевки под видом охотников, наблюдая за «золотым домом». А в августовскую ночь проникли в него. Здесь у одинокой старой женщины — хозяйки дома нашли прибежище, скрываясь от властей, два колчаковских офицера. Один из них во время схватки был убит, а второй под страхом смерти отдал грабителям объемистую сумку с золотыми червонцами. Завладев ими, прикончили и его, а заодно и старуху как ненужных свидетелей. Надо полагать, что эти офицеры бежали в тайгу после разгрома белогвардейских войск, ограбив где-то банк или войсковую казну. В таежной Веденеевке они бражничали, играли в карты, затаившись до лучших времен. Но краденое золото ни им, ни Назару с Афоней не пошло впрок. Уйдя подальше от Веденеевки, в непролазной таежной чащобе те принялись за дележ добычи. А перед этим — по случаю неслыханной удачи — выпили спирту и крепко погрызлись. И тут дело дошло до кровопролития — опять же из-за золота. Назар вытаскивал из сумки червонцы и делил их поровну, складывая в две кучки. Когда сумка опустела, Афоня потребовал, чтобы Назар вывернул карманы своих штанов — он, дескать, утаивал от него деньги. Назара не только оскорбило это требование его дружка-приятеля, но больше насторожило: тот просто искал зацепку для драки. Он было сунул руку в карман Назара, но тот с силой отпихнул его. Афоня упал на землю, видать, ушибся. Вскочил и с ножом кинулся на Назара, который тоже успел выхватить нож из кожаных ножен, висевших у пояса, изловчился и полоснул по горлу Афони.
«Вскорости тот скончался, — давал показания следователю Дрозд Назар. — Вот так Афоня и погиб — из-за своей жадности». — «А не из-за собственной ли жадности вы убили его?» — «Нет. Если бы Афоня не напал на меня с ножом, я бы его никогда и пальцем не тронул. Афоня просто придирался ко мне. Он лишился рассудка, глядя на такое количество золота, и хотел его все забрать. Он все равно бы не выпустил меня живого из тайги с деньгами. Потому и говорю — его сгубила жадность». — «Значит, вы убили Афоню? Что дальше было?» — «Конечно, убил, но не по своему желанию, а когда отбивался от его наскока. Я привязал большой камень к телу Афони и сбросил его в речку, оно и потонуло. Потом спрятал в двух местах золотые червонцы и больше месяца жил в старом нашем зимовье, боясь один показываться в Тамбовке, чтобы власти меня не заподозрили в убийстве Афони и колчаковских офицеров. Потом заявился в Тамбовку, где вскорости женился и завел хутор». — «Кто знал в Тамбовке, что вы готовились бежать за границу?» — «Знал только Зайчиков. Он уходил из дому вроде бы на охоту, а сам, по моей просьбе, помогал мне гнать скот, возить птицу и вещи на распродажу в разные деревни. Перед Зайчиковым я открылся полностью — знал: меня он никогда не выдаст». — «Как относилась к побегу ваша семья?» — «Жена немного поплакала да и согласилась, потому как деваться ей было некуда. А малые дети еще ничего не соображали». — «С чего началось ваше сотрудничество с японской разведкой?» — «Свой побег за границу я уже давно считаю большой глупостью. Натерпелся я там всего — лучше бы меня самым строгим образом наказали в России…»
…Сперва семья Назара осела в городе Хулине. Здесь батрачили у богатого китайца, жили в крохотной фанзе. Хотя у Назара были деньги, но не купил дом с огородом: не знал еще китайского языка — не мог ни о чем с местными жителями договориться. Правда, в городе были русские эмигранты, но довериться им, как и китайцам, и показать золотые монеты он боялся. Живя на скудный свой заработок, золото запрятал подальше.
Зимой 1931 года уехал в Мулин, где устроился откатчиком на угольную шахту. Среди конторщиков шахты были русские эмигранты — с их помощью сумел обменять часть червонцев на юани. Тогда и купил домик с огородом и небольшим садом в Мишани и перевез туда семью.
Не успел Назар мало-мальски обжиться на новом месте — Маньчжурию захватили японцы и стали наводить в ней свои порядки. К ним он с трудом приспособился. Новые власти быстро пронюхали, что он прибыл из Советской России и тайком обменял золотые червонцы на китайские деньги. Его арестовали, заподозрив в шпионаже, и бросили в лишучженьскую тюрьму. Он признался японцам, какие мотивы заставили его покинуть родину — ему не верили: допрашивали и пытали, требуя признания, что он советский разведчик. Продержали в тюрьме около года. Однажды его допрашивал японский офицер, который, разговаривая на ломаном русском языке, предложил Назару сотрудничать с японской разведкой. Тот готов был согласиться на все, лишь бы вырваться из кошмарного застенка.
Воля Назара таким образом была сломлена. Его выпустили из тюрьмы и познакомили с белоэмигрантом — бывшим колчаковским поручиком Симачкиным Савелием. Назар вместе с ним должен был выявлять среди русских эмигрантов и местных жителей лиц, недовольных японским режимом. А их было так много, что новоиспеченному агенту не составляло большого труда выполнить это задание. Да и японцы неплохо платили. Усердная провокаторская деятельность Назара была оценена по достоинству: он вскоре завоевал у японцев такое доверие, что ему поручили роль резидента… В 1940 году он совершил в этом качестве шпионскую ходку по заданию японской разведки в советский Приморский край.
Эта шпионско-подрывная деятельность обвиняемого была достаточно полно вскрыта и задокументирована еще раньше, при ликвидации японской военной миссии в Лишучжене в 1945 году и при расследовании преступлений захваченных разведчиков и агентов этого органа…
«Как же вы пошли на то, что втянули в шпионаж своего сына Игната?» — «Каюсь. Это моя самая большая подлость. Да, я склонял сына к работе на японскую разведку. Но сделал это вынужденно…»
В 1944 году японских милитаристов залихорадило. Они понимали, что под натиском Советской Армии приближается крах их союзника — фашистской Германии, после чего и Японию постигнет та же участь. Вдоль советской границы, в районе Маньчжурии, строились мощные оборонительные сооружения. Укреплялась шпионско-диверсионная сеть, так как японцам прежде всего необходимо было знать о готовности советских войск нанести удар по Квантунской армии. На нашу территорию засылались с разведывательными целями всякого сорта агенты… Вот в это самое время руководитель японской военной миссии Ясудзава и приказал Дрозду Назару, как резиденту, подобрать новых агентов для ходок в СССР. Для таких дел подошли тяжелые времена. Русские эмигранты времен гражданской войны уже состарились для дерзких шпионских вылазок. А эмигрантская молодежь оказалась тоже ненадежной, так как прониклась патриотическими настроениями, восторгаясь победами нашего народа в борьбе с фашистскими оккупантами. За солидную сумму денег Дрозд Назар склонил для заброски в Приморье нескольких молодых русских эмигрантов (из числа завсегдатаев ресторанов и кабаре). Но Ясудзава вскоре забраковал их, заподозрив, что, попав в Советский Союз, они явятся там с повинной и от задания уклонятся. К тому же эти гуляки и тунеядцы не имели порядочных родственников, которые дорожили бы ими и которых японцы могли бы держать у себя заложниками.
«Время идет, а ты топчешься на месте! — кричал на своего верного агента Ясудзава. — Если не можешь никого найти, иди сам к Советам и добудь мне нужную информацию, хоть из земли вырой». — «Господин начальник, — умолял Назар своего шефа, — когда я был помоложе, не боялся ходить на территорию Советов. Приносил для вас все, что вы хотели. Теперь стар для таких прогулок через границу». — «Тогда пошлем твоего сына! — ощерился Ясудзава. — Он ведь уже взрослый. А ты у меня будешь заложником. Видишь, как хорошо все складывается».
Следователь продолжал допрашивать Дрозда Назара: «Ваш сын Игнат на допросах показал, что вы сами обрабатывали его в антисоветском духе, прежде чем познакомить с японскими разведчиками. Почему же утверждаете, что японцы вынудили вас привлечь сына к шпионажу?» — «Игнат показал правду. Я действительно после того разговора с Ясудзавой стал при сыне плохо отзываться о порядках в Советском Союзе. Тем самым исподволь готовил его к сотрудничеству с японской разведкой. Но откажись я выполнить волю шефа, тот бы запросто расправился со мной, с Игнатом и со всей нашей семьей. Шутки с японцами были плохи, а защиты у нас — никакой». — «Кто готовил и забрасывал вашего сына в советское Приморье и с каким заданием?» — «Этого я точно не знаю. Когда Игната увезли из Лишучженя, я знал только то, что он находится в Харбине. И лишь после капитуляции Японии Симачкин однажды сказал мне, что он участвовал в переброске Игната в Советский Союз в районе Имана осенью 1944 года. До этого он помалкивал про ту заброску. Спросить Ясудзаву о сыне я не мог, не полагалось». — «Как вел себя Ясудзава, когда его задержали?»
Дрозд Назар рассказал, что Ясудзава, попав в Лишучженьскую тюрьму, пал духом, ожидая избиений, истязаний, расстрела. Но ничего этого не было, с ним, напротив, обращались даже вежливо. И японец быстро пришел в себя и даже обнаглел — стал обдумывать побег. Тюрьма была сравнительно небольшой: состояла из двух рядов камер, разделенных коридором. По замыслу ее строителей-японцев в коридоре должен был находиться надзиратель, чтобы подслушивать разговоры заключенных. Но советская контрразведка, не зная об этой хитрости, выставила тогда для охраны задержанных только наружный пост, и Ясудзава пытался подговорить их напасть на охрану, уничтожить ее и бежать в сопки, в отряд поручика Симачкина. Однако Ясудзаву никто не поддержал. Он еще некоторое время тешил себя надеждой, что сам Симачкин со своим отрядом освободит арестованных. Но вот этот отряд разоружили, и Симачкин оказался тоже в тюрьме. Среди задержанных прошел слух, будто скоро их отсюда увезут. Тогда Ясудзава начал разрабатывать план побега во время конвоирования, полагая, что их отправят на следствие и суд в Харбин. Но 14 августа 1945 года, за час до начала эвакуации из Лишучженя, он узнал, что их намерены доставить не в Харбин, а в Приморье. И опытный, изобретательный разведчик пошел еще на одну хитроумную уловку.
«Она, эта уловка, заключалась в следующем, — рассказывал следователю Дрозд Назар. — Ясудзава кинул советским офицерам приманку. Сказал им, что я, Терещенко, живу под чужой фамилией и что моей подлинной фамилии он якобы не помнит, хотя помнил очень хорошо. Шеф раскинул умом так: нас обоих после такого заявления оставят на месте для разбирательства. И тогда объявится какая-нибудь зацепка для побега. Но нас, моего шефа и меня, увезли в СССР вместе со всеми арестованными. В дороге шеф часто просил остановиться для отдыха. Охрана заподозрила неладное и внимательно за ним приглядывала. А в Гродеково он даже попытался бежать. Он подговаривал бежать из-под стражи и меня: дескать, все равно и мне крышка. Очень хотел он, самурай-фанатик, пробраться в район военных действий, чтобы еще поработать на Японию». — «Значит, и в 1945 году вы пытались бороться с Советским Союзом, бежав из-под стражи?» — «Нет, тогда я уже ни с кем не думал бороться. Но когда во время обеденного привала на пути из Гродеково незаметно отошел в сторонку, то у меня вдруг появилось желание еще пожить — вот и попытался бежать. Я прилег за куст, пополз помаленьку к лесочку. Так и удалось уйти. Потом ночами шел в сторону железной дороги, а днем отдыхал. Поездом добрался до Бикина — к Горбылю. Хотел еще раз упросить его помочь мне бежать за границу. Однако его не застал в живых. До самого дня моего ареста я все искал пути ухода за границу. Но безуспешно». — «Так почему вы бежали из-под конвоя?» — «Я уже говорил: хотел еще пожить, потому как от японцев слыхал: пощады мне на моей родине не будет».
С первых же дней задержания Дрозда Назара следователь и мы, оперативники, добивались выяснения двух наиболее важных в этом деле вопросов. Первый — не сотрудничал ли обвиняемый с колчаковской разведкой и не был ли оставлен ею в Приморье в 1920 году вместе с золотыми деньгами. И второй — известна ли обвиняемому агентура японской разведки, засланная в Приморье или в другие места Советского Союза.
Вопросы эти имели самое прямое отношение к обеспечению госбезопасности нашей страны, и мы, работая, не щадили себя, чтобы дать на них точнейшие и исчерпывающие ответы.
Для выяснения первого вопроса наряду с допросами Дрозда Назара была тщательно, как бы поточнее сказать, проработана вся жизнь его — от дня рождения до ухода в 1930 году за границу. Мы считали очень важной вехой той жизни — освобождение Дрозда Назара из Томской тюрьмы в 1918 году. Досконально изучались обстоятельства этого освобождения и люди, причастные к нему. Нас очень интересовало: действительно ли в 1919 году Назар обучался в Омске военному, а не разведывательному делу и действительно ли был на фронте в линейной, а не в разведывательной части. Дотошно мы изучали и то, как он жил в чугуевской тайге в 1920–1930 годах, чем занимался, какие имел встречи и знакомства…
Удалось уточнить и факт убийства Дроздом и Черныхом в селе Веденеевке двух колчаковцев. Такой случай был, там даже по свежим следам производилось расследование и возбуждалось уголовное дело. В убийстве белых офицеров обвинили лесничего Митрошкина, который иногда играл с ними в карты. Но вину его не доказали, личности убитых установить не смогли, и дело прекратили.
Проштудировали мы и архивы белых, захваченные в Сибири, Забайкалье и Маньчжурии, допросили многих бывших белогвардейцев — не выявилось никаких данных, которые бы свидетельствовали о том, что Дрозд-Терещенко сотрудничал с колчаковскими спецслужбами.
Прояснение второго вопроса, который при разбирательстве дела Дрозда-Терещенко весьма осложнился, потребовало от нас не меньшего напряжения.
Глава IX
СОРНЯКИ УДАЛЯЮТСЯ С КОРНЯМИ
Подошло время последнего выступления Петра Петровича перед курсантами. Поднявшись на трибуну, он, как всегда, пристально посмотрел в зал, улыбнулся. Он был удовлетворен тем, что аудитория ждала его с напряженным вниманием и что удалось заметить приветливый взгляд курсанта Жени Гладких, недавно прибывшего на учебу из таежной Тамбовки, а также мягкую улыбку, словно светившуюся из-под аккуратно подстриженных усов, майора Григория Таранихина, приглашенного прочитать лекции по следствию. Заметил и нетерпеливо зоркий прищур глаз майора Сергея Чебану, вызванного в Хабаровск и посетившего курсы.
— Мы всесторонне изучили материалы уголовного дела Дрозда-Терещенко, — продолжал свой рассказ Петр Петрович, — и пришли к выводу, что обвиняемый действительно заслужил немалое доверие японцев — стал резидентом их разведки, подбирал для них новых агентов, участвовал в переброске шпионов через нашу границу и сам в 1940 году делал ходку в советское Приморье. Стало быть, японцы могли доверить ему и работу с агентами, засланными ими в СССР. Не исключалось и то, что о таких агентах он мог знать от сотрудников Лишучженьской японской военной миссии.
Однако Дрозд на следствии продолжал утверждать, что японцы во многом ему не доверяли, не допускали к руководству засланными в Советский Союз шпионами. Поэтому ему вроде бы ничего о них не известно. Но на одном из допросов он явно стал путать некоторые существенные обстоятельства, имеющие к этому вопросу прямое отношение.
На вопрос следователя о том, какое задание он имел во время шпионской ходки в Приморье в 1940 году, Дрозд ответил, что японцы поручили провести визуальную разведку наших войск и уточнить состояние паспортного режима.
«Как вы это делали?» — «В городах Имане и Бикине я наблюдал за перевозкой войск по железной дороге. Делал попытки устроиться ночевать в гостиницах и у некоторых частных лиц, выдавая себя за навестившего город таежника, — тем самым выяснил, какие в таких случаях нужны документы и как их оформлять». — «Кто помогал вам выполнять задания японцев?» — «Я действовал самостоятельно». — «В каких населенных пунктах вы еще вели разведку?» — «Нигде, кроме Имана и Бикина, разведкой не занимался». — «Долго ли находились в Бикине?» — «Примерно неделю». — «А к Горбылю заходили?» — «Нет, не заходил». — «Вы не боялись, что встретитесь с Горбылем в Бикине и он сообщит о вас властям?» — «Нет, этого я не боялся, к тому же по прибытии в Бикин я вскорости узнал, что Горбыль умер в 1939 году». — «Как вам об этом стало известно?» — «Примерно на третий день моего пребывания в Бикине — а было это в середине августа 1940 года, — вечером, когда притемнело, я дважды прошелся по улице, на которой стоял домик Горбыля: света там не было, и не замечалось никаких других признаков пребывания в нем жильцов. Тогда я подошел к расположенному неподалеку колодцу и поинтересовался у набиравшей из него воду незнакомой мне женщины, не знает ли она, почему никого не видно в избе Горбыля. Женщина ответила, что Горбыль умер год назад. Она не без удивления спросила, зачем он мне понадобился. Я ответил, что приехал в Бикин из тайги и хотел увидеть Леона по просьбе его родичей. Потом быстро ушел в другой конец города и вскоре уехал оттуда». — «На одном из допросов вы показали, что после побега из-под конвоя в августе 1945 года вы направились в Бикин, рассчитывая на помощь Горбыля. Как же он мог помочь, если его не было в живых?»
Обвиняемый, смутившись, ответил: «Признаюсь, немного напутал. Вернее, не так разъяснил, как было на самом деле». — «Вам японцы поручали в 1940 году встретиться с Горбылем?» — «Нет, не поручали». — «Но вы стремились к такой встрече?» — «Да, я хотел повидаться с Леоном». — «Зачем?» — «Просто хотелось посмотреть на него как на старого знакомого. Да и рассчитывал: возможно, Леон расскажет о каких-либо местных событиях, которые заинтересуют японцев. Это была моя задумка, никто мне этого не поручал. Опасений, что Горбыль выдаст меня властям, у меня не было, поскольку он раньше, еще в 1930 году, помог мне уйти за границу. Но, узнав, что он умер, я не зашел в его дом…» — «Зачем же вы поехали к нему в 1945 году?» — «После побега из-под конвоя в августе 1945 года мне негде было не только надежно укрыться, но даже просто переночевать. Поэтому и поехал в Бикин — надеялся на помощь жены Горбыля или его старых знакомых. Однако в том году на месте избушки Горбыля уже стоял новый дом. Я понял: там живут другие люди. Заходить к ним не стал, а подался в Лесозаводск». — «Кого вы знали из семьи Горбыля и его знакомых?» — «В 1930 году у Горбыля я видел только его жену. Звали ее, кажись, Дарьей. Детей у них вроде бы не было. Знакомые его мне неизвестны».
Таким образом, показания обвиняемого о посещении им Бикина в 1940 и 1945 годах были несколько непоследовательными и нелогичными. Поэтому мы решили как следует их проверить.
В первую очередь запросили о Горбыле Бикинский райотдел МГБ, который вскоре прислал довольно тревожное сообщение:
«Проживавший в Бикине Горбыль Леонтий Ананьевич умер, в возрасте более 60 лет 27 августа. Точно определить год смерти не удалось, так как часть страницы книги загса оказалась залитой чернилами. Старожилы утверждают, что он скончался до войны, но в каком году — не помнят. Его жена Дарья Лукьяновна умерла в 1937 году, других родных не было. По сведениям милиции, Горбыль временами занимался мелкой контрабандой, за что предупреждался».
Это сообщение нас заинтриговало. Показалось странным, что на месте в Бикине не смогли установить год смерти Горбыля. Если он умер 27 августа, скажем, 1939 года, то это совпадало бы с показаниями Дрозда. А если в 1940 году? Тогда получалось, что обвиняемый мог с ним встречаться в 1940 году и что вскоре после этого Горбыль умер.
Дрозд мог рассказать японцам об оказанной ему Горбылем помощи перейти границу. К тому же тот был причастен к контрабанде. Следовательно, рассуждали мы, японцы могли затянуть Горбыля в свои шпионские сети. Поэтому, возможно, не зря его навещал в 1940 году Дрозд Назар.
Этот логический ход мыслей требовал более глубокой проверки характера отношений Горбыля с Назаром Дроздом и других его связей. Мне было предложено выехать в Бикин, чтобы основательно разобраться с возникшими у нас сомнениями.
«Помните, нам доверено раскрыть дело большой государственной важности, — напутствовал меня на этот раз генерал Шишлин. — Речь идет о поиске японских шпионов, до сих пор еще, возможно, не выкорчеванных на нашей территории. Они могут привести немалый вред… Дело Дрозда нужно раскрыть до конца, чтобы не было ни малейших сомнений. В народе так говорят: чтобы поле было чистым, сорняки нужно удалять с корнями».
Я поездом выехал в Бикин. В полдень здесь, на вокзале, меня встретил оперуполномоченный райотдела МГБ старший лейтенант Сидорин Денис Иванович. Это был рослый брюнет, молодой еще, с выразительными карими глазами и подвижными, временами высоко поднимающимися дугами бровей, когда он вдруг чему-то удивлялся. Познакомившись, мы сразу же зашагали к райотделу. День был солнечный, безветренный, морозный. Снег звонко поскрипывал под сапогами.
«Вы прибыли по тому делу, по которому запрос присылали?» — спросил старший лейтенант Сидорин. «Да, конечно», — ответил я. «Разве наш ответ вызывает сомнения?» — «Не совсем так. Но давайте поговорим об этом в райотделе. А сейчас расскажите, как вы здесь живете?»
Сидорин вроде бы нехотя ответил: «Живем неплохо, но у нашего начальника подполковника Сизова открылась рана на ноге. Второй месяц в госпитале. И должность старшего офицера в отделе вакантная. Вот я и верчусь — работаю за них и за себя вместе с двумя лейтенантами, которые к нам с курсов недавно прибыли». — «А вы сами давно здесь?» — «Да уже порядочно, больше года».
В райотделе я предупредил старшего лейтенанта Сидорина, насколько значительно предстоящее мероприятие. И он по мере нашего разговора то резко вскидывал вверх брови и тут же опускал их, как бы подчеркивая этим жестом свое удивление, а порой неудовольствие.
Выслушав меня, он сказал: «Думаю, что все возможное мною уже сделано. Конечно, если покопаться еще недели две, можно, пожалуй, что-нибудь прояснить новое по вашим вопросам». — «Что вы, Денис Иванович! — сказал я. — В нашем распоряжении не более двух-трех дней. Мы связаны сроками ведения уголовного дела».
И вот я занялся архивами, а Сидорин приступил к поиску знавших Горбыля старожил и сбору сведений о личности человека, поселившегося на его усадьбе, с которым тоже надо было побеседовать. Работали мы почти двое суток, постоянно обмениваясь собранной информацией. Она оказалась неутешительной. Старожилы, проживающие неподалеку от бывшей усадьбы Горбыля, ничего нового о нем не сообщили: дескать, был он нелюдимый домосед, вечно копавшийся в огороде и длительное время лечивший свой больной желудок таежными травами.
Скупым на нужные нам сведения был и районный архив. В одной из его книг за 1933–1945 годы действительно имелась запись, что Горбыль умер 27 августа, а место на листе, где указывался год смерти, было залито густыми фиолетовыми чернилами. Такие же большие кляксы мы обнаружили и на других страницах. Книгу пришлось на время изъять и направить в научно-технический отдел Краевого управления МГБ, чтобы там установить год смерти Горбыля. Более ранних архивных документов в районе не оказалось. Примерно до 1933 года акты гражданского состояния — рождения, браки, смерти — фиксировались в книгах местной церкви, а после ее закрытия в 1933 году те же книги вроде бы отослали в церковные архивы Владивостока, Хабаровска и Омска, но и там их не нашли, хотя не раз посылались запросы.
«Чем же будем заниматься завтра?» — спросил я старшего лейтенанта Сидорина.
Тот молча пожал плечами и высоко поднял брови, что могло означать: «Я же говорил, что все нужное было сделано раньше». Время было позднее, и мы порешили, что утро вечера мудренее. А утром на мой вопрос, был ли старший лейтенант Сидорин на Горбылевой могиле, тот покачал головой, но проинформировал, что сторож на здешнем кладбище — Худяк Евсей — дед набожный, честный, отзывчивый.
«Так что же мы предпримем в последний день моей командировки?»
Старший лейтенант Сидорин пожал плечами.
«Разве вы не убедились, что все возможное уже сделано?» — «Нет, Денис Иванович, пока мало сделали и, фактически, ничего не выяснили. А время не терпит… Давай-ка обсудим такой вариант…»
И я поделился с ним своими соображениями, которые пришли мне в голову в гостинице минувшей ночью, Я так размышлял: поскольку в городе меня никто не знает, мне можно переодеться в гражданское и разыграть роль прибывшего сюда с верховьев Имана племянника Горбыля.
«Вместе с тобой, — предложил я старшему лейтенанту Сидорину, — мы проведаем могилу Горбыля, где организуем поминки. Пригласим на них деда Евсея, а через него — и других знакомых Горбыля. После хорошего угощения, думаю, они разговорятся, и мы кое-что узнаем новенькое. Потом эту идею как-нибудь разовьем». — «Так ведь у Горбыля не было родственников», — засомневался старший лейтенант Сидорин. «Ничего. Объясним, вот, мол, нашелся племянник». — «Нет, все же не то, — приподнял брови мой коллега. — Оперативные работники, солидные люди — и распивают спиртное на кладбище. Нет, не то…»
Немало сомнений, и даже резонных, высказал он. Но все же я вовлек его в задуманное мной мероприятие — ничего другого придумать вроде и нельзя было… И вот мы переоделись в гражданское. Правда, старший лейтенант Сидорин не полностью: вместо шинели накинул на плечи пальто с бобровым воротником, а на голову — лисью шапку. А галифе, гимнастерку, сапоги не снял. Вскоре он подъехал на лошади к подворью деда Евсея и попросил его прийти в полдень на кладбище, чтобы показать могилу Горбыля его племяннику, прибывшему издалека, а также пригласить на поминки знакомых покойного.
Часа через четыре, купив венок из искусственных цветов и потихоньку понукая лошадь, мы на подводе двинулись в сторону кладбища.
«Ну, Петр Петрович, если из нашей затеи получится что-нибудь толковое, можете считать меня своим должником», — все сомневался старший лейтенант Сидорин. «Не надо так, Денис Иванович. Коль начали, давайте действовать поувереннее».
На первых порах нам явно не везло. Когда приблизились к кладбищу, увидели там лишь деда Евсея, рослого, одетого в черную шубу, на голове — серая заячья шапка. В одной руке у него была деревянная лопата, в другой — метла.
«Здравствуйте, дедушка Евсей!» — поздоровался я с ним. «Будтэ здоровеньки», — глуховатым голосом произнес он, мешая украинскую речь с русской. «А что, дедушка, никто больше не смог прийти на поминки?» — «Я заходыв к двум дидам, но один сказался хворым, а другого нэма дома. Вы, значит, будэтэ племянником покойного Горбыля?» — «Да, дедушка, проездом здесь. Побуду дня два. Заодно хочу проведать могилу дяди Леона. Вы же знали его?» — «Ни, я его нэ бачив, бо я приихав в Бикин в войну, а вин ще раньше помер». — «А могилку его нам покажете? Я тут впервые». — «Нэ помню его могилы, но знаю, шо трэба шукать ии в левом углу, там ховалы померших перед войной, царство им небесное». — Дед перекрестился.
Да, видно, я начал свое мероприятие слишком поспешно. Знакомые Горбыля, не оповещенные заранее, не пришли на поминки, и, следовательно, разговаривать мне будет не с кем. Однако отступать было поздно. Привязав лошадь к дереву и взяв с собой венок и сумку с продуктами, мы потянулись за дедом Евсеем по тропке, недавно проторенной в глубоком лежалом снегу и слегка припорошенной свежим снегом. Через несколько минут дед остановился, сказав, что могила Горбыля где-то поблизости: дескать, поищите сами, ибо надписи на крестах он уже не различает — совсем плох глазами стал.
Утопая по колено в сугробах, мы с трудом пробирались от одного могильного холмика к другому, вглядывались в надписи на крестах, где они еще сохранились. И вдруг увидели то, что искали: на невысоком, почерневшем от времени деревянном кресте можно было прочитать: «Горбыль Леон А., ум. 27.8.1939 г.». К нашему изумлению, могила была очищена от снега, на ней лежал точно такой же венок, какой мы принесли с собой.
Мы со старшим лейтенантом Сидориным переглянулись. Его широко раскрытые глаза и до предела поднятые, дуги бровей на этот раз выражали, казалось, его крайнее удивление, граничащее с ужасом.
Удивил нас, конечно, не крест с четко вырезанной на нем надписью, положившей конец неясности в вопросе, когда скончался Горбыль, но сама недавно прибранная могила покойного, не имеющего никаких родственников.
Нашу немую сцену прервал подошедший дед Евсей: «Ну шо, хлопци, найшлы могилку Горбыля?» — «Нашли, дедушка, вот тут и покоится дядя Леон, — ответил я, вздыхая, и спросил: — А что, дедушка, это вы прибрали могилу и положили на нее венок?» — «Ни, ни, я тут нэ був раньше, мы ведь з вами пришлы разом. — Он прищурился: — Бачу, шо тут хтось був, но хто такий, нэ помню, памьять у мэнэ стала як решето, ничого уже нэ дэржить».
Мы возложили венок на могилу, начали трапезничать.
После третьей рюмки дед Евсей крякнул: «Добре пошла!»
А это, по его словам, означало, что покойный Горбыль доволен посещением его могилы племянником.
«Мне бы хотелось сфотографироваться у могилы дяди, — подмигнул я старшему лейтенанту. — Не сможешь ли побыстрее привезти фотографа?»
Поняв меня с полуслова, Сидорин направился за ограду кладбища, где стояла его лошадь, запряженная в повозку.
Через полчаса он вернулся с фотоаппаратом, сказав, что взял его у товарища. Сделав нужные снимки, отправились в обратный путь. Возле ворот кладбища я сказал деду Евсею, что, по христианскому обычаю, с кладбища ничего недоеденного и недопитого не выносят. Но оставшаяся у меня бутылка водки не почата, значит, не грех взять ее с собой. Вручив ее деду, попросил помянуть дома моего «дядю». Тогда дед Евсей растрогался и вдруг сказал то, чего мы никак не ожидали: «Вот шо значить ридна кровь. Уля тоже дала мэни гроший на пивлитру, шоб помянуть батьку Ливона». — «Какая Уля?» — У меня едва не перехватило горло от неожиданности. «Ну, дочка Горбыля. Я сичас вспомнив, шо вона недавно тоже тут поминала батьку и дала мэни гроший». — «Она в Бикине живет?» — «Ни-и, вона приихала из етого, ну як ево, со станции… вот опять забув». — «Она одна здесь была». — «Ни-и, их було двое, ще була Улина матырь». — «Какая мать, ведь жена Горбыля умерла раньше его самого». — «Та ни, то була ни ридная, а крэстная матырь Ули — Мирониха. Вона живеть одна — через десяток домов от моей хаты. Я помню, шо у Ули с собой здесь, на кладбище, не було малых гроший, так вона позычила их у Миронихи. Та из-за пазухи достала кошелечек и отщитала мэни на пивлитру для поминок Лиона». — «Отвези деда домой, — сказал я старшему лейтенанту, отойдя с ним чуть в сторону. — Пусть он покажет тебе избу Миронихи. Зайди к ней и уточни, кто такая Уля и где она проживает. А я подожду тебя в гостинице».
Минут через сорок он с огорчением рассказывал мне в гостинице, что Мирониха встретила его неприветливо, даже странно. Сидела за столом будто немая, как истукан, только мычала в ответ на задаваемые ей вопросы.
«Почему?» — «А черт ее знает! Я и сам не понял, что с ней». — «Может, вы не у Миронихи были, не туда зашли?» — «Что вы, Петр Петрович, это была Мирониха. Дом ее мне показал сам дед Евсей». — «Тогда вот что, Денис Иванович. Надо вам немедля ехать к деду Евсею. Подбросьте его к дому Миронихи, Если это та женщина, что была с Улей, то пускай дед уточнит нужные нам сведения… Только вы на этот раз в дом не заходите».
Вскоре старший лейтенант Сидорин, вернувшись в гостиницу, положил передо мною на стол старый конверт с обратным адресом Ули: «Хабаровский край, станция Хор, железнодорожный поселок, 2, квартира 7. Зимина Ульяна Леоновна».
К чести деда Евсея, он выполнил все, о чем просил его старший лейтенант Сидорин, побывал в доме, на который указывал. В нем действительно жила Мирониха.
Но что же с Миронихой? Оказывается, в прошлый раз, когда Сидорин шел по двору ее дома, отбиваясь от злой цепной собаки, остроглазая старуха, поглядывая в окно, приметила на незваном госте хромовые сапоги и галифе с голубым кантом. Подумала, что это «замаскированный» милиционер пришел штрафовать ее и изымать самогон, первач, который только что гнала. Вот и обомлела от страха.
Мы решили: нужно, не мешкая, найти Ульяну. Когда я стал собираться в Хор, старший лейтенант Сидорин изъявил желание поехать со мной, заявляя, что ему тоже небесполезно знать, что расскажет Ульяна. Я не возражал, понимая, что ему после моего возвращения в Хабаровск предстоит здесь, в Бикине, заниматься делами, связанными с предстоящим мероприятием.
На станцию Хор наш поезд пришел часов в семь утра. Мы разыскали контору «Заготзерно», в которой Ульяна работала счетоводом, — здесь мы и беседовали.
Муж Ульяны — шофер, сынишка учится в 5 классе. Ей едва перевалило за тридцать, и она выглядела по-девичьи стройной и энергичной. Во всю щеку ее сиял румянец, глаза были цепкие, проницательные.
«Ульяна Леоновна, нами, сотрудниками госбезопасности, задержан человек, пробравшийся в Приморье из-за границы. Он утверждает, что ваш отец когда-то помог ему уйти в Маньчжурию. Поэтому мы хотели бы поговорить о вашем отце».
Ульяна, напряженно выслушав меня, еще более разрумянилась и с досадой воскликнула: «Ну что тем людям нужно!.. Уже десять лет прошло, как умер папа, а они не дают покоя и мертвому!» — «Ульяна Леоновна, мы понимаем, что вам тяжело говорить, но это необходимо». — «О чем я должна говорить?» — «Расскажите, пожалуйста, о жизни вашего отца». — «Теперь я знаю!.. Нет, это я сама во всем виновата, нужно было давно мне заявить, — нервничала Ульяна, еще больше краснея. — Ну да ладно… Расскажу…»
Ее отец, Горбыль Леон, родился в 1878 году в верховьях реки Бикин, в деревне Грачевке. Он долго промышлял, охотясь в тайге, и только в тридцать лет стал плотничать в Бикине, где женился. Жена вскоре умерла. На руках у вдовца осталась малолетняя дочь — Ульяна. Горбыль еще охотничал временами, и тогда его дочь жила у своей крестной матери — у Миронихи. Ульяна уже вышла замуж, переехав на станцию Хор к мужу, когда тяжело захворал отец. Перед смертью он вызвал ее в Бикин и сделал странное признание.
«Отец признался, — нервничая, рассказывала нам Ульяна, — будто в молодости он шалил трошки, занимался контрабандой. Но после того жил честным трудом. А вот теперь вроде бы возле него какой-то часовщик крутится. Мол, он, шельма, шукает пролаз на ту сторону. После этих слов отец помер. А случилось это 27 августа 1939 года. Да еще он просил, чтоб я заявила о том часовщике куда следует». — «И что же?» — «Понимаете, до меня не сразу дошло, о чем говорил отец. Ведь он был при смерти, тяжело умирал. Я совсем ошалела от горя. И про отцовский наказ не сразу вспомнила. А вскоре тот часовщик, наверное, приходил…»
После похорон Горбыля Ульяна, по ее словам, еще недели две-три жила в его домике — хлопотала по хозяйству, в огороде ковырялась. В том году был урожай на картошку.
«И вот однажды, — рассказывала Ульяна, — я так ухропалась в огороде, спать легла засветло. Уснула как убитая. Но после полуночи меня будто током ударило: проснулась и слышу — калитка скрипнула. Вспомнила — сени не заперла, и в исподнем туда метнулась. Только успела дверь на засов запереть, слышу: ее уже кто-то дергает. Напужалась страсть как, думала, покойник-отец пришел. Он после смерти так все у меня в глазах и стоял. И тот пришелец, видно, слышал, как железным засовом звякнула. Да и шепотом так говорит, дескать, что же ты, Леон, не открываешь. Это же, мол, я, часовщик, приехал из Уссурийска. Я затаилась. И вдруг вспомнила: отец, умирая, про какого-то часовщика говорил, шельмой его обзывал. Еще сильнее перепужалась. Потом говорю, значит, часовщику через дверь, мол, папа помер, а если посетителю что нужно — нехай днем приходит. Он тут же шасть со двора на улицу. Ночь светлая была, из окна мне хорошо видно: шибко так мужчина шагает, видный из себя, рослый да стройный. Вроде из военных — в гимнастерке под широким ремнем, в галифе, сапоги дорогие — не то хромовые, не то яловые. А под мышкой — сверток. Еще что запомнила… Сильно чубатый был. Лица вот не видела… Больше он не появлялся. А вскоре муж за мной приехал — он и тогда шофером был». — «Вы кому-нибудь рассказали о ночном госте?» — «Никому не говорила. И не заявляла никуда, А гость подозрительным показался. Но муж-то меня увез вскоре из Бикина — я и забыла того посетителя». — «Отец поручал вам передать что-либо его знакомым?» — «Нет, не поручал». — «Кто еще приезжал к отцу из других мест?» — «Никого больше не видела». — «Знаете ли вы Дрозда Назара Архиповича?» — «Такого человека я не знаю». — «Зимой 1930 года ваш отец содействовал уходу Дрозда в Маньчжурию. Вам известно об этом?» — «В том году я у тетки в Хоре жила и об ентом случае не слышала». — «Могли бы вы опознать «часовщика»?» — «Что помню, то помню — можно попытаться».
Мы распрощались с Ульяной и в тот же день я уехал в Хабаровск, чтобы срочно доложить своему руководству о важных, как мне казалось, сведениях. Перед отъездом дал поручение старшему лейтенанту Сидорину непременно «помириться» с Миронихой и побеседовать с ней обстоятельно о Горбыле.
«Петр Петрович, вы мне преподали хороший урок. О таком не прочитаешь ни в каком учебнике, — говорил мне Сидорин на перроне Бикинского вокзала перед отправлением. — Я понял, что и малая зацепка может дать неплохой результат». — «А как вы считаете, что необходимо теперь предпринять в деле Дрозда-Терещенко?» — «Надо как можно скорее найти «часовщика».
Наши мнения совпадали.
Итоги моей поездки в Бикин заинтересовали следователя подполковника Мазаловича и генерала Шишлина, который, хитровато улыбаясь, спросил меня: «Кто, по-вашему, этот «часовщик»?» — «Кто бы он ни был, — ответил я, — но, полагаю, совсем не случайно пересеклись пути его и Назара в Бикине».
А подполковник Мазалович как бы слегка конкретизировал мои предположения, заявив, что «часовщик» не зря искал какой-то пролаз в Маньчжурию: это или шпион, или другой серьезный преступник, которого надо обязательно найти до окончания следствия по делу Дрозда.
«Согласен с вами. Где и как вы намерены искать его?» — спросил генерал.
Я ответил, что искать надо прежде всего среди часовых мастеров в Ворошилове-Уссурийском.
«Ну хорошо, давайте так и сделаем, — согласился генерал. — Но имейте в виду, что «часовщик», возможно, живет в другом городе, а слово «Уссурийск» использовал как пароль. Поэтому, вполне вероятно, придется его поискать и в других городах Приморья».
Генерал опять хитровато улыбнулся, сказав, что мне надо выехать в Ворошилов-Уссурийский…
Улицы этого города, раскинувшиеся на огромной равнине и словно вычерченные по линейке, были беззащитны перед сильными ветрами. Город круглый год насквозь продувался ими. И в этот мой приезд гуляла по улицам колючая метелица…
Вскоре нам стали известны имена нескольких десятков часовых дел мастеров, работавших в этом городе накануне войны. Среди них и стали искать «часовщика».
Старый мастер Кузьмич рассказал нам, что в часовой мастерской промкомбината в интересующее нас время работал мастер по имени Егор, он вроде бы похож на разыскиваемого. Мы навели справки. Действительно, в 1939–1944 годах там работал Моргун Егор Фролович, 1916 года рождения, уроженец города Барнаула, прописанный по одногодичному паспорту у гражданки Шевелевой по улице Трудовой, дом 33. Но в учетных данных паспортного стола и в домовой книге не оказалось сведений, кем и когда Моргуну был выдан паспорт.
Беседа с Шевелевой прояснила немногое. Моргун поселился в ее доме летом 1939 года — приехал вроде бы из Забайкалья. Работая часовщиком, всегда имел «лишние» деньги, регулярно платил за снимаемую у Шевелевой комнату. На фронт его не взяли. Он якобы сам говорил, что освобожден от службы в армии по чистою получил ранение в ногу еще в боях на Хасане. Иногда ходил в красноармейской форме. А с конца 1941 года носил нашивку о ранении. Летом 1944 года уехал на свою родину, на Алтай, адреса не оставил.
Однако вскоре по номеру паспорта мы установили, что его бланк был отправлен из Хабаровска в Бикинский райотдел МВД в 1938 году… И вот я снова в Бикине. Снова встреча с коллегой — старшим лейтенантом Сидориным. Дуги его бровей по-прежнему то и дело высоко приподнимались, отчего лицо принимало выражение неподдельного удивления. На сей раз к этому выражению словно бы примешивалась изрядная доля почтительного любопытства.
Мы с Сидориным выяснили, что паспорт был выдан 17 июня 1939 года Моргуну Егору Фроловичу, уроженцу города Барнаула, на основании справки исправительно-трудового лагеря. Она удостоверяла, что Моргун 25 апреля 19°9 года был освобожден из этого лагеря после отбывания уголовного наказания.
С этой справкой, к которой была приклеена и фотокарточка ее владельца, я и выехал в Хабаровск. Здесь, в нашем управлении, фотокарточку увеличили, затем ее выслали в Ворошилов-Уссурийский для предъявления Кузьмичу и Шевелевой. Одновременно проверяли сведения о прошлом Моргуна и выясняли, где он сейчас находится. И вот получено первое сообщение: Кузьмич и Шевелева на фотокарточке опознали Моргуна. Но поступивший на запрос ответ из Барнаула вызвал у нас недоумение: «Проверяемый Вами Моргун Егор Фролович, 1916 года рождения, действительно родился в Барнауле. В 1936 году судим за злостное хулиганство на 3 года. По отбывании наказания 25 апреля 1939 года освобожден из исправительно-трудового лагеря. В мае того же года вернулся домой, где проживал вместе с матерью и сестрой. 18 мая 1942 года Моргун умер от сердечной недостаточности».
Что же получается? Вроде бы один и тот же человек, отбыв наказание, в 1942 году умер в Барнауле, и в то же время он получил в 1939 году паспорт в Бикине и до 1944 года работал часовым мастером в Ворошилове-Уссурийском. Но так, разумеется, не могло быть. На самом деле существовало два лица, одно — настоящее, а второе — мнимое, присвоившее имя первого. Назвав умершего Моргуна «барнаульцем», а «живого» — «часовщиком», мы продолжали розыск.
Меня послали опять в спешную командировку — теперь в Барнаул.
Летел самолетом, чтоб сэкономить время. Но мокро-снежный февраль так запеленал всю сибирскую воздушную трассу непроглядными туманами, что к месту назначения я прибыл лишь на третьи сутки. Битую неделю рылся в архивах, беседовал со многими свидетелями. Наконец было установлено, что «барнаулец» есть истинный Моргун, умер он ненасильственной смертью. Но, прибыв в 1939 году домой, он почему-то не сдал в милицию справку об освобождении из лагеря и получил паспорт лишь на основании свидетельства о рождении и характеристики с места работы. Принадлежащая «барнаульцу» справка исправительно-трудового лагеря каким-то образом оказалась у «часовщика», получившего по ней паспорт в Бикине. Разобраться с этой неясностью можно было лишь в том случае, если найдем «часовщика». С тем я и вернулся в Хабаровск, привезя с собой необходимые выписки из документов, фотокарточки, показания свидетелей…
Замечу попутно: в мое отсутствие следователь подполковник Мазалович показывал для опознания «часовщика» Дрозду Назару фото — тот заявил, что не знает этого человека.
Мы вроде бы зашли в тупик. Преступник, видимо, сумел глубоко замаскироваться, не так-то просто его найти, не имея никаких надежных зацепок. Очевидно, следствие по делу Дрозда Назара пора кончать, а на «часовщика» объявить розыск через органы МГБ-МВД по Дальнему Востоку и Сибири. Такое решение нам казалось логичным. Ведь «часовщик» скрывался около десяти лет после получения в Бикине одногодичного паспорта и пять лет со времени исчезновения из Ворошилова-Уссурийского. Времени утекло немало — преступник действительно сумел глубоко замаскироваться…
Меня и следователя Мазаловича вызвал генерал Шишлин.
«Что же получается?! — сказал он. — Выходит, что свои недоделки мы будем перекладывать на плечи других товарищей? Так поступать не годится… — Он пристально посмотрел на меня: — Считаете ли вы, майор Батищев, что в Ворошилове-Уссурийском, где «часовщик» прожил пять лет, достаточно глубоко изучили его образ жизни и связи?»
Я ответил, что не смогу сделать такого вывода.
«Тогда надо продолжить розыск…»
Опять Ворошилов-Уссурийский. С местными чекистами заново проверяю связи разыскиваемого, шаг за шагом изучаю его поведение. И след «часовщика» наконец отыскался.
Ниточка поиска дотянулась от буфетчицы Шевелевой, у которой когда-то квартировал «часовщик». На наши вопросы она отвечала явно неохотно. Ничего подозрительного вроде бы за ним не замечала: постоялец был тихим, никуда не выезжал, знакомых не имел. Бывал только на работе — в промкомбинате, в магазинах да на рынке.
Но вот я и сотрудник особого отдела капитан Долотов, выйдя однажды из дома Шевелевой, повстречали у калитки почтальона — молодую разговорчивую женщину. Познакомились — она назвала себя Катей. Капитан Долотов пошутил, показывая глазами на ее почтовую сумку: «Вот и мы писем дождались». — «Писем нет, только газеты», — бойко ответила Катя. «Вы давно здесь работаете почтальоном?» — полюбопытствовал я. «Давненько. Лет десять. А что такое?» — «Квартиранта Шевелевой не знали?» — «Егора-то? Знала». — «Он получал газеты, письма?» — «Газеты получал, а вот письма… Не помню. Но если вас что-то интересует о постояльце, — улыбнулась она, словно извиняясь за свою память и лукаво поглядывая на окна дома Шевелевой, — то от хозяйки немного узнаете». — «Почему?» — «Да потому… Для Егора она была не только квартиросдатчики!» — Катя натянуто рассмеялась. «Простите, уж не вашей ли соперницей она была?» — подмигнул ей капитан Долотов. «Соперницей была, но не моей». — «А чьей же?» — «Егор больше знался с Иркой Супрун. — Катя вдруг покраснела: — Ну и бог с ними… Разболталась я с вами. Прощевайте…»
И часа не прошло — нам сообщили, что Ирина Владимировна Супрун, тридцати трех лет отроду, работает дежурной в городской гостинице, где характеризуется не лучшим образом.
Мы беседовали с Ириной в милиции на другой день после ее дежурства, часов в одиннадцать утра.
В кабинет вошла невысокая, начавшая, видно, недавно полнеть, настороженная, но с насмешливым взглядом, смазливая на вид женщина с накрашенными губами.
Разговор с ней сложился напряженный.
«Ирина Владимировна, садитесь, пожалуйста, мы хотим побеседовать с вами», — сказал я. «Что вам надо от меня? — Голос у нее оказался неожиданно грубым, словно прокуренным. — Опять нотацию будете читать?» — «Не понимаю, о чем вы говорите?» — «Чего уж там непонятно! Опять будете учить, кого и где мне любить, а кого стороной обходить. Это мое личное дело…»
Позже мы узнали, что администрация гостиницы в кто-то из сотрудников милиции не раз делали внушение легкомысленной Ирине, чтоб на работе с мужчинами — постояльцами гостиницы — была посдержаннее и поскромнее.
«Ирина Владимировна, — сказал я построже, — мы сотрудники госбезопасности, и нас интересует другое». — «Ишь, моей персоной уже и вы заинтересовались». — «Не столько вашей, сколько вашего знакомого». — «Ну коль так, тогда я пошла. — Она приподнялась со стула: — О других мне ничего не известно». — Она направилась к двери. «Постойте, Ирина Владимировна, взгляните на эти фотокарточки!» — Я положил на стол пять снимков одинакового размера, среди которых были «часовщик» и «барнаулец».
У нее, видать, проснулось вдруг женское любопытство — она наклонилась над столом, жадно впилась глазами в фотокарточки.
«Кого-нибудь знаете из этих людей?» — «Ежели и знаю — что с того?» — «Ирина Владимировна, должен вам разъяснить, что согласно закону каждый советский гражданин обязан давать правдивые объяснения представителям государственных органов. Прошу вас сесть и не капризничать!» — сказал я, напряженно улыбаясь.
Она села на стул, уже по-другому, внимательно оглядела снимки и, ткнув пальцем в «часовщика», сказала: «Вот этого знаю. Моргун Егор, часовой мастер, жил у буфетчицы Шевелевой. Остальных сроду не видала».
Она неожиданно притихла, сгорбилась, показалась старше своих лет, в модной ее прическе я заметил серебристые пряди волос.
Ирина Супрун рассказала, что с Егором Моргуном познакомилась в 1941 году. Он обещал на ней жениться, а сам на стороне погуливал. Они часто ссорились — то сходились, то расходились. Так все и тянулось до его отъезда из Ворошилова-Уссурийского в мае 1944 года.
«Куда он уехал?» — «Кто его знает. Мне сказал — на фронт едет, а Шевелевой — на Алтай, на свою родину». — «Письма от него вы получали?» — «Ни одного». — «Кто-нибудь присылал ему письма?» — «Всё — женщины. Одно я перехватила. Кажись, дома лежит. Как память о нем, паразите». — «Как попало к вам письмо?» — «Так получилось…»
В начале 1944 года она еще зналась с Егором Моргуном. Даже в дом Шевелевой, где он жил, ходила. Как-то пришла — не застала Егора. А в комнате, которую он снимал, лежало на столе письмо — не распечатанное, только что почтарка принесла. Ирина тут же из любопытства прочитала его и домой прихватила, чтоб уличить Егора во лжи: мозги ей пудрил, будто живет на свете один как перст. Дескать, вырос в детдоме, никого из родни нет, никогда не был женат, ни друзей, ни товарищей не имеет, с кем бы переписывался. А тут на тебе — письмо. Дома перечитала его — опять ничего не поняла. Писала не то любовница Егора, не то какая-то родственница его.
И мы тоже читали и перечитывали переданное нам Ириной Супрун письмо, содержание которого вызывало противоречивые суждения. Но оно было действительно главной ниточкой в том розыске. Да, этот листок, вырванный из ученической тетрадки в клеточку, таил в себе много загадок. Согласно почтовому штемпелю, письмо было опущено в почтовый ящик на станции Тайга Новосибирской области 18 апреля 1944 года. В Ворошилов-Уссурийский пришло 25 апреля того же года, в адрес Шевелевой, на имя Моргуна Егора Фроловича. Обратного адреса не было: в нижней половине конверта лишь неразборчивая подпись. По заключению экспертов-графологов, письмо и адрес на конверте написаны разными лицами. В тексте письма есть условности. Вот одна из них. «На днях переезжаем обратно, буду устраиваться на судоремонтный… Тебе сюда лучше не ехать. Может быть, приедешь в Одессу, как ее освободят… Буду рада хотя бы временами видеть тебя…»
Письмо мы так «расшифровали». Его писала женщина — мать, сестра, подруга либо сообщница, которой известны какие-то неблаговидные, а возможно, и преступные дела «часовщика», поэтому она не считает целесообразным, чтобы он жил в одном с ней городе.
Далее. Автор письма — близкий человек «часовщика»: старательно оберегает его и желает хотя бы временами видеться с ним. Заметны намерения автора письма устроиться на судоремонтный завод. Когда писалось письмо, Одесса еще не была освобождена от фашистских захватчиков — его автор, вероятнее всего, переезжает в Николаев или Херсон.
И еще. Письмо написано до дня освобождения Одессы — 14 апреля. А на почтовом штемпеле Тайги стоит дата 18 апреля. Значит, в Тайге его не писали, ибо к 18 апреля там должны были знать об освобождении Одессы. Следовательно, письмо было написано в другом городе и направлено посреднику без адреса на конверте. Посредник написал на нем адрес «часовщика» и отправил ему письмо со станции Тайга. Вырисовывалась этакая цепочка: женщина (автор письма) — посредник — «часовщик».
Как видим, письмо давало для логических рассуждений и выводов пищи предостаточно. Но необходимых для розыска «часовщика» данных — почти никаких: ни фамилий, ни имен, ни адресов… И все же кое-что существенное мы имели: у нас были почерки посредника и автора письма и сообщение его о том, что он намерен устраиваться на судоремонтный завод. И мы продолжили — на основе данных этого письма — поиск «часовщика».
Мы попросили своих коллег из Николаева и Херсона найти автора письма — по почерку. И оттуда вскоре поступило такое сообщение: «Автор письма — техник Херсонского судоремонтного завода Брылева (до замужества — Хомякова) Лидия Романовна, 1913 года рождения, уроженка города Кургана Тюменской области. Ее муж Брылев Иван Матвеевич, бывший офицер, демобилизован из армии в июле 1944 года по ранению, работает на том же заводе инженером, член партии, характеризуется положительно. Брылева имеет двух детей — школьников. В автобиографии указывает, что ее отец и мать умерли в городе Кургане, сестра — Хомякова Зинаида Романовна — проживает в Новосибирске, по улице Второй Северной, дом 11».
А из Кургана пришло такое известие: у супругов Хомяковых, умерших здесь, кроме дочерей Лидии и Зинаиды был сын Мирон, 1915 года рождения. Где Мирон Романович Хомяков — сведений нет. Вот весточка из Новосибирска: Хомякова Зинаида Романовна, 1917 года рождения, работает продавцом, имеет восьмилетнего сына, в автобиографии упоминает о сестре Лидии, о брате Мироне упоминаний нет.
Что ж, дело двинулось вперед. Видимо, Хомяков Мирон Романович и есть «часовщик». Вроде осталось нам доделать самую малость, как шутили наши сотрудники, сущий пустяк — найти самого «часовщика». И мы продолжали ломать головы над тем, как половчее это сделать. Начали с того, что порекомендовали херсонским коллегам спросить у инженера Брылева, что он знает о разыскиваемом. Если ему ничего не известно, то попросить его поговорить о Мироне с женой.
В случае необходимости мы не возражали, чтобы Брылеву показали письмо Лидии. Ответ из Херсона был скорым, но неутешительным. Инженер Брылев отрицал, что у его жены есть брат. Но, познакомившись с ее письмом, расстроился: дескать, Лидия написала не брату, а своему, очевидно, любовнику, — даже грозился поколотить жену. С немалым трудом ревнивца успокоили: сослались на справку Курганского загса: Мирон — действительно брат Лидии. Он, очевидно, скрывается. И после этого Брылев не только успокоился, но сам вызвался помочь розыску: собираясь поехать в командировку, он обещал узнать о Мироне у проживавшей там Зины — сестры супруги. В Херсоне эту помощь Брылева приняли, и вскоре он вошел в контакт с нашими новосибирскими коллегами.
Прошло еще несколько дней. Наконец сообщение из Новосибирска: «Согласно информации инженера Брылева, полученной им от Хомяковой Зинаиды Романовны, разыскиваемый Вами Хомяков Мирон, он же Моргун Егор, проживает в Иркутске, ведет переписку с сестрой Зинаидой, очевидно, через посредника Прошина Мелентия Марковича, адрес которого: Иркутск, Третья Ангарская, 41».
Мы облегченно вздохнули и уже прикидывали, отправив запрос в Иркутск, как поступить с «часовщиком», вдруг оттуда, словно гром средь ясного неба, сообщение: Моргун Егор Фролович, проживавший с 1944 года в Иркутске на квартире гражданки Залесской Виктории Ивановны, 3 марта 1949 года убыл неизвестно куда.
Что же случилось? Может, «часовщика» кто-то предупредил и он скрылся? Надо было искать беглеца но свежим следам. И по ним должны были пойти прежде всего те, кто вел столь нужный для следствия по делу Дрозда-Терещенко розыск.
Меня и подполковника Мазаловича спешно направили в Иркутск.
Самолет наш из-за непогоды сделал на пути в Иркутск несколько вынужденных посадок. Но вечером мы были почти у цели — через иллюминаторы любовались Байкалом. Он и сейчас был величав и красив, хотя хмурые мартовские сумерки делали его водную гладь угрюмой, свинцово-серой, а скалистые берега словно размывались в холодной туманной дымке.
Неплохие новости ожидали нас в Иркутске. Наши здешние коллеги, тоже встревоженные внезапным исчезновением «часовщика», за минувшие сутки изрядно похлопотали. Им уже было известно, что разыскиваемый Моргун Егор (он же Хомяков Мирон и «часовщик») неделю назад поссорился с Викторией Залесской, с которой жил с 1944 года, не регистрируя брака. А теперь тайком от нее перебрался к своему приятелю Прошину. «Часовщик» ищет покупателя: хочет поскорее продать свою легковушку-автомобиль ГАЗ-А, чтобы куда-то уехать.
Нам предстояло осуществить следующее: лишить «часовщика» какой-либо возможности скрыться, проверить подлинность имеющихся у него личных документов, определить степень возможной связи его с иностранной разведкой…
Главную зацепку для решения этих задач мы видели в том, что «часовщик» продает свою машину, а покупателя ищет через приятеля Прошина. Мы и направили к ним «покупателя» — оперработника майора Алешина, который с завидным профессиональным мастерством разыграл торг с «часовщиком».
Алешина пригласили из Читы в Иркутск под видом офицера интендантской службы. Когда он, как говорится, вошел в свою роль, то стал наведываться на Ангарскую пристань якобы с целью покупки катера для личного пользования. На той пристани работал мотористом Прошин, с которым и познакомился «покупатель» «случайно». Приобрести катер здесь нельзя было. Но, видя, что майор состоятельный человек, Прошин предложил ему приобрести легковушку и таким образом познакомил его с «часовщиком».
Алешин хорошо знал автодело и дня три придирчиво осматривал и испытывал автомобиль «часовщика». В свою очередь «часовщик» с неменьшим старанием проверял «покупателя», задавал ему неожиданные провокационные вопросы. Настороженность «часовщика» постепенно рассеивалась. Они сошлись на приемлемой для обеих сторон цене и отправились к инспектору милиции, ведавшему учетом личных автомашин. Инспектор был заранее подготовлен к этому визиту. Он потребовал паспорта и другие личные документы — для оформления сделки: водительские права, метрики, военные билеты, справки о состоянии здоровья и ранениях… Чтобы не насторожить продавца, инспектор более жесткие требования предъявлял к «покупателю». А тот не замедлил соответствующим образом отреагировать: устроил бурную сцену, обвинив инспектора в формализме. Но затем, «с трудом успокоившись», согласился принести все недостающие бумаги и убедил «часовщика» поступить точно так же, чтобы ускорить куплю-продажу.
Таким образом, многие личные документы «часовщика» оказались в наших руках. Не прошло и суток, как специалисты научно-технического отдела дали заключение: свидетельство об инвалидности Моргуна Е. Ф., его военный билет, справка о ранении, удостоверение о снятии с воинского учета, штампы о выписке из Ворошилова-Уссурийского и прописки в Иркутске — фальшивые. Документы изготовлены вручную на отечественной бумаге. Подлинными оказались только права на управление автомобилем. Для разбирательства с паспортом потребовалось еще несколько дней. Выяснилось: бланк паспорта «часовщика» являлся подлинным. Но вместо вытравленных записей об истинном владельце паспорта в него были внесены фамилия Моргуна и другие сведения. А впервые этот паспорт был выдан 12 декабря 1940 года городским отделом МВД Владивостока Лифанову Аркадию Сидоровичу. В архивах сохранилось его заявление о том, что он утерял этот паспорт в январе 1941 года.
Изучение документов и самой личности «часовщика» не позволило сделать вывода о его сотрудничестве с иностранной разведкой.
Итак, подводим итоги. Слово — следователю подполковнику Мазаловичу: «Считаю бесспорным: «часовщик» — это Хомяков Мирон Романович, 1915 года рождения, уроженец Кургана. В 1939 году он живет под чужим именем — Моргуна Егора Фроловича — в Бикине, затем устраивается в Ворошилове-Уссурийском и Иркутске с поддельными документами, в 1939 году, видимо, ищет возможность ухода в Маньчжурию…»
«Часовщика» задержали. При обыске у него изъяли небольшой чемодан с материалами и инструментами для подделки документов и шесть изготовленных на разные имена фальшивых аттестатов об окончании средней школы, специальных училищ, курсов шоферов, а также всевозможные самодельные резиновые штампы и печати.
Подоспело время первого допроса. Его поручили вести подполковнику Мазаловичу и мне. Как в таких случаях водится, обе стороны — и преступник, и те, кто допрашивает его, — с нетерпением ждут этого допроса. Одна сторона («часовщик») — потому что хочет скорее узнать, какими против него уликами располагают и что ему грозит; другая сторона — чтобы до конца разобраться с его правонарушениями.
Хомяков-Моргун высок ростом, строен, худощав. Лицо у него приятное, продолговатое, карие глаза чуть прищурены. На голове копна черных как смоль, густых, вьющихся волос. На нем — начищенные до блеска хромовые сапоги, кожаный реглан. Ничего не скажешь — «интеллигентная внешность»!
Он кидал по сторонам пристальные взгляды, его тонкие нервные пальцы холеных рук слегка вздрагивали. Но сидел он чуть подбоченясь и всем своим видом как бы говоря, что зря вокруг него что-то затевается, что он и не такое видывал.
Подполковник Мазалович объяснил требования закона о правах и обязанностях задержанного, спросил: «Назовите правильно свою фамилию, имя, отчество?» — «Разве вам неизвестно?» — спросил тот улыбаясь. «Прошу ответить на вопрос». — «Что ж, пожалуйста, я Моргун Егор Фролович». — «Предлагаем чистосердечно рассказать следствию, какие правонарушения вы совершили». — «Гражданин следователь, я жил, может быть, немного безалаберно, но, как говорится, честным трудом, ничем себя не скомпрометировал».
На вопрос о том, где он родился и чем занимался до задержания, Моргун изложил сочиненную им уже известную нам версию, что, дескать, родился в Барнауле, родителей не помнит, родственников не имеет. С малых лет воспитывался в детдоме, откуда сбежал и бродяжничал во многих городах, а в 1944 году осел в Иркутске. Из знакомых назвал лишь Прошина, Залесскую и Шевелеву, у которых ранее жил.
Мы снова предупредили задержанного быть искренним. Однако он, и глазом не моргнув, назвал почти все крупные города, расположенные в районе железнодорожной магистрали — от Урала до Владивостока, где якобы жил, заявляя, что точные адреса местожительства и предприятий, где работал, не помнит. В таком «ключе» продолжать допрос было бесполезно, и мы его прекратили. Моргун, как видно, стреляный воробей — не сознается ни в одном своем преступлении, пока не будет изобличен безоговорочными уликами.
В тот же день генерал Шишлин поинтересовался результатами первого допроса. Подполковник Мазалович, разговаривая с ним по телефону, доложил по всей форме. И вдруг лицо его, полное, обычно непроницаемое, с массивными очками на переносице, вздрогнуло от изумления.
«Товарищ генерал, — сказал он. — Рядом со мной майор Батищев, разрешите мне повторять ваши слова вслух, а он запишет?»
Подполковник медленно говорил, а я записывал: «Используя присланные вами отпечатки пальцев «часовщика», в архиве Хабаровского краевого управления МВД нашли анкету с идентичной дактилоскопией. Согласно анкете, на которой есть и фотокарточка, Хомяков — он же Моргун — является еще и Сиплым Викентием Львовичем, 1916 года рождения, уроженцем и жителем города Ачинска Красноярского края, осужденным в 1937 году за грабеж квартиры и убийство на 12 лет исправительно-трудовых лагерей. Есть сведения, что Сиплый утонул в Амуре 7 мая 1939 года. Анкету высылаем вам нарочным, следственное дело на Сиплого будет направлено вам в Иркутск из Красноярска».
Мы намеревались теперь допрос «часовщика» вести решительнее — по материалам обыска.
Но тот казался неунывающим и даже излишне самоуверенным. Когда охрана ввела его в следственную комнату, он даже чуть слышно насвистывал какую-то мелодию. На предложение следователя рассказать правду о себе, он ответил, что дал искренние объяснения еще вчера.
Тогда мы взялись за неотразимое оружие — за улики.
«При обыске у вас был изъят чемодан со средствами подделки документов. Когда вы начали свою преступную деятельность?» — спросил следователь подполковник Мазалович. «Это не мой чемодан, его хозяин, видно, Прошин». — «О том, что чемодан принадлежит вам, утверждают Прошин и понятые, показания которых вам будут оглашены. Что вы на это скажете?» — «Прошин и понятые меня оговаривают. Изъятый при обыске чемодан не принадлежит мне». — «На чемодане и находившихся в нем предметах обнаружены отпечатки ваших пальцев. Перед вами акт экспертизы. Ознакомьтесь и дайте объяснения по существу».
«Часовщик» лишь мельком взглянул на акт экспертизы: «Да, я вспомнил: действительно, видел в квартире Прошина похожий на изъятый при обыске чемодан. Очевидно, перепутал — открыл его однажды. Меня удивило содержимое чемодана: из любопытства мог потрогать лежавшие в нем предметы руками». — «В четырех поддельных аттестатах, на которых обнаружены отпечатки ваших пальцев, указаны фамилии заказчиков, которые установлены и допрошены, их показания оглашаются. Эти свидетели показали, что вы подделали для них аттестаты за деньги. Теперь вы намерены говорить правду?»
«Часовщик» молчал, наклонив голову и положив ладони на свою пышную черную шевелюру.
«Отвечайте на вопрос». — «Гражданин следователь, — вдруг просяще заговорил «часовщик», — а сколько дадут за подделку документов в виде промысла? До двух лет, кажется?» — «Отвечайте на вопрос», — снова потребовал подполковник Мазалович.
Обвиняемый, с трудом выдавливая из себя слова, рассказал, что он несколько лет подделывал документы, штампы, печати по просьбе знакомых.
«С какой целью это делали?» — «Обслуживал население: люди теряли, портили, нечаянно уничтожали документы, которые нужно было восстанавливать, вот я им и помогал…» — «Вы брали деньги за подделку документов?» — «Брал за… услуги… когда давали… Иногда изготавливал документы бесплатно». — «Все свидетели, показания которых оглашены, утверждают, что они платили вам деньги за подделку документов. Назовите тех, кому подделывали документы бесплатно?» — «Такие были, но их фамилий не помню».
«Часовщик» изворачивался, уходил от правдивых показаний. Поэтому надо было «вводить в допрос» все новые и новые материалы-улики. И они один за другим оказывались в наших руках. Вскоре мы получили анкету на Сиплого из Хабаровска, уголовное дело на него же из Красноярска, показания сестер обвиняемого, достаточно полные и правдивые, Лидии и Зинаиды. Под давлением всех этих неопровержимых улик ему все труднее было разыгрывать из себя невинность. Материалы, уличающие подследственного, мы расходовали экономно. Придерживались такого принципа: используя лишь небольшую часть бесспорных улик, добиться того, чтобы арестованный сам рассказал о совершенных им преступлениях, а с помощью припасенных материалов как бы сверять правдивость его показаний. Тем самым мы хотели подвести обвиняемого к даче исключительно правдивых объяснений по бикинскому периоду его преступных действий, который пока нас больше всего интересовал и о котором материалов было собрано маловато.
И вот начали допросы в духе выработанной нами тактики.
«Следствие настаивает, чтобы вы назвали свою настоящую фамилию и объяснили, почему ее скрываете?» — спросил на очередном допросе подполковник Мазалович. «Я — Моргун Егор Фролович, другой фамилии у меня не было». — «Вот справка Барнаульского загса о том, что Моргун Егор Фролович умер 18 мая 1942 года. Почему вы присваиваете его имя?»
«Часовщик» слегка побледнел и, как мне показалось, чуть вздрогнул, увидя справку загса, однако, преодолев в себе волнение, невозмутимо отвечал: «Моргуном являюсь я, а в Барнауле, видно, напутали, похоронив кого-то другого вместо меня. Я ведь живой…»
На эту реплику преступника подполковник Мазалович огласил показания матери и сестры Моргуна о том, что их сын и брат Моргун Егор Фролович умер в мае 1942 года и похоронен на городском кладбище в их присутствии.
«Что вы скажете по этому поводу?» — «Я правдиво объяснил, что являюсь Моргуном, и мне нечего добавить». — «Вам предъявляется анкета Хабаровского краевого архива МВД с фотокарточкой и оттисками пальцевых узоров и акт экспертизы, из которых видно, что вы являетесь Сиплым Викентием Львовичем, судимым в 1937 году. Вы признаете это?»
Ознакомившись с анкетой и актом экспертизы, «часовщик» втянул голову в плечи, но еще не сдавался.
«Это какое-то недоразумение, кому-то интересно путать». — «Если для вас и этого мало, предъявляем вам справку Курганского загса о том, что вы являетесь Хомяковым Мироном Романовичем, что ваши родители умерли и похоронены в городе Кургане, а сестры Лидия и Зинаида проживают: первая — в Херсоне, а вторая — в Новосибирске. Теперь вы намерены давать правдивые показания о себе?»
И тогда выдержка изменила «часовщику». Он затрясся в истерике, толстая шея его побагровела, со злобой прокричал: «Ваша взяла!.. Докопались!.. Это же надо!.. Столько ходили по моим следам! Ладно… теперь мне все равно…»
Теперь Хомяков-Моргун-Сиплый в основном правдиво рассказывал о совершенных им преступлениях. Порой пытался отклоняться от истины, но, используя улики, мы незамедлительно заставляли его возвращаться к правде. О личности «часовщика» и его делах мы уже немало знали, но кое-что к этому добавилось как результат его признания.
…В 14 лет, оставшись без родителей, Хомяков Мирон бросил своих младших сестер и ушел бродяжничать. Порой устраивался где-нибудь на работу, но главным образом занимался мелкими кражами. В 1937 году в городе Ачинске он и его напарник Лабин при ограблении квартиры одинокой женщины умертвили ее, вложив в рот кляп таким образом, что она задохнулась. Через несколько дней грабителей поймали. При обыске у Мирона Хомякова изъяли ранее похищенный им из кармана неизвестного вместе с деньгами билет члена Осоавиахима (без фотокарточки) на имя Сиплого Викентия Львовича, Этим именем он тогда на суде и назвался, заявив, что места рождения и родителей не помнит. Как Сиплого его осудили за грабеж и убийство на 12 лет. Отбывая наказание в лагерном отделении, во время сплава леса бежал из-под стражи, введя охрану в заблуждение — будто бы он утонул в Амуре. Разыскивать его не стали. Добравшись в мае 1939 года до Хабаровска, он выкрал у спавшего на железнодорожном вокзале Моргуна Егора Фроловича справку об освобождении из исправительно-трудового лагеря, наклеил на нее свою фотокарточку и с этим документом направился поездом в сторону Владивостока.
Преступник сказал на допросе: «Я решил, что Моргун Егор возвратится домой на Алтай. Потому и поехал в обратную сторону, чтоб с ним случайно не встретиться…»
На железнодорожном вокзале Хабаровска, знакомясь с расписанием поездов, наткнулся в нем на станцию Бикин. И тут вспомнил солагерника Торопова, жителя этого города. В лагере он пооткровенничал с Мироном Хомяковым: зря, мол, откачнулся от помощи Горбыля Леона, который тоже проживал в Бикине, — осторожного и опытного контрабандиста. Хомяков Мирон и надумал познакомиться с Горбылем. Прибыв в Бикин, работал здесь грузчиком на лесокомбинате, жил в общежитии речного порта. Недели через две получил в лесокомбинате положительную характеристику — не без помощи начальника речного порта, которому «угодил» при разборке плотов с лесом, сплавляемым с верховьев этой реки. На основании той характеристики и липовой справки об освобождении местная милиция выдала ему одногодичный паспорт. В свободное от работы время он бродил по городу — подрабатывал на ремонте часов, к чему уже давно испытывал пристрастие. Однажды, зайдя вечером к Горбылю, починил ему двое старых ходиков. Денег за работу не взял, но попросил Горбыля помочь подыскивать среди местных жителей «часовую клиентуру». Одинокому Горбылю, видно, приглянулась обходительность нового знакомого, и он с охотой выполнял его просьбу: стал зазывать эту «клиентуру» в свой дом для «часовщика». Здесь тот по вечерам и ремонтировал часы.
Наконец «часовщику» показалось, что он достаточно сдружился с Горбылем, начал его потихоньку прощупывать насчет возможности ухода в Маньчжурию.
Хомяков понимал, что ему трудно будет укрываться под именем Егора Моргуна и что рано или поздно его найдут и снова водворят в лагерь. Поэтому он хотел с помощью Горбыля — чтоб без особого риска — уйти за границу, где бы можно устроиться часовым мастером. Решение это созрело не сразу, хотелось еще посоветоваться с Горбылем, который Хомякову все более нравился. Он однажды и завел разговор о трудностях покупки запасных частей к часам, особенно иностранных марок. Горбыль только поддакивал, ничего сам не предлагая. Хомяков спросил у него, нельзя ли добывать запчасти к часам в Маньчжурии через какого-нибудь китайца. Это был всего лишь как бы пробный вопрос, но и он насторожил и растревожил старика. Он с негодованием сказал, чтобы приятель выбросил из головы свои дурные мысли. В июне 1939 года Хомяков уехал в Ворошилов-Уссурийский, где смог устроиться на работу часовым мастером. Перед отъездом заходил к Горбылю, который встретил гостя холодно, хотя и сказал на прощание, чтобы тот приезжал к нему, если будет какая нужда.
В Ворошилове-Уссурийском Хомяков неплохо зарабатывал, но чувствовал себя неуютно. Над ним постоянно висела угроза задержания. Бывая иногда во Владивостоке, он искал и там пути ухода за границу, знакомясь с моряками, но… тщетно.
Время шло, нужно было что-то предпринять — срок действия паспорта истекал, а при его продлении могли бы разоблачить преступника. На ум все чаще приходил рассудительный Горбыль, его приглашение приезжать к нему, если будет нужда. Казалось, что в этот раз можно подобрать ключи к сердцу старика, чтобы скрыться за границей. Не видя другого выхода, Хомяков решил теперь уже в открытую поговорить с Горбылем. Для него во Владивостоке он приобрел «презент» — прорезиненный плащ и позолоченные часы — и в сентябре 1939 года прибыл в Бикин. Здесь узнал, что Горбыль месяц назад умер. Возвратясь в Ворошилов-Уссурийский, Хомяков поразмыслил и наметил для себя другую линию жизни. Он напрочь отказался от мысли бежать в Маньчжурию. Спасение для себя от правосудия он увидел в другом: наловчился мастерски изготовлять фальшивые документы. Торговал ими и сам пользовался. Липовые бумаги собственного изготовления помогли ему уклониться от действительной службы в армии, а в войну отсидеться в тылу. Он даже сумел в 1944 году переменить место жительства — перебрался из Ворошилова-Уссурийского в Иркутск…
Дрозда Назара никогда Хомяков не знал. Его солагерник Торопов подтвердил, что действительно рассказывал ему о Горбыле.
Итак, столь тщательное разбирательство дела «часовщика» не подтвердило предположения о возможной его связи с иностранной разведкой. Преступные пути Хомякова и Дрозда Назара в Бикине перекрестились случайно. Они ничем не были связаны и даже не были знакомы. Однако в поле зрения чекистов Хомяков попал отнюдь не случайно — это был крупный уголовный преступник, укрывавшийся от правосудия.
Уголовное дело на Хомякова мы передали прокуратуре Иркутской области и в тот же день возвратились в Хабаровск… А в конце марта того же года закончили следствие и по делу Дрозда Назара.