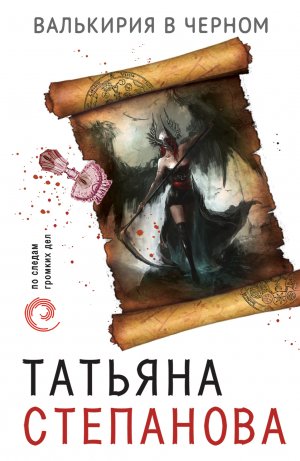
Глава 1
НАЛОЖЕНИЕ КАДРОВ. ВАЛЬКИРИЯ
Много лет назад
Скрипучая пластинка на патефоне. Музыка Вагнера – увертюра к «Тангейзеру». То место, где тромбоны и потом широко вступают струнные – скрипки и виолончели.
Кто-то поставил эту пластинку на патефон только что, ведь до этого слушали лишь всякую эстрадную дребедень, танцевали танго. Возможно, пластинку поставила она, прервав на середине песенку из довоенного фильма «Привет, Жанин!». Она любила ее исполнять, акцент почти не был заметен, она пела лукаво, с хрипотцой, когда выходила на сцену – обольстительная, длинноногая в блестящем боди и страусовых перьях – и начинала отбивать чечетку.
«Тангейзер»… то место, где тромбоны ликуют, зовут за собой вперед и вперед. Туда…
Гауптштурмфюрер Гюнтер Дроссельмайер снова попытался крикнуть, позвать на помощь. Но не смог издать ни звука. Губы онемели, он уже не чувствовал их. Не чувствовал ни ног, ни рук, дыхание со свистом вырывалось из его груди – еще немного, и полный паралич.
А в спальне, откуда она только что вышла, корчился на полу в смертельной агонии его брат Вилли.
Как-то до войны во время отпуска в Альпах они сидели у костра, и Вилли был так хорош – светловолосый, решительный, сильный. Его обожали женщины. Они чувствуют, ценят силу инстинктивно, как животные. Он, не задумываясь ни на секунду, доставал из кобуры пистолет и стрелял, не целясь. Оберштурмбаннфюрер СС Кляйхе так хвалил его за столом. Всего час назад, когда все они сидели в комнате за накрытым столом.
А сейчас брат Вилли бился в судорогах, царапая ногтями дощатый пол. Занозы под ногтями… Его губы, закушенные от боли. А ведь только что там, в спальне, он губами, зубами стаскивал шелковые чулки с ее стройных длинных ног. Вон и его китель – на спинке стула. Он раздевался в спешке, забыв от возбуждения об аккуратности и приличии – отстегнул, швырнул свои офицерские подтяжки.
Тогда давно в Альпах у костра они говорили о войне. И гауптштурмфюрер Гюнтер Дроссельмайер все пытался объяснить своему младшему брату Вилли, что война – она не то, чем кажется. Не то, что видишь, когда смотришь кино.
Вилли лишь улыбался и отвечал, что на войне как на войне. И война вообще ему нравится. И вот там, в спальне, вспомнил ли он об этом в свой смертный час?
А в соседней комнате вокруг разоренного праздничного стола – на полу, на стульях, на кресле – как сбитые кегли, валялись, издыхали гости оберштурмбаннфюрера Кляйхе. Сам он уже умер, рухнув на подоконник зарешеченного окна, когда хотел выбить стекло и позвать на помощь.
Все окна тут и правда зарешечены, нет, не как в тюрьме, просто в целях тотальной безопасности. Охрана по периметру территории, во дворе и в самом здании, стена, колючая проволока, ток, немецкие овчарки, вышка с автоматчиками. Не тюрьма и не концлагерь, даже не разведшкола в лесу. А нечто среднее между офицерским общежитием, клубом, санаторием и казино, куда они приезжали отдыхать по вечерам – нечасто, когда на войне (пусть они и ошивались в тылу вдали от передовой) выпадал свободный вечерок от облав, зачисток, расстрелов и публичных казней через повешение на главной площади города.
Они приезжали сюда вместе с оберштурмбаннфюрером Кляйхе встряхнуться, выпить, поиграть в карты, привозили женщин. Тут все под охраной, тут можно отдохнуть от гари пожарищ, рева танков, налетов, мин, заложенных на дорогах, от пуль и от партизан, автоматных очередей, допросов, от всей этой бумажной волокиты, которой на войне, как ни странно, – много, от крови, от криков тех, кого там, в тюремных карцерах, следователи допрашивают и пытает палач. Вилли никогда не брезговал этой работой. Он говорил, что всякая работа ради Рейха почетна.
Увертюра к «Тангейзеру», то место, где тромбоны…
Сколько еще будет длиться эта музыка…
Ровно столько, чтобы понять, осознать, догадаться, что они сами привезли свою смерть с собой.
Они привезли ее сюда.
Куда был добавлен яд? В шнапс? В бокалы с шампанским? В тирольский пирог, что так любил братец Вилли?
Во всё. Когда они садились за стол, перебрасываясь шутками, когда поднимали свой первый тост, они все уже были мертвы. Пир мертвецов.
Гауптштурмфюрер Гюнтер Дроссельмайер более не чувствовал свое парализованное тело, но еще жил, еще видел.
Как там показывают в кино – заснеженное поле и среди снега и льда мертвые солдаты. И валькирия кружит над полем.
Ее крылья…
Нет, теперь умирая, он знал наверняка – ее крылья не похожи на крылья стальных имперских орлов, они огромны и черны – кожистые, как у летучей мыши, все в струпьях и язвах.
И вот она опустилась и приблизила лицо свое к его лицу. Узкое, прекрасное девичье лицо с высокими скулами, что и есть красота, с льняными кудрями, упавшими на лоб.
Такое жадное любопытство в глазах ее. Она смотрит, как он умирает. Как издыхают они все – братец Вилли, что с ума сходил по ее телу, ее ногам, в шелковых чулках, в черных туфельках, отбивавшим чечетку, оберштурмбаннфюрер СС Кляйхе, расстрелявший подполье в Кракове и в Праге, но не сумевший понять, разгадать…
Они все… И даже Тангейзер. Пластинка на патефоне все еще играет, но музыка глохнет. И все меркнет, покрывается трещинами и паутиной, распадается, отступая во тьму. Словно кадры старой кинохроники на бледном экране. А потом на старую пленку накладывается новый кадр. Что там в этом новом кино и каковы главные герои, гауптштурмфюрер Гюнтер Дроссельмайер не видит. Он давно уже мертв.
Но музыка жива, пробиваясь сквозь новый кадр, новую реальность, новые громкие звуки – рокот вертолета над крышами, полицейские сирены, сирены «Скорой», оглушительный «Рамштайн», рвущийся наружу через открытое окно чьей-то машины, вставшей на светофоре.
Глава 2
НА ПЕРЕКРЕСТКЕ У СВЕТОФОРА
Наши дни
В 7.30 выезд с шоссе от Баковки на федеральную трассу в сторону Москвы еще свободен. В 7.40 тут у светофора уже собирается пробка. Это знают все водители Электрогорска и все окрестные дачники, которые летом выезжают спозаранку со своих «фазенд», торопясь в Москву на работу.
Разница всего в десять минут, но какие это минуты… Потом, когда начали разбираться и искать очевидцев, выяснилось, что тот внедорожник «Шевроле» – не новый, серебристого цвета с тонированными стеклами – подкатил на перекресток к светофору около 7.30 со стороны Баковки. В этот момент как раз на светофоре зажегся красный свет и внедорожник остановился.
Тонированные стекла были подняты, но водитель фуры, вставшей рядом с ним, слышал музыку, доносившуюся из салона. Допрошенный впоследствии сотрудниками ДПС, он описал ее как «громкую, будоражащую» – «типа хеви-метал – бах-бах, лязгает, грохочет».
Знатоком музыкальным водитель фуры оказался плохим, «в группах и стилях не разбирался», как метко подметили в рапорте сотрудники ДПС, и «убыл» с перекрестка, свернув на федеральную трассу, как только зажегся зеленый свет.
Внедорожник «Шевроле» не тронулся с места.
Снова зажегся красный свет, и в хвост внедорожника пристроилась пара машин. Водителя одной из них – «Тойоты» – впоследствии тоже допросили сотрудники ДПС. И он показал, что видел джип на светофоре (он все внедорожники именовал джипами) и слышал музыку, грохотавшую в салоне.
– «Рамштайн». Я сам их люблю, зажигают круто парни. Как раз чтоб проснуться.
Светофор дал зеленый свет. Машины тронулись, «Шевроле» остался на месте. Громоздкий бензовоз, подъехавший сзади, посигналил нетерпеливо. Но внедорожник не двинулся. И бензовоз начал неуклюже объезжать его. Шофер негодовал, он, проведший четверть века за баранкой, ненавидел всех без исключения «богатых ублюдков», разъезжающих на иномарках и «заполонивших дороги».
Зеленый свет…
Красный…
Снова зеленый…
За «Шевроле» выстроился уже целый хвост машин. Все ожесточенно гудели. Потом начинали объезжать.
– Заснул, что ли, на фиг?
– Эй, хоть бы аварийку включил!
– Это что тебе тут, бесплатная парковка, блин?!
Зеленый свет…
Красный…
Зеленый…
Красный…
Время близилось к восьми часам утра. Пробка на выезде на федеральную трассу в сторону Москвы росла как на дрожжах.
– Да постучите вы ему в стекло!
– Уже стучали сто раз, без толку.
– А где гаишники? Когда надо, их нет никогда.
– Вон зеленый зажегся, поехали.
Гигантская пробка, растянувшаяся уже до Баковки, медленно обтекая застывший в ступоре «Шевроле», заполонила уже и встречную полосу. Машины, поворачивавшие с федеральной трассы в сторону Электрогорска, возмущенно гудели.
Зеленый…
Красный…
Серебристый внедорожник…
В какой-то момент музыка, доносившаяся из салона, смолкла. Как потом показывали опрошенные очевидцы-водители, из машины никто не выходил, никто и не садился во внедорожник. В салоне в магнитоле во время обыска впоследствии обнаружили диск группы «Рамштайн». Видимо, музыка умолкла, когда диск закончился.
– Там вообще кто-нибудь есть за рулем? Может, оставил машину и смылся?
– Как это смылся?
– Ушел. Или сбежал. Угнал тачку и бросил на светофоре.
– Нет, там кто-то сидит за рулем. Плохо видно, окна темные.
– Так постучите ему, разбудите! Пьянчуга проклятый!
– Уже сто раз стучали, кричали.
Машины, пробираясь, как в тесном ущелье, проезжали мимо. Все торопились по делам в Москву.
Лопнуло терпение у женщины за рулем старенькой «Хонды». Она лишь недавно научилась водить, ездила на дачу, трясясь как осиновый лист от страха на дороге, не умела парковаться и совершать объездной маневр. Она попыталась объехать внедорожник справа, но испугалась, что ей не хватит места и она завалится в кювет. И вот она сама встала намертво за багажником проклятого «Шевроле», понимая, что угодила в дьявольскую ловушку на светофоре.
Она выхватила мобильник из сумочки и набрала сначала 112 – гудки, потом привычное 02.
– Алло! Алло! Полиция? Это, конечно, не мое дело, но тут машина на перекрестке стоит уже, как говорят, больше часа и ни с места. Всю дорогу загородил придурок! Где? На светофоре, как на главную выезжать. Что? Ах вам уже звонили… А когда подъедет инспектор?
Машина ДПС, еле пробившись сквозь пробку, прибыла к светофору в 9.15. Два инспектора подошли к внедорожнику. Им оглушительно гудели водители со всех сторон.
– Уберите его отсюда!
– Алкаш!
– Да небось обколотый весь под кайфом!
Инспектор ДПС наклонился к тонированному стеклу. Постучал властно.
– Эй!
Нет ответа.
– Эй, откройте, ваши документы!
– А может, нет там никого?
– Как нет, вижу сидит за рулем, силуэт вижу.
– Может, плохо человеку стало? – забеспокоился второй. – Эй, гражданин, откройте дверь!
Глухо.
– И что делать будем?
– А если у него с сердцем плохо? Неси гаечный ключ или домкрат.
Под одобрительный свист и гудки инспектор ДПС, вооружившись домкратом, осторожно тюкнул в стекло со стороны пассажирского сиденья – чтобы не поранить осколками того, кто не отвечал и не трогал машину с места. Стекло не поддалось, и тогда он ударил изо всех сил.
Грохот, звон, стекло обрушилось на сиденье.
Сотрудники ДПС увидели мужчину, уткнувшегося в руль.
– Что с вами? Очнитесь! Вам плохо?
Инспектор ДПС нащупал кнопку на приборной доске и открыл двери внедорожника. Его напарник тут же сунулся в салон, он попытался усадить водителя, приподнял его, но руки… руки того намертво вцепились в руль.
– Он мертв!
– Ты посмотри на его лицо.
– Что? Я говорю – он умер, наверное, инфаркт.
– Может, и сердце, но… нет, ты глянь на его лицо.
Инспектор ДПС медленно повернул к напарнику голову водителя внедорожника. И напарник, видавший за десять лет службы в ГИБДД столько аварий, столько мертвецов, столько всего, что хватило бы на целый полк ДПС, испуганно отшатнулся.
Глава 3
БЛАГОВОНИЯ
Большая комната на втором этаже дома, превращенная Натальей Пархоменко из супружеской спальни в домашний храм, всегда хранила полутьму и терпкий сладкий аромат благовоний.
Окно всегда в любое время суток защищают от любопытных взоров жалюзи, плотные шторы струятся от высокого потолка вниз – синие, как горный водопад в Гималаях. На полу – толстый турецкий ковер, супружеская кровать убрана, вместо нее – узкая кушетка с подушками и валиками и москитная сетка над ней – как розовая дымка. От подмосковных комаров. Но они никогда не залетают сюда из сада – ни ночами, ни по утрам. Их губит, душит угар благовоний, что исходит от бронзовых индийских курильниц, где всегда тлеет благовонная смесь.
Ладан и мирра…
Сандал…
Жасмин…
Лотос…
Мускус…
Пачули…
Из музыкальной системы, встроенной в стену, льется музыка Кришны Даса.
ОМ НАМАН ШИВАЙЯ…
ОМ ШИВАЙЯ…
Ударные мерно отбивают ритм, глухо рокочут барабаны. Там, в долинах Гималайских гор.
В новомодной электронной фоторамке на стене – изображение бога Кришны. Прекрасноликий пастух, кожа неземного синего цвета. Это цвет страсти, цвет любви, цвет ночи.
Наталья Пархоменко – в прошлом энергичная, успешная замужняя сорокалетняя дама, а ныне (вот уже полтора года) вдова… бездетная, одинокая, живущая в этом богатом особняке на хлебах свекрови и младшего брата мужа, – сидит на полу, поджав стройные ноги, босые и курит папиросу-самокрутку, с наслаждением вдыхая терпкий дым.
Не табак. Курительная смесь.
Не та, что продается в вонючих ларьках у метро.
А настоящая, подлинная, из Индии.
Капелька гашиша не повредит.
Синеликий Кришна взирает на нее из меняющей цвет, как хамелеон, электронной фоторамки с великим терпением. Он понимает и прощает ее слабость.
Полтора года, как вдова. Потеряла мужа, которого очень любила. Да, он был успешен и богат. Да, владел здесь, в подмосковном Электрогорске, акциями завода, фармацевтической фабрики и банком. Но она любила его не за это. Как объяснить – за что, если не за деньги и собственность? Вон и свекровь, Роза Петровна Пархоменко, тоже, наверное, любившая его, как мать сына, не понимает. Считает – лжет Наташка, все лжет, прикидывается. Овдовела, а теперь только и ждет, как получить свою долю собственности из наследства и капитала и смыться из этого дома за границу.
Ведь уже смывалась. Уезжала, пропадала на полгода.
Наталья Пархоменко глубже затягивается, вдыхая ладан и гашиш. Да, верно, она покидала этот дом. Полгода в странствиях, в путешествиях по Индии и Гималаям. Дели, Варанаси, долина Ганга, Дарджилинг, Кашмир.
Джунгли, напитанные муссонами, а потом высушенные, сожженные солнцем. Нагорья Раджастхана, крепости и замки, храмы, отели, ужасные проселочные дороги, где вязнут грузовики. Пыль, пыль, пыль…
Священные коровы…
Святые змеи, кобры Наги в храме на горе…
Их яд…
Адская давка на вокзале в Харагпуре, когда толпа штурмовала пассажирский поезд. Люди вскакивали на подножки вагонов и лезли на крышу. Как в советских фильмах про гражданскую войну.
Там же, в Варанаси, куда она приехала еще в облике русской туристки – в джинсах, в футболке, с багажом, и отправилась в таком виде осматривать храмы, кто-то в толпе бросил ей за ворот горсть толченого стекла.
Боль такая, словно с вас содрали кожу.
Она едва не потеряла сознание на ступеньках храма. И кто-то из местных потащил ее в аптеку.
Ту аптеку…
Скорее крохотную лавку на задворках храма, которую она потом так полюбила и посещала часто, все время, пока жила в Варанаси и ходила на Гхаты.
Сидеть на каменных выступах, серых от пепла. Смотреть, как жгут…
Как потом бросают кости и прах в Ганг.
Прах к праху… В воду, что все смоет и все очистит, всю скверну.
Когда убили мужа…
Его застрелили на их кипрской вилле прямо в бассейне.
Он сказал ей перед той поездкой… что же он сказал, ах да… что летит на Кипр по делам приобретения собственности на побережье банком. Пятница, суббота, воскресенье. Какие сделки совершаются в уик-энд?
Муж угнездился на их приморской вилле вместе со своей секретаршей. Они резвились в бассейне голышом, когда раздался выстрел.
Киллер… заказное убийство – так потом сказали и в местной полиции и уже здесь, в прокуратуре и МВД. Киллер, заказное убийство. У вас и вашей семьи есть какие-то подозрения, кто мог это сделать? Кто мог заказать его там, за границей?
Первое время следствие возлагало какие-то надежды на любовницу-секретаршу. В нее тоже стреляли. Пуля попала ей в голову, но врачи сделали операцию, обещали, обещали, обнадеживали.
Она осталась жива, но жила все эти годы как овощ. Никаких показаний, никакой помощи в расследовании – ничего, пуля задела что-то важное в мозгу.
Жаль…
Ах как жаль…
Наталья Пархоменко затянулась курительной смесью глубже.
Кипр уже как-то стерся из памяти.
Индия все перекрыла собой.
Кришна Дас поет мантру. И нет ничего более умиротворяющего. Надо любить, надо прощать. Она любила своего мужа.
Она все еще любит его.
До сих пор.
Ом наман шивайя…
Там, в Индии, в городе Варанаси, дымном от смога миллиона погребальных костров, сером от пепла сожженных тел, ей казалось, что она постигла природу любви.
Урок с толченым стеклом пошел впрок. Она скинула джинсы и футболку, оделась в сари, покрасила волосы, став брюнеткой, загорела как черт, да еще постоянно пользовалась атвозагаром. В общем, изживала напрочь свой европейский тип, маскировалась под местную. И ей это мастерски удавалось.
Если живешь там, надо жить как там.
Если возвращаешься сюда, нужно жить как здесь.
Не получается?
Тогда и тут маскируйся.
Дверь, занавешенная тяжелыми восточными шторами, со скрипом открылась. И на пороге возникла свекровь. Тучная Роза Петровна Пархоменко.
После похорон сына она еще больше потолстела и теперь с трудом поднималась по лестнице на второй этаж.
Но вообще-то сил и энергии в ее семьдесят лет им всем бы хватило с избытком.
– Опять обкурилась! Мать твою! – зычно возгласила Роза Петровна. – Наташка, ты давай это кончай в моем доме. Вонь уже вниз в холл прет. Что это у тебя там за дрянь сегодня?
– Благовония.
– Это благовония?!
– Жасмин, мама.
Да, Наталья Пархоменко звала свою тучную крикливую властную свекровь кротко «мама», так же, как когда-то и муж. Так же, как сейчас и младший брат мужа Михаил, Мишель.
– Давай кончай. Я кондиционер сейчас везде включу, – Роза Петровна в полутьме шарила по стене в поисках выключателя и настенного пульта кондиционера.
– Пожалуйста, не надо.
– О твоем же здоровье пекусь, дура.
– Спасибо, мама.
– Ты сделаешь, что я прошу?
– Что?
Курительная смесь начала действовать, и все уплывало… качалось… Шелковое сари, что она купила в Дели, посадка на поезд в Дарджилинге, ночь с тем немецким студентом в горном отеле, которую они провели вместе… изумрудная вода в бассейне кипрской виллы, подкрашенная кровью.
– Ты сделаешь, что я прошу? – повторила свекровь Роза Петровна.
– Да.
– Не слышу.
– Да, да, уже… я стараюсь.
– Не забывай, он ведь тебе муж был. Не только мой сын. Но и твой муж.
– Да.
– Если на весы-то положить, что больше потянет, а?
Там, в крохотной лавке-аптеке, где смазали целительной смесью сливочного масла и коровьей мочи ее раны и ссадины, причиненные толченым стеклом, имелись допотопные аптекарские весы.
На их бронзовые чаши ловкой рукой аптекаря бросались маленькие серые шарики – то ли воск пополам с цветочной пыльцой, то ли паутина с пеплом и соком гевеи. Но это было ни то, ни другое.
Наверное, яд.
– Мама, вы устали, присядьте, – Наталья Пархоменко рукой с зажатой папиросой показала на кушетку.
Роза Петровна хотела было захлопнуть дверь. Но передумала. И, переваливаясь, устремилась к кушетке.
Грузные шаги ее попадали точно в ритм музыки Кришны Даса. А ноги тонули по щиколотку в мягком ворсе турецкого ковра.
Глава 4
ПЕРЕД ЮБИЛЕЕМ
Адель Захаровна Архипова по обыкновению проснулась поздно, около полудня. Встала с кровати и первым делом прислушалась к себе. Она это так называла – прислушиваться к себе. Давление как? голова, а ноги как? суставы? В коленках мозжило, но голова не кружилась. День за окном спальни сиял солнцем, дышал свежим ветром.
В саду слышались громкие женские голоса, девичий смех.
Сноха, внучки. Уже позавтракали, радуются жизни. Старшая внучка Гертруда вчера получила права, теперь будет водить отцовскую машину – ту, что стоит в гараже вот уже три года. А водителя наемного, что же, значит, в шею теперь? Ну нет, она, Адель Захаровна, этого не допустит. Она пока в этом доме хозяйка. И Пашка-водитель как служит, так и будет служить, получать зарплату. Он и водитель, и охранник. Пуля ведь его тогда там, на проспекте Мира, тоже не пощадила, когда они вместе с Борисом, ее сыном покойным, приехали, на свою беду, туда.
Ладно. Что сейчас о покойнике-то вспоминать? Это все уже… нет, не выболело, не сгорело, как можно – она ведь мать ему. Это все в сердце, там, глубоко. Но об этом не сейчас.
Такой хороший день. Такой божественно прекрасный день. И ничего, кроме коленок, вроде не болит, ничего, кроме ревматизма. И давление в норме. И голова ясная, не надо пить ни бетасерк, ни пирацетам.
Через несколько дней – семьдесят лет стукнет. Кто бы когда сказал ей… кто бы тогда сказал им, девчонкам… ей и Розе Пархоменко, что вот доживете вы до семерки с нулем.
И станете красить седые свои косы (тогда были косы, не сейчас, сейчас стрижка модная – парикмахерша на дом приезжает).
И начнете курить, несмотря на категорические запреты всех докторов.
Считать морщины.
Глотать таблетки.
Думать о том, как прожита жизнь.
Жадничать по мелочам.
Завидовать юности.
Скорбеть и плакать на похоронах.
Молиться, тайком, когда никто не видит, – не о здоровье, не о благополучии, не о достатке (достатка в избытке), а о том, что не выскажешь вслух.
Адель Захаровна пошла в ванную. Она имела свою личную ванную на втором этаже рядом со спальней. Внучки делили одну на троих. Сноха Анна имела свою – там даже биде стояло. Вот так-то.
Так захотел, пожелал и сделал при строительстве этого дома, да что там – особняка, каких поискать, ее сын Борис, муж Анны.
Чтобы все как за границей в богатых домах – в Швеции, в Дании, где он так любил бывать. Он вообще считал, что уклад жизни надо менять, ориентируясь именно на скандинавские страны. Там и климат такой, как наш, холодный, а вот они приспособились. Выбрали особый архитектурный стиль, особый дизайн. Технику свою. И все работает. И чем нам изобретать свой российский велосипед, так уж лучше копировать шведов или финнов.
В общем, имел он такую свою чисто личную точку зрения – ее ныне покойный сын Борис. Тогда, при его жизни, Адель Захаровна с ним не соглашалась. Сейчас бы сказала – верно, сынок. Полностью с тобой согласна, солидарна, ты только живи.
Умер сын.
Убили.
Застрелили в тихом дворе в Москве на проспекте Мира три года назад.
А он ведь Москву не любил. Словно как чувствовал. Они всегда жили под Москвой, в городе Электрогорске. Где станкостроительный завод. Где пущен по городу из старого конца в новый – трамвай. Ни в одном городе Подмосковья трамваев нет, только автобусы, маршрутки. А в Электрогорске сохранился. А кто тому причиной? Отец покойный Адель Захаровны – начальник трамвайного депо, а потом как пошел в гору на должность в райкоме – начальник транспортного отдела. И сын Борис начинал работать как транспортник, а в девяностых занялся бизнесом. И так оно все сложилось удачно… У них, у них сложилось удачно – у него и его приятеля закадычного, Сашки Пархоменко. И откуда деньги-то взяли сначала? Организовали банк. Нет, сначала приватизировали фармацевтическую фабрику. Затем создали банк. А потом… потом уже Борис забрал в собственность акции станкостроительного завода. Не один, конечно, – его фирма, которую он к тому времени уже имел.
Ее сын стал хозяином завода, на закопченную трубу которого они смотрели еще девчонками с Розой Пархоменко. Это ж надо жизни так обернуться круто?
Заводской гудок в пятидесятых, когда они в школе учились, будил их по утрам. Будил весь город. А в шестидесятых гудок отменили. Но Электрогорск все равно просыпался рано.
У Розы Пархоменко мать работала на заводе в профкоме.
А потом через полвека сын Адель Захаровны Борис стал владельцем всего этого – заводских корпусов, цехов, КБ, складов, Дома культуры, столовой, учебных зданий бывшего заводского ПТУ. В общем, половины города Электрогорска.
Может, кто-то подумает, что, получив в собственность, ее сын похерил завод? Нет. Завод дышит, сводит концы с концами. Правда, действуют всего два цеха и собирают там уже не станки, а мебель, и пилят брус, но кому какое дело? Производство-то осталось, и рабочие места. И город живет.
Благодаря заводу.
Будь он благословен.
Будь он проклят во веки веков.
Этот завод они с Сашкой Пархоменко, корешем детства, компаньоном, почти братом… да, почти братом, друг с другом не поделили.
И тот выстрел киллера среди бела дня в центре Москвы на проспекте Мира…
Адель Захаровна стояла в ванной, включив воду, и смотрела на себя в зеркало. Через несколько дней – юбилей. Семьдесят лет. Подводя итоги… сын ее убит, завод ныне продан, денег у их семьи много. Внучкам – старшей Гертруде, средней Офелии, младшей Виоле – хватит до конца их дней.
Компенсирует ли капитал потерю?
Помнят ли девчонки отца?
Помнят, конечно, и до сих скорбят, печалятся. Они молодые.
Они такие молодые…
Адель Захаровна намылила лицо. Ополоснулась прохладной водой, вытерлась полотенцем. А мы ведь с Розой Пархоменко в их возрасте были попроще. Нет, все тоже казалось тогда таким сложным, убийственно сложным.
Но зато мы были красивее. Я и она, моя Роза.
Так я ее называла тогда – утром, просыпаясь, радуясь, что увижу ее, мою подругу. И целый день вместе.
И ночью, засыпая… вспоминая, как провели вместе день.
Адель Захаровна покинула ванную и начала неторопливо одеваться, чтобы сойти вниз в кухню – столовую их большого дома. В уме она прикидывала, какому ресторану родного Электрогорска поручить организацию банкета по случаю своего грядущего семидесятилетнего юбилея.
Еще два года назад о каких-то праздниках не шло и речи. В этом доме царил глубокий траур. Адель Захаровна, никогда особо не верившая в бога, жарко молилась об отмщении.
И ее молитвы услышали.
А раз так, раз главное дело свершилось, можно подумать и о себе. Денег на банкет не пожалею, решила Адель Захаровна. Пусть город видит, что Архиповы все еще здесь. Что ничего не кончилось для нас, Архиповых, а все только начинается. И пусть ОНА тоже это знает.
Моя Роза…
Подруга, названая сестра моя…
Которая сейчас не со мной.
Глава 5
ПОДОЗРИТЕЛЬНАЯ СМЕРТЬ
– В общем, очень подозрительная смерть. И дело мне это не нравится. Хорошо, что его у нас забирают.
Начальник управления криминальной полиции полковник Федор Матвеевич Гущин выдал эту фразу на Катин любопытный вопрос:
– А почему это в Главке сегодня столько военных?
Катя – Екатерина Петровская – криминальный обозреватель пресс-центра ГУВД Московской области – вот уже неделю работала в выездной командировке вне стен родного Главка. В общем-то, недалече – в Ивановском переулке в стенах бывшего монастыря, с давних пор облюбованного правоохранительными органами под разные вспомогательные и учебные заведения. Там располагались склады, несколько монастырских зданий занимал институт МВД. Здесь же когда-то гнездилась и знаменитая «старая» киностудия МВД. Сейчас же от нее остался только архив.
Архив готовили к списанию и утилизации в ходе всеобщего глобального реформирования ведомства. И Катя мечтала урвать для себя в ходе этой неизбежной реформации какую-нибудь (какую угодно) сенсацию для интернет-изданий из криминальной хроники былых времен. Но дело пока продвигалось туго – кроме допотопных старинных учебных фильмов о том, как «применять на практике навыки криминалиста», ничего интересного среди дряхлой кинохроники не попадалось.
А в Главке тем временем творились какие-то странные дела.
– Чего это армия нагрянула? – спросила Катя полковника Гущина, который, несмотря на свой пост и тридцатилетний стаж работы в уголовном розыске, весьма лояльно относился к сотрудникам ведомственной прессы.
Разговор происходил в кабинете Гущина при закрытых дверях. В коридорах розыска мелькали люди в военной форме. Двое хмурых полковников покинули кабинет Гущина как раз перед тем, как Катя вошла в приемную.
– Что у нас нынче, среда? – хмыкнул Гущин. – Арестовывают всегда по пятницам.
– Я серьезно, Федор Матвеевич. Что случилось?
– Покойника в машине нашли прямо посреди дороги на светофоре в Электрогорске, – сказал Гущин. – А покойник – майор по званию.
– Убийство?
– Пока не ясно.
– Вам, и не ясно? – Катя насторожилась с любопытством и одновременно запустила пробный шар бессовестной лести.
Полковник Гущин не мог устоять перед женской лестью.
– И мне, и прокурору, и военной прокуратуре.
– Значит, весь этот армейский марш-бросок сюда к нам в Главк из-за простого майора?
– Он в Генштабе служил. Майор Андрей Лопахин, судя по документам, при нем найденным, а нашли его…
Гущин изложил Кате то, что стало известно о происшествии на перекрестке на выезде из поселка Баковка Электрогорского района.
– Его внедорожник больше часа стоял на перекрестке. А он уже готов был. Но приехал туда сам, сидел за рулем. Там, на месте, и умер.
– Сердце? – спросила Катя. – Ну раз вы в убийстве сомневаетесь…
– Не знаю. Какая-то подозрительная смерть. Работал он в Генштабе, военный, а по профессии – программист. Как только стало известно о его смерти, к нам сюда сразу трое военспецов нагрянуло из какого-то отдела «Д», особо допытывались, что при нем мы в его машине обнаружили. А у него два ноутбука в кейсе. Они их тут же опечатали и хотели забрать. А как это забрать? Мы разве можем вот так вещдоки отдать, не глядя? А что военная прокуратура нам скажет? Они ведь дело у нас заберут, это их подследственность, он же кадровый военный. В общем, скандал – они требуют, мы отдать не можем. А потом объявились люди из военной контрразведки. Все из себя такие крутые с грозной бумагой.
– Отдайте им все, не связывайтесь, – Катя смотрела на Гущина. – А вдруг он шпион?
– Подозрительная смерть, вот что я скажу. И дело мне не нравится. Хорошо, что военная прокуратура подключается. Но отдать мы должны все, что обнаружено и зафиксировано в протоколе осмотра. А то ведь эти разведчики вещдоки прямо из рук рвут.
– А что в его компьютерах? Наши их проверяли?
– Нет. Генштабисты их сразу опечатали.
– Отчего же он умер-то? – спросила Катя.
– Видимых повреждений на теле не обнаружено. Кроме следов уколов на сгибе локтя.
– Ну точно шпион! Федор Матвеевич, они его укололи, это как в фильме – отравленным зонтиком. Раз – и ликвидировали!
– Кто? – хмыкнул Гущин.
– Ну не знаю, эти.
– То-то. Эти, те… В машине на заднем сиденье аптечка, а в ней шприц использованный. На шприце только его отпечатки. Потерпевшего.
– Только его? – Катя испытала вслед за жгучим интересом жестокое разочарование. – Вы что намекаете, он наркоман?
– В аптечке ампулы с инсулином. Возможно, он был диабетик, кололся сам.
– И что… значит, это не убийство? Раз диабетик… естественная смерть? А что, в армии в Генштабе служат уже и диабетики?
Гущин вздохнул: о-хо-хо…
– Экспертиза назначена, и не одна. Мы, как получим результаты, сразу это дело спустим в военную прокуратуру. Пусть они там сами разбираются с этим майором Лопахиным. С Генштабом и отделом «Д», со всеми их секретами. Тебе, Екатерина, уж точно там делать нечего.
– Да я и не лезу никуда. И не претендую ни на что, – Катя сделала вид, что обиделась. – Я статью готовлю о тайнах нашего киноархива. И очень занята сейчас.
– Вот и хорошо. Занимайся киноархивом своим, – полковник Гущин закурил и пыхнул сигаретой.
– И буду. И пожалуйста. Но вам ведь самому это дело покоя не дает. Хоть вы его готовы с рук сбагрить, но что-то вас… это ВАС-то с вашим-то опытом (Катя запустила второй шар беспардонной лести) в этом деле тревожит и настораживает. И вы сами об этом речь со мной завели. Я ведь только спросила, чего это к нам вояки явились. А вы и рады стараться – поговорить вам хочется об этом деле, Федор Матвеевич, обсудить. А не с кем!
В общем-то, не совсем рабочий официальный диалог в стенах Главка, правда? Но с тех пор как в сердце полковника Гущина при штурме одного дома в подмосковном Новом Иордане попала пуля, уловленная бронежилетом… с тех самых пор он разительно изменился. И несмотря на свой солидный пост, свой профессиональный опыт и весь свой начальственный апломб, допускал вот такой стиль общения с капитаном пресс-центра ГУВД Катей Петровской, тоже бывшей там «при штурме дома в Новом Иордане».
– У него вид там, в машине, был такой, словно он перед смертью дьявола увидел, – сказал полковник Гущин. – Я сам туда выезжал. Если бы не мои собственные глаза, никогда бы не поверил, что лицо человеческое может такое выразить. Смотреть жутко. Машина стояла на перекрестке примерно час. Смерть на момент осмотра сотрудниками ГИБДД – не больше часа. Он за рулем, приехал на этот перекресток сам, встал на красный на светофоре. А потом… что произошло с ним в машине? От диабета или от сердца так не умирают.
Глава 6
ЧЕЛОВЕК ОПАСНЫЙ
– С самого начала и темп прибавьте. Не скатывайтесь в медляк, друзья!
И раз, два…
– Одну минуту, у меня скрипка расстроилась. Семен, дай ноту.
И вот так каждую репетицию! Михаил Пархоменко – младший сын Розы Петровны Пархоменко – в отчаянии всплеснул руками. Когда-то он мечтал держать в этих руках дирижерскую палочку. Недаром ведь кончил курс консерватории. Иногда до сих пор по ночам снились сны – он дирижирует большим симфоническим оркестром.
Например, увертюра к опере «Тангейзер». Ну, то место, где тромбоны возвещают о наступлении новой эры или конца…
Собственно, это одно и то же – начало и конец. В его конкретном случае – уж точно почти одно и то же. Когда жизнь подошла к середине, ни на йоту не реализовав ни одной вашей заветной мечты.
О доблестях, о подвигах, о славе мечталось в юности. О музыке. О грандиозной мировой славе. И ведь имелись задатки и материальная база. Как-то однажды старший брат Сашка сказал ему в подпитии, уже когда ворочал большими деньгами: все для тебя, братан, сделаю. Хоть ты и полное чмо, но ты моя родная кровь. Желаешь – куплю тебе оркестр.
А чего, собственно, было его покупать, бросать деньги на ветер? Их городок достославный и гордый, некогда промышленный и весь из себя такой рабочий, пролетарский, имел среди других примечательностей, помимо заводского стадиона и трамвая (единственного в своем роде в Подмосковье), еще и музыкальное училище.
Не нужную роскошь по нынешним-то временам. Однако училище продолжало выпускать музыкантов, которые хотели лабать хоть на свадьбах, хоть на похоронах.
На симфонический оркестр эта публика не тянула. Духовой оркестр выглядел бы почти что реликтом. Рок-группа, о которой тайком мечтали все подростки Электрогорска, дьявольски нуждалась в талантливом солисте и песенных текстах.
И тогда Михаил Пархоменко, которого старший брат его, ныне покойный, звал не иначе, как Мишель, придумал создать «эксклюзивную банду» – этакий оркестровый микс классики, рока и фольклора по подобию «Свадебно-похоронного оркестра» Горана Бреговича.
Нехило для подмосковного городишки, где вся жизнь вертится вокруг издыхающего, как бронтозавр, завода и фармацевтической фабрики?
Нехило.
И ведь не надо забывать, что в городе еще имеется коммерческий банк с филиалами по всей области. И главой его (пусть номинально) теперь после смерти брата является он – основатель и дирижер оркестра.
Были бы, как говорится, деньги. А после смерти брата – там, на кипрской приморской вилле, – денег полно.
– Настраивайтесь, мы подождем, – вежливо сказал Мишель Пархоменко первой скрипке своего оркестра.
Когда он брал вот такой тон в разговоре со старшим братом, тот только вскидывал брови. «Мишель – человек опасный, – говорил брат Сашка. – Мне ли не знать. Еще в детстве… ну да ладно, я не злопамятный. И не таких сук приручал, обламывал. А он все же брат мой родной, моя кровь. Приручу, обломаю, станет мне верным щитом – подмогой во всем».
Служить верным щитом… Как-то однажды у дверей закрытого клуба на Рублевке, куда приехали они вместе с братом скоротать вечерок, Мишель наблюдал такую картину: подруливает «Майбах», из него горохом сыпят охранники, один несет что-то вроде бронированного щита – заслонки. И в натуре… просто в натуре закрывает этой железякой какого-то толстяка в ботинках из крокодиловой кожи, выпадающего из «Майбаха».
Вроде какой-то ювелирный король так приезжал в клуб – с такой помпой. Они с братом Сашкой потом в баре ржали, вспоминая эту нелепую картину.
Что же, служить брату вот таким щитом всю жизнь? А как же музыка, консерватория, мечты…
«Мишель хоть и чмо, но человек опасный», – говаривал старший брат в подпитии. Побаивался ли его старший брат? Кто знает. Наверное, он с самого детства просто трезво оценивал все его возможности – в том числе и скрытые, потаенные. Но вместе с этим в разговорах почти открыто держал его за этакого занюханного консерваторского интеллигента, никчемного домашнего приживала, неспособного к бизнесу и зарабатыванию денег. За дохлого лузера.
– Готовы? С самого начала. И прибавьте темп. Сколько раз вам повторять? Кто собьется или сфальшивит, тому… в момент оторву его гребаные яйца. Ну, сволочи, погнали!!
Свадебно-похоронный оркестр «Мьюзик-бэнд» города Электрогорска под управлением Михаила Пархоменко грянул так, что с потолка в зале бывшего Дома культуры посыпалась штукатурка ветхой лепнины еще пятидесятых годов.
Эта фирменная «пархоменская» манера общаться. Даже окончив курс московской консерватории, Мишель не утратил ее. И она выручала безотказно.
Оркестр играл музыкальное попурри – Мишель сам сделал, аранжировку и оркестровку – тут тебе и Вагнер: увертюра к «Тангейзеру», то место, где тромбоны, и хиты «Рамштайна», и много, много всего.
По виду – полная импровизация, на самом деле – почти математический расчет по всем признакам строгой гармонии. Как он и любил.
Точный расчет под видом полной импровизации.
Не эту ли его чисто индивидуальную особенность имел в виду его старший брат Александр Пархоменко, утверждая, что «Мишель – человек опасный»?
Впрочем, ответ на этот вопрос старший унес с собой в могилу. А мать – Роза Петровна – никогда каверзных вопросов своему младшему не задавала.
С вдовой брата Натальей у Мишеля всегда складывались непростые отношения. С юности. Они ведь в одном классе учились.
Все тогда шло вкривь и вкось. А потом все изменилось. На горизонте замаячил брат Сашка и сказал свое веское слово. И когда Наталья вышла за него замуж, когда все они стали жить в одном доме, то… все, что было, – прошло. Улетело, как дым, оставив лишь вежливость и скуку.
Свадебно-похоронный оркестр города Электрогорска после Вагнера и «Рамштайна» дошел в попурри до темы Луи Армстронга.
Мишель дирижировал, наяривал, иногда грозя музыкантам кулаком. Комичное, наверное, зрелище со стороны – длинный худой тип, вечно растрепанный, красивый не по-мужски, в отличном костюме, всегда без галстука, бессвязно орет, стараясь перекричать оркестр:
– Громче! Быстрее! Скрипка вступает! Я сказал – скрипка! Фагот – сдохни! Сдохни, я сказал! Сейчас не твоя очередь, кончай выпендриваться. Ударные – темп! Темп, мать вашу!!
Матерная брань, как особое соло… Но музыканты терпели. Ведь их дирижер ныне – после смерти своего брата Александра и его бывшего компаньона Бориса Архипова – самый богатый человек в городе. И он платит им королевскую зарплату из своего кармана. Содержит всю эту музыкальную банду за свой счет, покупает инструменты, организует выступления. И оркестр любят в городе. Он развлекает, забавляет, когда играет по воскресеньям летом в парке и на День города.
Музыканты и Мишель Пархоменко – такие прикольные. Так считает молодежь Электрогорска.
Музыка внезапно оборвалась – эту фишку Мишель придумал особо. Раз – и как отрезало! И все, слава богу, попали в такт, никто не опоздал.
– Фу, молодцы, ведь можете, когда захотите, – Мишель вытер вспотевший лоб.
Наступившую тишину в зале пронзил сигнал мобильного. Мишель достал телефон из кармана.
– Да, слушаю. Это ты? Привет. Я так скучал…
Его лицо озарилось улыбкой, потом вдруг потемнело.
– Это все, что ты хотела мне сказать? Подожди. Мы поговорим наедине. Да послушай же ты меня!
Мишель глянул на музыкантов. И оркестр, вспорхнув, как стая, суетливо подхватив инструменты, ринулся к выходу – в раздевалку.
А его хозяин и дирижер остался один в большом пустом зале.
Наедине с тем, кто ему звонил.
Глава 7
ГЕРТРУДА И ЕЕ СЕСТРЫ
Официант в кафе торгового центра принес заказ: две пиццы с анчоусами и один тайский салат. Гертруда Архипова – старшая внучка Адель Захаровны Архиповой – забрала салат себе.
Вздохнула, наблюдая, как при виде румяной пиццы порозовели щеки самой младшей сестры – четырнадцатилетней Виолы.
– Сейчас мы их проверим, сейчас мы их сравним. Черт, одинаковые!
Виола придирчиво сравнила тарелки с пиццами – свою и средней сестры, семнадцатилетней Офелии. Та удалилась в туалет. Ей вечно приспичит. Правда, сейчас в кафе они уже успели выпить кока-колы и по безалкогольному коктейлю.
Старшая сестра девятнадцатилетняя Гертруда снова вздохнула: везет Офелии – Филе, она с детства такая, это называется, кажется, ускоренный метаболизм, нет, не метаболизм, а обмен веществ. Все проскакивает, выскакивает, ни отеков, ни шлаков в результате не откладывается. Что там болтали в школе на уроках биологии? Сейчас разве вспомнишь?
Итак, лету почти конец. Пипец. Осталось каких-то две недели лета. В этом году в августе их никуда не отправили отдыхать. Это потому что у бабушки Адель юбилей, круглая дата. И впервые после смерти отца… да, после убийства отца, их семья намерена отмечать день рождения.
Гертруда поковыряла салат вилкой – а где тут краб? В меню значится: тайский салат с крабом. Одна трава и морковь. Что ж, ее планида такая.
Мобильный телефон лежал рядом с прибором на столе. На циферблате все высвечивался тот номер. Ей перезванивали уже, наверное, в десятый раз. Но Гертруда не отвечала, отключив в телефоне звук.
– Замучаешь его вконец.
– Заткнись.
Гертруда бросила это резко, подняла голову и тут же пожалела о грубости. Потому что сказала это ей не Виола, а Офелия, вернувшаяся из туалета. Стоит, не садится, смотрит на мобильный с ярким дисплеем.
С сестрой Офелией Гертруда всегда была очень близка и нежна. Их разница всего два года, но Гертруда отлично помнит, как новорожденную девочку, ее сестренку, отец и мать привезли из роддома домой. Дома в альбомах и фотографий полно – Офелия в коляске с погремушкой, а она Гертруда – трехлетняя рядом, заглядывает с нежностью и любопытством, что там поделывает крохотная сестра?
И когда начался дома тот ужас с бандажом, с корсетом, со специальными распорками для ног… Гертруда и это отлично помнит. Как всем домом возились с Офелией – Филей, у которой оказалась врожденная травма позвоночника. Как учили ее сначала ползать, потом подниматься на ножки, затем ходить.
Ковылять…
Ковыляет она до сих пор, хромая. Говорят, что они просто упустили время, в раннем детстве до пяти лет надо было делать ей операцию на позвоночнике. Но мать и отец всегда оправдывались: какая операция, это же середина девяностых, полный бардак, в медицине, в клиниках черт знает что. Разве они могли решиться в такое время положить ребенка под нож хирурга? А денег больших отец тогда еще не зарабатывал, чтобы везти дочь за границу. Он в те годы вместе со своим компаньоном Александром Пархоменко лишь начинал, разворачивал свой бизнес. Они тогда каждый конвертируемый рубль считали, вкладывали в дело.
И вот в результате Офелия осталась хромой. Не из-за родительской жадности, нет. Мать и отец – ныне покойный – обожали среднюю дочь.
И Гертруда тоже любила сестру. Больше, чем младшую Виолу. И Офелия платила ей преданностью и любовью. Стоило лишь кому-то из местных электрогорских пацанов процитировать из БГ – «не пей вина, Гертруда, пьянство не красит дам», Офелия тут же кидалась драться за сестру. А драться, несмотря на свою хромоту, она умела. Пацан, на которого она налетала, еще только ошарашенно моргал глазами, а она уже впивалась острыми ногтями в его щеки, расцарапывая их в кровь и при этом отчаянно визжа: проси прощения, урод, у моей сестры! Проси прощения у Герки!!
– Извини, вырвалось нечаянно, – сказала Гертруда Офелии, убирая мобильный со стола. – Садись, пицца остынет.
Офелия села. Отделила кусочек пиццы с анчоусом вилкой и протянула Гертруде:
– Ну хоть попробуй.
Виола, успевшая умять полпиццы, ехидно наблюдала за сестрами.
– Не искушай, ей нельзя. Она у нас красотка. Мисс, как там вас?
Гертруда кротко вздохнула – который уже по счету раз? Да, разрешите представиться: «Мисс Электрогорск», а также «Мисс Открытый купальник» и «Мисс Красота по-русски».
Кто-то может подумать, что все эти конкурсы красоты последних двух лет ей помогли выиграть деньги их семьи. Так мог решить лишь тот, кто совсем не знает их семью – клан Архиповых, состоящий ныне из бабушки Адель и мамы.
Бабушка Адель все это время скорбела. Глубочайший траур по сыну, их отцу… Она сняла траур в тот день, когда стало известно об убийстве где-то за границей бывшего компаньона отца.
Бабушку не интересовали конкурсы красоты, не интересовало ничего – кроме этой вот новости, что дядя Саша – сын бабушки Розы, в прошлом компаньон отца, а ныне – их смертный враг, мертв.
А мама… она после смерти отца много плакала. А потом взяла себя в руки. Ее тоже никогда не прельщали конкурсы красоты. Она всегда увлекалась общественной работой. Странно для жены крупного бизнесмена, владельца завода, правда? Но мама уж такая. И ныне она увлекается рабочим профсоюзным движением. Тем, чего у нас нет, как она говорит.
Можно увлекаться – завод больше их семье не принадлежит, он продан. И деньги за фонды, за акции выручены такие, что хватило бы на тысячу конкурсов красоты. Но ради победы Гертруды семья не заплатила ни копейки. Гертруда участвовала на общих основаниях, как и остальные девчонки. И победила.
«Мисс Электрогорск»…
«Мисс Открытый купальник»…
«Мисс Красота по-русски».
И теперь вот подана заявка на участие в конкурсе «Мисс Россия».
Порой по утрам она вставала с постели, снимала ночную рубашку и подолгу разглядывала себя в зеркало. Эта привычка у нее от бабушки. Но бабушка Адель никогда не отличалась красотой. А вот она, Гертруда, – настоящая красавица. Какие у нее ноги, какие волосы… А грудь… бедра…
Когда он впервые увидел ее голой в постели, он…
Но об этом довольно. С этим все кончено.
– Ну хоть капельку съешь, смотри, тут рыбка запечена. Анчоус.
– Отвяжись от нее! Не видишь, она в ступоре. Мечтает… а я знаю о ком.
Сестры трепят языками. Виола корчит смешные рожи. Офелия все протягивает ей вилку с кусочком пиццы. Соблазняет. Хочет как лучше. Печально видеть, как старшая сестра каждый день точно корова или овца питается лишь одной травой – салат, отварной шпинат, овощной супчик протертый, когда жизнь… жизнь предлагает столько соблазнов.
Например, яблочные меренги…
Зефир…
Или торт «Анна Павлова» – взбитые сливки с безе и свежей клубникой. Этот торт непременно закажут ресторану на бабушкин юбилей. Море взбитых сливок…
– Филя, ты мне вилкой в глаз ткнешь, – сказала Гертруда. – Успокойся, ешь. Что на десерт вам заказать?
Сестры выбрали по капкейку. А Гертруда попросила официанта принести ей чашку зеленого чая. Вот так. Главные постулаты жизни. Главные обеты.
Отказаться от сладкого совсем.
Не отвечать больше на его телефонные звонки, хотя когда-то звонила ему сама сто раз на дню.
Ходить по четвергам на фитнес, а по понедельникам на пилатес. Иногда наоборот.
Победить на конкурсе «Мисс Россия» и готовиться к конкурсу «Мисс Мира».
Любить свою семью и сестер. Во всем поддерживать их и помогать. Особенно любить, помогать и быть рядом с Филей. Всегда.
И никогда ни при каких обстоятельствах ни днем ни, сохрани боже, ночью не ходить, не ездить на машине даже с большой компанией друзей в сторону Сороковки – заброшенной части заводской территории, где, словно вросшая в землю крепость, подставляет снегам и дождям свои кирпичные стены, зияя провалами разбитых окон, старый гальванический цех.
Когда отец был жив и стал владельцем завода, он хотел подогнать бульдозеры и сровнять с землей этот цех.
Но бабушка Адель сказала: нет.
И бабушка Роза – мать компаньона отца дяди Саши – тоже сказала: нет, не надо, оставь.
Тогда еще они, бабушки, были лучшими подругами и всегда говорили и действовали заодно, как в детстве.
Потому что были живы их сыновья.
А затем наступил полный мрак.
В развалинах гальванического цеха обитает зло. Об этом все в Электрогорске знают, но вслух не говорят.
Нет места хуже в Электрогорске.
Так отчего же эти развалины отцу запретили снести? Как-то они, сестры, спросили это у мамы. Она лишь пожала плечами – наверное, потому что смета сноса оказалась слишком дорогой. Поэтому.
Видимо, о некоторых вещах лучше не спрашивать. Лучше догадываться самой. Узнавать… Но это потом, когда появится время, а сейчас все мысли о подготовке к конкурсу «Мисс Россия». Это же по телевизору показывают на всю страну.
Гертруда залпом выпила зеленый чай – кто-то уже налил его ей из чайничка в чашку и даже бросил туда кусочек лимона и…
– Что за гадость?! Почему такой мерзкий вкус?!
– Я тебе по-тибетски сделала чай, пока ты мечтала, – младшая сестра Виола невинно, лукаво улыбалась. – Они же в Тибете пьют чай с маслом и солью. Вот я и тебе положила кусочек масла и посолила.
Гертруда смотрела на сестер. Офелия лишь руками развела – моя вина, я за Виолкой не уследила.
– Вкусно чай по-тибетски? – настойчиво допытывалась Виола.
В кафе «Шелк» торгового центра, где они сидели, вечно полно молодежи. Это самое стильное кафе Электрогорска, не считая сетевой кофейни на площади.
– Поставь на место солонку, – приказала Офелия Виоле. – Никогда не делай подлостей сестре.
– Я просто пошутила.
– Никогда не делай подлостей, если не хочешь, чтобы мы с Геркой считали тебя дрянью.
– Девчонки, не ссорьтесь, – Гертруда, как старшая и самая мудрая, решила погасить бузу в зародыше. – Вкус у чая по-тибетски, скажем так, жуткий, но оригинальный.
Глава 8
ПРИЗРАК
Анна Дмитриевна Архипова, невестка Адель Захаровны и мать сестер, возвращалась в Электрогорск на своей машине из Москвы вместе с водителем-охранником Павлом Киселевым.
Весь этот день она провела в Комитете объединенных профсоюзов, переходя из кабинета в кабинет профсоюзных боссов и выслушивая их вежливые сентенции. В основном недоуменные вопросы и отказы. «Вы что, милочка, там у себя в городе планируете организовать центр рабочего движения? Ах, борьба за свои права, за повышение зарплаты и лучшие условия труда… Да, да, конечно, это так актуально. А вы кто сами, простите? Вдова Бориса Архипова? Бывшего владельца завода, того самого известного Архипова из Электрогорска? Это так странно, чтобы дама вашего круга… и вдруг прониклась идеями рабочей солидарности… А что вам, собственно, нужно?»
Анна Архипова устала объяснять этим самым Объ-единенным комитетам. И с чего начинать объяснения? С того, что в далекой юности она студенткой в институте работала активно в бюро комсомола? Или начать с того, что в ее жизни не было никого дороже мужа, который любил ее, боготворил – именно за это, за энергию, за характер. Или начать с того, что когда его застрелил неизвестный, «так и не установленный преступник» на проспекте Мира и об этом передали в новостях, всем, кроме семьи, погрузившейся в бездну отчаяния, в общем-то оказалось наплевать на его смерть?
Начать с того, что она, его вдова, возненавидела их всех. ВСЕХ ИХ. Кому оказалось наплевать, что ее Борис убит.
И когда вдовьи слезы высохли, в душе разгорелся пожар – показать им всем, ИМ ВСЕМ кузькину мать. Городу Электрогорску, властям, столичным боссам – ИМ ВСЕМ…
По телику иногда бубнили что-то о «протестных настроениях». Вот и она, потеряв мужа, обретя солидное наследство, решила, что так больше жить нельзя – надо бороться.
Она искренне думала, что обрела свое новое призвание. И даже когда бывший компаньон ее мужа Александр Пархоменко сдох на своей кипрской вилле тоже от выстрела «неустановленного киллера», душа ее не успокоилась. Она решила, что теперь… вот теперь уж точно, как в давней своей комсомольской юности, займется общественной работой и целиком посвятит себя людям. Всем этим рабочим, которые должны и могут бороться за свои права.
Она решила, что именно в этом найдет новый смысл своей вдовьей жизни. Она так хотела и уже развила бурную деятельность. Даешь борьбу! Даешь «протестные настроения»! Однако с некоторых пор…
Анна Архипова, сидя в машине, смотрела на крепкий затылок своего водителя-охранника Павла, то и дело натыкалась в зеркале заднего вида на его настойчивый взгляд.
Тридцать лет парню. Когда три года назад на проспекте Мира его тоже ранили тяжело, думали, что охранник не выживет, но он выкарабкался и остался служить у них.
Машину он ведет стремительно и плавно. Асфальт шуршит под колесами.
Машина свернула с федеральной трассы на перекрестке у светофора и помчалась мимо леса, мимо лугов, поселка Баковки, потом снова повернула и, делая крюк, объезжая Электрогорск с севера, взяла направление на Сороковку – в район старой заброшенной территории станкостроительного завода.
– Тут уже недалеко, вы… это зачем же вам в бывший гальванический цех? – спросил охранник Павел.
– Просто давно хотела посмотреть.
– А что там глядеть – гниль, развалины.
– Это здесь?
– Да.
– Останови.
Охранник Павел послушно остановил машину. Анна вышла. Как тихо тут в районе Сороковки. Ржавые рельсы, заросшие травой пути. Остатки бетонного забора. И небо – как купол, огромное, серое. Через несколько часов стемнеет, и все вокруг погрузится во тьму.
Как-то с мужем давно они приезжали сюда, он хотел снести старый гальванический цех. И кажется, здесь с тех пор ничего не изменилось.
Безлюдно и жутко.
– Что-то увидели? – спросил охранник Павел.
Анна стояла рядом с машиной на дороге, а глядела туда – в сторону кирпичного здания с провалившейся крышей, черными дырами окон, давным-давно лишившихся стекол.
Эти стены, иссеченные дождями с выкрошившимся бурым кирпичом, эти ржавые балки, выпирающие, как ребра, эта тьма, поселившаяся внутри среди вросших в землю чанов и гальванических емкостей. Паутина, сухие листья и мусор, усеявшие пол толстым слоем, глушащим все шаги, даже если кто-то… или что-то и движется там, в глубоком сумраке, хоронясь от дневного света, карауля и дожидаясь наступления ночи.
– Пацанами мы сюда шлялись курить. И с девчонками баловались, – усмехнулся охранник Павел. – Вы что, призрака ждете? Призраков там нет.
– Просто давно хотелось увидеть это место.
– Заброшенный цех?
– Ну да. С ним ведь какая-то история тут в городе связана давняя. Я ведь не местная, я в Москве на Арбате родилась. Сколько раз за все эти годы мужа просила рассказать… Но в нашей семье эту историю не любят. Притворяются сразу, что память отшибло. А ты здешний мальчишка, – Анна протянула руку и потрепала Павла по затылку, – ты наверняка слышал в детстве все эти страшные сказки.
Он поймал ее руку и крепко сжал.
– Никаких тут призраков нет, это просто развалины. Если что и было в городе, то очень давно, сразу после войны. И совсем не здесь. Это там, – охранник неопределенно махнул рукой в сторону Баковки, леса. – Там когда-то был детский лагерь заводской. «Звонкие горны» назывался. Так вот все случилось именно там.
Анна смотрела на руины гальванического цеха. И по ее лицу охранник Павел понял, что о призраках «Звонких горнов» она знает. Слыхала.
Да, в Электрогорске все еще не забыли эту историю.
Небо – свинцовая сфера над головой – словно треснуло. Низкую облачность пронзили лучи заходящего солнца. Тени метнулись и пропали, будто растворившись в оранжевом свете заката. Как будто кто-то включил там, наверху, потайной фонарь и начал неспешно шарить по выщербленным кирпичам старых стен, заглядывая за ржавые балки, в темные проемы, заросшие вьюнком и папоротниками ниши.
То, что, словно что-то ища, скользило, пряталось, сочилось сквозь кирпич, осыпалось песком со стен, превращаясь то в камень, то в ржавчину, то в зыбкую тень, ловко и изощренно маскируясь, убегало от солнечных лучей все дальше, дальше, дальше во тьму, в глубь старого гальванического цеха.
Но вот закатный фонарь угас, небо потемнело.
– Поехали домой, а? – взмолился охранник Павел. – Время к ужину, дочки вас давно заждались, Адель Захаровна сердиться станет, ворчать, отчего вы так долго.
– Давай-ка развернемся, – сказала Анна, усаживаясь на заднее сиденье, бросая прощальный взгляд на призраков гальванического цеха. – Поедем в Баковку. Покажи мне, детка, то место, где находился заводской пионерский лагерь.
Глава 9
ТАЙНЫ ЖЕЛЕЗНОЙ ДВЕРИ
Не то чтобы загадочное происшествие на перекрестке в подмосковном Электрогорске совсем не интересовало Катю – Екатерину Петровскую, криминального обозревателя пресс-центра ГУВД Московской области. Нет, совершенно даже наоборот. Но все, казалось, вскоре должно проясниться. И скорее всего, это «очевидная смерть» – сердечный приступ или инсульт, а вовсе не криминал.
Так думала Катя, гоня от себя соблазн. Ибо другой, гораздо более сильный соблазн влек ее к себе.
Архив старой киностудии МВД. С новыми «полицейскими» веяниями его реорганизовывали. Лет уж пятнадцать, с тех пор как весь процесс от съемок до производства учебных фильмов перешел в руки пресс-центров при УВД, старая киностудия превратилась в хранилище «былого и дум». А теперь вот и это хранилище, занимавшее монастырскую трапезную в Ивановском переулке, готовили к списанию и ликвидации.
Вот уже несколько недель в архиве работала сводная бригада, куда входили сотрудники киностудии и приданные силы из числа членов съемочных групп «Петровки, 38», ГУВД области и гонцы из пресс-службы ГУВД Санкт-Петербурга.
При разборе архивных пленок, фильмов, снятых киностудией МВД в течение шестидесяти лет, каждый хотел наткнуться на что-либо интересное, относящееся к преступлениям прошлого, совершавшимся в его родном регионе.
Естественно, больше всего везло «Петровке, 38» – оно и понятно. Но Катя… Катя, выторговав себе у начальника пресс-службы командировку сюда, в архив, об этом не жалела. То все старые, хорошо известные дела, в десятках передач про них уже рассказывали. И вообще, это прошлогодний снег, а вот сегодня тут, в архиве, разбираются бобины с пленкой из той маленькой закрытой комнаты, куда доступ преграждает железная дверь. С кодовым замком.
– Вообще-то, не положено вам тут находиться, – объявила вдруг ни с того ни с сего старший хранитель архива Белла Григорьевна – дама в чине полковника в отставке, вот уже «страшно сказать сколько лет», по ее же собственному признанию, «бессменно сидящая на тайнах правоохранительной системы, как наседка на яйцах».
– Белла Григорьевна, простите, какая муха вас сегодня укусила? – осведомился Тим Марголин – ведущий специалист съемочной группы пресс-центра ГУВД Московской области, который как раз и был прикомандирован для «профессионального разбора» архивных залежей в числе «приданных сил».
– А такая, юноша, что раньше я бы вас и на пушечный выстрел к этой комнатке не подпустила. – Белла Григорьевна – седая, полная – важно сдвинула очки на самый кончик мясистого носа.
– А что там такое в этом вашем чулане? – не унимался Марголин. – Как стопки коробок металлических с пленкой таскать, так вы сразу «Тимчик, нужны ваши сильные руки», а тут вдруг так неласково, так официально.
– Литера «С» – вот что здесь, – Белла Григорьевна благоговейно взирала на дверь.
– Секреты, что ли?
– Секретные и особо секретные материалы.
– А что может быть секретного в учебных фильмах, снятых как пособия для курсантов академии? – Катя… чуткая, неунывающая Катя тут же с ходу включилась в марголинскую игру со старухой-архивариусом. – Тоже мне, Х-файлы.
– Насчет файлов не знаю, а за нарушение сохранности и режима секретности литеры «С» в прошлом не только неполное служебное можно было схлопотать, но и вон из органов вылететь, – Белла Григорьевна потрогала замок. – Но теперь у нас ведь полиция. Вы ж у нас теперь полицейские. Все из себя такие современные. И камеры у вас махонькие, и все фильмы на компьютерах монтируете. Тяп-ляп… А прежде у нас тут целый киноцех трудился. Режиссеров известнейших на консультации приглашали. Какие съемки делали… Министру покажут, а потом на черной «Волге» из министерства мне сюда назад пленки спецкурьером привезут – и под замок, под литеру «С».
Вздохнув, она достала связку ключей.
– А теперь вот приказ пришел – открыть, разобрать. То, что не может быть придано огласке, – уничтожить. Чтобы никто никогда не увидел.
– Ну, кроме нас, конечно, – усмехнулся ушлый представитель «Петровки, 38».
Дверь в комнату – хранилище литеры «С» – открылась легко, несмотря на свое полное тождество с дверью бронированного банковского сейфа.
Катя ожидала увидеть внутри чуть ли не паутину и плесень. Но когда зажегся свет, оказалось, что комната отделана по-современному. На стене, как в музее, мигали датчики климат-контроля и влажности. Все пространство занимали стеллажи.
На полках – металлические коробки с пленкой, контейнеры с видеокассетами. Забито все от пола до потолка.
– Да тут работы на несколько месяцев, – присвистнул Тим Марголин.
– Комиссия из министерства приедет в следующий четверг, к этому времени я должна подготовить полную опись и составить черновик акта на списание и уничтожение документов, пленок, – Белла Григорьевна прошлась вдоль стеллажей. – Ну это все однозначно в печку отправится. – Она махнула рукой на полки с бобинами пленки.
– А что здесь? – спросила Катя.
– Министр Щелоков и его приближенные. Тут вот Тикунов – министр, Круглов… здесь несколько кинохроник с генералом Абакумовым, кадры из санатория МВД в Кисловодске, который «Орлиное гнездо» назывался.
– Но это же интересно!
– Кому? Кому ЭТО теперь интересно? – Белла Григорьевна усмехнулась.
– А их гласно или негласно снимали? – тут же встрял Тим Марголин.
– Когда как. Когда они сами – в том числе и на отдых, в санаторий киношников ведомственных приглашали, чтобы запечатлеться, а когда за ними вдогонку посылали – например, по распоряжению первого зама. Оценят потом в кинозале тайком пленочку и сюда спецкурьером, чтобы компромат сохранить.
– Да какой это, к черту, компромат? – Марголин потрогал жестяные коробки. – Век невинности.
– Тогда все на всех собирали, а вдруг пригодится. Тут вот все Щелоков, Щелоков, Щелоков с Брежневым, – Белла Григорьевна шла вдоль полок. – Киностудия тогда процветала, пленку за границей покупали самую лучшую. А здесь вот на видео уже перешли…
– Мы бы хотели несколько пленок скопировать, восстановить, если понадобится, – засуетился представитель «Петровки, 38».
– Увы, молодой человек, у меня приказ, а там черным по белому: готовить к списанию и уничтожению. – Белла Григорьевна остановилась возле стеллажа с круглыми металлическими коробками.
Он вроде ничем не отличался от иных стеллажей. Только вот коробок с пленками на нем лежало не так уж много. И наверху над полками на деревянной дощечке значилась литера «ОС» – особо секретные.
– Забирайте все это отсюда и несите в просмотровый зал, я приготовила старый кинопроектор. – Белла Григорьевна взяла несколько коробок. – Если от времени пленка на атомы не распадется, то глянем.
– А говорят, нет в МВД Х-файлов, – тихо сказал Тим Марголин. – Кать, что молчишь?
– Есть, оказывается, и в МВД Х-файлы, – Катя смотрела на архивариуса. – Что же на этих пленках?
– Сейчас посмотрим, сверимся с реестром.
– А вы что же, не в курсе? За столько лет их никто не просматривал?
– Это старые уголовные дела. Такие, о которых никто не знает. И никогда не узнают – ни киношники, ни журналисты с телевидения, ни газетчики. Никто никогда про это не узнает. Никакой огласки.
– Но почему?
– Я думаю, вы сами это поймете. Вы же умные молодые люди. И служите долгу и присяге, – Белла Григорьевна говорила веско. – Кровь и ужас… детали, которые даже в суде не оглашались… Но это еще не все. К этому всему профессионалы – сыщики, прокуроры, судьи – привыкли. Есть еще и другая сторона медали.
– Какая? Что может быть страшнее? – спросила Катя.
– Позор, – ответила архивариус.
Постепенно они переправили все коробки с пленкой из комнаты за железной дверью в просмотровую. Здесь царил старичок в белом халате, презрительно поглядывавший на пульт, оснащенный современной компьютерной техникой и дисплеями. Плазменную панель он словно и не замечал, любовно разглядывал квадрат белого экрана во всю стену.
– С дачи? – бодро поинтересовалась у него Белла Григорьевна. – Уж прости, что тебя с заслуженного отдыха вытащила сюда в нашу пыль. У этих молодых пленка в руках рассыплется в прах, а мы с тобой потихоньку, полегоньку. И кинопроектор готов, только тебя ждет.
– С чего начнем? – спросил старик-киномеханик.
– Ну, вы вот смотреть рвались, любопытство проявляли, заказывайте фильм, – Белла Григорьевна обернулась к «приданным силам».
– Вот в этих коробках что? – спросил представитель «Петровки, 38».
– Кинохроника с осмотра мест преступлений, совершенных сотрудниками правоохранительных органов в разные годы. Будете смотреть?
– Нет, спасибо, не надо, – хором ответили «приданные силы».
– Тут вот кинодокументальные материалы по осмотру мест происшествий и доследственной проверки по самоубийствам сотрудников правоохранительных органов. В основном, конечно, начальства, генералов. Это когда вдруг пиф-паф в своем кабинете, – Белла Григорьевна указала на другую стопку. – Несчастные люди. И что за звание такое, заколдованное, что ли? Уж как мужики и в органах, и в армии стремятся стать генералами. Каждый, каждый лелеет эту мечту. «А я, как бабочка к огню, летела так неодолимо», – пропела Белла Григорьевна басом. – И вот все вроде бы есть – погоны, лампасы, и вдруг на тебе: или в момент коленом под зад с должности, или, того хуже, дуло к виску всегда в кабинете, на службе. Это чтоб дома родичам хлопот не создавать. А на рабочем месте и осмотр трупа проведут, и потом вперед ногами вынесут. Вон сколько тут пленок… Станете смотреть?
– Нет, – ответил за всех Тим Марголин.
– Это все точно на уничтожение, – буркнул представитель «Петровки, 38». – И, конечно, любая огласка тут нежелательна.
– А что здесь? – спросила Катя, указав на несколько коробок с пленкой, лежавших особняком.
– Ну тут что я и говорила – уголовные дела, то есть кинодокументальное сопровождение расследования некоторых дел. А также учебные фильмы, снятые по результатам расследования. Сведения, которые собраны здесь, никогда не разглашались. Дела сразу изымались из всех архивов. А наши учебные фильмы – их показывали только специалистам. Надо же учиться, как и такие дела раскрывать. Как работать с этим.
– С чем? – спросил Тим Марголин.
– Ну вот, например, эти кинодокументы… Расследование изнасилования и убийства дочери знаменитого актера. Середина пятидесятых. Девушку убили на даче, где собиралась «золотая молодежь». Групповуха, такая грязь и такие фамилии родителей, которых вся страна знала. В результате одна знаменитость руки на себя наложила, не выдержала позора.
– А тут что за дело?
– 1965 год, это учебный фильм о расследовании серии убийств, совершенных полковником ВВС. Душил женщин, с которыми знакомился, грабил. Между прочим, перед тем как его арестовали, подал заявку на зачисление в отряд космонавтов. Проходил отбор. Тогда космонавты народными героями слыли. Представляете, чтобы случилось, если бы информация наружу выплыла. Вот еще одно дело, – Белла Григорьевна указала на коробки с пленкой. – Тут кинодокументальное сопровождение расследования убийства главы коллегии адвокатов и его жены, тоже начало шестидесятых. Убили их на даче в Малаховке зверски. Сын семнадцатилетний убил. Еврейская семья, интеллигенты, родители все для него делали, дали отличное образование, любили его. А он их как Раскольников зарубил топором – и мать и отца. Ради девчонки, с которой они ему не разрешали встречаться.
– А случаем, нет тут у вас в архиве учебного фильма или кинодокументов по процессу Иосифа Бродского? – оживился представитель пресс-службы Санкт-Петербурга. – Может, тоже снимали для ведомства?
– Этого нет.
– А жаль.
– Кто ж знал тогда, что парень – гений.
– Можно вот эту пленку посмотреть? – Катя взяла наугад из стопки одну из металлических коробок.
Белла Григорьевна мельком глянула на номер, на литеру.
– Девушка, вы умеете выбирать. Как это вы давеча говорили – Х-файл? Ну так это и есть он самый – наш Х-файл.
– Что это за фильм?
– Документальная хроника для специалистов, в то время под грифом «особо секретно», отснятая в процессе расследования дела Любови Зыковой. Отравительницы детей.
Глава 10
Х-ФАЙЛ
Когда в просмотровой погас свет…
И в кинопроекторской застрекотал старый киноаппарат…
Когда желтый луч пронзил квадратное окно и расплылся по белому экрану…
Возникло что-то темное – там, на белом фоне.
Иссеченное царапинами, как шрамами.
Дефекты старой пленки.
Черное пятно…
Клякса времени.
Из динамиков прорвался рваный какой-то звук – не музыка сопровождения действия, не голос диктора, читающего за кадром, а какое-то хриплое карканье, словно кто-то невидимый силился выплеснуть из немого, запертого удушьем, забитого землей горла вопль…
Чтобы услышали живые.
Те, кто смотрит.
Те, кто сидит в темном зале, еще не подозревая, с чем они вот-вот столкнутся.
Еще ни о чем не подозревая, но уже испытывая смутную тревогу на уровне подсознания.
– Со звуком явно проблема, – кашлянув, объявила Белла Григорьевна. – Но кажется, там есть титры.
На экране наконец возникла заставка – эмблема киностудии МВД. Потом появились цифры 1955–1956. Затем крупно гриф «Совершенно секретно. Только для служебного пользования».
После возникло обозначение: «Токсикологическое отравление».
– Тут не мешало бы еще добавить вторую тему: «серийные убийства», – заметила Белла Григорьевна. – Но в то время это понятие еще отсутствовало в практике.
Возникли кадры. Катя смотрела на экран. Черный прямоугольник в земле, сотрудники милиции – в старой еще «синей» форме, которая на черно-белой кинохронике выглядит черной, с лопатами. Какие-то деревья на заднем плане, обелиск. Вот камера показывает крупным планом гроб, извлеченный из земли.
– Фильм начинается демонстрацией серии эксгумаций трупов жертв, – сказала Белла Григорьевна. – Причем происходило это уже после задержания Любови Зыковой. И в разных городах Советского Союза, потому что она до 1955 года постоянно переезжала, кочевала по стране. Вот видите перечень городов, где возбуждались дела по фактам подозрительных смертей.
Ялта…
Сочи…
Новороссийск…
Харьков…
Воронеж…
Горький…
Катя читала перечень, возникший на экране. Шли какие-то цифры, литеры, видимо, номера уголовных дел, впоследствии объединенных в одно производство.
Затем возник великолепный вид: с высоты на море, кущи деревьев, крыши домов. И снова черный квадрат ямы в земле и сотрудники милиции.
– Эксгумация трупа жертвы на кладбище в Ялте, – Белла Григорьевна прочла надпись титров. – Тут еще последуют подобные кадры, наберитесь терпения.
В темной просмотровой…
Черно-белая хроника давнего преступления.
– А кого она убивала и за что? – спросил представитель «Петровки, 38».
– Смотрите фильм, поговорим потом, мне трудно смотреть, читать, вспоминать, что я уже тут видела, и отвечать на ваши любопытные вопросы.
– Значит, вы все же смотрели эту пленку? – спросила Катя.
– Смотрела. Давно. Это наша обязанность, как хранителей архива.
Далее шли кадры прозекторской судмедэксперта и криминалистической лаборатории – очень натуралистичные. Со всеми деталями, с тем, что лежало на столах для вскрытий. Лиц экспертов не показывали – только руки в резиновых перчатках, затылки. Затылки над микроскопами, руки, что-то капающие из пробирок на стекла.
«Во всех случаях токсикологических экспертиз эксгумированных останков обнаружены следы ядов – в 6 случаях стрихнина и в 3 случаях в Горьком – таллия». Надпись возникла на фоне темного кадра. Как эпилог первой главы.
– Значит, всего девять случаев отравлений? Девять жертв? – спросил неугомонный представитель «Петровки, 38».
– Девять взрослых жертв в разных городах, где она жила и работала в период с 1948 по 1955 год. Потом произошел тот самый случай, после которого ее и арестовали. Но это дальше, по ходу фильма. А сейчас вы увидите место ее работы.
И возникли кадры… цирка. И даже звук бравурного марша, обрывки его просочились сквозь помехи и ударили по нервам.
Арена со скачущими лошадьми, белые султаны, алые – на пленке черные попоны. Воздушные акробаты под куполом, перелетающие с трапеции на трапецию.
– Это объясняет то, что она так много ездили по Союзу. С разными цирками, где работала: сначала акробаткой, но недолго, потом в подтанцовке в кордебалете при номере мотоциклистов, это самый модный номер был тогда – «мотоцикл под куполом цирка». И позже, в последние годы, – кассиршей. Потом она бросила цирк. Может, испугалась – слишком много смертей уже на ней тогда висело. Слишком много жертв, которых она отправила на тот свет с помощью яда. Хотя вряд ли, она ничего никогда не боялась. Никогда ничего и никого – ни на войне, ни потом… Возраст, наверное, стал брать свое. Она с 1918 года, после тридцати пяти в кордебалете делать нечего даже такой двужильной лошади, какой она всегда слыла.
– А она что… воевала? – спросил удивленно Тим Марголин.
– Смотрите хронику. – Белла Григорьевна явно давала понять, что комментарии ее поступят лишь тогда, когда она сама того захочет, не сможет смолчать.
Последующие четверть часа монотонно шли кадры кабинетов и допросов. Лиц следователей камера не показывала, а вот свидетелей давала крупным планом – мужчины: одетые так, как ходили в пятидесятых – в дешевых костюмах, некоторые в толстовках, другие в расшитых украинских летних рубашках; женщины: и очень симпатичные молодые модницы – завитые, в ярких летних платьях, и фабричного вида – работницы в платках и телогрейках. Они отвечали на вопросы, и на всех лицах застыло одинаково напряженное выражение – недоумения, страха.
«По делу допрошено более 150 свидетелей» – возникли пояснительные титры.
– Ясно, что все это лишь косвенные свидетельства. Из прямых доказательств – лишь наличие следов яда в останках жертв. И затем показания по последнему эпизоду, случившемуся в Подмосковье, – сказала Белла Григорьевна.
– Где именно у нас в Подмосковье? – спросила Катя.
– Промышленный город Электрогорск, – Белла Григорьевна прочла название по титрам.
– Где?!
– Электрогорск, вот написано же, – Тим Марголин кивнул на экран. – Мы туда выезжали, и не раз. Там еще трамвай у них по городу бегает.
Катя увидела на экране изображение заводских корпусов и высокую трубу, из которой валил черный дым. Индустриальный пейзаж, который обожали киношники пятидесятых и воспевали в лирических мелодрамах из «рабочей жизни».
Затем возникли кадры лесного массива, дороги, забора, ворот, распахнутых настежь, потому что туда въезжал милицейский автобус – точь-в-точь как в телефильме «Место встречи изменить нельзя».
И вывеска – «Пионерский лагерь «Звонкие горны». Добро пожаловать, друзья!».
А потом сразу появились кадры палат местной больницы – пустые койки и растерянные, испуганные лица врачей.
– Вот мы и подошли к эпизоду по Электрогорску. Именно здесь она получила прозвище «Отравительница детей». Уже после ареста, конечно, – Белла Григорьевна сняла очки. – Какая же тварь… гадина… А мы теперь сидим и смотрим на ее художества. Пленку сто лет под замком храним. Она дала яд таллий детям. Отравила ядом. Семь подростков скончались в этом лагере «Звонкие горны», куда она устроилась учительницей физкультуры летом 1955 года.
Никто из сидящих в просмотровой не произнес ни слова, пока шли кадры опустевших больничных палат. Затем снова возникли кадры лагеря – чисто подметенные, посыпанные песком дорожки, деревянные корпуса, где размещались пионерские отряды, умывальники, спортивная площадка, окруженная соснами, берег реки с песчаным пляжем.
Съемка пионерского лагеря производилась погожим солнечным днем, но уже осенью – видно, где-то в сентябре. Сквозь листву камера брала крупным планом сочные тяжелые гроздья рябины – багряные, но на пленке черные.
Все казалось черным, одетым в траур.
– Когда же мы увидим ее? – спросил Тим Марголин.
– Сейчас. Вот смотрите. Какой была Любовь Зыкова.
Крупный план. Женщина. Блондинка. В пестром летнем платье по моде пятидесятых годов – с юбкой солнце-клеш. И короткая безрукавка – болеро.
Женщина сидит на стуле. Свет ярко направлен ей в лицо, но она не отворачивается ни от света, ни от камеры.
Затем со светом что-то делают, регулируют его там, в кадре, чтобы он не бил в глаза, не слепил – ни ту, которую снимают, ни тех, кто смотрит кинохронику.
Женщина в кадре смотрит прямо на вас.
Женщина тридцати с лишним лет – крашеная блондинка с завитыми волосами смотрит прямо на вас.
Самый крупный план дает камера.
Любовь Зыкова – титры, точно высеченная надпись на гранитной кладбищенской плите.
Губы, накрашенные помадой – алой, наверное, но которая, как и все яркое на этой старой пленке, кажется черной, движутся. Она что-то говорит в кадр, на камеру.
Она что-то говорит.
И смотрит зорко и внимательно прямо в камеру, в кадр. Словно пытается запомнить… надолго, навечно запомнить лица тех, кто ее снимает, кто ее допрашивает.
Она смотрит прямо в темный кинозал на тех, кто через столько лет смотрит эту кинохронику.
Лицо бесстрастное.
Светлые глаза.
Она запоминает вас – оттуда, с экрана.
Камера дернулась, съехала вбок, уперлась в протокол допроса. Только «шапка» заполнена, остальные листы чистые.
– Она что, отказалась давать показания? – спросил представитель «Петровки, 38».
– Сначала, видимо, да. На первом допросе. Потом заговорила. Молодые люди, я закурю, вы не возражаете? – Белла Григорьевна зашевелилась в своем кресле.
– В молодости, видно, была недурна собой, – Тим Марголин смотрел на экран. – И тут даже очень фотогенична. Высокие скулы, блондинка, спортивная, раз в цирке работала.
На экране снова пошли допросы свидетелей. Новые кадры криминалистической лаборатории. Шла демонстрация процесса токсикологических исследований.
Затем возник список фамилий с указанием возраста и места работы.
– Вот видите, это список ее взрослых жертв. Сразу бросается в глаза: почти все жертвы мужчины, возраст – от 45 до 55 лет. В Ялте некто Сахно – директор продуктовой базы, в Сочи – директор ресторана, в Воронеже – начальник автобазы, в Новороссийске – моряк, в Смоленске – дантист и… вот тут и женщина, у них одна фамилия – Зелинские. Судя по преклонному возрасту, это мать дантиста. Отравила семью. Это все эпизоды, когда она давала жертвам стрихнин. Три убийства она затем совершила в Горьком – цирк туда перекочевал на гастроли, – Белла Григорьевна комментировала хронику. – Вот видите, город Горький нам показывают. Волга… Ее потом туда этапировали из Москвы на допросы, на следственный эксперимент. Там, в Горьком, она отравила своих коллег, работников цирка – воздушную акробатку Ядвигу Ямпольскую и ее брата Андрея. А затем дала яд таллий и местному участковому, видно, тот что-то заподозрил. Обратите внимание, почти все жертвы – мужчины, причем местное «начальство», из тех, что могли позволить себе волочиться за красивой одинокой дамочкой-циркачкой, приехавшей на гастроли. Для всех них эта связь окончилась смертью. По горьковскому случаю – видите, тут идет текст пояснения, выдвигалась версия о том, что акробат Ямпольский был любовником Зыковой и она сначала отравила его сестру, чтобы освободиться от нее. А затем «освободилась» с помощью яда и от любовника. Потом отравила и участкового, который решил разобраться, что же случилось в приезжем цирке. После этого она бросила цирк в Горьком и отправилась поближе к Москве. Приехала в Электрогорск и сняла там комнату, где устроилась в местный пионерский лагерь для детей работников завода.
На экране снова появились дорожки и корпуса пионерского лагеря. Гипсовая статуя горниста в центре клумбы. Возле корпусов – милицейские машины «Победы». Сотрудники в штатском и в форме.
– Следы яда таллия были обнаружены в пище в столовой.
Камера крупным планом взяла один из корпусов с надписью «Восьмой отряд».
– Все умершие подростки – семь человек из этого отряда. Школьники, возраст – четырнадцать лет, все местные из Электрогорска, учились в одном классе и в летнем лагере попали в один отряд.
– А причина? Какой мотив, за что она их отравила? Какой мотив, что она отравила столько людей? – спросил представитель пресс-службы Питера.
– Это серийные убийства, – ответила Белла Григорьевна. – Она совершила серийные убийства. Пусть этот термин тогда не употребляли, но сути дела это не меняет. Эта женщина была маньяком. Не знаю, была ли она маньяком всегда, с самого рождения, или уже потом превратилась в чудовище. Вы спрашиваете, за что она их убивала? По фактам серийных убийств следователи, сыщики часто ли получают внятный ответ на этот вопрос?
– Нечасто, вы правы. Но почему эту пленку так засекретили? – спросила Катя. – Вы что-то говорили о позоре…
– Смотрите на экран, сейчас поймете.
Кадр.
– Что это? – хрипло спросил представитель «Петровки, 38».
– А это ее боевые награды. Орден, медали, полученные ею на войне за выполнение спецзаданий в тылу врага. Видите, тут обыск идет в ее комнате в Электрогорске. Награды изымают. Вот тут короткое пояснение для наших специалистов по поводу ее спецзаданий в тылу врага. В 1943–1944 годах под Смоленском и потом в Харькове. Под Смоленском она по заданию подполья провела акцию возмездия в офицерском клубе-общежитии. В Харькове уничтожила высокопоставленного офицера гестапо. Она дала им всем яд. Отравила их. Она работала под прикрытием, немцы знали ее как певичку и танцовщицу местного офицерского казино. Она травила и на войне, и потом после войны. Теперь вам ясно, отчего этот фильм, это дело положили в секретный архив?
Они все в темной просмотровой молчали. Стрекотал старый киноаппарат.
– Есть вещи, которые… нестерпимы, невозможны. Для сердца, для сознания, для идеалов, на которых мы были воспитаны. Мой отец воевал, ногу потерял на войне. И я не могу… – Голос Беллы Григорьевны пресекся. – Не могу принять, пусть даже я столько лет прослужила в милиции, много чего повидала, что какая-то тварь… своим злодейством и безумием пятнает собой тот святой образ, который я храню в душе, вспоминая отца-фронтовика, вспоминая все, что я знаю о войне.
– Этот фильм – однозначно на уничтожение, – подытожил после паузы представитель «Петровки, 38». – Чтобы ничего не осталось от Любови Зыковой. Никакой памяти.
– Думаю, в Электрогорске ее помнят до сих пор.
– А как ее поймали там, в Электрогорске? – спросила Катя. – Судя по ее летней одежде, ее задержали прямо там, в лагере или в городе, по «горячим следам». Столько лет она чувствовала себя в полной безопасности, а тут вдруг попалась. Что произошло? Как ее арестовали?
– Я не знаю, – Белла Григорьевна поднялась. Экран погас. В просмотровой зажегся свет. – В фильме этого нет. Это – осталось за кадром.
Глава 11
ТЕЛЕФУНКЕН
Кто всегда слыл красивым смолоду, а потом потерял былую красоту – тот поймет. Кто бегал всегда быстрей серны, двигался грациозней лани, а потом разжирел, расплылся – той поймет. Чьи губы пахли как спелые вишни, манили к поцелуям, а теперь сморщились, а зубы – хоть и «американские вставные», сделанные в известнейшей столичной клинике, не спасли от дурного запаха изо рта – тот поймет.
Ах, как это печально – стареть, наблюдая день за днем, как от былого облика, былой гордости и славы остается лишь тень.
Роза Петровна Пархоменко восседала в богато обставленной гостиной своего большого дома в Баковке и смотрела эстрадный концерт по огромному, почти во всю стену, плазменному телевизору.
Зажигали «Бурановские бабушки». Роза Петровна слушала вполуха и гадала – вернулся ли домой ее младший сын Мишка, которого с легкой руки старшего, ныне покойного сына Сашки звали дома Мишель.
Но для нее он всегда – Мишка, младшенький. Нюня, размазня, сопля. Перечисляя все эти нелестные слова, Роза Петровна ощущала в душе нежность к младшему сыну. Как и в детстве. Такой был потешный пацан, такой тощенький, такой недотрога, совсем как девчонка. И вел себя в отрочестве по-девичьи – обижался, плакал, мстил исподтишка. Потом подрос, и выяснилось, что чертовски к музыке талантлив.
И она тут же наняла ему учительницу музыки из числа местных электрогорских «перлов». И пошло-поехало. Думали все в семье, по миру гастролировать станет, по телевизору замелькает. Но нет, видно, не судьба.
Теперь вот оркестриком забавляется тут, в Электрогорске, под боком у нее, у матери.
И еще носится с идеей создать какую-то там «группу» – хор не хор, черт его знает что – из студентов музучилища и местных пенсионеров-песенников.
«Людей надо чем-то занять, мама, – повторяет он постоянно. – У нас тут летом хорошо, природа спасает, а зимой в Электрогорске что? Тьма за окном с трех часов, телик да водка».
И так было, так было, сын. Только еще в оные времена добавлялся дым из заводской трубы, ночные смены да заводской гудок по утрам.
Роза Петровна – тучная, одетая, несмотря на летний день, в теплую вязаную кофту и шерстяные брюки, зажмурилась.
Заводской гудок в Электрогорске в оные времена будил и взрослых и детей. Первых – на завод, вторых – в школу.
Некоторые ненавидели гудок и где-то году этак в шестьдесят пятом добились, чтобы его заткнули.
Но ей, Розе, гудок всегда нравился, несмотря на то что будил ни свет ни заря и до занятий в школе оставалось еще много времени.
Ее лучшая и единственная подруга Ада забегала к ней с утра. Или она, Роза, бежала к Аде на улицу Южную. Ада с матерью жила в частном секторе, в домике с садом, и комнату сдавали всегда жильцам от безденежья.
Роза с отцом и матерью жила в отдельной двухкомнатной квартире на первом этаже заводского дома для рабочих – с газом, с водопроводом.
Перед школой, когда Ада к ней забегала, она всегда первым делом ныряла в ванную: «Можно я в душе вымоюсь? А то мать баню только в субботу истопит!»
Она плескалась под душем, а потом они завтракали, ели то, что мать, торопясь на завод, оставила на столе под полотенцем – кефир и сырники или теплые еще оладушки с яблоками.
Дома у Ады, когда Роза бегала утром к ней, они ели всегда одно и то же – яичницу-глазунью.
Теперь по утрам у Розы Петровны специальная диета от ожирения. Домработница готовит все честь по чести и подает. И скатерть льняная итальянская, и салфетки крахмальные, и сервиз… сервиз Сашка, старший сын, из Венеции привез ей в подарок…
Но нет, не было и не будет никогда пищи слаще и вкуснее в ее жизни, чем та подгорелая яичница на чугунной сковородке, что ели они в детстве с Адкой.
И дело вовсе не в старости, не в том, что семьдесят лет прожито. Все дело в памяти проклятой, что вечно, даже когда зришь по телевизору бодрый эстрадный концерт с бурановскими старушками, возвращает тебя ТУДА.
Куда, в общем-то, незачем возвращаться.
Куда все пути навечно отрезаны.
«Сердце, тебе не хочется покоя… сердце, как хорошо на свете жить…»
Ту же песню утесовскую поет молодой певец, пацан с микрофоном…
Ту самую, под которую они кружились по комнате, тесно обнявшись друг с другом.
Розовая раковина девичьего уха… Словно прозрачный перламутр на солнце.
Май 1955 года, вроде какой-то экзамен они сдали с Адкой на «удовлетворительно» или контрольную написали, помогая друг другу списывать. И потом ринулись к ней домой в сад с цветущими яблонями, в дом с распахнутым окном.
В углу на тумбочке – старый, с войны еще, вишневый приемник «Телефункен». Он как раз появился в том мае в Адкином доме, когда ее мать сдала комнату ЕЙ, ну той… той, чье имя в Электрогорске долго потом не произносили вслух.
Кружили по комнате, тесно обнявшись, смеясь, шепча что-то друг другу на ухо.
Розовая раковина девичьего уха… Нежная, юная, жадная плоть.
Отчего сейчас, когда все это в такой дали и печали, так больно, так тяжко бедному сердцу? Кто поможет, когда остались лишь злоба и ненависть. Боль от потери старшего сына, которого убили. Месть, которую все так ждут.
Отчего же так больно бедному сердцу?
– Мама, как ты себя чувствуешь? Что, неважно?
Сынок младшенький, Мишель, оказывается, тут как тут в гостиной. Вернулся, подкрался, а она даже и шагов не слышала. Телевизор ли в том виноват со стереозвуком? Или та музыка… та песня, что все льется из трофейного немецкого радиоприемника «Телефункен», которым ЕЕ, ту женщину, наградили за то, что она этих немцев убивала на войне без пощады. И она потом везде и всюду много лет, как сама же рассказывала им – девчонкам, куря папиросу «Герцеговина флор», возила приемник с собой.
– Беспокоишься обо мне? – спросила сына Мишеля Роза Петровна.
– Конечно, всегда. Я ведь люблю тебя, мама, очень.
– Я вот тоже о тебе беспокоюсь.
– Напрасно, – Михаил – Мишель Пархоменко прошелся по просторному холлу-гостиной, – у меня все отлично. Вот только что репетицию оркестра закончили. Как твой день, мама?
– У меня теперь все дни одинаковые. Ты мне зубы не заговаривай, Мишка. Я говорю, что беспокоюсь за тебя.
– Не стоит, мама.
– Слухи до меня доходят. Что ты путаешься кое с кем. Я пока отказываюсь верить этим слухам.
– Брось, мама, что ты в самом деле?
– Если это правда, – Роза Петровна грузно поднялась с мягкого дивана, – что же ты делаешь? Выходит, тебе путаться можно, а мне… а я всю свою прошлую жизнь забыть должна, в землю втоптать?
– Мама, да я никогда… что ты в самом деле?!
– Я больше вас всех потеряла. – Роза Петровна – вот кто бы мог догадаться, – сейчас видела перед собой там, в памяти своей далекой, сад майский, весь в цвету, и приемник «Телефункен», изрыгающий теперь не сладкое советское танго, а американский рок-н-ролл. – Никто никогда мне этой утраты не возместит.
– Мама, я никогда не забываю о том, кем был и что сделал для меня старший брат!
– Если слухи – правда, а я дознаюсь, – Роза Петровна сверлила сына взглядом, – я приму меры. Я вижу, ни ты, сынок, ни Наташка – вдова, не очень-то хотите этот груз со мной делить. Что ж… воля ваша. Я решу, как мне поступить.
Вишневый радиоприемник «Телефункен» – там, в той комнате мая 1955-го, – умолк. Четырнадцатилетние подруги Роза Пархоменко и Адель Архипова все еще продолжали кружить в танце, тесно обнявшись, уже в отсутствие музыки.
Приемник выключила та, чье имя в Электрогорске долго, очень долго потом не произносили вслух, используя лишь ее страшное прозвище. Она смяла папиросу «Герцеговина флор» в фарфоровом блюдце, встала с венского стула, на котором сидела, подошла, протянула тонкую, унизанную серебряными кольцами руку и погладили девочек по нежным щекам – сначала Аду, потом ее – Розу.
– Мама, успокойся! Я сейчас принесу тебе твои таблетки. – Михаил Пархоменко как ошпаренный вылетел из гостиной.
Роза Петровна ощущала в душе тупую материнскую нежность к слабости и суетности младшего сына.
Ничего, ничего, ничего, кроме нежности и презрения…
Так мало мужского в нем, а туда же лезет, кобель…
Так мало мужского. Только страсти, только слабости. Нет, на него просто невозможно сердиться.
Глава 12
ЗАГАДКИ НАЧИНАЮТСЯ
Домой из киноархива Катя всегда возвращалась рано. Вот еще и шести нет, а она уже идет по родной Фрунзенской набережной. Напротив Нескучного сада – ее дом. Но она всегда зависает в квартале от него – в летнем кафе с полосатыми тентами и отличным видом на Москва-реку.
Вот и сейчас. Не так легко найти свободный столик, хотя и день будний, и час еще рабочий.
Катя выбрала столик поуютнее, расположилась, бросила сумку. Сквозь темные очки от солнца мир сер, долой их? Но солнце в этот пусть и вечерний час еще ярко.
Долго еще до заката.
Катя заказала яблочный фрэш и минералку. Расстегнула под столом застежки итальянских сандалий и, высвободив ступни, поставила их на теплый асфальт. С босыми-то ногами…
Итак, о чем начнем размышлять неспешно – о доме или о работе?
Ну, дома, скажем, все по-старому. Затененные от дневного жара жалюзи и шторами окна квартиры. Сумрак, пустота и одиночество. Подружка Анфиса Берг все уговаривает ее «организовать дома кондиционер». Но Катя не любит кондиционеров. Проще открыть балкон настежь и оставить так на ночь, чтобы ветерок с Москвы-реки освежал и бодрил.
Подружка Анфиса, рьяный фотограф, все это лето мотается по командировкам по Русскому Северу. От Валаама до Мурманска, а сейчас и еще хлеще – занесла ее судьба куда-то совсем на Север Крайний, на берега Ледовитого океана. Когда звонит, захлебывается от восторга и от кашля – тут вам и ледоколы, и вездеходы, и чайки-крачки, и чуть ли не белые медведи и мужественные мужики – суровые симпатяги метеорологи, нефтяники, газовики и какие-то еще «полярники». Готовит выставку фотографий, по телефону хвалится, что «пила чистый спирт – правда, всего один раз, уж очень мы все замерзли». Это в августе-то месяце замерзли, мама моя…
Выставку потом осенью сделают в крохотной галерейке на Гоголевском бульваре, забредут туда два с половиной тощих рафинированных критика, пара-тройка прикольных типов из светского междусобойчика и мы – Анфискины подружки. И станем охать и ахать, разглядывать фотки – какой он дикий и прекрасный Русский Север.
Я не стану заниматься этим делом. Никогда.
Вот с чего вдруг среди неспешных воспоминаний «про подружку Анфису и ее северные приключения» эта вот мысль? Ну к чему это? Зачем?
И так ведь все ясно. Не буду…
Там, в архиве, все пленки из комнатки за железной дверью беспощадно приговорены к уничтожению в рамках «акта на списание и утилизацию».
Итак, что у нас дальше согласно очередности…
Муж Вадим Кравченко, именуемый на домашнем жаргоне «Драгоценным В.А.».
Ах, как же он надоел, этот вечный муж Драгоценный. Столько времени ошивается за границей – больше года уже со своим работодателем Чугуновым, у которого служит телохранителем. Старый хворый олигарх Чугунов, которого уже все врачи давно приговорили – мол, и до весны не доживет, коньки откинет, несмотря ни на какие клиники, – наплевал на все приговоры и твердо встал на путь выздоровления.
Это они с Драгоценным в Канаде нашли какого-то шамана индейского в резервации, и тот поплясал вокруг Чугунова, постучал в бубен, позавывал, вызывая духов предков, и когда те явились на рандеву, препоручил им душу «Чугуна» на лечение и хранение.
И старый больной олигарх Чугунов, кажется, воскрес. Теперь вот в Монте-Карло – якобы в лечебнице, но на самом деле старик дни и ночи играет. Радуется жизни! С Драгоценным он за все эти годы так свыкся, что считает его почти что за родного сына.
И что самое интересное, муж Кравченко – Драгоценный теперь, когда работодатель его стал стар и беспомощен, отбросил всякую критику в его адрес и почитает его за родного отца. Возится с ним, заботится о нем…
Вот и жену, ее, Катю, фактически оставил… уехал, променял на Чугунова.
Она прежде думала – рассчитывает на наследство Драгоценный. Чугунов бездетен, одинок, а капитал у него фантастический. Но нет, не в деньгах дело.
Деньги – немалые суммы каждый месяц Драгоценный кладет на ее кредитную карту. И она деньги берет и тратит.
Ну уж нет, в Электрогорск я точно не поеду. Мало ли что…
Мало ли что случается… В одном и том же городе с интервалом более полувека такие происшествия – одно жуткое, а второе очень странное…
Да, насчет того, откуда она обо всем этом знает – про канадского шамана, про выздоровление Чугунова, про Монте-Карло, чтоб его черти взяли…
Так Драгоценный звонит… не ей, другу детства Сережке Мещерскому. А тот как по испорченному телефону – Кате.
Больше всего Мещерский страшится их с Драгоценным развода. Хотя чего ему-то беспокоиться? Выходит, есть причина. Ох, парни…
На фиг вас всех. И мужа, и друга детства, и… ну того, другого, о ком порой думаешь, хотя и запретила это себе.
Там все ложь, так похожая на правду, или правда, похожая на ложь. И совсем, совсем, совсем ничего личного… Хотя как сказать.
Как-то тут среди ночи ее разбудил звонок по мобильному. Номер высветился иностранный. Она решила, что это Драгоценный, а потом, услышав ту тишину… ту особенную тишину, поняла, что нет.
А может, то все приснилось.
Оттуда никаких звонков в принципе проистекать не может.
Это как путешествие в Аид.
Итак… аидом этим самым, преисподней, тленом мертвечины попахивает и в Электрогорске. И за полвека дух этот все еще не выветрился. Один случай жуткий, второй – странный.
Ничего хорошего нет в том, когда в считаные дни происходят вот такие совпадения. Одно и то же место происшествия.
Я в Электрогорск все равно не поеду. И этим… то есть тем делом заниматься не стану. И лучше не просите меня. Даже имя этой Зыковой должно сгинуть…
Но в Электрогорске про Любовь Зыкову не забыли?
Кто это сказал? Старуха-архивариус?
Но ведь меня, собственно, никто и не просит лезть в это дело.
Только вот Гущин с его оперативным опытом, когда пришли данные по делу о мертвеце во внедорожнике, там, в Электрогорске, на перекрестке сразу что-то почуял.
Что-то неладное…
И пусть она, Катя, десять раз повторила себе, что это просто несчастный случай, она… ошибается.
Больше всего сейчас на свете Кате хотелось, чтобы ее телефон мобильный позвонил. И одиночество… этот морок за столиком под полосатым тентом летнего кафе с отличным видом на реку рассеялся от голоса кого угодно – Анфисы, душки Мещерского, мрачного Драгоценного, так и не простившего ее, или того… другого голоса, все еще хранимого в памяти, произносившего русские слова без всякого иностранного акцента…
Но телефон молчал. И одиночества под полосатым тентом летнего кафе, одиночества этих последних дней лета, столь насыщенного событиями и преступлениями, можно было избежать лишь одним способом.
С головой окунуться в работу.
В новое дело.
В новую загадку.
Просто я завтра загляну в розыск к Гущину и спрошу, что нового… Это ведь совершенно меня ни к чему не обязывает.
Утром следующего дня сразу после оперативки Катя – ужасно деловитая и энергичная – переступила порог приемной шефа криминальной полиции.
Удивительно, но у нее возникло ощущение, что полковник Гущин… ждал ее и даже был рад.
– Дело пока еще у нас военная прокуратура не забрала, – объявил он, словно отлично знал, по какому поводу явилась по его душу Катя. – У них исследовательских мощностей таких нет, лаборатория фиговая по сравнению с нашей. Еще экспертизы назначены, дополнительные.
– Значит, какие-то данные уже есть и ни вас, ни военного следователя они не удовлетворяют? – спросила Катя. – А что-то узнали конкретное об этом майоре Лопахине?
– Наш он, подмосковный, уроженец Электрогорска, окончил военно-техническое училище и служил где-то в дальних гарнизонах. Потом был принят в Академию космических войск, факультет управления и программирования. Получил в Москве квартиру в Люблино. С женой развелся. Мы ее вызвали на сегодня. Послушаем, что скажет. Фактически она – самый близкий ему человек, родители его умерли. Удивительное дело, я сам проверял, женаты они с момента окончания им военного училища. Жена с ним по всем гарнизонам дальним десять лет моталась. Потом вот удача – его в Москву в Академию направили, затем он сразу должность получил в Генштабе, квартиру московскую, и что? Развод. Я понимаю, если бы он на другой женился – так нет, бобыль, холостяк вот уже два года после развода.
– Любовницу ищите, – посоветовала горячо Катя. – Он шпион, перевертыш, чует мое сердце… они все такие. А жена потому и развелась, что подозревала его. А почему он на дороге в Электрогорске оказался, вы узнали?
– Дом у него там от родителей остался, что-то вроде дачки. Судя по всему, он туда приехал на свои выходные. У них в отделе, где он работал, как мне военные объяснили, – скользящий график выходных после дежурств. Возвращался утром на работу в Москву. Тут как раз все чисто, никакой загадки нет.
– А где нечисто, Федор Матвеевич?
Гущин погладил глянцевую лысину.
– В аптечке у него инсулин, баночки по 20 кубиков, одна целая и одна початая на десять кубиков. Возил запас инсулина с собой наш Андрей Лопахин, майор вооруженных сил. Шприц там же – использованный, грязный, если когда и кололся им, то давно, не в этот раз, видно, просто выбросить забыл одноразовый. И лекарство, и шприц чистые.
– Вы же только что сказали шприц – грязный.
– Это в смысле гигиены, одноразовый, использованный давно, повторяю, не в то утро. А след укола у него на руке свежий был.
– Подождите, Федор Матвеевич, я что-то ничего не понимаю. Так он умер от диабета? В кому там, за рулем, впал?
– Слушай, что говорю и в каком порядке. Не трещи, как сорока, а то я и сам собьюсь. В баночках нормальный инсулин, чистый, датского производства. В шприце, давно им использованном, тоже только следы инсулина. При вскрытии установлено, что он действительно страдал диабетом. И в крови у него следы инсулина в наличии. Кроме того, в крови присутствует еще одно вещество.
– Лекарство?
– Яд.
– Яд?!
– Вещество таллий. Очень высокая концентрация в крови. Причина смерти – отравление.
– Он был отравлен?
Катя смотрела на полковника Гущина. Помнится, тогда, в прошлый раз, она что-то сама болтала легкомысленно про «отравленный укол зонтиком»…
Электрогорск снова! И яд… таллий.
Нет, все это чепуха. Такого просто быть не может. Больше, чем полвека прошло. Бездна времени.
– Патологоанатома и токсикологов в лаборатории особо насторожил тот факт, что следы яда обнаружены в крови, а не в желудке. Лопахин должен был умереть еще до того, как яд поступил в кровь в таком количестве, если бы принял таллий вместе с пищей. Эксперты подозревают, что был сделан укол отравляющего вещества. Вопрос первый: чем его укололи, оставив такой вот характерный весьма обычный след, если единственный обнаруженный шприц – давно не использовался?
– А какой вопрос второй?
– Когда майора укололи? Концентрация яда в крови такова, что, получив такую дозу, он мог жить не более нескольких минут. Однако мы опросили многих свидетелей из числа водителей машин, застрявших в пробке в то утро на перекрестке. Его внедорожник подъехал и остановился на светофоре. Он сам сидел за рулем, сам вел машину.
– А какой третий вопрос?
– Кто был с ним в то утро в машине? – Гущин встал и прошелся по кабинету. – Самое логичное предположение – кто-то сидел с ним рядом, сделал ему смертельную инъекцию, забрал шприц и на светофоре выскочил вон.
– Настоящий шпионский расклад, – сказала Катя.
– Правда, одна неувязка, – Гущин словно и не слышал ее. – Свидетели, которых мы опросили, в один голос твердят, что машина на светофоре стояла долго и из внедорожника никто не выходил. Но эти показания тех, кто уже стоял в пробке, выстроившейся на дороге к перекрестку. В самый первый момент, когда внедорожник только подъехал к светофору, машины еще не скопились или их совсем не было. Они могли не видеть, не заметить, как кто-то вышел из машины, бросив там майора умирать одного.
– Самый шпионский расклад, – упрямо повторила Катя. – Только есть неувязка: компьютеры его в машине остались, если бы охотились за какими-то данными секретными, так тот, кто сделал ему инъекцию и потом смылся, забрал бы портфель с ноутбуками. Есть четвертый вопрос, Федор Матвеевич?
– Есть. И пятый, и шестой. Только мы… я их сейчас пока не знаю. Если бы ты его лицо видела… Что уж он там такого перед смертью узрел, что ему открылось этому бедняге.
– Зачем он забрал с собой на дачу в свой выходной компьютеры?
– Военных это как раз не удивляет. Он программист, компьютерщик, они без ноутбука себя ни минуты не мыслят. Представитель Генштаба и сотрудники его отдела забрали вчера его компьютеры, до нашего министерства дошли, я вынужден был подчиниться – отдать вещдоки. И что там у него было, мы так и не знаем. Если причина убийства – его профессиональная деятельность, считай, что эта нить для нас теперь оборвана.
– Может, есть иной мотив для убийства.
– Когда офицер, военный, весь из себя засекреченный, работающий в секретном отделе Генштаба, умирает от токсикологического отравления, профессиональная деятельность – это главная версия.
– Да, если это обычное дело, обычный шпионский расклад, – сказала Катя. – Но вы сами сказали – дело странное. И я вам тоже сейчас это повторю – дело странное. Все это случилось именно в Электрогорске.
– Что ты хочешь этим сказать?
– Место преступления меня в этом деле чрезвычайно интересует, – ответила Катя. – Город Электрогорск.
Глава 13
КИТАЙКА
– Китайка забилась под сарай и орет!
Виола Архипова, младшая сестра, как угорелая влетела в комнату средней сестры Офелии. Та сидела за компьютером у окна. Смотрела клип и слушала музыку.
– Ты что кричишь?
– Я говорю, кошка под сараем орет. Что слушаешь? «Abney Park»? Ясненько все с вами.
– Так что с кошкой? – Офелия приглушила звук.
Виола кивнула на окно – из сада неслись кошачьи вопли. Кошка по кличке Китайка принадлежала домработнице Архиповых. Та души не чаяла в этой дымчатой полосатой красавице-кошке дворовой породы, названной Китайкой за волшебные, чуть раскосые зеленые глаза.
Китайке многое позволялось – она шастала по двору, подвалу и кухне где и когда хотела беспрепятственно. Ей лишь запрещалось входить в комнаты, потому что невестка Адель Захаровны Анна страдала аллергией на кошачью шерсть.
– Пошли скорее, что там с ней? – Офелия заторопилась, хромая.
Они с сестрой спустились по лестнице и через кухню и заднюю дверь выскочили в сад. У сарая стояла домработница в спортивных штанах и футболке навыпуск и тревожным голосом выкликала: кис, кис!
В фундаменте сарая, в кирпичах, – небольшие отверстия для вентиляции, в торце дверца: под сараем хранится садовый инвентарь. Взрослому человеку если и залезть туда, под сарай, так только ползком на животе.
Кошка Китайка не мяукала, а форменным образом орала.
– Китайка, милая, ты где? – Офелия села на корточки перед вентиляционной дырой, стараясь заглянуть в темноту. – Киса, иди ко мне.
– Может, она там рожает? – спросила Виола.
– Да не было никаких признаков, – домработница всплеснула полными руками. – Она, конечно, шляется везде, кошка ведь дворовая, разве уследишь, и котов полно. Я ж кормлю ее, глажу, не было брюха-то!
– И мы гладим, – Офелия прильнула к дыре. – Темно там. Китайка, ну иди сюда, ну что там с тобой? Может, она там на гвоздь напоролась?
– Ой беда с этой кошкой! Кис-кис! – Домработница низко нагнулась. – Достать-то ее как оттуда?
– Я попробую через лаз, – Офелия ринулась к деревянной дверце. – Сколько тут всего, Виолка, давай помогай мне, не стой руки в брюки.
Вместе с младшей сестрой они начали быстро разбирать внушительную кучу лопат, грабель, культиваторов, тяпок, совков, леек, напиханных под сарай.
Вопли кошки неслись из темноты, терзали слух, били по нервам.
– Да что с ней творится? Может, они дерутся там? – Виола тронула сестру за плечо. Офелия с усилием выволакивала из-под сарая ржавые тазы, освобождая лаз. – Я туда не полезу.
– Ты вечно так. Я полезу. Держи, и это держи. Быстрее поворачивайся, – Офелия совала ей вещи.
– Надо палкой какой-нибудь потыкать, если коты дерутся, я их там разгоню. – Виола вооружилась граблями и просунула черенок в дырку. Начала осторожно возить палкой внутри, под сараем. Обо что-то стукнула, затем за что-то задела.
Кошка взвыла так, что их всех бросило в дрожь.
– Осторожнее, ты ее убьешь так! Положи грабли, – Офелия оттолкнула сестру. – С ума, что ли, сошла палкой лупить?
– Я не луплю, я помочь хочу. Слышишь, получилось! Я их разогнала там. Они дрались, точно дрались, а я разогнала.
Из-под сарая не доносилось теперь ни звука.
– Кис, кис, Китаечка, девочка моя, – позвала домработница.
Они прислушались – ни шорохов, ни мяуканья.
Внезапно раздался шум в конце сада за домом – это открылись автоматически ворота, и во двор въехала машина.
– Мама с Геркой вернулись. – Виола вскочила с колен, отряхнула с джинсов землю. – Я знаю, кто нам поможет, кто ее мигом из этой дыры достанет. Павлик! Павлик, нужна твоя помощь!
Анна Архипова вместе со старшей дочерью Гертрудой и шофером Павлом Киселевым ездили в соседний с Электрогорском Павловский Посад. Там можно купить все, чего не найдешь в Электрогорске, в огромном супермаркете. До юбилея Адель Захаровны оставались считаные дни, и Анна составила целый список необходимого – от заказов цветочному магазину до свежей рыбы.
Выйдя из машины, они все втроем пересекли сад и подошли к сараю.
– Что тут опять у вас? – Анна оглядела дочерей. – Что стряслось?
– Китайка забралась туда, и мы не могли ее достать, – сказала Офелия.
– Какая еще китайка?
– Да кошка моя, Анна Дмитриевна, – ответила домработница.
– А, так в чем дело? Что с кошкой?
– Мы не знаем, мама, – раздраженно ответила Офелия. – Я хотела залезть под сарай, достать ее.
– Не воображай себя доктором Айболитом. Надеюсь, ты свои прежние бредни насчет ветеринарной академии бросила?
По этому поводу в семействе Архиповых происходили долгие баталии. Когда однажды средняя дочь Офелия заявила, что после окончания школы она не станет поступать в иняз и юридический тоже видела в гробу, а попытается сдать экзамены в ветеринарную академию. В иняз прочила ее бабка Адель Захаровна, в юридический отец, но он был мертв. Тогда в семействе Архиповых долго воевали со своеволием средней дочери. И только Гертруда всегда оставалась на стороне сестры.
Пришла на выручку Офелии она и сейчас.
– Мам, надо кошку оттуда вытащить, – она, как была в белом топе и розовых шортах (с момента победы на конкурсе красоты она порой одевалась как кукла Барби), села на землю и заглянула в лаз, освобожденный от инвентаря.
– Ты вся перепачкаешься, поранишься и подхватишь столбняк, – Анна перечислила все беды разом. – Может, эта мерзкая кошка давно сбежала, я ничего не слышу.
И правда, под сараем – все тихо.
– Она там, – ответила Офелия. – Мы бы заметили, если бы она выскочила.
– Ты бы заметила! Ты такая простофиля, дальше своего носа не видишь, я запрещаю тебе лазить туда в эту грязь, ты там инфекцию подцепишь, – оборвала среднюю дочь Анна. – Все, хватит, лучше помогите мне разобрать покупки.
– Но, мама, кошка там! – Офелия обернулась к Виоле. – Скажи, что мы бы заметили, если бы Китайка выскочила.
Виола лишь пожала плечами. Все это уже успело ей надоесть. Виола имела одну особенность – ей крайне быстро все надоедало: телевизор, компьютерные игры, подруги, школа, танцы, даже новые шмотки. Живые создания и их беды – тоже.
– Может, она там с котом трахается, а мы лезем, мешаем, – фыркнула она. – Мама, а что вы купили, можно посмотреть?
– Что это за выражение – трахается?
– Все так говорят.
– Чтобы я этого больше от тебя не слышала.
– Ну сексом занимается кошка с котом, – Виола явно издевалась. – Мам, мы ведь не в монастыре.
Ах да… та история о монастыре. Ездили всем семейством сразу после похорон Бориса Архипова, отца, в знаменитый монастырь. Зачем? Вроде как молиться о душе покойного, хотя молиться толком в семействе Архиповых никто не умел и даже толком не знали, как и кому свечи там, в церкви, ставят. Но ездили. Надо. Сейчас это модно, пусть люди знают.
Монастырь оказался женским. И Анна Архипова, в то время еще не увлекавшаяся идеями рабочего движения и профсоюзами, имела приватный разговор с игуменьей по поводу «воспитания девочек при монастыре».
Игуменья спросила, отчего это у девочек такие «варварские» имена – Гертруда, Офелия и Виола?
То был тоже плод страстного увлечения Анны – театром и Шекспиром. Она рожала дочерей и называла их в честь героинь пьес. Муж Борис Архипов обожал ее и никогда ни в чем ей не перечил. А советов Адель Захаровны они в то время – своей юности и супружества – слушали мало. Да она, занятая лишь собой, их и не давала.
К всеобщему облегчению, с монастырем ничего не вышло. Но память осталась.
– Я все же проверю, что там, – подал голос шофер и охранник Павел.
Тот самый, которого о помощи просила младшая Виола, тот самый, чьему возвращению она так обрадовалась – эта четырнадцатилетняя девочка.
И он как был – в выглаженных брюках, в белоснежной рубашке, при галстуке – опустился на колени перед лазом, потом лег и пополз внутрь, под сарай.
Виола смотрела на него, открыв рот.
В этот момент в саду на вымощенной плиткой дорожке появилась Адель Захаровна.
– Чем вы тут все занимаетесь, а? – спросила она зычно, еще издали.
– Кошку достаем, бабушка! – звонко ответила ей красавица Гертруда.
Прошло минут пять – охранник Павел, двигавшийся там в темноте по-пластунски, внезапно хрипло вскрикнул: «Вот черт!»
– Павлик, что с тобой? – спросила Виола тревожно.
Но молодой дюжий охранник уже полз назад, пятясь, протискиваясь в лаз. Вот показались его ноги в до блеска начищенных ботинках, брюки все изгвазданы землей и ржавчиной.
Он вылез, в вытянутой руке брезгливо держа труп кошки.
Бросил его на траву.
Все сгрудились вокруг Китайки. Домработница горестно всхлипнула.
– Что ж это такое с ней?
– Кот ее убил или крыса загрызла. Знаете, какие здоровые крысы, – оживилась Виола, лицо ее так и светилось любопытством. – Что ты делаешь, не трогай ее, фу, гадость!
Но Офелия наклонилась и перевернула рукой скрюченное тельце кошки. Лапки Китайки свело судорогой, глаза – открытые, мутно уставились вверх.
– Она еще живая, и ран на теле нет. И крови не видно. – Офелия осматривала кошку со всех сторон. – Ее нужно отвезти в лечебницу срочно! Я поеду. Павел, отвези меня.
– Никуда ты не поедешь, – сказала дочери Анна. – И кошка уже сдохла.
Тельце Китайки дернулось в последний раз.
– Говорят девять жизней у них, – сказала Адель Захаровна. – У кошачьего рода-племени. Поделиться они могут жизнями-то. Будем считать, это мне подарком на грядущий юбилей – кошкина жизнь дополнительно, так сказать. Не умру я, хоть вы все только того и дожидаетесь.
– Мама, как вы такое можете говорить в присутствии детей! – воскликнула Анна.
– Они уже взрослые, – Адель Захаровна усмехнулась. – Ладно, шучу. А ты, – она обернулась к домработнице, – не плачь, возьмешь себе другого котенка.
– Такой, как Китайка, больше не будет, – домработница покачала головой. – Такая мурлыка, но хитрая была… И все ж чудно. Сколько она там мяукала-то, а потом вдруг в момент издохла. С чего бы это? А слышали, какой случай на днях в Баковке на дороге произошел? Остановилась машина на светофоре и стоит. Долго стояла, потом сунулись, а там мертвец за рулем.
– Мертвец? – спросила Адель Захаровна.
– Ну да. В городе только про это и говорят. Вроде как военный, офицер. Здешний. И не старый совсем еще. Вот времена – молодые в одночасье мрут.
– Эта ваша кошка бегала где хотела, по всему поселку, – резко сказала Анна. – Я предупреждала вас, что в доме ее не потерплю. И вы позволяли ей шляться как бездомной. Она где-то что-то сожрала.
– Или хорь ее задушил, – назидательно поправила Адель Захаровна. – За городом ведь живем, считай что в деревне, на природе. Тут и хори водятся. Возьми, Павел, лопату, – велела она охраннику, – и зарой ее.
– Павел, я тебе потом помогу похоронить. – Офелия, сидя на корточках, все продолжала внимательно осматривать кошачий труп. – Все же это как-то странно.
Все двинулись прочь к машине разбирать покупки. Только Гертруда, красавица старшая Гертруда, осталась с сестрой возле сарая.
Глава 14
ЖЕНА
Позвонили с проходной уголовного розыска – бывшая жена Лопахина явилась по вызову в управление. Катя решила остаться: полковник Гущин намеревался допросить женщину лично, не доверяя подчиненным, что случалось нечасто и свидетельствовало о крайней степени интереса шефа криминальной полиции к делу об отравлении армейца.
Лопахина Яна Сергеевна (имя-отчество полковник Гущин, вздев модные новые очки-стеклышки на нос, сообщил Кате, глядя в свой потрепанный блокнот «для особых записей») произвела какое-то странное впечатление.
Бесцветное, потому что, отвернувшись на секунду, Катя уже не могла вспомнить ни лица, ни фигуры, ни голоса женщины. Все как-то до такой степени банально и неприметно. И лет-то сколько, вот так, навскидку не определишь. По фигуре, худенькой тщедушной, вроде не больше двадцати, по лицу, по гладко зачесанным, прилизанным волосам – за тридцать пять. Катя тогда еще подумала, что перед ними необычайно скромное, забитое существо. И ей захотелось посмотреть на прижизненные фотографии майора Лопахина – как он выглядел сам, раз женился на такой вот вылинявшей моли.
– Присаживайтесь, пожалуйста, простите, что беспокоим вас, но нам крайне необходимо с вами поговорить, – полковник Гущин взял самый что ни на есть заботливый «отеческий» тон.
– Ничего, я понимаю, – Яна Лопахина села в кожаное кресло у совещательного стола, примыкавшего к письменному столу Гущина в его просторном начальственном кабинете. – Вы вызвали меня насчет Андрея.
– Кто вам сообщил о смерти вашего бывшего мужа?
– Вы. То есть ваш сотрудник позвонил. Сказал, что он умер в машине по дороге на работу.
– Ваш муж…
– Бывший…
– Да, – тут же поправился Гущин, – отличался крепким здоровьем?
– Он страдал диабетом.
– И выбрал военную службу? Его приняли?
– У него сначала была легкая форма. И тогда на это не смотрели, девяностые годы… К тому же у него в семье все военные по мужской линии, может, его отец тогда нашел какие-то связи. Я точно не знаю. А потом болезнь прогрессировала. Он служил, мы с ним ездили по разным местам… На Севере холодно. И вообще, служба тяжелая вещь. Диабет такого не любит.
Она произносила все это негромко, бесцветно, почти равнодушно.
– Но это никогда не угрожало его жизни, многие живут с диабетом до старости, – добавила она поспешно. – Его что, убили?
– Да, это умышленное убийство, – полковник Гущин кивнул. – Пока мы расследуем это дело, а потом оно поступит к военному следователю. Вы что, сразу подумали об убийстве, когда мы вам позвонили? Не о несчастном случае?
– Я не знаю. В сущности, это уже не мое дело – его жизнь, его смерть. Мы в разводе. Жаль, конечно, чисто по-человечески.
– Сколько вы прожили в браке?
– Почти тринадцать лет.
– А познакомились где?
– Летом как-то… Он, курсант, приехал к родителям в отпуск, я тоже там гостила у родственников.
– Где вы гостили? – спросила Катя.
– Городок подмосковный Электрогорск.
– У вас там родственники?
– Дальние, семья моей двоюродной сестры.
– А ваш бывший муж?
– Он оттуда родом. У него там дом остался от родителей. Наша бывшая дача.
Тут Яна Лопахина усмехнулась. Впервые они увидели ее усмешку-улыбку. И нельзя сказать, что улыбка-усмешка Кате понравилась.
– У вас есть какие-то подозрения, кто мог убить вашего бывшего мужа? – Гущин «прикрыл» тему Электрогорска, не совсем ему понятную, и повел допрос в своем ключе.
– Нет. Хотя там, где он служил, в этих местах… Он говорил мне иногда: что видела, молчи. Не болтай. А то убьют и меня, и тебя.
– В смысле военные секреты?
– В смысле. Да… я не знаю… возможно.
– Вернемся к его болезни, – Гущин пододвинул к себе блокнот и ручку. – Он всегда возил с собой инсулин, шприц?
– В последнее время да. Перед тем как мы развелись. Да, возил, носил. Делал укол себе – два-три кубика, а баночки кубиков на десять, кажется.
– А вы делали ему уколы?
– Нет. Он мне не доверял.
– Он делал уколы в какое-то определенное время?
– Когда как. Мерил уровень сахара. Я не помню, простите.
– Вспомните, пожалуйста. Он пользовался всегда одним шприцем? Или разными, они же одноразовые.
– У него был свой шприц. Все это хозяйство всегда находилось при нем. Он про это не забывал.
– Что вы делали днем и вечером в среду?
– Я работала днем, а вечером дома.
– А утром в четверг?
– На работу собиралась.
– А где вы работаете?
– В ювелирном магазине.
Гущин поднял брови.
– Надо же. Обычно жены военных кто? Учительницы и медсестры.
– В одном северном гарнизоне я работала учительницей труда в школе, – сказала Яна Лопахина. – А что такого?
– Вы – москвичка, и после стольких лет разъездов по стране по дальним гарнизонам вы с мужем вернулись в столицу, когда он поступил в Академию.
– Это все в прошлом.
– Почему вы развелись?
– Простите, но это никакого отношения к его смерти не имеет. И я не хочу отвечать на этот вопрос. Это личное.
– Он вам изменял? – Гущин словно не слышал.
– Нет. Андрей любил меня. Всегда заботился, просто надышаться не мог. Мне все подруги завидовали.
– Так что же произошло? Почему вы развелись тут, в Москве, где он остался служить, что большая редкость для военного, где получил… где вы вместе получили квартиру?
– Квартира эта – муниципальное жилье, – Яна Лопахина пожала плечами. – В Люблино у черта на куличках. Но Андрюша так этой конурой гордился. После гарнизонов-то. Он был такой славный. И так любил меня. В общем, он мне смертельно надоел. Хуже горькой редьки. И я ушла.
– Так вы ушли от него к другому мужчине? – спросила Катя. Ей так хотелось внести ясность. Быструю ясность.
– Ага. И мы развелись. Все прошло мирно и цивилизованно.
– У вас остались общие друзья, знакомые?
– Друзья… нет, все в основном сослуживцы мужа. Но это все осталось там, в местах прежних наших дислокаций. Тут в Москве я никого из его сослуживцев не знала, он коротко не сходился ни с кем ни в Академии, ни потом в отделе Генштаба.
– Своим разводом вы весьма подпортили ему карьеру. Там, где он работал, разводов не любят.
– Возможно. Но что об этом сейчас говорить? Он умер.
– Его убили. И мы расследуем обстоятельства этого убийства, – Гущин снял очки, потер переносицу. – Ладно, спасибо за помощь. Еще раз прошу прощения, что побеспокоили вас.
Когда жена Лопахина вышла, он в задумчивости прошелся по кабинету.
– Нудная особа, – вынесла свой вердикт Катя.
– И лгунья.
– Кто? Она?
– Именно. – Гущин хмурился.
– С чего вы взяли, что она лжет? – удивилась Катя. – Да вы у нее ничего и не спрашивали такого… самые общие вопросы.
– И на эти общие вопросы она отвечала нам враньем. Что бы произошло, если бы я начал спрашивать у нее что-то существенное?
– Например? – Катя удивлялась полковнику Гущину все больше.
– Например, то, каким образом яд попал в кровь ее мужа вместе с инсулином, если, как она утверждает, он всегда делал уколы себе сам, а единственный обнаруженный шприц не содержит следов яда таллия.
Глава 15
ГНОМ И СОКРОВИЩА
Полковник Гущин и Катя изумились бы еще больше, будь установлено за бывшей женой майора Лопахина негласное наблюдение.
Из Главка в Никитском переулке Яна Лопахина отправилась на Тверскую улицу, быстро поймала такси, но проехала всего ничего – до книжного магазина «Москва». Здесь она вышла и свернула за угол, спустилась к Большой Дмитровке, пересекла ее на светофоре и медленно пошла по Петровскому переулку к бывшему «доходному» дому на углу. Дом, как и соседствующие с ним в этом переулке, с прошлого века населяли знаменитости – актеры, политики, оперные звезды. Большое артистическое гнездо в новые времена превратилось в одно из престижнейших жилых зданий столицы.
Яна Лопахина привычно пересекла двор-колодец, набрав код, вошла в подъезд, кивнула консьержу и вызвала лифт. На площадке третьего этажа она подошла к двери с медной табличкой и достала ключи.
Надо заметить, что и дверь, бронированную, но отделанную под старину, и медную табличку с фамилией, и антикварный дверной звонок, вообще этот адрес отлично знали в столице в определенных кругах.
В квартире жил знаменитый ювелир и коллекционер Петр Грибов, за консультацией к которому часто обращались сотрудники Алмазного фонда, Оружейной палаты, различных антикварных аукционов и богатые нувориши, мечтающие добавить в свою коллекцию «подлинного Фаберже».
Открыв своими ключами множество хитрых замков, в том числе два сенсорных электронных, Яна Лопахина вошла в сумрачную переднюю и крикнула на всю квартиру:
– Папочка, это я! Сейчас будем обедать.
Квартира – просторная, четырехкомнатная – напоминала музей. Высокие потолки с лепниной, люстры венского хрусталя, витые канделябры, картины в тяжелых позолоченных рамах. Мебель – тщательно отреставрированная, «павловская» карельской березы с обивкой из алого бархата. Чугунные скульптуры каслинского литья, мраморные бюсты на специальных подставках. И снова – картины, картины, картины.
Все, что сумел собрать за свою жизнь знаменитый ювелир Петр Грибов – отчим Яны, с раннего детства воспитывавший ее как родную дочь.
В кабинете в глубине квартиры послышался шум, кто-то там завозился, потом начал надсадно кашлять.
– Януша, я здесь, я должен закончить, мне немного осталось, но надо все почистить. Как там все прошло? Ты держалась молодцом?
Яна Лопахина, перед тем как пойти в кабинет, зажгла свет в прихожей и глянула на себя в зеркало. Затем отстегнула заколку, удерживавшую собранными гладко зачесанные волосы. Они рассыпались по плечам, она взлохматила, взбила их руками.
И вот чудо – образ ее сразу изменился. Мгновенная метаморфоза, она похорошела. Лицо, глаза обрели совершенно иное выражение.
Если бы Гущин и Катя увидели ее тут, в прихожей, они, возможно, в первую минуту и не узнали бы ее, вроде как совсем другая женщина… или нет, та же, но обладающая редким талантом к перевоплощению – вот так без ничего, без грима, без косметики, без валиков за щеками.
– Можно сказать, что я держалась там у них неплохо, папа, – объявила Яна Лопахина, направляясь в кабинет к Петру Грибову, своему отчиму.
В просторной комнате, несмотря на белый день за окном, тяжелые бархатные шторы задернуты и горит лампа. В центре рабочий стол, освещенный софитом, а на нем, как у алхимика, – химические приборы, реторты, колбы, инструменты. Тут же маленькие старинные весы, миниатюрный токарный станок.
В углу среди книжных стеллажей – большой японский сейф. Ложный, потому что настоящий сейф для драгоценностей находится в квартире совсем в другом месте. В музейной витрине, в бархатных гнездах медные кольца и браслет необычного вида. Очень древний.
Второй браслет витой, со «звериной головой», на рабочем столе ювелира. Тут же химические препараты. Это изделие вместе с прочей добычей на днях привез и продал Петру Грибову курьер «черных археологов», тайно раскопавших могильник в причерноморской степи. Где – никто не скажет, но вещи уже плывут. Скифские погребальные артефакты, в том числе и этот вот витой браслет.
У рабочего стола – крохотный лысый человечек в очках. Не карлик, но такого малого роста, что становится тревожно при виде его согнутого хилого тельца и огромной головы, посаженной, кажется, прямо на острые худые плечи без шеи.
Но те, кто знает известнейшего ювелира и коллекционера Петра Грибова, стараются не обращать внимания на его внешность. Это такая редкая болезнь, поразившая его в детстве, остановившая рост. Лицо ювелира изборождено морщинами, кажется, что перед вами глубокий старец, но это не так. В этом году Петр Грибов отпраздновал свой семидесятилетний юбилей.
– Ну и хорошо, ты у меня умница. Сильная девочка, – Петр Грибов, увидев вошедшую Яну, заулыбался. – Айн момент, я тут должен все закончить, почистить. Долго они там тебя допрашивали?
– Нет, я думала, все продлится дольше. – Яна обошла витрину. – Пап, тут просто дышать нечем, эти твои реактивы. Можно я окно открою?
– Ни-ни, а мой бронхит? Потом проветришь. А я вот не думал, что они там долго тебя продержат в этой милиции-полиции. Но все же я очень беспокоился. И даже звонил Мангольду.
Мангольд – знаменитый на всю Москву адвокат и тоже крупнейший коллекционер антиквариата с 80-х годов.
– Вышло бы подозрительно, если бы на простой допрос я уже явилась с адвокатом Мангольдом Исай Исаевичем, – Яна тряхнула волосами и усмехнулась.