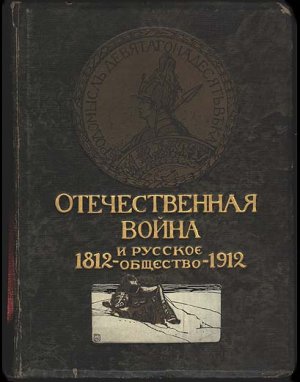
Издание Т-ва И. Д. Сытина
Типография Т-ва И. Д. Сытина. Пятницкая ул. с. д.
Москва — 1911
Переиздание Артели проекта «1812 год»
Редакция, оформление, верстка выполнены Поляковым О. В.
Москва — 2001
Второй период войны
М. И. Кутузов
I. M. И. Голенищев-Кутузов
С. А. Князькова
Кутузов (Борель)
Отступление от Смоленска и вообще происходило в очень тяжелых условиях. Поход по отвратительным дорогам, по которым часто едва-едва могла пробраться крестьянская телега, по холмистой и полной оврагами местности, обильной еще вдобавок мелкими речками и ручьями, на которых еле держались мосты, часто разрушавшиеся под тяжестью орудий и обозов, — такой поход и сам по себе мог только раздражать солдат, а ведь в данном случае армия, кроме всех указанных невзгод, отступала и отступала по направлению к Москве, а по пятам, преследуя нас, шел торжествующий неприятель, с которым уже не пытались сколько-нибудь серьезно схватиться после Валутиной. «Войска шли тихо, в молчании, с растерзанным и озлобленным сердцем», рассказывает современник. В обществе, в Петербурге и Москве тоже все были недовольны Барклаем. «Везде, куда достигали известия из армии, немногие лишь постигали цель отступления: все же прочие, видя только его последствия, опустошение страны, пожары цветущих городов и сел, грабежи и убийства, жаждали решительного боя, долженствовавшего, по их мнению, положить преграду дерзкому нашествию». «Вся Россия, — продолжает историк войны 12 года, — оскорбленная вражеским нашествием, небывалым в продолжение целого столетия, не верила, чтобы такое событие было возможно без измены или, по крайней мере, без непростительных ошибок главного вождя». Необходимость назначения общего над всеми армиями главнокомандующего становилась все более очевидной. В армии и в обществе все единогласно называли имя одного человека, который, по общему мнению, только один был способен поправить дело и направить его к благополучному исходу. Все называли, как желательного главнокомандующего, старого екатерининского генерала Михаила Илларионовича Кутузова, только что со славой закончившего войну с турками. «В Петербурге народ, — рассказывает Михайловский-Данилевский, — следил за каждым шагом Кутузова, каждое его слово передавалось приверженными ему людьми и делалось известно; в театрах, когда произносились драгоценные для русских имена Дмитрия Донского и Пожарского, взоры всех были обращены на Кутузова». Сам он, несмотря на свои преклонные лета, не уклонялся от участия в общественных собраниях, навещал влиятельных лиц и даже, как говорили тогда, старался заслужить благосклонность М. А. Нарышкиной, близкой к государю особы. Александр Павлович потом сам писал своей сестре, что в Петербурге только о том и говорят, что главнокомандующим следует быть Кутузову, и что Ростопчин пишет из Москвы, что и вся Москва желает видеть во главе армии Кутузова, а Барклая и Багратиона считает просто неспособными для такого ответственного поста. С.-петербургское и московское дворянство почти одновременно выбрало М. И. Кутузова начальником местных ополчений. Решение вопроса, кому быть главнокомандующим, император Александр поручил чрезвычайному комитету, состоявшему из гр. Салтыкова, генерала Вязмитинова, гр. Аракчеева, генерала Балашова, кн. Лопухина и гр. Кочубея. В заседании 5 августа комитет единогласно постановил, что главное начальство над всей русской вооруженной силой должно быть вручено генералу-от-инфантерии гр. М. И. Кутузову. 29 июля Кутузов был возведен в княжеское достоинство, с титулом светлости.
Кн. М. И. Кутузов (грав. Кардели)
Михаил Илларионович Голенищев-Кутузов родился в 1745 г. и в данное время ему шел 78 год. За свою долгую жизнь М. И. Кутузов прошел хорошую военную школу под руководством самого Суворова. Он был умный, способный, широко по тому времени образованный человек, за долгую жизнь, прожитую не даром, хорошо постигший и людей и те сферы военной, светской дипломатической деятельности, где ему приходилось вращаться и где он всегда был и выступал заметной величиной. Человек придворный и светский, Кутузов глубоко постиг одно из правил этой жизни, гласившее, что язык дан человеку затем, чтобы скрывать свои мысли. Обходительный и ловкий, он умел сделать себя необходимым при дворе Екатерины так же, как и при дворе императора Павла. Императрица Екатерина очень отличала Кутузова и всегда говорила о нем с похвалой, называя его «мой Кутузов», а император Павел, как говорят, прочил Кутузова на должность с.-петербургского военного губернатора, когда поколебался в своем доверии к Палену. «Куртизан», «придворный человек», «везде уживется», говорили про Кутузова те, кто ему завидовал. И тут было кое-что справедливого.
Всегда себе на уме, с хитрецой истого великорусса, Кутузов привык в своих поступках больше действовать ухваткой и руководиться вдумчивым расчетом, нежели действовать на пролом и рисковать; только это его вечное «себе на уме» не было хитрецой мелкого человека, вытекающей из известной трусости: Кутузов был сам по себе слишком умен и крупен, слишком хорошо знал себе цену, чтобы быть боязливым и трусливым в сношениях с людьми, но люди были для него только средством в достижении поставленных им себе целей личного благополучия и возвышения, поэтому он не стеснялся быть как бы двуличным, когда ему это было нужно, хотя в этой своей всегдашней готовности схитрить он все же никогда не переступал той границы, когда известного рода хитрость может привести человека к поступкам мелким и безнравственным. Он был просто типичный человек XVIII века, который с легкой иронией и насмешкой скользил над общими вопросами морали, не очень задумываясь слукавить и обмануть, когда это ему было полезно и выгодно, наблюдая только одно, чтобы эта готовность поступить не совсем согласно с правилами морали никогда не нарушала то «благородство», которое истый человек XVIII века считал основой житейской порядочности. Исключительный ум спасал Кутузова от поступков рискованных, могущих, как говорили в XVIII веке, «ошельмовать» человека. Доверившись Кутузову, на него можно было положиться; сделавшись его врагом, от него надо было ждать борьбы, в которой он допускал все приемы — как терпимые, так и нетерпимые житейской моралью. Человек ума холодного, расчетливого, умеющий выжидать и не торопиться, Кутузов привык действовать вдумчиво, осторожно; время и обстоятельства, хитрое и умное пользование ими, знание людей и искусство управляться с ними, — все это Кутузов применил и к тому делу, которому посвятил жизнь, т. е. к военному. Из него выработался полководец умелый, знающий свое дело, осторожный, но в осторожности храбрый, не теряющий присутствия духа и спокойствия в самые критические минуты. Зрело обдумывал он каждое свое предприятие и, подчиняя строгому, но широкому расчету каждый свой шаг, он умел достигать тех целей, которые себе ставил, не приближая момента их осуществления поступками, которые заключали в себе начало риска. На войне он предпочитал действовать искусно построенными передвижениями, утомляя противника бесконечными маневрами, сбивая его с толку, выводя из себя. Выжидание он всегда предпочитал решительным эффектным сражениям, в которых если и бьют врага, то теряют много и своей силы. «Хитер, хитер! умен, умен! Его никто не обманет!» говорил про Кутузова Суворов и поручал ему предприятия, где нужно было выждать, прежде чем нанести решительный удар. Но когда дело созревало, Кутузов бил наверняка. Обладая большой личной невозмутимой храбростью, он шел тогда впереди всех. За это ему пришлось два раза жестоко поплатиться: одна турецкая пуля ударила его в висок и задела глаз, так что он стал потерян, а другая, попав в щеку, пронизала ему шею.
«Неужели, дядюшка, вы думаете разбить Наполеона?» неосторожно спросил старика его племянник перед самым отъездом старого генерала к армии. «Разбить? нет, — просто отвечал Кутузов, — но обмануть — да, рассчитываю!» Конечно, Кутузов не был полководцем, равным Наполеону, этому поэту и первостепенному художнику-мастеру войны, но Кутузов, по крайней мере, так же хорошо знал и понимал практику военного дела, как и его гениальный противник. И этим он был ему особенно опасен. «Из всех генералов, современников Наполеона, разве только двое во главе армий были достойны помериться с Наполеоном — это эрцгерцог Карл (австрийский) да Веллингтон (английский генерал), но осторожный и хитрый Кутузов был, однако, его самым опасным противником», говорит один иностранный военный писатель.
«Ген.-фельдм. кн. Голенищев-Кутузов Смоленский, принимающий главное начальствование в авг. 1812 г.»[1]
Для данной минуты, когда нам поневоле приходилось отступать, медлительная осторожность Кутузова, в которого верило войско, была как раз у места. Но потом эта осторожность старого вождя в соединении с некоторой старческой неподвижностью, болезненностью и усталостью сказалась для успехов нашей армии и с отрицательной своей стороны: привыкнув действовать с оглядкой, Кутузов часто при отступлении Наполеона во время преследования его нашими войсками не находил у себя достаточно сил и решительности для того, чтобы разом покончить с расстроенной французской армией, и пропустил не один удобный к тому случай, хотя надо сказать, что тут вина не всегда была исключительно на его стороне.
Император Александр Павлович не любил Кутузова и не доверял ни его военным способностям, ни личным свойствам, так как знал, что Кутузов не признавал его военных талантов, которыми Александру Павловичу так хотелось обладать. Человек екатерининской эпохи и суворовской выучки, Кутузов был против павловской муштры войск на прусский образец и резко осуждал всякую парадоманию, все то, что так по гатчинским воспоминаниям любил император Александр. Расходились оба — царь и главнокомандующий даже в таком основном вопросе, как отношение к Наполеону. В то время, как император Александр все чаще повторял: «Или Наполеон или я!» и хотел полной гибели «корсиканца», Кутузов очень сомневался, будет ли так уж выгодно для России решительная гибель Наполеона, полагая, что этой гибелью воспользуются для своей пользы и вовсе не для нашей англичане, австрийцы, пруссаки. Будущее показало, кто был более прав.
Итак, Кутузова назначил главнокомандующим император Александр вопреки своему желанию. Но выбирать было не из кого: Кутузов был единственным человеком, относительно военных дарований которого ни у кого не было сомнения, и именно его хотели видеть во главе армии все, потому что все в него верили, как в единственного человека, который способен выручить и войско и отечество в такую трудную минуту. Император Александр уполномочил Кутузова действовать в качестве главнокомандующего во всем по его, Кутузова, усмотрению и разумению, как Кутузов и просил. Одно только император Александр строжайше запретил Кутузову — вступать в какие-либо переговоры с Наполеоном. Кутузов со своей стороны верноподданнически просил императора довериться во всем деле ведения военных операций ему, Кутузову, и отказаться от личного присутствия в армии. Император согласился на это. В день отъезда Кутузова к армии, император Александр сказал: «Публика желала назначения его, я назначил его: что касается меня лично, то я умываю руки». В письме к своей сестре Екатерине Павловне император Александр еще резче подчеркнул, что назначил Кутузова вопреки своему убеждению.
Прощаясь с государем, Кутузов уверял его, что скорее ляжет костьми, чем допустит неприятеля к Москве. Пока Смоленск был в наших руках, Кутузов мог искренно давать это обещание. Но на первой станции по пути из Петербурга к армии Кутузов узнал, что Смоленск оставлен нами. «Ключи к Москве потеряны», грустно сказал старый полководец, когда прочел донесение о занятии Наполеоном Смоленска. Но эти слова, как и обещание лечь костьми, вовсе не означали, что Кутузов резко осуждал действия Барклая и готовился круто изменить систему действия против Наполеона. В кругу близких он до отъезда из Петербурга говорил: «До сих пор мы все отступали, но, быть может, так и было нужно». Общее желание наступления он поддерживал в то же время молчаливой улыбкой согласия и даже официальными возгласами, что надо «лечь костьми». Истинные свои намерения старик держал про себя, убежденный, что на его отступление, конечно, и народ, и войско, и общество посмотрят иначе, нежели на отступление Барклая.
К армии Кутузов прибыл 17 августа и застал войска в полном отступлении к Москве. Объезжая армию и здороваясь с солдатами, Кутузов несколько раз сказал: «Ну, как можно с такими молодцами все отступать и отступать!» Войска с восторгом приветствовали старого вождя. Настроение сразу повысилось, все приободрились и хотели только одного — решительного боя с французами. Унаследовав от Суворова его удивительное уменье обращаться с солдатами дружески-просто, Кутузов говорил с ними на понятном народу языке и поддерживал уверенность, что Москвы не дадим французу. Враг всякой пышности и показного парадного блеска, Кутузов появлялся перед войсками на маленькой казачьей лошадке, в старом походном сюртуке, без эполет, в белой с красным околышем фуражке, с шарфом через одно плечо и с нагайкой на ремне через другое. Эта внешность, напоминая суворовскую манеру, только поддерживала тот неподдельный энтузиазм, с которым армия приветствовала назначение Кутузова. Враг всяких формальностей и шагистики, Кутузов узаконил своим распоряжением все многочисленные и неизбежные в походе отступления от тогдашней очень сложной формы и этим очень облегчил солдатскую походную тяжесть. Канцелярия при нем сократилась до необходимых размеров: чтобы отучить от лишней переписки своих подчиненных и тем косвенно заставить их поступать в критические минуты по собственному усмотрению, Кутузов просто стал задерживаться в подписке бесконечных бумаг, притворяясь старчески-ленивым, забывчивым. В результате генералы и офицеры сразу почувствовали, что главнокомандующий им доверяет и им верит. Недовольны остались только любители канцелярской отписки и волокиты. Среди солдат пошла поговорка: «приехал Кутузов бить французов». Отступление ко дню приезда Кутузова к армии как-то само собой приостановилось. Главная квартира наших войск находилась в этот момент в селе Царево-Займище под Гжатском. Осмотрев вместе с Барклаем расположение наших войск и ознакомившись с местностью, Кутузов нашел все превосходным и удобным для того, чтобы дать французам решительное сражение. Силы нашей армии доходили до 110 тысяч человек. Все думали, что назавтра предстоит бой, и войска готовились. Но на следующий день, 19 августа, вдруг неожиданно для всех последовал приказ — отступать. В донесении своем государю Кутузов объяснял свое отступление от Царева-Займища необходимостью принять на себя и распределить по полкам, сильно поредевшим во время боев на пути от Смоленска, подкрепления, которые двигались к нашей армии от Москвы. Кроме этого, ему, вероятно, нужно было некоторое время, чтобы осмотреться и войти в подробности, лучше узнать войска и особенно своих ближайших сотрудников. Осторожный Кутузов оставался верен себе и не хотел рисковать. Снова началось отступление; но войска шли в другом настроении: ясно было, что Москвы без боя не отдадут, и что старик Кутузов хочет только выбрать место, более удобное для битвы, да подтянуть к себе подкрепления. 22 августа наша армия расположилась на позициях у Бородина.
С. Князьков
М. И. Кутузов, князь Смоленский (М. Орлов. 1888 г.)
II. От Царево-Займища до Бородина
Подп. В. П. Федорова
По прибытии к армии в с. Царево-Займище, князь Кутузов приказал для 1 и 2 армий составить один «общий арьергард» под начальством генерал-лейтенанта Коновницына, но этому арьергарду именно и не суждено было сделаться «общим» по той причине, что французский авангард наступал тремя параллельными колоннами. Необходимость, следовательно, заставила и наш арьергард разделиться на три отряда, хотя и имевших между собою связь, но действовавших вполне самостоятельно. Из «общего арьергарда», таким образом составились: «центральный арьергард» генерал-лейтенанта Коновницына; правый (северный) отряд генерал-майора барона Крейца и левый (южный) отряд генерал-майора графа Сиверса. В с. Цареве-Займище главнокомандующий убедился в невозможности принять сражение по невыгодности позиции и отдал приказ армиям отступать по дороге к Гжатску.
Взятие Шевардинского редута (Адама)
(На самом деле на раскрашенной литографии В. Адама изображена атака тяжелой кавалерии Великой армии на батарею Раевского при Бородинском сражении 26 августа 1812 г. В результате этой атаки батарея была взята, но генерал Огюст Коленкур геройски погиб. — Прим. нов. ред.)
Еще 17 августа арьергарду Коновницына под натиском Мюрата пришлось отступить к с. Цареву-Займищу и насесть, таким образом, на главные силы армий. Это обстоятельство отчасти и было косвенной причиной поспешного отступления князя Кутузова к Гжатску.
Отряд генерала графа Сиверса в этот день никаких особенных дел с неприятелем не имел, и к 6½ часам пополудни остановился в селе Успенском (в 12 верстах от с. Царева-Займища). Так как дальнейших инструкций от генерала-лейтенанта Коновницына в его отряде не было получено, то граф Сиверс решил, «по мере его отступления, производить и свое отступление».
О действиях отряда барона Крейца за 17 августа известно лишь, что он имел дело с неприятелем под Вязьмой, «где удерживал левый фланг большого арьергарда».
Кн. Кутузов Смоленский, гр. Витгенштейн, гр. Платов (К. Анисимов)
18 августа главные силы армии начали отступать от с. Царева-Займища поспешно и налегке; притом настолько налегке, что при полках было оставлено всего лишь по два патронных ящика; даже лазаретные линейки были отправлены с прочими обозами окружными проселочными дорогами, чтобы не задержать отступления войск. Князь Кутузов 18 августа находился уже не в Цареве-Займище, а в местечке «Старая Деревня» и оттуда послал князю Багратиону следующее собственноручное сообщение. «По объяснению со мною Михаила Богдановича, что кавалерия 1 армии за употреблением оной чрез долгое время в авангарде вместо казацких полков, при оной не состоящих, ослабела до того, что на некоторое время нужно отдохновение и, следственно, заменение оной другою кавалериею, я посему обращаюсь к вашему сиятельству с тем, чтобы вы, милостивый государь мой, приказали завтрашнего числа в помощь арьергарду 1 армии в приличном месте выставить 15 эскадронов».
И 1 и 2 армии, начав отступление по большой Московско-Смоленской дороге, пройдя г. Гжатск, остановились биваком при д. Ивашкове. Конница Мюрата, корпуса Даву и князя Понятовского перешли в наступление, вследствие чего арьергарду генерал-лейтенанта Коновницына, отступавшему вслед за армией по той же дороге, приходилось часто останавливаться для задержания наседавшего неприятеля. Это поставило его в весьма опасное положение, так как частые остановки все более и более отдаляли его от главных сил, уменьшая возможность своевременного получения подкреплений. В поддержку генерал-лейтенанту Коновницыну графом Сиверсом, по приказанию князя Багратиона, были высланы: Черниговский и Харьковский драгунские полки и Литовский уланский под командой генерал-майора Панчулидзева I, т. е. те самые 15 эскадронов, о которых главнокомандующий накануне писал князю Багратиону.
Первая встреча арьергарда генерал-лейтенанта Коновницына за 19 августа произошла при самом Цареве-Займище. Счастливому исходу этой встречи помогли лишь храбрость, хладнокровие и находчивость пионеров 1 полка: Никифора Поносова, Онуфрия Тимашенко и Никиты Яковлева 1. Эти пионеры, «оставаясь последними в арьергарде, вызвались охотниками при быстром наступлении неприятеля под сильными выстрелами, с особенным мужеством и неустрашимостью, уговорив товарищей, с быстротою и скоростью зажгли мост, опустили плотину, чем наводнили реку, а по окружающему неприятельский берег реки болоту оставалась одна дорога чрез деревню, которую зажгли, остановили тем неприятельскую артиллерию и спасли через то наших ретирующихся егерей, которых неприятель намеревался отрезать».
Часть французского авангарда пыталась обойти правый фланг арьергарда генерал-лейтенанта Коновницына, но отряд барона Крейца «не допустил неприятеля обойти наш правый фланг». Мюрат и Даву напирали так сильно, что арьергарду генерал-лейтенанта Коновницына пришлось отходить, отбиваясь чуть ни на каждом шагу и лишь к вечеру усталый, изнемогающий арьергард расположился на позицию при деревне Комкольне[2]. Часть французского авангарда остановилась против позиции генерал-лейтенанта Коновницына, а «довольно сильный неприятель принял вправо», т. е. к отряду графа Сиверса.
Параллельно с арьергардом генерал-лейтенанта Коновницына отступал и отряд графа Сиверса, который, руководствуясь приказанием князя Багратиона, «предпринял марш с вверенным ему арьергардом разными колоннами, которые одна за другою выступали». Это осторожное движение отряда графа Сиверса имело целью не оставлять неприкрытым левый фланг арьергарда генерал-лейтенанта Коновницына. Отряд беспрепятственно достиг до назначенного ему места, с. Рожества, откуда граф Сиверс донес князю Багратиону: «По окончании наступательного неприятельского движения на арьергард 1 армии, замечено, что неприятель, довольно сильный, также принял вправо и остановился против моего поста. Полагаю, что завтрашний день буду атакован, сделаю неприятелю отпор, но ежели оный будет в превосходных силах и ежели удержать будет невозможно, то испрашиваю, куда мне в таком случае отступать».
Главные силы армии отошли за день до дер. Дурыкина.
Кутузов под Можайском (М. Орлов)
Об арьергардных боях генерал-лейтенанта Коновницына за 20 августа лучше всего свидетельствует его донесение. «Сего числа в продолжение целого дня с семи часов утра неприятель с большим числом кавалерии и пехоты и с орудиями самого большого калибра преследовали арьергард. Несколько раз удерживали мы место и всегда принуждены были уступать оное. Следуя шаг за шагом, к вечеру он с 40 эскадронами атаковал мой правый фланг под протекцией двух батарей. В девятом часу дело прекратилось, неприятель остановился у деревни Старой в десяти верстах от Дурыкина, имея свои ведеты впереди. Арьергард весь расположился при деревне Поляникове за семь верст от Дурыкина».
Тяжелый это был день для арьергарда генерал-лейтенанта Коновницына. Он выдержал тринадцатичасовой бой под натиском сильнейшего французского авангарда; на протяжении 16 верст останавливался на восьми позициях, и все это делалось без отдыха и даже без пищи.
В особенности тяжело пришлось арьергарду под Гжатском, где ему надлежало пройти через лес, затем через город и, наконец, через мост на реке Гжати. Поневоле пришлось вытянуться в длинную, узкую колонну для прохождения моста и тем замедлить движение и отстать от главных сил. Французский авангард, воспользовавшись случаем, стремительно и настойчиво атаковал арьергард генерал-лейтенанта Коновницына, но он с честью вышел из этого весьма опасного положения и успел своевременно преодолеть все препятствия. Нелишне будет заметить, что и здесь пионеры того же 1 полка и той же роты (подполковника Афанасьева, вр. команд. штабс-капитан Шевич): унтер-офицер Гавриил Иванов и пионеры Наум Мартынов, Гавриил Кондратьев и Юган Виллем «с отменною быстротою, неустрашимостью и мужеством, подавая собою пример и уговорив товарищей, зажгли мост, через что и остановили неприятеля, а ретирующиеся наши войска довольно имели времени к выстраиванию».
Отряду генерал-майора барона Крейца в этот день была задача: защищать дорогу из города Белого, по которой двигалась неприятельская колонна в обход нашего правого фланга, и «держаться, покуда все прочие войска перейдут через мост, а, может быть, и умереть». Отряд генерал-майора барона Крейца расположился поперек Бельской дороги правым флангом к р. Гжати, а левым — к лесу, занятому егерями. Хотя отряд отбивался настолько упорно, что дал время кавалерии и артиллерии переправиться через мост, но, в конце концов, сам был опрокинуть к г. Гжатску и прижат к р. Гжати. Положение отряда было безвыходное, но генерал-майор барон Крейц, не раздумывая долго, бросился с драгунами и казаками в р. Гжать и перешел через нее частью вплавь, частью в брод да еще перетащил на лямках по дну реки два бывших при отряде конных орудия.
По не совсем успевшему сгореть мосту неприятель перебрался через реку и вновь отрезал отряд барона Крейца, который бросился прямо полями, ломая по пути плетни и изгороди и ускользнул таким образом от неприятеля в дер. Лескино. В деревне остановились драгуны, а казачий полк Андриянова 2 скрылся в лощине так быстро, что неприятель не успел заметить. 13 эскадронов баварской кавалерии, ничего не подозревая, приблизились к деревне Лескино и тут были внезапно атакованы с фронта драгунами и с флангов казаками. Баварцы были обращены в бегство и потеряли много убитыми и пленными.
Сведения о действии отряда генерал-майора графа Сиверса за 20 августа ограничиваются лишь известиями, что отряд в этот день имел два дела: «при отступлении и отражении неприятеля по сильном его нападении при дер. Бражиной» и «к вечеру при содействии казаков под сел. Колесниками».
Главные силы армии отошли от д. Дурыкина к Колоцкому монастырю. Действия арьергарда за 21 августа ограничились упорным боем отряда графа Сиверса за обладание дер. Колесниками, которая была занята казачьим отрядом ген.-майора Карпова 2, вынужденного под натиском сильнейшего неприятеля очистить деревню. Вследствие того, что с потерей дер. Колесников отряд графа Сиверса уже не мог «держаться со всем усилием на одной высоте» с арьергардом ген-лейт. Коновницына, князь Багратион высказал свое неудовольствие графу Сиверсу и приказал ему, во что бы то ни стало, вновь занять д. Колесники. Результатом этого неудовольствия князя Багратиона и был жестокий бой за обладание деревней.
Отряд ген.-майора барона Крейца «21 августа под деревнею Журавлевым с пехотою неприятеля имел дело, которую не допустил занять оспариваемую деревню».
План отступления и боевых действий арьергардов
Главные силы 1 и 2 армий отошли от Колоцкого монастыря к селу Бородину, где и расположились на позиции.
Расстояние между главными силами армий и арьергардом ген.-лейт. Коновницына к этому дню уже настолько сократилось, что в воздухе чуялась всеми близость решительного сражения, и отдалить роковой день его было уже не во власти князя Кутузова, ибо арьергард был уже не в состоянии сдерживать напор неприятельских сил. Из этого явствует, что Бородинская позиция была вынужденной позицией, а не выбранной по желанию главнокомандующего. Не следует забывать, что переход от Колоцкого монастыря до Бородина — всего лишь 12 верст, и что 24 августа арьергард фактически уже не существовал, так как соединился с армией.
Пока же ничего особенного в арьергардах не происходило, и граф Сиверс доносил князю Багратиону. «Вашему сиятельству имею честь донести, что все благополучно: от аванпостов никакие движения неприятелей не замечались. Как ген.-лейт. Коновницын, так и я с вверенным мне отрядом заняли позицию и в готовности делать неприятелю отпор».
Ген.-лейт. Коновницын стоял в д. Твердиках, а граф Сиверс — в дер. Поповке.
Главные силы армии по-прежнему на позиции при с. Бородине. Арьергарду ген.-лейт. Коновницына в этот день пришлось выдержать два упорных боя: при д. Твердиках и при дер. Гриднево. Рапорт ген.-лейт. Коновницына князю Багратиону от 23 августа гласит: «Неприятель в числе 40 эскадронов с 18 орудиями и двумя большими колоннами пехоты шел на центр; гораздо в превосходном числе обходил правый фланг, не желая завязать серьезного дела. Кавалерия наша, под прикрытием огня артиллерии, медленно отступала. Неприятель два раза бросался в атаку, но был кавалериею остановлен. В продолжение самого сильного действия с фронта, когда артиллерия наша, переходя с одной высоты на другую, вредила неприятелю, правый наш фланг был совсем обойден и казаки потеснены были к селению Гридневу. Тут располагалась пехота, и высоты заняты были артиллерией, огонь которой остановил приближение неприятеля, нанося самый сильный вред колоннам. В продолжение сей канонады кавалерия наша отступила в порядке и снова построена на высотах, тогда открылся огонь жестокий с обеих сторон. Несмотря на все усилия неприятеля овладеть нашею позицией, он был остановлен с большим пожертвованием. К концу дела кавалерия наша заняла снова позицию около деревни Валуева, и артиллерия снова с удачею действовала так, что неприятель не смел идти далее».
Далее ген.-лейт. Коновницын говорит: «в продолжение десяти часов сражения мы уступили неприятелю не более девяти верст, останавливаясь в пяти позициях».
Граф Сиверс от того же числа доносил князю Багратиону: «Генерал-майор Карпов сейчас рапортом доносит, что неприятель из вчерашнего расположения выступил и следует по той дороге, по которой шел вверенный мне отряд, и, по превосходству неприятельских пехоты и конницы, генерал-майор Карпов с казачьими полками отступает. Я имею повеление ген.-лейт. Коновницына в дело не вступать, а только прикрывать отступление фланкерами, ежели неприятель покажется». Отряд ген.-майора барона Крейца «23 августа в селении Мышкино нашел несколько эскадронов и пехоты неприятельских, откуда их изгнал».
Н. Н. Раевский (Грав. Куликов. Из собр. П. Бекетова)
День 24 августа начался для арьергарда ген.-лейт. Коновницына лихой схваткой Изюмских гусар и донских казаков с французской кавалерией при дер. Валуевой; что же касается до отряда графа Сиверса, то на его долю выпала тяжелая задача: сдерживать натиск корпуса князя Понятовского, обходившего левый фланг нашей позиции при д. Шевардине. Отступая шаг за шагом с упорным боем, отряд графа Сиверса, пройдя село Ельню, присоединился к стоявшему уже на позиции при д. Шевардине отряду ген.-лейт. князя Горчакова 2, где и принял блестящее участие в славном Шевардинском бою. Отряд ген.-майора барона Крейца, отступая к Бородину, был окружен неприятелем у дер. Глазово, где едва не погиб. Благодаря отчаянной храбрости всех, а в особенности Сибирского драгунского полка, отряду удалось пробиться к Бородину силой.
До сих пор во всех военных историях говорилось, что Шевардинский редут был занят нами как передовой опорный пункт бородинской позиции. На самом же деле Шевардинский редут сыграл роль передового пункта совершенно случайно.
Гр. А. И. Кутайсов (Доу)
Шевардинский редут и Доронинский овраг до 24 августа составляли левый фланг боевого расположения 2-й армии. Начальник главного штаба главнокомандующего барон Беннигсен, осматривая бородинскую позицию, нашел расположение 2-й армии невыгодным и приказал левому флангу ее отодвинуться назад за Семеновский овраг для более удобного сообщения с резервами. Шевардинский редут после такого передвижения левого фланга 2-й армии оказывался уже вне орудийного выстрела и становился негодным и бесполезным и должен был быть покинутым тотчас же. Перемена позиции левым флангом 2-й армии производилась уже в виду неприятеля, появившегося на Доронинских высотах прежде, чем кончилось передвижение войск на левую позицию за Семеновский овраг, и бесполезный Шевардинский редут таким образом волей-неволей пришлось оборонять.
Шевардинский редут заняла батарейная № 12 рота 12 артиллерийской бригады. Правее редута — 6 легких орудий подполковника Саблина, еще правее — 12 легких орудий капитана Жураковского. Сзади редута стали полки 27-й дивизии ген. Неверовского: Симбирский, Виленский, Одесский и Тарнопольский. Уступом сзади 27-й дивизии расположились кирасирские полки: Военного Ордена, Екатеринославский, Глуховский, Малороссийский и Новгородский; 6, 41 и 49 егерские полки. Егеря заняли дер. Доронино, лес южнее этой деревни и скаты Доронинского оврага. Все эти войска находились под общим начальством князя Горчакова 2. Как уже было упомянуто выше, отряд графа Сиверса, пришедший после боя под с. Ельней, подкрепил отряд князя Горчакова 2.
Шевардинский бой начался атакой корпусом князя Понятовского наших позиций. 16-я и 18-я польские дивизии с тиральерами впереди первые завязали перестрелку с нашими егерями, крепко засевшими в кустах. За поляками открыла орудийный огонь и артиллерия дивизии Компана, направляя его, главным образом, на Шевардинский редут; батарея эта находилась у дер. Фомкино, куда начала стягиваться и кавалерия Мюрата.
Полковник Эмануель, заметив, что наступление польского корпуса угрожает нам обходом, два раза со своим Киевским драгунским полком атаковал польских фланкеров и подкреплявшую их кавалерию и опрокинул их.
Более всего полякам досаждала наша левая конная батарея и, с целью обезвредить ее, поляки двинули на нее в атаку одну колонну, но два эскадрона Ахтырского гусарского полка ротмистров Александрова и Коризны I лихой атакой опрокинули поляков.
Пока происходил бой с поляками, дивизия Компана, поддерживаемая кавалерией Мюрата, атаковала дер. Доронино и лежащий близ нее лес. В это же время поляки потеснили 5 егерский полк, занимавший крайний левый участок позиции наших егерей.
Памятник на Бородинском поле
Под натиском дивизии Компана, наши егеря, несмотря на нечеловеческие усилия и отчаянную храбрость, принуждены были отступить и из дер. Доронина и из леса. Видя это, граф Сиверс для подкрепления отступавших егерей двинул Новороссийский драгунский полк под командой майора Теренина. Новороссийские драгуны, пройдя интервал между лесом и деревней, ударили на неприятеля и опрокинули его «при первом же устремлении». При вторичной атаке на французскую пехоту и польских тиральеров Новороссийский драгунский полк, не будучи подкреплен никем, отступил на прежнее свое место.
Между тем 5 егерский полк совершенно изнемогал в неравной борьбе, хотя и делал отчаянные усилия, чтобы удержаться на своей позиции. Заметя это, князь Кутузов приказал привести Фанагорийский гренадерский полк на смену 5 егерского полка. Посылать какой-либо полк из 27 дивизии, стоявшей позади Шевардинского редута, было невозможно, потому что в это время массы французских и польских войск уже пошли в атаку на Шевардинский редут.
Князь П. И. Багратион (Тип Тончи)
Ген. Компан направил 57 и 61 линейные полки для атаки левого фланга дивизии ген. Неверовского, а ген. Дюпелен с 25 линейным полком атаковал правый ее фланг. В обход правого фланга 27 дивизии был двинут 111 линейный полк. Две пехотных дивизии генералов Морана и Фриана двинулись к дер. Шевардину. Недолгая ружейная перестрелка на самом близком расстоянии перешла в отчаянный штыковой бой. Перевес в силах был всецело на стороне французов, и хотя нашими войсками было сделано все, что в пределах человеческих сил для удержания позиции, — однако, в конце концов, дивизия Компана заняла Шевардинский редут, а дивизия Морана овладела дер. Шевардино. Отойдя несколько назад, 27-я дивизия снова устремилась на редут, но французы, получив подкрепление, снова выбили ее оттуда. Все усилия этой геройской дивизии для спасения Шевардинского редута были подавлены массой французских войск.
План сражения 24 авг. 1812 г. при дер. Доронине и дер. Шевардино
В. П. Федоров
Сражение при Бородине (Гессе)
III. Бородино
Проф. ген. Н. П. Михневича
Позиция для боя была выбрана под Бородином. 22 августа Кутузов лично ее объехал и одобрил.
Позиция длиной около 5 верст была на правом берегу р. Колочи, от Доронина и Шевардина, через село Бородино, на новой смоленской дороге до д. Малое Село. Весь правый участок позиции, от с. Бородина до д. Малое шел по правому берегу р. Колочи, командовавшему противоположным берегом, обрывистому и трудно доступному. В центре позиции были два холма, командующие окружающею местностью; на них были возведены: центральная батарея (Раевского) и три Семеновские (Баратионовы) флеши. На левом фланге, на высоте между Шевардиным и Доронином, тоже была возведена сильная батарея. После боя 24 августа, с потерей Шевардинского укрепления, наш левый фланг был осажен на две версты, до д. Утицы на старой смоленской дороге, в местность, покрытую кустарником и лесом, крайне неудобную для обороны.
24 августа русская армия сосредоточилась на этой позиции и приступила к укреплению ее; кроме вышепоименованных укреплений в центре позиции, с. Бородино было приспособлено к обороне; у д. Горки построены две батареи, для обстреливания переправы через р. Колочу, и на правом фланге позиции, фронтом к Москве-реке, почти тылом к французам, тоже были построены укрепления, — одним словом, много хлопотали об укреплении наиболее сильного участка позиции, а на левом фланге, самом слабом, кроме Шевардинского редута, не было сделано ничего. Бывшая в тылу позиции р. Москва в брод проходима, но течет в обрывистых берегах, затруднявших спуск артиллерии и обозов. В тылу до Можайска, где сходились обе смоленские дороги, удобных позиций для задерживания противника не было.
В нашей армии было 72.000 пехоты, 17.000 кавалерии, 14.000 артиллерии, — всего 103.000 регулярных войск при 640 орудиях; кроме того, 7.000 казаков и 10.000 ратников. Ратники строили укрепления и выносили раненых с поля сражения.
22 августа войска наши, оставив у деревни Гридчевой арьергард, под начальством Коновницына, прибыли к Бородину и стали против своих мест на позиции биваком.
Для занятия позиции войска были распределены следующим образом: правый участок, от с. Малого до батареи Раевского, заняли войска 1-й армии Барклая-де-Толли — 2-й, 4-й и 6-й пехотные корпуса, а за ними во второй линии расположились кавалерийские: 1-й, 2-й и 3-й корпуса и 9 казачьих полков Платова; левый участок, от батареи Раевского до Шевардина, заняли войска II-й армии кн. Багратиона — 7-й и 8-й пехотные и 4-й кавалерийский корпуса и 6 казачьих полков Карпова. В общем резерве, несколько севернее центра позиции, у Князькова были 3-й и 5-й пехотные корпуса и две кирасирских дивизии, а у Псарева — артиллерийский резерв в 300 орудий.
24 августа на Шевардинском участке позиции стояли 27-я пехотная дивизия Неверовского, а за ней 2-я гренадерская и 2-я кирасирская дивизия под начальством князя Горчакова.
Узнавши об остановке русской армии у Бородина и предполагая возможность боя, Наполеон тоже приостановился у Гжатска, чтобы подобрать отсталых, и через день двинулся к Бородину в трех колоннах: в правой колонне, по старой смоленской дороге шел корпус Понятовского; Мюрат, с четырьмя резервными кавалерийскими корпусами, составлял авангард средней колонны, которая следовала по новой смоленской дороге и состояла из корпусов Даву, Нея, Жюно, старой и молодой гвардии и резервной артиллерии. Левая колонна состояла из корпуса вице-короля итальянского Евгения.
В армии Наполеона было 86.000 пехоты, 28.000 кавалерии, 16.000 артиллерии; всего 130.000 чел. при 587 орудиях.
24 августа Мюрат атаковал Коновницына у Колоцкого монастыря, при содействии вице-короля, двигавшегося левее новой смоленской дороги, заставил его отступить; Коновницын отошел на главную позицию, где войска, бывшие под его командой, разошлись по своим корпусам.
Приблизившись к нашей позиции, Наполеон приказал овладеть деревнями Фомкиной, Алексинкой, Дорониным, Шевардиным и редутом возле него, которые мешали развертыванию войск, следовавших по новой смоленской дороге. В два часа завязался бой и продолжался до глубокой ночи. Французы ввели в дело три дивизии корпуса Даву, часть резервной кавалерии и часть корпуса Понятовского, охватывавшего наше расположение с левого фланга, от старой смоленской дороги. Редут несколько раз переходил из рук в руки; но в 10 часов вечера, когда новые неприятельские колонны стали подходить к Шевардину, главнокомандующий приказал князю Горчакову отвести войска назад, на вновь избранную для левого крыла позицию.
25 августа обе армии употребили на подготовку к сражению. Наполеон в сопровождении генералов целый день объезжал позицию и всматривался в расположение русских, боясь, чтобы они не ушли; приказал выставить на показ войскам присланный накануне портрет его сына — «князя Рима» и объезжал войска, с восторгом встречавшие его, в ожидании победы, скорого отдыха и мира.
В русской армии настроение было серьезное; люди мыли и надевали чистое белье, готовясь к смерти; вдоль фронта биваков обносили в крестном ходе икону Смоленской Божией Матери, служили молебны и прикладывались к ней все, начиная с Кутузова и до последнего солдата. Кутузов тоже объезжал войска и говорил с ними простым, но понятным, до глубины русской души доходящим, языком. Отдана была диспозиция для боя, которая оканчивалась следующими знаменательными словами:
«В сем боевом порядке намерен я привлечь на себя силы неприятельские и действовать сообразно его движениям. Не в состоянии будучи находиться во время сражения на всех пунктах, полагаюсь на известную опытность главнокомандующих и потому предоставляю им делать соображения действий на поражение неприятеля. Возлагая все упование на помощь Всесильного и на храбрость и неустрашимость российских воинов, при счастливом отпоре неприятельских сил, дам собственное повеление на преследование его, для чего и ожидать буду беспрестанных рапортов о действиях, находясь за 6-м корпусом. При сем случае не излишним считаю представить гг. главнокомандующим, что резервы должны быть оберегаемы сколь можно долее, ибо тот генерал, который сохранить еще резерв, не побежден. На случай наступательного движения оное производить в сомкнутых колоннах к атаке, стрельбою отнюдь не заниматься, но действовать быстро холодным оружием. В интервалах между пехотными колоннами иметь некоторую часть кавалерии, также в колоннах, которые бы подкрепляли пехоту. На случай неудачного дела, генералом Вестицким открыты несколько дорог, которые он гг. главнокомандующим укажет и по коим армии должны отступать. Сей последний пункт единственно для сведения гг. главнокомандующих».
Эти бессмертные строки обличают в Кутузове ученика Суворова и высокого современного тактика.
Наполеон приказал разбить свою палатку влево от московской дороги в д. Валуевой, посреди расположения гвардии; впереди стоял корпус вице-короля. Ней стоял за Даву; Жюно подходил из Гжатска.
После завтрака Наполеон продиктовал следующий приказ по армии:
«Воины! Вот сражение, которого вы так желали. Победа зависит от вас. Она необходима для нас; она доставит нам все нужное: удобные квартиры и скорое возвращение в отечество. Действуйте так, как вы действовали при Аустерлице, Фридландом, Витебске и Смоленске. Пусть позднейшее потомство с гордостью вспоминает о ваших подвигах в сей день. Да скажут о каждом из вас: он был в великой битве под Москвой».
К вечеру 25 августа вся армия Наполеона стояла между д. Валуевой и вокруг Шевардинского редута, примыкая к старой смоленской дороге, следовательно, против центра и левого фланга нашей позиции. Заметив это, Кутузов приказал 3-му корпусу Тучкова 1-го и 7.000 московского ополчения перейти к д. Утице, чтобы прикрыть старую смоленскую дорогу.
Между тем Наполеон, возвратясь с вечерней рекогносцировки и очень довольный тем, что русские не уходят, сделал следующие распоряжения для атаки на следующий день: Понятовскому овладеть д. Утицей и обходить левый фланг нашей армии; трем дивизиям корпуса Даву, Нею, Жюно и Мюрату, с тремя корпусами резервной кавалерии, атаковать Семеновские высоты; корпусу вице-короля, с двумя дивизиями корпуса Даву и с резервным кавалерийским корпусом Груши, овладеть с. Бородином и потом обратиться на центр нашей армии. Гвардия оставлена в резерве у Шевардина. Атаку на Семеновские батареи должны подготовить 102 орудия Даву, гвардии и Нея. Кампан, которому император дал личные указания, должен был первый повести атаку на Семеновские укрепления.
Для удобства сообщения через Колочу, французы навели четыре моста выше Бородина, а на случай неблагоприятного оборота дела построили сильные батареи против Бородина, перед Шевардинским редутом и близ Утицкого леса.
26 августа, на рассвете, обе армии стали в ружье. Но еще перед рассветом грянул пушечный выстрел с нашей батареи от Семеновского; показалось, что неприятель приближается. Ошибка вскоре разъяснилась, и после первого выстрела все смолкло. Услышав звук выстрела, Кутузов, не спавший, сел на лошадь и поехал на батарею к д. Горкам.
Почти в то же время и Наполеон скакал к Шевардинскому редуту. Заря занималась, туман рассеялся, блеснул первый луч солнца. «Это солнце Аустерлица!» сказал Наполеон, возбуждая настроение войск, готовых уже ринуться в атаку, после прочтенного им приказа, сулившего легкую победу и скорое окончание войны. Наполеон расположился около редута и не покидал своего места до четырех часов дня.
В половине шестого со стороны Шевардинского редута раздался густой одинокий выстрел, пронесся и замер среди общей тишины. Прошло несколько минут. Раздался второй, третий выстрел, заколебался воздух; затрещала и ружейная перестрелка и вскоре огонь охватил все видимое поле сражения. Град ядер, гранат, картечи и ружейных пуль из 1.500 орудий и 250.000 ружей в течение всего дня потрясали и воздух и землю под ногами бойцов, посылая смерть во всех направлениях, и, казалось, что никому не суждено спастись из этого ада. Трудно проследить за всеми перипетиями этого изумительного побоища. Постараемся обрисовать его в крупных чертах.
Сражение под Бородином (Фабер дю-Фор)
Французские батареи, выехавшие на позицию у Шевардина, не достигали результата; их велено было передвинуть вперед на дистанцию 1.600 шагов. В 6 часов утра дивизия Дельзона произвела атаку на с. Бородино, к которому, под прикрытием тумана, подошла совершенно неожиданно и выбила оттуда наших гвардейских егерей; преследуя, французы перешли по мосту через р. Колочу, но были отброшены назад с большим уроном; мост был нашими сожжен.
В то же время, т. е. в 6 часов утра, и Даву повел атаку на Семеновские флеши с левого их фланга; после чрезвычайно упорного боя французы ворвались в них, причем Даву был контужен, генералы Кампан и Дессе тяжело ранены; впрочем, русские скоро их выбили и заставили отступить. В 7 часов развернулся корпус Нея и повел атаку на флеши тремя дивизиями с фронта, а через полчаса правее Даву начал развертываться корпус Жюно.
Теперь для русских стало ясно, куда Наполеон намечает свой главный удар. При виде готовившейся атаки Нея, Багратион сознавал, что у него сил недостаточно для ее отражения, и взял несколько батальонов у Раевского, дивизию Коновницына от Тучкова и просил подкрепления у главного командующего. Кутузов послал к нему из общего резерва полки л.-г. Измайловский, Литовский (нынешний л.-г. Московский) и л.-г. Финляндский, сводную гренадерскую бригаду, 1-ю кирасирскую дивизию и в то же время приказал 2-му корпусу (Багговута) идти с правого фланга на левый. Еще передвижения наших войск не окончились, как французы, выдержав жестокий огонь наших батарей, кинулись на укрепления, завладели одной флешью, но тотчас же были выбиты Неверовским. Жестокий бой загорелся около Семеновских укреплений. Сводная гренадерская дивизия Воронцова, оборонявшая флеши, была почти уничтожена. Ней готовился уже атаковать с. Семеновское. Даву снова перешел в наступление. Но уже начали к Багратиону подходить подкрепления, с которыми он в 9 часов произвел контратаку и отбросил французов, но в 10 часов потерял флеши в третий раз; при этом ранены князь Горчаков и Неверовский. Подошли к месту боя 3-я дивизия Коновницына и 4 кирасирских полка; они ударили во фланг французам, опрокинули их и снова заняли флеши.
План расположения русских и французских войск при с. Бородине
Было уже 11 часов утра. Мюрат, руководивший атакой на флеши за контузией маршала Даву, ввел в бой последнюю дивизию, бывшую в резерве — дивизию Фриана; Жюно в лесу между флешами и старой смоленской дорогой ввязался в бой с 5 егерскими полками Шаховского. Более 400 орудий громили наше левое крыло; с нашей стороны число орудий на этом участке было доведено до 300. Наступила самая кровопролитная сцена великой драмы! На пространстве одной квадратной версты гремело 700 орудий; французы смело шли вперед, усыпая все поле трупами, сраженными нашей картечью, и даже вызвали похвалу героя Багратиона, который крикнул одному французскому полку «Браво!»; полк этот геройски шел в атаку без выстрела, под страшным картечным и ружейным огнем. Французы снова ворвались во флеши, но снова выбиты, причем ранен принц Карл Мекленбургский и многие другие начальники. Задние линии французов еще не вступили в бой, идя за передовой, которая была уже в свалке; пошли вперед и с нашей стороны все, что было на этом участке, и сцепились с врагом в отчаянном рукопашном бою. Тут перемешалось все — пехота, кавалерия, артиллерия; бились штыками, прикладами, тесаками, банниками. Некоторые неприятельские всадники, увлеченные запальчивостью, проскакали на 2 версты вглубь нашего боевого порядка и были захвачены гвардейскими полками, бывшими в общем резерве. В этой резне не участвовали только общие резервы обеих армий, стоявшие в отдалении неподвижно.
В пылу этого боя тяжело раненый Багратион, сдав команду Коновницыну, был унесен с поля сражения; выбыл из строя его начальник штаба, гр. С.-При, и много других начальствующих лиц; говорить об управлении здесь было почти невозможно, но на каждой точке, наверное, чувствовалось, что нашим героям приходилось бороться с вдвое многочисленным противником. Около 11½ часов наши окончательно уступили флеши французам.
Когда Кутузову донесли о том, что ранен Багратион, он ахнул и покачал головой и тотчас же на его место послал герцога Александра Вюртембергского, но так как вскоре прискакал адъютант герцога просить подкреплений, то Кутузов послал на левое крыло невозмутимого героя Дохтурова, а герцога отозвал к себе.
До прибытия Дохтурова Коновницын отвел войска за Семеновский овраг, занял артиллерией ближайшие высоты и задержал дальнейшее наступление французов.
Французы старались развить одержанный ими успех: за Семеновским оврагом выставили сильные батареи и затем Ней двинулся на Семеновское со своим корпусом и дивизией Фриана, Мюрат же направил южнее Семеновской кавалерийские корпуса Латур-Мобура и Нансути; они повели атаку на наши войска, истерзанные артиллерией, но ничто не могло сломить их геройского духа. Измайловцы и Литовцы отбили три атаки Нансути батальным огнем, доскакавшие же до кареев смельчаки умирали на штыках гвардейцев. Во время атак они чувствовали облегчение, так как в это время прекращался адский огонь артиллерии, рвавший их ряды. Л.-г. Финляндский полк встретил атаку без выстрела, держа «ружья под курок»; конница не выдержала и повернула назад, не доскакавши до кареев.
После такого упорного боя наш левый фланг было расстроен, но и французские войска не могли продолжать наступления. Ней и Мюрат обратились к Наполеону за подкреплениями. Он сердился, никак не мог понять, как его маршалы с такими огромными силами не могут опрокинуть русских, и подкреплений не давал, так как пришлось бы двинуть для этого гвардию.
Не менее упорный бой был и за центральную батарею (Раевского). Атака дивизии Бруссье в 10 ч. утра была отбита. В 11 часов Бруссье, поддержанный дивизией Морана, возобновил атаку и овладел батареей, в которую ворвалась бригада Бонами. Но в это время поблизости был начальник штаба 1-й армии Ермолов, который собрал сохранившие порядок и первые попавшиеся под руку части; «толпою в образе колонны» бросился на батарею и около полудня выбил французов; ген. Бонами, назвавшийся Мюратом, взят в плен[4]. Прибыл на место боя Барклай-де-Толли и сменил страшно расстроенные войска Раевского дивизией Лихачева (6-го корпуса Дохтурова).
Около полудня подходил, двигавшийся с правого фланга, 2-й пехотный корпус Багговута; одна бригада 4-й дивизии принца Евгения Вюртембергского была оставлена также у батареи, а остальная часть корпуса двинулась к д. Утице.
На нашем левом фланге Понятовский около 8 ч. утра овладел д. Утицей и остановился. Тучков, выслав на поддержку Багратиона дивизию Коновницына, с остальными войсками занял высоту за деревней, но в 10 ч. утра был сбит и с этой позиции войсками Понятовского. Вскоре, впрочем, прибыл на поддержку Багговут; при содействии его корпуса Тучков произвел контратаку, сбил французские войска с высоты, но исколотый штыками сам попал в плен. Багговут вступил в командование войсками нашего левого крыла.
Ней и Мюрат продолжали настойчиво требовать подкреплений. Наполеон уже решился было двинуть им на поддержку три дивизии (молодую гвардию и дивизию Клапареда), когда ему донесли о панике в тылу, на левом берегу р. Колочи.
Когда выяснился удар на наш центр, Кутузов решил отвлечь часть сил неприятеля и приказал Платову и 1-му кавалерийскому корпусу Уварова переправиться за р. Колочу и атаковать левый фланг армии Наполеона. Уваров, перейдя Колочу близ с. Малое, двинулся к р. Войне и около полудня опрокинул кавалерийскую бригаду Орнано. Это произвело такое впечатление, что вице-король приостановил атаку на батарею Раевского и начал переводить войска на левый берег Колочи. Уваров двинулся на пехоту и атаковал один пехотный полк гвардейскими гусарами, но неподготовленная артиллерией троекратная атака была отбита; все-таки французы отступили за р. Войну, так как Платов, переправившись через Войну выше Беззубова, появился в тылу неприятельской пехоты, которая и отступила от Беззубовской плотины. Началась паника в обозах, а затем и в войсках.
Кутузов отозвал Уварова за Колочу, а одни казаки не могли справиться с массой пехоты, встретившей их. Но нападение Уварова и Платова имело огромное значение для общего хода сражения: батарея Раевского была нами отбита, а в два выигранные часа (от 12 до 2 часов дня) мы успели к угрожаемым пунктам подтянуть резервы и даже передвинуть 2-й корпус Багговута с правого фланга на левый, к д. Утице; 4-й пех. корпус занял пространство между батареей и с. Семеновским.
Убедясь, что на левый фланг произведено не очень серьезное нападение, Наполеон возобновил атаки на батарею Раевского. В 3 часа, после страшно упорного боя, причем в батарею ворвалась неприятельская кавалерия с тыла, наши войска вынуждены были уступить столько часов доблестно обороняемый ими пункт позиции. Наполеон, по взятии батареи, бросил вперед массы кавалерии; но они были встречены русской конницей, которая преградила им путь. Между батареей Раевского и Семеновским произошел кровавый и упорный бой, прекратившийся около 4 часов, вследствие утомления войск, причем кавалерия могла атаковать только рысью, артиллерия умолкала.
Конец Бородинского боя (Верещагина)
Тяжелые чувства испытывал Наполеон, сидя под курганом у Шевардина; пред ним происходило что-то небывалое, совершенно неожиданное. Он знал, что превосходит русских в силах и, к удивлению, не может сломить их сопротивления. Ни трофеев, ни пленных, как бывало в прежних сражениях, нет. Ежеминутно с разных концов поля сражения прискакивают ординарцы с просьбой подкреплений. Наконец он решил, по предложению Бертье, объехать поле сражения. В четвертом часу он выехал к Нею и Мюрату к д. Семеновской. По всему пространству, по которому ехал Наполеон, в луже крови лежали лошади и люди поодиночке и кучами. Подобного зрелища, такого количества убитых на таком малом пространстве, никогда не видали еще и Наполеон и никто из его генералов. Гул орудий, не прекращавшийся в течение девяти часов, усиливал впечатление картины. Наполеон выехал на высоту Семеновского и сквозь дым увидел позади Семеновского и кургана русские войска, которые стройно стояли на второй позиции, в полной готовности продолжать бой; их орудия, не переставая, гудели и дымили по всей линии. Сражения уже не было. Хотя в распоряжении Наполеона и было 19.000 гвардии, которую он мог бы бросить вперед для решения участи сражения, но, не слушая совета своих маршалов, полководец решил не прибегать к этому последнему средству, так как, вероятно, не рассчитывал сломить русских[5]. Через три часа Наполеон вернулся назад, «против обыкновения, с красным лицом, с вклоченными в беспорядке волосами и усталым видом».
Бородинское поле сражения (Фабер дю-Фор) (Муз. Щукина)
Перестрелка продолжалась по всему полю сражения до наступления темноты; но чувствовалось всеобщее утомление; кое-где еще были частные попытки кавалерийских и пехотных частей броситься в атаку, но без решительного успеха. Выстрелы час от часу редели, и битва замирала.
Кутузов, бывший в центре позиции у Горок, не переставая следил за ходом боя и, как мы видели, успел изменить и первоначальное расположение войск, передвинув во время боя 1-ю армию с правого фланга к центру и на левый фланг, а также везде успевал своевременно посланными подкреплениями восстанавливать бой. Но главной его заботой было управление духом войск, что, как ученик Суворова, он выполнял мастерски.
Мы видели его распоряжения для замены Дохтуровым унесенного с поля сражения Багратиона. Когда дали знать, что взят в плен Мюрат, хотя и ошибочно, он послал адъютанта поехать по войскам и объявить об этом. Когда донесли, что французы заняли флеши и Семеновское, он подозвал Ермолова и сказал ему: «Съезди, голубчик, посмотри, нельзя ли что сделать». В третьем часу атаки французов прекратились. Кутузов был доволен успехом дня сверх ожидания. Вдруг приезжает полковник Вольцоген с докладом от Барклая-де-Толли, что войска страшно расстроены, и сражение проиграно. Кутузов не верил тому, что слышит, страшно рассердился и приказал передать Барклаю, что его сведения несправедливы и что настоящий ход сражения известен ему, главнокомандующему, лучше, чем Барклаю.
«Отбиты везде, — горячо говорил взволнованный полководец, — за что я благодарю Бога и наше храброе войско. Неприятель побежден, и завтра погоним его из священной земли русской!»
Но когда вскоре приехал Раевский с докладом, что войска твердо стоят на своих местах и французы не смеют их более атаковать, Кутузов приказал Кайсарову писать приказ о бое на следующий день и послал адъютанта по линии объявить, что на завтра мы атакуем.
И эта весть, объявленная от главнокомандующего, которую каждому хотелось услышать, поднимала дух, нарождала новые силы; измученные, колеблющиеся люди утешались и ободрялись.
Наполеон и его армия были в изумлении перед противником, который, потеряв почти половину армии, стоял также грозно в конце, как и в начале сражения. Верно сказал Ермолов, что «под Бородиным французская армия расшиблась об русскую». Русские, действительно, одержали нравственную победу, убедили противника в том, что он не может нас победить. Но победа наша была куплена дорогой ценой: из 113.000 чел. мы потеряли 57–58.000 чел., в том числе 21 генерала; урон французов из 130.000 чел. 50.000, в том числе убитыми и ранеными 43 генерала[6]. «Битва генералов» или «Могила французской кавалерии» — вот европейское прозвище Бородинского сражения. Трофеи с обеих сторон почти равны: у неприятеля отбито 13 орудий, мы потеряли 15. Пленных не брали; их с каждой стороны было не более 1.000 человек.
Ночью французы очистили занятые ими во время боя пункты нашей позиции и отступили за р. Колочу и к Шевардину. Несколько раз войска вскакивали в панике, ожидая нападения казаков. Палатка Наполеона была окружена каре гвардии. На утро генералы собрались вокруг ее, и Ней громко критиковал бездеятельность и нерешительность Наполеона в день сражения. Наполеон не возражал и был весьма обрадован донесением, что русские очистили поле сражения и потянулись к Можайску. До 11 часов вечера Кутузов не отменял распоряжений к возобновлению сражения, но когда поговорил с приехавшим в это время Дохтуровым и убедился в громадности понесенных войсками потерь, приказал начать отступление к Можайску.
Сражение при Бородине (Д. Скотти)
27 августа, в 6 часов утра, русская армия снялась с позиции в полном порядке и тишине; французы заметили наше отступление только в 10 ч. утра, когда на поле сражения оставался только арьергард Платова.
Бородинское сражение было очистительной жертвой за оставление Москвы и дано было Кутузовым для удовлетворения общественному мнению и голосу армии.
Позиция, выбранная для боя, была несильная и укреплена слабо: профиль укреплений был настолько незначителен, что кирасиры Тильмана, во время атаки на батарею Раевского, перескочили ров и бруствер без особого труда[7]. Позиция была занята неправильно, почему во время боя пришлось половину войск переводить по полю сражения к центру и левому флангу позиции. Набег Уварова и Платова помог выиграть необходимые для этого два часа, но все-таки войскам Багратиона пришлось шесть часов вести бой против втрое превосходящего в силах противника. Все эти ошибки были искуплены небывало доблестным поведением войск. Кутузов превосходно управлял боем и правильно оценил его значение.
Наполеон, думавший одним ударом окончить войну, убедился, что разбить нашу армию не может и, следовательно, ему, вместо отдыха, предстоит ужасная, ничего не обещающая хорошего, борьба, а при малейшей неудаче — гибель.
Сосредоточив 100.000 на фронте в 2 версты, между Колочей и старой смоленской дорогой, он, наверное, рассчитывал дать парадное сражение, хотя и грубо-прямой фронтальной атакой. Конечно, это могло стоить больших потерь, но он никогда о потерях не думал, а, главное, не допускал мысли, чтобы его чудные войска, при огромном численном превосходстве, не сломили сопротивления русских, которым и позиция для боя не давала никаких преимуществ. И вдруг такое неожиданное разочарование!
Много лет спустя в своих мемуарах он так оценивает Бородинское сражение: «Из всех моих сражений самое ужасное то, которое я дал под Москвой. Французы в нем показали себя достойными одержать победу, а русские стяжали право быть непобедимыми… Из пятидесяти сражений, мною данных, в битве под Москвой выказано (французами) наиболее доблести и одержан наименьший успех».
Кутузов, в донесении государю о сражении, выяснил причину необходимости отступления, но не упоминал ни о победе ни об отступлении неприятеля, а указал на страшное упорство в битве, мужество войск, большие понесенные ими потери и о взятых с бою трофеях[8].
За всю новейшую историю не было сражения более кровопролитного, чем Бородинское, и не было случая, чтобы армия, понесшая 50 % потерь, была способна на следующий день к продолжению действий.
«Прямым последствием Бородинского сражения было беспричинное бегство Наполеона из Москвы, возвращение по старой смоленской дороге, погибель пятисоттысячного нашествия и погибель Наполеоновской Франции, на которую первый раз под Бородиным была наложена рука сильнейшего противника» («Война и мир», VII, 319).
Н. П. Михневич
Мост на Бородине (Фабер дю-Фор)
IV. Фили
Проф. ген. Н. П. Михневича
Кутузовская изба в д. Филях (Собр. И. Е. Цветкова)
Но не столько нужна была позиция, как пополнение войск; в армии было всего 60.000 человек; в некоторых полках оставалось до 300 чел. — пришлось обратить их в однобатальонные, и многими из них командовали капитаны; особенно были велики потери во II-й армии[9]. При таких условиях бороться против 100.000 чел. Наполеона было рискованно.
1 сентября армия выступила из Мамонова к Москве. Князь Кутузов, пожалованный за Бородинское сражение в фельдмаршалы, объехал позицию, выбранную Беннигсеном, и остановился на Поклонной горе. Его окружили все старшие генералы армии. Здесь, среди ясного сентябрьского утра, любуясь на златоглавую первопрестольную столицу, расстилавшуюся у их ног, защитники России совещались о предстоящем бое. Мысль об оставлении Москвы без боя была, может быть, только в одной голове старого фельдмаршала, но вскоре все пришли к сознанию о невозможности дать бой на избранной позиции. Во-первых, она была изрезана многими рытвинами и речкой Карповкой, затруднявшими сообщение по ней войск; в тылу была р. Москва и обширный город, отступление через который в случае нужды было бы для армии крайне затруднительно. Предлагали усилить позицию укреплениями с сильной артиллерией; укрепления уже начали строить; стали подходить войска и приближался вечер, но решения принять не могли. Из всех разговоров, к которым внимательно прислушивался Кутузов, можно было видеть одно: защищать Москву не было никакой физической возможности. Он подозвал к себе старших генералов.
— Хороша ли, плоха ли моя голова, а положиться больше не на кого, — сказал он, вставая с лавки, и поехал в Фили, где стояли его экипажи.
В два часа в просторной, лучшей избе Андрея Савостьянова собрался военный совет. Кутузов сел в темный угол и, видимо, сильно волновался. Все генералы собрались своевременно; опоздал Беннигсен на два часа, по случаю рекогносцировки позиции. Его ожидали. Кутузов предложил на обсуждение вопрос: «Спасенье России в армии. Выгодно ли рисковать потерей армии и Москвы, приняв сраженье, или отдать Москву без сражения? Вот на какой вопрос я желаю знать ваше мнение».
Начались прения. Барклай-де-Толли, верный своему первоначальному плану действий, доказывал необходимость оставить Москву и сохранить армию, отступая к Владимиру и Нижнему Новгороду. Беннигсен, обращая внимание присутствующих на последствия, могущие произойти от оставления Москвы без боя: на потери для казны и частных лиц, впечатление, какое произведет событие на народный дух и иностранные дворы, на затруднения и опасности прохождения войск через Москву[10], предложил: ночью перевести войска с правого фланга на левый и ударить на другой день в правое крыло французов; в случае же неудачи, отступить на старую или новую калужскую дорогу, откуда угрожать сообщениям Наполеона.
С Беннигсеном согласились: Дохтуров, Уваров, Коновницын и Ермолов[11]; с Барклай-де-Толли — граф Остерман, Раевский и Толь: последний подал особое мнение: расположить армию правым крылом к д. Воробьевой, а левым — к новой калужской дороге.
Военный совет в Филях (Кившенко)
— Я, господа, — сказал Кутузов, — не могу одобрить плана графа[12]. Передвижения войск в близком расстоянии от неприятеля всегда бывают опасны, и военная история подтверждает это соображение. Так, например… Да вот хоть бы Фридландское сражение, которое, как я думаю, граф хорошо помнит, было… не вполне удачно только от того, что войска наши перестраивались в слишком близком расстоянии от неприятеля[13]…
Последовало минутное молчание и снова прения возобновились; но ясно было, что договориться до одинакового решения никак не могут. Кутузов тяжело вздохнул, как бы собираясь говорить. Все оглянулись на него.
— Итак, господа, стало быть, мне платить за перебитые горшки, — сказал он. И, медленно приподнявшись, он подошел к столу, за которым заседал военный совет. — Господа, я слышал ваши мнения. Некоторые будут несогласны со мной. Но я (он остановился) властью, врученной мне государем и отечеством, я — приказываю отступать.
Генералы разошлись с тяжелым сознанием тяжкой ответственности за принятое Кутузовым решение. Но здесь и сказалось все величие духа полководца, в руки которого русский народ отдал свою историческую судьбу.
Старик фельдмаршал, простившись с генералами, долго сидел и думал о вопросе, тяготившем его: «Не виноват ли он в принятом решении? Когда же было сделано то, что решило вопрос об оставлении Москвы, и кто же виноват в этом?»
— Этого, этого я не ждал, — сказал он вошедшему к нему, уже поздно ночью, адъютанту Шнейдеру; — этого я не ждал! Этого я не думал!
— Вам надо отдохнуть, ваша светлость, — сказал Шнейдер.
— Да нет же! Будут же они лошадиное мясо жрать, как турки, — не отвечая прокричал Кутузов, ударяя пухлым кулаком по столу. — Будут и они, только бы…[14]
Эти слова «только бы» вполне понятны: «только бы» я остался у власти, «только бы» не перестали верить в меня, «только бы» дали довести дело до конца, как я решил его провести.
На счастье России, фельдмаршал уцелел на своем месте и дожил до счастливого сознания быть спасителем отечества[15].
Н. П. Михневич
Москва конца XVIII в. (рис. Де-ла-Барта)
V. Ростопчин — московский главнокомандующий
С. П. Мельгунова
«Эмигрант» (рис. Орловского)
Удалось ли это ему в действительности? Если от назначения Ростопчина и были в восторге такие лица, как Багратион, видевший в Ростопчине олицетворение истинно-русского начала и относившийся поэтому к нему с «обожанием»; если это назначение приветствовали искренние и наивные «патриоты», в роде С. Н. Глинки, готового противопоставлять Ростопчина Наполеону и тем доставлявшего, конечно, огромное удовлетворение самолюбивому графу, но общее впечатление от назначения скорее было не в пользу Ростопчина. В Москве были удивлены, увидев балагура-вельможу в роли «московского властелина». Современник Бестужев-Рюмин это впечатление передает в таких характерных словах: «Признаюсь откровенно, что лишь только я узнал о сей перемене начальства (т. е. о назначении вместо Гудовича Ростопчина), сердце у меня облилось кровью; как будто я ожидал чего-то очень неприятного» («Чтения Ист. и Др.», 1859, II, отд. V, 69). И, конечно, он был совершенно прав, так как Ростопчин был уже известен, как представитель того боевого национализма, который, в конце концов, неизбежно приводил к пробуждению самых низменных шовинистических чувств, самых дурных инстинктов в некультурных массах. Дух патриотизма Ростопчина, как нельзя лучше, охарактеризовал К. Н. Батюшков, сказавший еще по поводу «Мыслей на Красном Крыльце» и литературной деятельности Глинки: «любить отечество должно… но можно ли любить невежество?» Московский барин, державший француза-повара, изъяснявшийся и переписывавшийся только на французском диалекте, понимал проявление патриотизма в виде самых грубых выходок. Ростопчинские друзья, съютившиеся в его московской гостиной, приходили в восторг от «забавных» выходок своего покровителя. Правда, проявления этого острого ума были довольно трафаретны. Булгаков не без удовольствия рассказывает, как однажды он принес лубочный портрет Наполеона, и Ростопчин тут же написал на нем площадное двустишие. Он же передает о горячих спорах Ростопчина с женой из-за того, что московский главнокомандующий поместил дорогой бронзовый бюст Наполеона в совершенно неподходящем месте. Жена Ростопчина — католичка протестовала, так как Наполеон был коронованной особой, помазание над которым совершал сам римский первосвященник. Но Ростопчин ни за что не хотел уступить жене… («Ст. и Нов.», VII). Таково было убогое остроумие знаменитого московского патриота. Неужели в этом проявлялся действительный ум? Нет ничего удивительного, что многие из друзей Ростопчина восторгались этими буффонадами — ко многим из таких друзей вполне может быть применено замечание Батюшкова: «самый Лондон беднее Москвы по части нравственных карикатур…» Небезынтересно для личной характеристики Ростопчина отметить тот факт, что назначение его встретило несомненное сочувствие в среде московских иезуитов: «перемена губернатора, — писал аббат Сюрюг, — будет для нас выгодна. Я имел случай представиться ему и был им принят хорошо. Обещание графа оказывать нам особенное покровительство дает самые счастливые надежды» (Попов, «Москва 1812 г.», «Р. Арх.», 1875, VII, 275). Можно было бы подумать, что здесь косвенно оказывала влияние на московского патриота его жена — католичка. В действительности дело обстояло проще. У гр. Ростопчина, как мы могли уже убедиться, отнюдь не было какой-либо органической ненависти к иностранцам. Его узкий национализм был наносного происхождения, в значительной мере позой. Он ненавидел только свободомыслие, проявление которого заподазривал и там, где его не могло быть. И здесь, в отцах-иезуитах, он находил и несомненных помощников по политическому сыску, и врагов ужасных — «мартинистов». Отсюда вытекала и возможность «особенного покровительства» иезуитам со стороны Ростопчина.
Таков был Ростопчин в интимной обстановке, таковы же были и внешние проявления его власти, как начальника Москвы. Деятели, подобные Ростопчину, не понимали, а, может быть, и не могли понять, что здоровый патриотизм не нуждается в искусственных прививках, что он сам естественно заложен в народных чувствах. Они ставили своей целью взвинтить народное настроение, действуя на суеверные чувства, возбудить бессознательную ненависть к французам и тем подвинуть народ на «патриотические» подвиги. В 1812 г. эта было в моде. Нашелся даже ученый, дерптский профессор Гецель, который, истолковывая два места из Апокалипсиса, в числе зверином открыл имя антихриста — Наполеона. Свое изыскание он предложил Барклаю распечатать «для усугубления бодрости духа русского воинства» («Рус. Ст.», 1883, XII, 651). Синод следовал по тому же пути, и в том же духе действовал гр. Ростопчин, старавшийся разбудить человеконенавистнические чувства в своих подчиненных. Но надежда на разнузданность толпы, — надежда, чреватая последствиями. И, в конце концов, деятельность гр. Ростопчина привела к самым печальным результатам. Эта деятельность, как мы знаем, направленная в три стороны (привлечение дворянских сердец, борьба с революцией и подъем народного патриотизма), естественно была тесно связана с ходом событий на театре военных действий, от которого зависела агрессивность ростопчинской политики.
Когда враг был еще далеко, Москва отнюдь не проявляла того «патриотического» возбуждения, которое хотелось видеть Ростопчину, принявшему на себя миссию спасителя отечества. Московское общество скорее негодовало, что правительство легкомысленно втянулось в войну.
Граф И. В. Гудович (Пис. Жерен)
Императора, по словам Ростопчина, прямо обвиняли в том, что он причина близкой гибели России, потому что не хотел предупредить или избежать третьей войны с противником, который уже дважды победил его (Воспом. «Р. Ст.», 1889, XII, 655). Московское простонародье на первых порах также не проявляло большого воинственного пыла. Достаточно припомнить знаменитую сцену, разыгравшуюся 12 июля в Кремле. По случаю молебствия Кремль набит народом. Вдруг по толпе пронесся слух, что запирают ворота и будут брать каждого силой в солдаты. В несколько минут, рассказывает очевидец, ростовский городской голова Маракуев[16], Кремль опустел. Это, конечно, был вздорный слух, но москвичи прекрасно знали, что гр. Ростопчин, которому было поручено образование военной силы в Московском округе, не остановится перед самыми вопиющими мерами насилия. Они знали, что мещане и господские люди, взятые в смирительный и рабочий дом за пьянство и распутство, забираются в рекруты, что еще 28 июня, по просьбе Ростопчина, ему разрешено зачислять в армию нижними чинами за «проступки» всех «неимеющих ремесла, жилища и состояния, отставных офицеров и нижних классов чиновников праздношатающихся» («Письмо Балашова к Ростопчину». Дубровин, «1812 г. в письмах», 32). Отсюда так легко могла возникнуть паника. Припомним еще один характерный эпизод, происшедший в имении старика Свербеева. Воспылав воинственным пылом, семидесятилетний Свербеев собрал своих «Богом и государем данных подданных» и предложил им «идти против врага, замыслившего в сатанинской своей гордости разорить нашу веру и покорить себе нашу милую родину». Однако его ждало большое разочарование — нашелся всего один охотник. Здесь сказался простой «здравый смысл», как замечает в своих воспоминаниях Д. Н. Свербеев. Крестьяне, «еще до объявления им моим отцом, предугадали, что будет большой набор, и тут же заговорили: „Из чего же нам идти в охотники? Кто похочет, тот и пойдет, когда будут набирать, а то, пожалуй, охочие найдутся, а положенных возьмут без замину…“» («Записки», I, 63 и 67). Ростопчин, конечно, подобные инциденты объяснял исключительно происками зловредных «мартинистов», которых со всем усердием стал разыскивать по Москве.
Окрестности Москвы (Лит. Энгельмана нач. XIX в.)
Это была ловля призраков, созданных воображением гр. Ростопчина и донесениями окружающих его шпионов. В число «мартинистов» и «якобинцев» Ростопчин зачислял всех, кто только позволял себе высказать какое-либо неодобрительное суждение по поводу мероприятий главнокомандующего. В частности Ростопчин «мартинистами» именовал небольшой кружок московских масонов во главе с Лопухиным, Ключаревым, Кутузовым и Поздеевым. Не давал ему покоя и мирно доживающий старость в своем с. Авдотьине Новиков, над которым Ростопчин учредил через бронницкого капитана-исправника полицейскую опеку. Верил ли сам Ростопчин в те страхи, которые он старательно внушал правительству? Верил ли он в возможность пропаганды со стороны масона Поздеева (которому, в конце концов, запретил въезд в Москву) — этого ярого крепостника, вполне солидарного с Ростопчиным в вопросе об опасности возмущения крестьян против дворянства; верил ли он в «якобинизм» сенатора Кутузова — реакционера, заподозривавшего даже Карамзина, ростопчинского приятеля, не более, не менее, как в том же «якобинстве»; верил ли он, наконец, в действительную опасность со стороны барственного мистицизма кружка Лопухина, столь враждебного и Франции и французской революции? Если он под чужим влиянием действительно верил, то это показывает лишь его поразительную недалекость. Против масонов Ростопчина настраивали его друзья иезуиты, относившиеся к масонам и мистикам без различия направления с той же ненавистью, с какой относились к ним в конце царствования Александра и отечественные представители ортодоксального православия. Стоит прочитать переписку аббатов Сюрюга и Бюлли, чтобы увидать, что поход на мартинистов открыт был под их непосредственным влиянием.
Зимние бега близ Каменного моста (Лит. Энгельмана нач. XIX в.)
А Ростопчину не все ли равно было, кого заподазривать в измене. Ему надо было лишь запугать Александра угрозой революции, внушить к себе доверие и показать, что он один может справиться на таком важном посту в Москве, где чуть ли не половина населения состоит из «наполеонистов». Ростопчин желал власти, которую и могла ему дать в руки борьба с мнимой революцией. За отсутствием этих действительных революционеров Ростопчин выбирал неугодных себе лиц, с которыми и сводил таким путем личные счеты. Наиболее ярким примером в данном случае является гонение на почт-директора Ключарева, позволившего себе высказать «нелестное мнение» о Ростопчине. С другой стороны, по словам Рунича, у Ростопчина явилось подозрение, что Ключарев обнаружил его тайную переписку с Тверью (Из записок Рунича, «Р. Ст.», 1901 г., III, 599). Надо Ключарева удалить под видом опасного «мартиниста». Ростопчин, впрочем, еще недостаточно уверен в своей власти, не уверен, что его авторитет твердо стоит в мнении Александра. И поэтому он просит фельдмаршала Салтыкова воздействовать на удаление Ключарева, но получает в ответ, что император полагает, что «теперь не время делать подобные перемещения». Это был, конечно, афронт для Ростопчина. В борьбе с «мартинистами» он должен был таким образом учитывать то обстоятельство, что заподозренные им лица и находились в больших чинах и занимали видные административные положения.
Ф. В. Ростопчин (портр. Гебауэйра)
Александр не хотел «лишнего шума», как показывает распоряжение императора по поводу ареста доктора Сальватора, лица, близкого ростопчинскому предшественнику на московском посту гр. Гудовичу. Сальватор как раз явился жертвой иезуитской интриги. Сюрюг неоднократно жаловался на притеснения со стороны Гудовича под влиянием Сальватора, явного «революционера» и «якобинца». Дело Сальватора заставило Ростопчина шуметь еще больше о революции и таким образом найти более конкретные признаки для обвинения неприятных ему лиц. Ростопчина понемногу опьяняла власть, и он действительно хотел быть настоящим «московским властелином». Приставив для тайного наблюдения за Ключаревым своего доверенного полицмейстера Брокера, прежде служившего в почтовом ведомстве и личного врага Ключарева, Ростопчин искал только случая, чтобы расправиться с Ключаревым. Благодаря энергии Брокера, такой случай скоро представился, — это и было знаменитое в летописи московской жизни дело Верещагина. Молодой человек из купеческой семьи, получивший для своего времени хорошее воспитание, перевел на русский язык два газетных сообщения о Наполеоне, а именно «Письмо Наполеона к прусскому королю» и «Речь Наполеона к князьям Рейнского союза в Дрездене». Для чего было это сделано? Может быть, из простого личного любопытства, может быть, для того, чтобы познакомить «друзей» с упомянутыми газетными сообщениями. Понятно, что общество интересовалось действиями Наполеона, а между тем цензура свирепствовала и решительно не пропускала никаких сообщений из заграничной печати.
Ростопчин раздул дело Верещагина до огромных размеров, представив виновника перевода в образе злейшего злодея, составителя прокламаций. «Вы увидите, государь, — писал он Александру 30 июня, — из моего донесения к министру полиции, какого откопал я здесь злодея… Сочинитель прокламации от имени врага своего отечества и в начале войны есть изменник и государственный преступник. Не дай Бог, чтобы здесь произошло волнение в народе, но если бы произошло, то я наперед уверен, „что эти лицемеры — мартинисты, явятся открытыми злодеями“…
3 июля в „Московских Ведомостях“ появилось специальное объявление о Верещагине и о вновь открытом заговоре. Таким путем создалось громкое дело[17], давно желанное Ростопчину; дело, при помощи которого он мог подкопаться под Ключарева. Верещагин был предан суду и, как сообщает Рунич, ему „велено“ было говорить, что он получил прокламации для списывания от одного из сыновей Ключарева[18]. В Москве раскрытие Ростопчиным злодейского покушения на целость государства вызвало с самого начала различное впечатление.
Если Глинка, преклонявшийся перед Ростопчиным и готовый верить всякой сплетне об измене, приветствовал Ростопчина даже стихами:
то другим более наблюдательным современникам уже первоначальное „объявление главнокомандующего показалось ложью“. Таково было впечатление Бестужева-Рюмина, таково, по его словам, было впечатление всеобщее. „Впрочем, — добавляет автор воспоминаний, — бумаги сии (т. е. „прокламации“ Верещагина) и сами по себе не сделали особенного впечатления в народе“. Конечно, они не могли произвести „впечатления“ уже потому, что и не предназначались для распространения в массе[19].
Назвать их „прокламациями“ мог лишь гр. Ростопчин в своем стремлении создать себе популярность открытием несуществующего заговора. Достаточно привести инкриминировавшиеся Верещагину места из переведенных статей, чтобы видеть ясно, как все это далеко было даже от возможного намека на какие-то „прокламации“. В первой статье попадалась такая фраза, обращенная Наполеоном к прусскому королю: „Очень радуюсь, что вы… заглаживаете недостойный вас союз с потомками Чингиз-Хана“. А в другой говорилось: „я держал свое слово и теперь говорю: прежде шести месяцев две северные столицы Европы будут видеть в стенах своих победителей Европы“[20]… Ростопчин придал злостный умысел этому переводу, признав безапелляционно, что Верещагин как бы согласен с мнением, высказанным Наполеоном.
17 июля, послушный Ростопчину, магистрат вынес решение, коим Верещагин ссылался вечно в каторжные работы в Нерчинск, а Мешков, по лишении чинов и личного дворянского достоинства, отдавался в военную службу. По мнению магистрата, государственного изменника следовало бы „казнить смертью“, но „за отменением оной“ пришлось ограничиться каторжными работами.
Вторая инстанция — первый департамент палаты уголовного суда с такой же быстротой утвердил приговор. Ростопчин немедленно же отправил приговор в сенат, который 19 августа вынес уже окончательное постановление. Сенат признал, что Верещагин „изобличен и сам сознался в составлении пасквильного сочинения и что по силе узаконений уложения 2 гл. 2 пункта, военных артикулов 131 и указа 1762 июня 19-го подлежит смертной казни, но как таковая казнь указом 1754 года, сентября 30 дня отменена, да и от означенного пасквиля ни малейшего вреда не последовало, и потому что он, Верещагин, по делу не изобличается в том, что намерен был причинить означенным пасквилем какой-либо вред, а написал оный, как сам показывает, единственно из ветренности мыслей, желая похвастаться новостью, каковое показание его обстоятельством дела не опровергается, то, согласно мнения главнокомандующего Москвы, наказать его, Верещагина, кнутом, двадцатью пятью ударами[21], потом, заклепав в кандалы, сослать в каторжные работы“.
В сущности мотивы сенатского приговора поразительны даже для начала XIX века. По этим мотивам жестокий приговор был совершенно бессмыслен. Мы должны помнить эти мотивы. Тогда позднейшее поведение Ростопчина в верещагинском деле выступит особенно ярко. Выяснится не только беззаконие, не только жестокость расправы Ростопчина, но и допущенная им ложь в официальных донесениях во имя своего личного оправдания, ложь и в позднейших воспоминаниях.
Ростопчин первоначально хотел покончить дело Верещагина без всякого судебного расследования. Любитель театральных эффектов (а может быть, не доверяя сенату — ведь дело юридически было аргументировано весьма слабо), он просил Александра (30 июля) прислать указ, „чтобы Верещагина повесить, потом, заклеймив его под виселицей, сослать в Сибирь на каторжную работу“. „Я постараюсь придать, — пишет он императору, — торжественный вид этому зрелищу, и до последней минуты никто не будет знать, что преступник будет помилован“. Желательность подобного решения Ростопчин мотивировал таким соображением: „Суд над ним (Верещагиным) в низших инстанциях не может быть продолжителен, но дело поступит в сенат и затянется. Между тем необходимо, чтобы приговор исполнен был как можно скорее в виду важности преступления, волнений в народе и сомнений в обществе“. Если император пришлет указ, он может согласовать „правосудие“ (?) со своим „милосердием“, это послужит ужасающим примером для народа и особенно для некоторых тайных злодеев».
Но еще 6 июля Ростопчин получил предписание от Салтыкова: «не приводя окончательного решения в исполнение», представить дело министру юстиции для доклада государю, и, казалось, жизнь Верещагина была спасена. Но пока невинный Верещагин ждал в тюрьме решения своей участи, нить событий развертывалась своим чередом, и московский властелин все менее и менее начинал считаться с общественным мнением и предписаниями из Петербурга.
Уже одно дело Верещагина (не говоря уже о других, возникших одновременно с Верещагиным) должно было достаточно терроризировать московских обывателей.
Москва ждала царя, и гр. Ростопчин желал во всем блеске показать результаты своего недолгого управления, показать прежде всего, как сумел он «возжечь сердца» московских дворян.
Восьмидневное пребывание Александра в Москве в обычном изображении полно сцен высокого патриотического возбуждения, — все сословия в благородном порыве готовы принести на алтарь отечества имущество и жизнь. Толпы народа с ликованием встречают Александра и самоотверженно готовы идти на смерть в борьбе с ненавистным врагом. Такова была внешность, отчасти подготовленная самим Ростопчиным во имя всегдашнего его принципа «бросать пыль в глаза». Несомненно, известный подъем был. Этот подъем обусловливался начавшейся войной.
Неизбежно росло тревожное настроение; в каждом начинало говорить чувство самосохранения. Но опасность была еще далека. Если у некоторых пессимистов являлось опасение о возможности появления Наполеона в Москве, то, конечно, у огромного большинства и не зарождались еще подобные подозрения. А при таких условиях патриотический подъем не мог дойти до такого воодушевления, которое влечет за собой решение жертвовать всем имуществом. Об этом, конечно, никто еще не помышлял. При полной готовности оказать общественную помощь правительству, и помину не было в действительности о тех сценах, которые описуют часто историки.
Старая площадь в Москве (Де-ла-Барта)
Д. Н. Свербеев очень метко сказал, что «восторженность дворянства была заранее подготовлена гр. Ростопчиным» (Запис., I, 64 и 65). То же можно сказать и о купечестве. Свербеев рассказывает, как ближайший помощник Ростопчина, губернатор Обресков, «обделывал» купцов, «сидя над ухом каждого, подсказывая подписчику те сотни, десятки и единицы тысяч, какие, по его умозаключению, жертвователь мог подписать». Мы видим, что картина довольно прозаическая. И нетрудно понять, почему отец Свербеева, семидесятилетний старик, вернувшись из Москвы, значительно растерял свой воинственный пыл. Ростопчин сам довольно образно рассказывает, как он подготовил единодушие дворянства на собрании 15 июля в Слободском дворце. По его словам, он еще 12 июля узнал, что некоторые «мартинисты» хотят спросить государя: какие имеются средства обороны, т. е., очевидно, были желающие в связи с вопросом о пожертвованиях поставить и вопрос об общественном контроле. Ростопчин предупредил фрондеров, что такой господин «во всю прыть полетит в дальний путь». И, чтобы придать значение своим словам, велел неподалеку от Слободского дворца поставить две тележки, запряженные лошадьми, и двух полицейских офицеров, одетых по дорожному (Воспоминания, «Рус. Ст.», 1889, XII, 673–74). Слух, пущенный Ростопчиным, дошел по назначению, и главнокомандующий был удовлетворен. Все прошло гладко: «хвастуны, — как выразился он, — вели себя умно».
Но, конечно, само по себе дворянское фрондерство в это время рассеялось как пух. Оно было неуместно уже с точки зрения чисто сословных имущественных интересов, которые слишком непосредственно захватывала война. Так или иначе, но с именем Наполеона связывалось неизбежное как бы освобождение крестьян от крепостной зависимости. Бесчисленное количество фактов указывают на полное недоверие дворянства к народу, боязнь возмущения против привилегированных. В этом отношении чрезвычайно характерен факт, передаваемый в воспоминаниях Хомутовой («Р. Арх.», 1891, III, 315), — факт, относящийся к моменту ожидания царя в Москве 11 июля. «В кремлевских залах собрались представители дворянства. Уже поздний вечер, а Александра все еще нет. Стали тревожиться, громкий разговор превратился в шепот, шепот — в молчание. Едва слышным голосом стали говорить: „государь погиб“. В толпе пробежал трепет, — всему готовы были верить или всего бояться. На Спасской башне пробило десять часов; народ на площади заволновался. Демидов притронулся к локтю похолоделой рукой и сказал: „Бунт“… И это слово, переходя из уст в уста, слилось в глухой гул… Вскоре стала известна причина этого волнения (в народе); прибыл курьер от государя с известием, что сам он приедет лишь завтра». Как ярко, действительно, говорит описанная картина о настроениях московских дворянских кругов. Этой революции, революции снизу и боялся более всего «русский барин» (как именует себя Ростопчин), взявший на себя неудачную миссию демагога.
Хотя позднее, в письме к издателю «Русского Вестника» (май, 1813 г.) Ростопчин уверенно говорил, что напрасно Наполеон прельщал русский народ вольностью — «вольности у нас никто не хочет, ибо лучшего никто не хочет», хотя и 1-го августа 1812 г. в письме он уверял Балашова: Наполеон считал на-слово свободу, но она не подействует («1812 г. в письмах», 176). Хотя 12 августа писал он Багратиону: «главная его (Наполеона) пружина — вольность не действует и о ней лишь изредка толкуют пьяницы», однако уже одно то, что Ростопчин постольку возвращается к этой мысли, показывает всю силу его опасений. Крепостник, уверенный, что народ «от жиру» бесится, делается как бы крестьянским ходатаем. Еще 11 июля он пишет императору, что посещением Иверской и защитой крестьян он снискивает расположение «добрых и верных подданных». Эти «добрые и верные подданные» проявляют явное недовольство помещиками, которое Ростопчин в письме к Балашову (23 июля) объясняет увольнением казенных крестьян от ополчения, что вызывает зависть у помещичьих крестьян («1812 г. в письмах», 61). Одновременно Ростопчин считает необходимым сообщать в письмах к Александру всякий вздорный слух, имеющий отношение к вопросу о крепостном праве. Так, 8 сентября он сообщает о молве, гласящей, что Александр дозволил Бонапарту «проникнуть» в свои владения с тем, чтобы он провозгласил свободу от имени русского царя («Р. Арх.», 1892, VIII, 535). Он не преминет в то же время сделать выпад против «мартинистов». «Все злые слухи, — пишет он Александру 13 августа, — распускаемые с целью обвинить вас, все это идет от мартинистов и всех неистовее университет, состоящий из якобинцев — профессоров и воспитанников»(Ib., 521).
Москва конца XVIII в. (рис. Де-ла-Барта, изд. Вильзера)
Играя таким путем на чувствах страха, Ростопчин обеспечивал себе возможность действовать в революционной якобы Москве самовластно. Чувство полной безнаказанности так определенно уже звучит в только что цитированном письме к Александру: если «полиция затруднится одерживать негодяев, проповедующих бунт (в письме упоминаются Кутузов, Чеботарев и Дружинин), то я велю некоторых повесить». Но уже и до этой угрозы Ростопчин со своими недоброжелателями расправляется без стеснений. Не дождавшись ответа сената по поводу своего представления о «неблаговидных» и «подозрительных» поступках Ключарева, Ростопчин при посредстве открытий «патриота» Брокера (как иронически именует в своих записках помощника московского главнокомандующего Рунич), нашел новый криминальный поступок в ведомстве Ключарева. 7 августа схвачен, по доносу Брокера, один почтамтский чиновник по подозрению в том, что «посредством писем распространял страх и безнадежность внутри империи». За несколько дней перед тем арестован надворный советник Дружинин, тот самый начальник экспедиции иностранных газет, который по делу Верещагина оказал противодействие агентам Ростопчина. Наконец 10 августа арестовывается и высылается в Воронеж сам Ключарев. С «болтунами», не занимающими никакого общественного положения, Ростопчин поступает еще проще. По собственному признанию («Р. Ст.», 1889, XII, 689), этих «болтунов», проявлявших себя от времени до времени, он сажал в сумасшедшие дома и отрезвлял при помощи холодных душей и микстур, напр., студента Урусова, о чем сообщает Ростопчин в письме к Балашову 23 июля. Некоторые из ростопчинских апологетов и в подобных издевательствах находили проявление остроумия и юмора «московского властелина». В числе «зломыслящих» людей мы видим актера Сандунова, отправленного в Вятку, и многих других. Свое представление о «настроении умов» в столице Ростопчин составлял на основании донесения своих агентов. История запечатлела фигуру одного из этих агентов вечно пьяного сыщика Яковлева, — фигура достаточно типичная, чтобы видеть, насколько компетентны были сведения московского главнокомандующего о политических симпатиях того или иного московского обывателя. Во второй половине августа Ростопчин так уверен в своих силах, так уверен, что он своей энергичной деятельностью извел всякую крамолу в столице, что предлагает гр. Толстому переправить Сперанского из Нижнего в Москву «для прекращения деятельности мартинистов» («Р. Арх.», 1892, VIII, 109). Сперанский и в ссылке ему не дает покоя. В июне он всеми мерами старается воздействовать на императора в целях еще большего очернения своего врага, показать, что Сперанский чрезвычайно опасен. «Народ (?) снова возмутился против Сперанского», пишет он Александру 30 июня («Р. Арх.»,1892, VIII, 407). «„Презренный“ Сперанский, — сообщает он 23 июля, — опасен в Нижнем, где он находит сочувствующих мартинистов даже в лице представителей высшего духовенства нижегородского, епископа Моисея»[22] (109). Ростопчину очень хотелось заполучить Сперанского в Москву; если этого не произошло, то под его влиянием Сперанский отправляется в Пермь. Борясь с «проповедниками иллюминатства», Ростопчин большое внимание уделяет и иностранцам, проживающим в Москве. Заподозревая их в сочувствии к Наполеону и в шпионстве, он и их подвергает целому ряду кар, смешивая в одну кучу представителей всех наций. Эти иностранцы принадлежали преимущественно к мирному торгово-промышленному классу, экономические интересы которого были связаны с Россией. Несомненно, среди них были сочувствующие Наполеону. Иначе и не могло быть. Но столь же несомненно, что никаких агрессивных действий они предпринимать не могли. Об их лояльности свидетельствует уже сам по себе факт миролюбивого отношения к ним русских. В то время, когда под влиянием положения дел на театре военных действий в Москве определенно уже начинает сказываться беспокойство, когда, по словам Ростопчина, по городу начинают передаваться различные сказки о видениях, о голосах, слышанных на кладбище, и т. п. Одним словом, тогда, когда понемногу (особенно после оставления Смоленска) начинает расти столь понятное тревожное настроение, иностранцы живут в Москве совершенно спокойно. Достаточно привести свидетельство московского патриота С. Н. Глинки (в записке о 1812 г., стр. 92), чтобы в этом увериться. «Я близок был к народу, — пишет автор, — я жил с народом на улицах, на площадях, на рынках, всегда в Москве и в окрестностях Москвы и живым Богом свидетельствую, что никакая неистовая ненависть не волновала сынов России». Московскому властелину подобное отношение к иностранцам со стороны населения не могло нравиться. Ведь это отсутствие патриотизма, а главное, при таких условиях добрые подданные могут прельститься наполеоновскими прокламациями. И граф Ростопчин как бы ставит своей задачей разжечь ненависть к иностранцам, по своему обыкновению не стесняясь никакими мерами.
Ф. В. Ростопчин (Кипренского, 1809 г.)
Ростопчин не желает выпускать иностранцев из России с момента начала войны и решительно предлагает императору для большей безопасности не выдавать иностранцам паспортов (7 июня). Иностранцы, знающие Россию, могут дать полезные сведения Наполеону. Вероятно, и здесь крепостное право играет первую роль. Ростопчину в каждом иностранце мерещится доктор Меливье, который сопровождает Наполеона и уверяет его, что, как только Наполеон появится под Москвой, хотя бы с 50.000 войска, крестьяне восстанут против своих господ, и вся Россия будет покорена (Зап. Боволье, «Р. Ст.», 1893, I, 23). Вредных иностранцев надо выселить из Москвы и, конечно, прежде всего тех, кто заподозрен в «якобинстве», как, например, книгопродавец Алларт, выселить в сибирские города, где они будут безопасны. (Уже Гудович в мае выслал сюда несколько иностранцев). И вот целый ряд московских обывателей из числа иностранцев отправляется в ссылку. 12 июля высылаются, например, Овернер (в Пермь) и Реут (Оренбург). Последний «за дерзкие слова против правительства и карточную игру»; 27 июля наказан плетьми Турнэ и выслан в Тобольск «за внушение разного рода клонящихся к преклонению умов к французам». 19 августа наказан немец портной Шнейдер и француз Токе плетьми, первый 30, а другой 20 ударами и отосланы в Нерчинск за лживые пророчества, что «Наполеон будет обедать в Москве 15 августа» и т. д. Обвинения во всех случаях чрезвычайно однородны. (Из бумаг Московского губернского архива старых дел. Щукин, «Бум. От. В.», I, 152–162).
Вид Моховой и дома Пашкова (Де-ла-Барта)
Скрывались ли под этими обвинениями какие-нибудь реальные факты? Трудно, конечно, ответить определенно, но невольно бросается в глаза натянутость многих обвинений, основанных почти исключительно на непроверенных донесениях ростопчинских шпинов. Например, иностранец Годфроа выслан в Оренбургскую губернию за то, что во время «Высочайшего пребывания… в Москве при большом стечении народа произносил разные дерзкие речи». Припомним внешнюю обстановку этого времени. Неужели мог быть в действительности такой факт? Когда обвинения базируются на более конкретных как бы данных, например, по отношению к швейцарским подданным Веберу и Гейдеру, о которых Тормасов сообщал еще Гудовичу, что эти лица — тайные агенты Наполеона, и тогда сам Ростопчин должен засвидетельствовать, что de facto «в поведении их не открылось ничего подозрительного». Позднее, в 1813 г., когда высланные иностранцы (среди которых были и русские подданные) стали возбуждать ходатайства о своем возвращении, причем в своих ходатайствах указывали, что пострадали без вины, Ростопчин в официальной переписке с Вязмитиновым определенно говорил, что высылка производилась по велению государя. «По представлению моему государю императору, — писал он 27 ноября, — что не дозволено ли будет означенных иностранцев выслать за границу, его величество отозваться соизволил, что мера сия при настоящих обстоятельствах не может быть принята» («Щук. Сб.», I, 162).
Ростопчин, занявший в это время уже иное положение и в общественном мнении и во мнении правительственной власти, любил скрыться за чужой авторитет; он также легко забывал в своих позднейших письмах и воспоминаниях истинное положение вещей в 1812 году. Забыл он, вероятно, и здесь, что он был инициатором запрещения высылки иностранцев. Эти иностранцы в июле и августе 1812 г. были для него мишенью, при посредстве которой, как мы видели, он возбуждал народный пыл и патриотическое рвение. Высылка отдельных иностранцев не достигала, однако, цели. Вот почему для большого эффекта, чтобы произвести большее впечатление, Ростопчин произвел, так сказать, массовую высылку московских обывателей, иностранцев по происхождению. Это, по его словам, он сделал по соображениям высокой степени гуманным, чтобы спасти несчастных иностранцев от народной ярости. Представим, впрочем, говорить самому Ростопчину:
«В одно утро, — повествует граф, — гражданский губернатор Обресков объявил мне, что он сделал весьма важное открытие и привел ко мне портного, русского человека, отличного поведения достаточно немолодого». Этот человек сообщил, что он «лишился сна и пищи, что многие из его учеников точно так же больны, как и он, и что единственное средство против этой болезни — кровь французов»… «Оказалось, — сообщает далее Ростопчин, — что он уже подговорил человек 300 портных и еще надеется к завтрашнему дню подговорить несколько сотен, чтобы ночью идти на Кузнецкий Мост и перебить всех живущих там французов». Далее Ростопчин с большой откровенностью сообщает, как он велел «пустить кровь» инициатору погрома и как он успокоился. Подговоренные же «этим хозяином портные, видя, что он задержан, перестали думать о ночной экспедиции, которая бы окончилась страшным кровопролитием и возмущением» (Воспом., 697).
Кибитка (Совр. рис.)
«Очевидно, этот хозяин-портной был сумасшедший… и что его рассказы о сотнях сотоварищей были простым бредом больного воображения», замечает А. Н. Попов («Р. Арх.», 1875,X, 130). Быть может, весь этот инцидент измышлен гр. Ростопчиным, весьма нередко прибегавшим, особенно впоследствии, для оправдания в своих действиях. Если этот сумасшедший и реальное лицо, то гр. Ростопчин ему, конечно, не поверил. Во всяком случае, по его словам, это и побудило к осуществлению экстраординарной меры в виде массовой высылки подозрительных иностранцев. «Уверившись в народном раздражении, — сообщает Ростопчин, — чтобы его успокоить и смягчить бешенство, я приказал полиции их взять и днем, в виду всех, посадить на барку, которая и отвезла их в Нижний Новгород, где они были отданы под надзор. Я объявил Москве, что эти иностранцы — люди подозрительные, которых удаляют по просьбе их же соотечественников, честных людей». «Эта мера, — заключает гуманный московский главнокомандующий, — спасла жизнь этим 40 плавателям, потому что, вероятно, они последовали бы за французской армией и все погибли бы во время ее отступления». Итак, Ростопчин спас их не только от народной ярости, но и от другой, грозившей им, опасности[23]. Кого же предназначила московская полиция к высылке для «удовольствия» народа, как сообщал Ростопчин Балашову. Это «выборная каналья из каналий», по характеристике Ростопчина в письме к Балашову. Чрезвычайно любопытно, хоть вкратце, познакомиться с составом высылаемых и приписываемыми им проступками. Это прежде всего «типографщик Семен» и книгопродавец Алларт, еще в июне причисленные Ростопчиным к числу «иллюминатов» (о них он писал Александру в своем письме от 7 июля), 14 всякого рода учителей, от фехтования до латинского языка включительно, фабриканты, торговцы модными товарами, немец — бас в оркестре русского театра, режиссер французского театра Домерг и его помощник Роз, доктор Ямниц, повар Вилоэн и т. д. За что же эти злосчастные иностранцы попали на подозрение к полиции? Двое, как мы знаем, числились в «иллюминатах», двое (швейцарские подданные, Гейдер и Вебер) были заподозрены в шпионстве тоже значительно ранее. Было ли это действительно так? Мы знаем одно только, что московский обер-полицмейстер Ивашкин в донесении от 11 января 1813 года сообщал, что полиции в виду указанных обстоятельств было поручено «иметь за ними неослабный под рукою надзор и замечать связи, их сношения, но токмо до времени их высылки подозрительного в поведении ничего не открылось» («Щук. Сб.», I, 153). По отношению к остальным данные имелись еще менее определенные. Учитель фехтования Массон подвергся каре по «худому расположению и некоторым связям подозрительным»; торговец модными товарами Гут за «дерзкое обращение с московской публикой», учитель женевец Файо «по многим замечаниям полиции навлек на себя сильное подозрение». Любопытно, что винный торговец Паоли, зачисленный в число тех, которые, по выражению Ростопчина, «телом остались в России, а душой преданы французам», жил уже 18 лет в России и с 1807 г. принял русское подданство… Может быть, сделанных характеристик достаточно для определения мотивов, которыми руководилась полиция при выборе иностранцев, удаленных из Москвы «для удовольствия народа».
Среди отправленных был Арманд Домерг, оставивший весьма любопытные записки (переведены в «Истор. Вестнике», 1881 г.). Характеризуя время «террора», наступившего после посещения императором Москвы, Домерг, между прочим, сообщает, что как-то за обедом у гр. Апраксина Ростопчин, устремив на Домерга «свои сверкающие глаза», воскликнул: «Я не буду доволен до тех пор, пока не выкупаюсь в крови французов» («И. В.», 1881, VII, 602). Очевидно, Домерг уже попал на глаза грозного усмирителя московской революции, который, по словам автора воспоминаний, «при всяком случае проявлял свой буйный, вспыльчивый и мстительный характер, делавший его страшным даже для самых мирных жителей города». Во всяком случае, имя Домерга в проскрипционных списках стояло «первым в первой категории». Любопытно, что Домерг жил в доме шведского консула. И это, по мнению его родных, должно было ему обеспечить безопасность: «Если я явился в Россию под покровительством власти, то нельзя нарушить международного права без явной несправедливости». «Но, — добавляет автор воспоминаний, — я слишком хорошо знал подозрительную русскую полицию, чтобы иметь на это надежду: каждый день мы видели, как проезжали французы, ссылаемые из Петербурга в Сибирь». Арестованный в числе других, Домерг был заключен в дом Лазарева и 22 августа отправлен на барке по Москве-реке в ссылку; на барке невольным путешественникам было прочитано от имени Ростопчина небезынтересное обращение, содержание которого передает Домерг с добавлением: «ручаюсь за его подлинность»: «Французы![24] Россия дала вам убежище, а вы не перестаете замышлять против нее. Дабы избежать кровопролития, не запятнать страницы нашей истории, не подражать сатанинским бешенствам ваших революционеров, правительство вынуждено вас удалить отсюда. Вы будете жить на берегу Волги, посреди народа мирного и верного своей присяге, который слишком презирает вас, чтобы делать вам вред. Вы на некоторое время оставите Европу и отправитесь в Азию. Перестаньте быть негодяями и сделайтесь хорошими людьми, превратитесь в добрых русских граждан из французских, какими вы до сих пор были; будьте спокойны и покорны или бойтесь еще большего наказания. Войдите в барку, успокойтесь и не превратите ее в барку Харона. Прощайте, добрый путь!».[25]
«Это грозное объявление привело нас в ужас», добавляет Домерг. И действительно, упоминание о Хароне[26] должно было звучать довольно зловеще. «Русский барин» и здесь не позабыл сказать острое словечко. Но французский каламбур: «entrez dans la barque et rentrez dans vous meme», был вовсе «не шуткой», как заметил Глинка, для ссылаемых. Несомненно, вся эта сцена была сплошным издевательством. Глинка, не одобрявший в данном случае действия московского градоправителя, нашел для него оправдание в том, что Ростопчин увлекся «мечтой» — спасения иностранцев от ярости черни. Ясно, что этой «мечты» у Ростопчина не было.
Мы уже приводили свидетельство Глинки об отсутствии у московского населения ненависти к иностранцам — слова Глинки относятся как раз к инциденту с так называемой «хароновской баркой». Домерг в своих воспоминаниях при описании тревожных дней, 20–22 августа, не раз упоминает о тех опасностях, которые грозили высылаемым иностранцам со стороны «народной ярости, которую возбуждали против нас многочисленные шпионы», говорит о «враждебных намерениях» и «угрожающих криках» толпы. В толпе «любопытных», собравшихся посмотреть на необычайное зрелище, вероятно, были элементы, достаточно возбужденные против иностранцев афишами Ростопчина и агитацией шпионов, но любопытно, что из описания самого Домерга более чем очевидно, что «ярость» толпы была весьма умеренна. Когда иностранцы сидели в доме Лазарева, их охранял от «мстительности» народной один полицейский офицер и часовой. «Наконец, уступая нашим требованиям, — говорит Домерг, — начальство согласилось дать нам сменную стражу, состоявшую из шестерых инвалидов». Когда арестантов вели по улице на барку, им, конечно, перепуганным до полусмерти, казалось, что они погибли бы от «народной ярости», если бы их не спас полицмейстер Волков, проявлявший большую предупредительность по отношению к иностранцам и тем как бы смягчавший «неприятное поручение», возложенное на него его шефом. И мы узнаем, что рукопожатие между Волковым, Домергом и Аллартом «мгновенно прекратило шум»: все сорок человек спокойно прошли под прикрытием «шестерых ветеранов». Пока барка медленно плывет «по извилинам обмелевшей Москвы-реки» (на третий день барка отошла только на 40 верст), жены, дети, родственницы по «нескольку раз» навещают невольных путешественников. «Выезжая на рассвете (на извозчиках), эти женщины иногда блуждали по целому дню, пока не находили нашу барку, приезжали к нам вечером и ночью, и ночью должны были возвращаться в Москву». Таково было то народное ожесточение, на которое ссылался Ростопчин. И все дальнейшее описание Домергом путешествия на хароновской барке, продолжавшееся вплоть до 17 октября, идет в том же духе. Путешественники встречают в общем самое добродушное отношение со стороны населения, ходят по деревням под прикрытием двух ветеранов, вступают в разговоры и т. д. «С каждым днем население становилось менее враждебно к нам», замечает Домерг, и «эта перемена становилась тем резче, чем больше мы удалялись от Москвы… народ тут становился свободнее от непосредственного влияния нелепых прокламаций, которые представляли французов людоедами». Домерг отметил только в трех случаях враждебное настроение: впервые пришлось с ним встретиться еще в ростопчинских владениях, в Коломне, куда путешественники попали 1 сентября. Полдня, не возбуждая «подозрения», они бродили по Коломне, но потом на них обратили внимание «некоторые выходцы» из Москвы, весьма возможно, какие-нибудь московские шпионы, и тогда «чернь» стала бросать в них камни. Другой раз у путешественников была неприятная встреча с казаками под Рязанью и, наконец, уже после Нижнего (2 ноября) — с ополченцами. И это было уже тогда, когда Москва находилась во власти французов и сгорела, когда началась эпоха так называемой народной войны и действий партизанских отрядов. Очевидно, что при отправлении из Москвы далеко еще не было той ненависти к иностранцам, которую желал видеть Ростопчин в московском населении.
Возбуждал Ростопчин «патриотизм», понимавшийся им в смысле грубой ненависти к иностранцам, и другими мерами. Среди них, конечно, первое место занимает его пресловутая литературная деятельность. (О ростопчинских афишах см. далее статью Н. М. Мендельсона.) Той же цели служили всевозможные юмористические лубки, вывешиваемые на Никольской у Казанского собора.
При помощи своих агентов Ростопчин пускал в народ всякого рода слухи, долженствовавшие поддерживать воодушевление и ослаблять впечатление от пессимистических известий, идущих с театра военных действий. Таковы, напр., распускаемые им слухи о том, что «теперь (т. е. после заключения мира) турки будут заодно с нами» (сообщается в письме к Александру 11 июня). В целях «патриотической» агитации, помимо услуг незначительных агентов полиции, Ростопчин воспользовался услугами С. Н. Глинки. Этот наивный патриот был слепым орудием Ростопчина. И как нельзя более характерно для личности Ростопчина, что в своих воспоминаниях «спаситель отечества» даже не упомянул о роли Глинки, а между тем последний был самым верным, самым бескорыстным, самым искренним исполнителем велений московского главнокомандующего. Может быть, только непосредственное вмешательство Глинки, действительно пытавшегося приблизиться к народу, придавало некоторый хотя бы авторитет и веру у московских обывателей в того «русского барина», который вдруг заговорил с населением не барственным языком.
Но Ростопчин, взявший на себя роль народного трибуна, сам чрезвычайно не доверял народу, как мы уже могли убедиться и как убедимся в дальнейшем. Поэтому и близость Глинки к народу способна была вызвать в нем недоразумения. Глинка с неподражаемой наивностью заметил: «не знаю, почему приказано было за мной присматривать» (Попов, «Р. Ар.», 1875, VII, 301). Это было в момент приезда государя в Москву. Восторженный Глинка с толпой «любопытных», по характеристике Ростопчина, пошел за город встречать царя. Царь не приехал. Глинка видел, что народ разошелся с «сокрушенным сердцем». Его патриотизм был грубо задет и он предложил напечатать что-нибудь «одобрительное» народу. За это он и попал на подозрение Ростопчина. Сущность демагогии Ростопчина здесь выступает особенно ярко. Интересно, достигала ли она какой-нибудь цели? Ростопчин был уверен, что московский люд его чрезвычайно любит: «наш граф» — таково по мнению Ростопчина было мнение народа о нем. «Могу вас уверить, — писал позднее (28 апр. 1813 г.) Ростопчин Воронцову, — что Магомет был менее любим и уважаем, нежели я в течение августа месяца и все достигалось словом, отчасти шарлатанством» («Р. Арх.», 1908, VI, 27). Глинка тоже свидетельствует о влиянии Ростопчина, поставившего «себя на чреду старшины мирской сходки»; «в дружеских своих посланиях он беседовал с обывателями, как заботливый и приветливый друг». Но мы встретили и другие мнения современников. Может быть, наиболее характерным являются мнения Маракуева, городского головы г. Ростова (Ярославского). Он резко осуждает демагогию Ростопчина. «Глупые афиши Ростопчина, писанные наречием деревенских баб, совершенно убивали надежду публики», свидетельствует Маракуев (цитирую по «Пожару Москвы»). Мало того, по словам современника-наблюдателя, «неудачные эти выдумки его вызывали презрение, а чернь неизвестно за что питала к нему величайшую ненависть» (Ib., 34).
Вид Тверской улицы (Ф. Алексеев. Акварель из Эрмитажного Собрания)
Следует обратить внимание на это указание. Сопоставим его с показанием другого современника, кн. П. А. Вяземского, утверждавшего, что Ростопчина «влекло к черни», что он «чуял, что мог бы над нею господствовать». По мнению Вяземского, из Ростопчина мог бы народиться «народный трибун». Показание кого из этих современников отдать предпочтение? Мы думаем — Маракуеву. И не показывает ли это в таком случае, что подчас народная масса отличается большим психологическим чутьем — она, может быть, инстинктивно угадывала всю фальшь ростопчинской демагогии. В самом деле, до занятия Москвы французами, до непосредственного, так сказать, столкновения московского населения с врагом, конкретные результаты демагогической деятельности Ростопчина могли проявляться в актах насилия и ненависти по отношению к мирным и безоружным иностранцам. Но мы уже цитировали свидетельство Глинки, приводили и характерные обстоятельства, сопровождавшие отправление «хароновой барки». Правда, в переписке современников мы встретимся и с другими указаниями. В этом отношении интересна переписка Волковой с Ланской, отмечающая проявление вражды населения к иностранцам. «Я много ожидаю, — пишет Волкова 22 июля, — от враждебного настроения умов. Третьего дня чернь чуть не побила камнями одного немца, приняв его за француза» («Р. Арх.», 1872, 2384). «Народ так раздражен, — сообщает она 15 августа, — что мы не осмеливаемся говорить по-французски на улице. Двух офицеров арестовали: они на улице вздумали говорить по-французски; народ принял их за переодетых шпионов и хотел поколотить, так как не раз уже ловили французов, одетых крестьянами или в женскую одежду, снимавших планы, занимавшихся поджогами и предрекавших прибытие Наполеона, — словом, смущавших народ». Более чем очевидно, что Волкова пишет по слухам, пишет со слов Ростопчина (с которым Волкова знакома домами).
О возможности подобных фактов, конечно, можно не сомневаться, в особенности по отношению к шпионам. И число таких фактов должно было расти по мере приближения военных действий к Москве, по мере распропагандирования темной массы ростопчинской агитацией. Но такие факты, — факты действительные были немногочисленны. Ростопчин, вероятно, не преминул бы о них рассказать. На деле, кроме появления сумасшедшего купца и избиения толпой двух ремесленников, немцев, поспоривших с менялой, он ничего не может сказать. И тот факт, на котором он с самодовольством останавливается, чтобы показать свое влияние на московскую толпу, имеет место накануне Бородинской битвы, т. е. тогда, когда тревожное настроение Москвы достигает уже значительных размеров[27]. Явившийся к месту происшествия Ростопчин спас «неосторожных немцев» от разъяренной толпы, дав «сильнейшую пощечину» мелкому купчику, с решимостью заявившему графу: «пора народу действовать самому, когда вы отдаете его в жертву иностранцам». «Страсть к сценическому искусству, — замечает Попов, — ярко выражается в этом рассказе». Толпа, «очевидно, не была особенно возбуждена, когда квартальному надзирателю удавалось в продолжение нескольких часов оградить от ее нападений неосторожных немцев» («Р. Арх.», 1875, X, 135). И тут же мы найдем другой рассказ (Рунича), говорящий о том, как после Бородинской битвы «жители Москвы толпами выходили навстречу раненым, приносили им белый хлеб и деньги, не делая различия между русскими и пленными»… («Р. Ст.», 1901, III, 601). И, по-видимому, из этого можно заключить, что в это время московская толпа стояла гораздо выше своего официального руководителя, в ней было гораздо больше здорового патриотизма, чем у просвещенного графа Ростопчина.
Последний все свои меры до Бородинской битвы объясняет необходимостью «поддержания спокойствия в городе». Он хотел «рассеять и занять внимание в народе». Отвлечь внимание народа он хочет в сущности только от одного — скажем в данном случае словами Волковой (в позднейшем письме 11 ноября): «Москва действовала на всю страну, и будь уверена, что при малейшем беспорядке между жителями ее все бы всполошилось. Нам всем известно, с какими вероломными намерениями явился Наполеон. Надо было их уничтожить, восстановить умы против негодяя, и тем охранить чернь, которая везде легкомысленна» (Ib., 2413).
Бегство жителей из Москвы (Картина акад. Лебедева, написанная специально для издания)
Устранив возможность социальной революции и подняв патриотическое чувство, Ростопчин чувствовал себя в Москве довольно спокойно. До последних дней он, конечно, не разделял мнения, высказанного Глинкой еще на дворянском собрании 15 июля; что «сдача Москвы будет спасением России и Европы». А между тем тревожное настроение в Москве понятно росло. «Спокойствие покинуло наш милый город. Мы живем со дня на день, не зная, что ждет нас впереди. Нынче мы здесь, а завтра — Бог знает где», пишет Волкова 22 июля. «Мы же, москвичи, остаемся по-прежнему в неведении касательно нашей участи, — сообщает она через неделю. — Лишь чуть оживит нас приятное известие, как снова слышим что-либо устрашающее» (Ib., 2385).
«Узнав, что наше войско идет вперед, а французы отступают, москвичи поуспокоились. Теперь реже приходится слышать об отъездах», сообщает она 5 августа. Но вести о занятии Смоленска «огромили Москву», как выразился Глинка («Записки 1812 г.», 32). «Здесь большая суматоха. Люди мужского и женского пола убрались, голову потеряли; все едут отсюда», сообщает Булгаков своему брату 13 августа («Р. Арх.», 1900, V, 32). Самоуверенный и беспечный Ростопчин боролся с этой паникой, забавляя народ своими выдумками и смеясь над теми, кто проявлял, по его мнению, преждевременную трусость.
П. А. Обресков
«Некоторые оставляют Москву, — пишет он Багратиону по получении известия о сдаче Смоленска, — чему я чрезвычайно рад; ибо пребывание трусов заражает страхом, а мы болезни сей здесь не знаем». «Здесь, — добавляет Ростопчин, — очень дивились бездействию наших войск» (Богданович, III. Прим. 64–65). В это время Ростопчин, как мы уже знаем (см. статью Барклай и Багратион, III ч.), был вполне солидарен с Багратионом: неуспех войны объясняется бездарностью главнокомандующего. «Кутузов, — сообщает своему брату доверенный Ростопчина Булгаков (13 августа), — все поправит и спасет Москву. Барклай — туфля, им все недовольны, с самой Вильны он все пакостит только» («Р. Арх.», 1900, V, 32). «Я поклянусь, что Бонапарту не видать Москвы». Эта уверенность не оставляет друзей Ростопчина и позже. Она с очевидностью свидетельствует, что той же точки зрения держался и сам Ростопчин, который впоследствии все свое поведение, приведшее к весьма печальным результатам, объяснял желанием предотвратить беспорядки в Москве.
«Мы здесь покойны. Барклай, наконец, свалился», сообщает брату Булгаков 21 августа. Свербеев в своих воспоминаниях отмечает ту же твердую уверенность у губернатора Обрескова, который по родственным отношениям не раз, вплоть до 1 сентября, писал отцу Свербеева, чтобы «он был спокоен и ничего не предпринимал для спасения имущества в нашем московском доме» (I, 439). Несмотря на все подобные уверения, московская публика не могла пребывать в спокойствии, тем более, что до нее доходили известия о панике в Петербурге, где «по секрету» из Эрмитажа и дворцов укладывались вещи для отправки в Ярославль. Ростопчину, в свою очередь, по высшему предписанию приходилось озабочиваться спасением казенного имущества. Московская публика узнает, конечно, о том, как энергично озабочивается императрица Мария Федоровна еще с начала августа о вывозе из Москвы воспитанниц институтов и Воспитательного Дома (Рескрипт Ростопчину 22 августа. Щукин, «Бумаг. От. В.», VIII, 340)[28]. С 15 августа начинается и вывоз казенного имущества Ростопчиным. Вместе с тем усиливается и бегство населения, которое идет crescendo по мере роста опасности занятия французами Москвы. Однако Ростопчин все настойчиво продолжает твердить, что только «женщины, купцы и ученая тварь (характерное выражение для просвещенного „русского барина“) едут из Москвы». Так он сообщает Балашову 18 августа. Ростопчин забывает сказать о дворянстве, которое в первую очередь устремилось из столицы. И тут же Ростопчин делает свое знаменитое объявление (18 августа). «Здесь есть слух… что я запретил выезд из города. Тогда на заставах были бы караулы…. А я рад, что барыни и купеческие жены едут из Москвы… Я жизнью отвечаю, что злодей в Москве не будет». Затем идет обещание вывести «сто тысяч молодцов» и при помощи Иверской Божьей Матери кончить «дело» (см. ст. Мендельсона). И хотя Ростопчин уверенно говорит, что препятствий для выезда из Москвы он не чинит, однако в тот же день отдает, по словам Бестужева-Рюмина («Чтения», 1859, II, 79), письменное приказание московскому магистрату, чтобы он «людям купеческого и мещанского сословия не давал уже паспортов о выезде их из Москвы, кроме жен их и малолетних детей». Но Ростопчин здесь уже не мог обмануть публику, и кто только имел возможность, покидал Москву.
Пресненские пруды (Альбом нач. XIX в.)
Впоследствии это оставление столицы многим рисовалось даже как своего рода сознательный патриотический подвиг. Оно приписано было мудрым мерам Ростопчина, который «удалил всю московскую знать в виду ее приверженности к французам, благодаря воспитанию» (Рунич). Так рисовалось много лет спустя некоторым из современников, но не такими побуждениями руководились московские жители в середине августа. Здесь действовал просто инстинктивный страх, бежали, «куда Бог поведет», по словам Глинки, не руководясь никакими обдуманными целями и не думая о последствиях. Бежал, кто мог, кто был посостоятельнее, забирая с собой что было можно из имущества. Оставление Москвы и вывоз имущества было затруднено отсутствием достаточных средств передвижения. «В городе почти не осталось лошадей», сообщает Волкова уже 15 августа. Если мы примем во внимание, что, помимо поставки лошадей в армии, девять уездов Московской губернии с 15–30 августа должны были выставить 52.000 подвод для казенной надобности, то будет очевидно, что для удовлетворения нужд обывателей оставалось слишком мало. Естественно, что цены на подводы возросли до колоссальных размеров. Уже 15 августа лошадь на расстоянии 30 верст стоит 50 руб., в последние дни цена на подводу увеличивается в 20 раз и более (вместо 30–40 руб. — 800 руб.). Как всегда бывает при панике, отъезд происходил бестолково, берут из имущества, что попадает под руку. И понятно, что в описании всех современников картина бегства из Москвы получается чисто «карикатурная» (Вигель). «Окрестности Москвы, — пишет Волкова 15 августа, — могли бы послужить живописцу образом для изображения бегства Египетского. Ежедневно тысячи карет выезжают во все заставы». Конечно, эта суматоха с каждым днем увеличивается и после Бородина по официальным сведениям, собранным самим Ростопчиным, число берлин, карет, бричек, колясок, ежедневно выезжающих из Москвы, доходит до 1.320. Два-три штриха из записок современников дадут яркую картину этого «бегства Египетского». Мы приведем выдержку из описания Вигеля («Записки», IV, 61–62), относящихся к последнему дню, т. е. ко 2 сентября: «приближаясь к заставе, для всех уже открытой, толпы людей становились все гуще и гуще; против же ее с трудом мог он (брат Вигеля) подвигаться вперед посреди плотной массы удаляющихся. Беспорядок являл картину единственную в своем роде, ужасную и вместе с тем несколько карикатурную. Там виден был поп, надевший одну на другую все ризы и державший в руках узел с церковной утварью, сосудами и прочим; там четвероместную тяжелую карету тащили две лошади, тогда как в иные дрожки впряжено было пять или шесть; там в тележке сидела достаточная мещанка или купчиха в парчевом наряде и в жемчугах, во всем, что не успела уложить: конные, пешие валили кругом; гнали коров, овец; собаки в великом множестве следовали за всеобщим побегом».
Аналогичное описание мы найдем у Свербеева (I, 71). В последние дни заставы открыты для всех. Первоначально оставление Москвы — это своего рода привилегия дворянства и отчасти других наиболее имущественно обеспеченных слоев московского населения. Естественно, что при таких условиях «выезд из Москвы крайне сердил и раздражал народ» (Глинка). Мы встречаемся с многочисленными указаниями на то, что народ «с дерзостью роптал на дворян, Москву оставляющих» (Мертвого, «Р. Арх.», 1867, 316). Свербеев рассказывает, как их «поезд» ратники каширского ополчения сопровождали угрозами и бранью «изменниками и предателями» (I, 72). Бестужев-Рюмин в своем повествовании (18 августа) говорит, что эти люди, которые не имели нужды просить особенных паспортов, удаляясь из Москвы, находили в пути своем большие неприятности или, лучше сказать, были в величайшей опасности от подмосковных крестьян. Они называли удалявшихся трусами, изменниками и бесстрашно кричали вслед: «куда, бояре, бежите вы с холопами своими? Али невзгодье и на вас пришло? И Москва в опасности вам немила уже?» «Удалявшиеся вынуждаемы были хозяевами дворов, у которых останавливались, платить себе за овес и сено втридорога, и, сверх того, просто за постой не по пять копеек с человека, как то обыкновенно платили, но по рублю и более и беспрекословно должны были повиноваться сему закону, если не хотели сделаться жертвой негодования против своего побега освирепевшего народа. Многие из удалявшихся из Москвы на своих собственных лошадях возвращались опять в Москву пешком, лишившись дорогой и лошадей своих с экипажем и имущества» (Чт., 1859, II, 79). Точно такой же рассказ найдем мы и у Толычевой («Р. Арх.», 1877, VII, 363) и т. д.
Бестужев-Рюмин эту ненависть к отъезжающему дворянству ставит в непосредственную связь с запрещением Ростопчина выпускать московских жителей, принадлежащих к непривилегированным сословиям. Несомненно, этому должна была содействовать и вся ростопчинская демагогия. Любопытная черта для дворянского публициста, слишком увлекшегося взятой на себя ролью спасителя отечества… И не даром Карамзин читал ростопчинские афиши «с некоторым смущением»; не даром их «решительно не одобрял» в то время либеральный кн. П. А. Вяземский «именно потому, что в них бессознательно проскакивала выходка далеко не консервативная». Правительственным лицам, по мнению Вяземского, «вообще не следует обращаться к толпе с возбудительной речью: опасно подливать масла на горючие вещества» («Р. Арх.», 1874, XI, 72). Читал Вяземский в афише: «хватайте в виски и в тиски и приводите ко мне, хоть будь кто семи падей во лбу»… Кого же подразумевать под последним? «Ничего иного, — замечает Вяземский, — означать не могут, как дворян, людей высшего разряда». И Вяземский готов приветствовать гибель Москвы — только русский Бог да пожар спас ее от «междоусобицы и уличной резни». Совершенно понятно, что «народ, обороняться готовящийся, с дерзостью роптал на дворян, Москву оставляющих», так как авторитетные разъяснения московского главнокомандующего могли массе внушить определенное убеждение, что столице не грозит никакой опасности: 18 августа Ростопчин так уверенно говорил, что в нашей армии 130 т. войска славного и 1800 пушек, а у неприятелей «сволочи» 150 т. Кроме того, у самого Ростопчина «дружины московской» «сто тысяч молодцов», да «150 пушек». Ведь этими разговорами Ростопчин обманул не только московское население, но и самого Кутузова.
Яузский мост и дом Пашкова (Де-ла-Барта)
Впоследствии Ростопчин всю свою деятельность в этом направлении объяснял желанием предупредить беспорядки. Но, вне сомнения, в то время московский властелин не допускал мысли о возможности оставления Москвы и, пожалуй, самым серьезным образом думал в крайности защитить ее своими средствами. Это было самообольщение, вызванное обычным для Ростопчина бахвальством и самоуверенностью. Много раз в письмах официальных и частных Ростопчин говорит о невозможности сдачи Москвы. «Народ московский умрет у стен московских, а если Бог не поможет — обратит город в пепел», пишет он Багратиону еще 12 августа. Ростопчин согласен скорее потерять армию, чем «потерять Москву», ибо «с потерей Москвы соединена потеря России», говорит он Кутузову 17 августа. «Каждый из русских, — сообщает он тому же лицу, — полагает всю силу в столице и справедливо почитает ее оплотом царства» («Р. Ст.», 1870, 553). Он предупреждает тут же Кутузова, что в случае несогласия он будет действовать один в Москве. С чьей же помощью? С теми «решительными» молодцами, которыми хвалился Ростопчин? Может быть. Но чрезвычайно характерно, что Ростопчин, взявший на себя роль народного трибуна, до последнего момента не верит и боится того народа, с которыми он надеется отразить французов.
Накануне Бородина Ростопчин объявляет: «Вы, братцы, не смотрите на то, что правительственные места закрыли: дела прибрать надобно, а мы своим судом с злодеем разберемся… Я клич кликну дня за два, а теперь не надо, я и молчу». Но более чем понятна тревога остающегося в Москве населения. Оно искренно готово защитить Москву. Для этого надо вооружиться. Правда, если поверить главнокомандующему, достаточно топора, рогаток, а «всего лучше вилы-тройчатки: француз не тяжелее снопа ржаного». Вряд ли, однако, даже самый наивный обыватель из самой темной среды верил ростопчинским прибауткам в то время, когда Москва была переполнена ранеными, прибывавшими, по словам Ростопчина, «ежедневно тысячами». Народонаселение думало о более серьезном вооружении. И граф Ростопчин шел к нему навстречу: в «Московских Ведомостях» появляется объявление: «Дабы остановить преступное лихоимство[29] купцов московских, которые берут непомерную цену за оружие, необходимое для вступивших в ополчение против врага, он, главнокомандующий, открыл государственный цейхгауз, в котором будет продаваться всякое оружие дешевою ценою». Любопытнейшее пояснение делает к этому объявлению Бестужев-Рюмин: «действительно, цена продаваемому оружию из арсенала была очень дешева, ибо ружье или карабин стоил 2 и 3 рубля; сабля 1 рубль, но, к сожалению, все это оружие к употреблению не годилось, ибо ружья были или без замков, или без прикладов, или стволы у них согнутые, сабли без эфесов, у других клинки сломаны, зазубрены». Затем Ростопчин пошел и дальше. В день Бородинской битвы народу открывается арсенал для бесплатной раздачи оружия, боевое качество которого довольно образно представил только что процитированный современник москвич. Раздача оружия была обставлена самым торжественным образом. Один из очевидцев дал картинное описание театральной сцены, разыгравшейся в Кремле 26 августа на Сенатской площади («Моск. Вед.», 1872, № 52. Цитирую по Попову. («Р. Арх.», 1875, X, 170)). Ростопчин постарался придать ей самый помпезный характер, вызвав для этой цели из Троице-Сергиевской лавры самого престарелого митрополита Платона. «За колокольней Ивана Великого, — рассказывает этот очевидец, — был воздвигнут амвон»; сюда были вынесены иконы из соборов и отслужен молебен в присутствии генерал-губернатора. По окончании молебна один из дьяконов стал рядом с ним (Платоном), чтобы говорить от его имени, потому что он сам уже был не в силах возвысить свой слабый голос. Пастырь умолял народ не волноваться, покориться воле Божией, доверяться своим начальникам. Митрополит плакал. Его почтенный вид, его слезы, его речь, переданная устами другого, сильно подействовали на толпу. Рыдания послышались со всех сторон. «Владыка желает знать, — продолжал дьякон, — насколько он успел вас убедить. Пускай все те, которые обещают повиноваться, становятся на колени». Все стали на колени… Граф Ростопчин выступил вперед и обратился, в свою очередь, к народу, «как скоро вы покоряетесь воле императора, я объявляю вам милость государя. В доказательство того, что вас не выдадут безоружными неприятелю, он вам позволяет разбирать арсенал: защита будет в ваших руках». В этом рассказе гр. Ростопчин стоит как живой.
Бегство жителей Москвы перед нашествием Наполеона (карт. проф. Сверчкова)
С какой же целью была инсценирована эта обстановка? Тот же современник говорит: «граф Ростопчин боялся мятежа. Кроме того, он не успел еще принять надлежащих мер и вывезти из города арсенал, которого не хотел оставить в руках неприятеля». Мы уже знаем, какая рухлядь раздавалась ранее из арсенала. Историки подчеркивают, что другого оружия и не было. И тем как-будто отчетливее вырисовывается вся буффонада, придуманная Ростопчиным, — буффонада с защитой Москвы негодным для употребления оружием. Но последнее еще требует проверки. Мы имеем и противоположное свидетельство: «Весь арсенал, — писал И. М. Капцевич Аракчееву 6 сентября, — и прекрасные новые ружья достались неприятелю». (То же самое свидетельствовал и Наполеон в письме к Александру I, перечисляя имущество, оставленное в Москве). И если это так, то демагогия Ростопчина получает уже другое освещение… Таким образом, собираясь со своими «молодцами» защищать Москву, Ростопчин им не верил. Зато, по-видимому, большие надежды возлагал он на другое средство — на воздушный шар, старательно делавшийся под Москвой иностранцем Леппихом. Шар этот послужил впоследствии поводом бесконечных рассуждений в связи с вопросом о пожаре Москвы (см. соответствующую статью). Вне всякого сомнения, что правительство возлагало серьезные надежды на изобретение, предложенное Леппихом. Сам же Леппих, вероятно, принадлежал к числу прожектеров-аферистов.
Бородинская битва (Совр. гравюра)
Разъезжая по Европе с изобретенным им музыкальным инструментом «панмелодином», Леппих в Париже предложил Наполеону проект о воздушном шаре, который «мог бы поднимать такое количество разрывных снарядов, что посредством их можно было бы истребить целые армии». Наполеон удалил прожектера из Франции. Весной 1812 г. Леппих предложил свои услуги русскому правительству через Аллопеуса, посланника при Штутгартском дворе. Румянцев сообщил Аллопеусу, что император желает «как можно скорее воспользоваться важным изобретением, которое обещает важные последствия». С самого начала предположения Леппиха были облечены глубокой таинственностью. Д. Н. Свербеев в бумагах губернатора московского Обрескова нашел два секретных письма, написанных лично Обрескову. «Вручитель этого, — писал Александр в начале июля, — иностранец Шмидт, объявит вам причину, по которой посылается мною в Москву. Храните ее под завесой непроницаемой тайны не только от московских жителей, но и от главнокомандующего фельдмаршала графа Гудовича. Поместите Шмидта где-нибудь около Москвы и давайте все средства к исполнению его предприятия. Пребывание его у вас дайте предлогом фабрикации земледельческих орудий, или чего другого. Все сношения со мной лично по этому предмету ведите через обер-гофмаршала гр. Николая Александровича Толстого, адресуя ваши ко мне донесения на его имя» (Свербеев, т. I, 444). Письмо это не оставляет никаких сомнений в серьезности правительственных надежд, и Леппиха, под именем Шмидта, поместили в Тюфелевой роще за Симоновым монастырем, снабдив всеми материалами и необходимым контингентом рабочих. С появлением в Москве Ростопчина Обрескову было разрешено сообщить новому главнокомандующему «весь ход дела» (второе именное письмо императора Обрескову). Ростопчин отнесся к проекту Леппиха с подобающей серьезностью, как свидетельствует его переписка по этому поводу с Александром. «Можно ли вполне положиться на него (Лепппха), чтобы не подозревать измены с его стороны, что он не обратит этого открытия в пользу ваших врагов», спрашивал Ростопчин императора в письмах от 11 июня, и восхваляя за несколько дней перед тем Леппиха, как «хорошего и способного механика». Впоследствии Ростопчин по своему обыкновению от всего этого отказался. В своей «Правде о московском пожаре» Ростопчин именует Леппиха «шарлатаном», который требовал, чтобы «его работа сохранялась втайне». «История, — писал Ростопчин, — уже слишком много придала значения этому шару, для того только, чтобы выставить русских в смешном виде… Конечно, никто бы из жителей Москвы не поверил, что Шмидт с „такого шара… уничтожит французскую армию“»[30]. Таково было позднейшее объяснение Ростопчина, когда он старался всеми мерами показать, что не имел решительно никакого отношения к московскому пожару. История с воздушным шаром действительно приобрела несколько «смешной вид». Ростопчин верил в шар до последнего момента. В письмах к Александру он систематично сообщает о «воздушном предмете», вверенном его попечению, т. е. «о машине Леппиха». Ростопчин присутствует при всех опытах и сообщает императору, что он совершенно уверен в успехе (30 июня). Ростопчин в начале августа по предписанию императора озабочивается набором военной команды для той же машины, которая будет окончена 15 августа.
Извозчик (Paul Barbier)
С Леппихом в мастерской работает 100 человек «17 часов в день». «В этом изобретении, — сообщает Ростопчин императору, — ваша слава и спасение Европы». «Я днем и ночью буду содержать сильную стражу, чтобы никого не пропускали». Ясно, что Ростопчин возлагал большие надежды на изобретение Леппиха. Отсюда и таинственность на первых порах. Процитированные ранее письма и распоряжения Александра не оставляют сомнения, что те же надежды питал и Александр. Император 8 августа самым детальным образом указывает Ростопчину, какие меры надо предпринять при первом полете, чтобы «не попасть в руки неприятеля», чтобы избежать «неприятельских шпионов» и чтобы шар соображал свои действия с действиями главнокомандующего, который уже предупрежден императором… Если верить Аракчееву, то и он знал о Леппихе, но относился весьма отрицательно к этой затее, как и к другим прожектерам, в большом количестве появившихся ко времени войны. В «Воспоминаниях о селе Грузине» Л. Языков со слов Аракчеева передает интересные диалоги по этому поводу между Аракчеевым и Александром: «В 1812 г., когда Наполеон приближался к Москве, и страх был всеобщий, император Александр мне сказал: „Ко мне явился некто, предлагающий вылить пули, наверно попадающие: дай ему средства делом заняться“. Я осмотрел пулю, позволил себе сказать: „Вы, верно, хотите похристосоваться с вашею армией и подарить каждому солдату по чугунному яйцу? Поверьте, государь, этот изобретатель обманщик: пуля по своей форме далеко и метко лететь не может“. На это император мне сказал: „Ты глуп“. Я замолчал, дал прожектеру что-то делать и забыл о том. Вскоре затем император вновь меня призвал и сказал: „Явился человек, который хочет строить воздушный шар, откуда можно будет видеть всю армию Наполеона, отведи ему близ Москвы удобное место и дай средства к работе“. Я вновь позволил себе сделать возражение о нелепости дела и вновь получил ответ: „Ты глуп“. Прошло немного времени, как мне донесли, что изобретатель шара бежал. С довольным лицом предстал я пред императором и донес о случившемся, но каково было мое удивление, когда император с улыбкой сказал мне: „Ты глуп. Для народа такие меры в известных случаях нужны, такие выдумки устанавливают легковерную толпу хотя на малое время, когда нет средства отвратить беду. Народ тогда толпами ходил из Москвы на расстояние 7 верст к тому месту, где готовился шар… Народ, возвращаясь домой, рассказывал, что видел своими глазами, как готовится шар на верную гибель врага и тем довольствовался“» («Р. Арх.», 1869, IX, 1467). Можно ли поверить, что действительно Александр держался такой точки зрения на леппиховское изобретение? Нет, если беседа Аракчеева с Александром не вымышлена, то она показывает, что Александр старался и от Аракчеева скрыть истину. Самолюбивому Александру, вероятно, было неприятно, что он так легко поверил «шарлатану». Ведь в это время обнаружилась уже полная несостоятельность опытов с воздушным шаром, о предварительных успехах которых неоднократно доносил Ростопчин императору. И Александр желал дать другое объяснение, показать, что он никогда не верил затее Леппиха, т. е. в данном случае Александр поступал совершенно так же, как впоследствии поступал Ростопчин. Несомненный факт, что приготовление шара тщательно скрывали. И о нем в московском обществе узнавали только случайно — через посредство тех лиц, которые помогали Леппиху. Так, напр., узнал об изготовлении шара студент Шнедер, который благодаря своему знакомству даже попал на дачу Леппиха и которому объяснили, что делается «воздушный шар, который движением посредством крыльев можно направлять по произволу. Он поднимет ящики с разрывными снарядами, которые, будучи сброшены с высоты на неприятельскую армию, произведут в ней страшное опустошение». (Приложение к статье Попова, «Р. Арх.», 1875, IX, 44).
Только тогда, когда шар был почти готов, Ростопчин решил поведать о нем московскому населению. «Леппих окончил маленький шар, который поднимает пять человек. Завтра будет опыт, о чем я известил город», сообщает Ростопчин Александру 23 августа. Объявление московского главнокомандующего, конечно, не могло не заинтересовать московского населения. Если некоторые отнеслись несерьезно к объявлению Ростопчина (напр., Глинка, который говорит, что шар строили «к заглушению мысли о предстоящей опасности»), то другие представители образованного общества «верили от души», как замечает Бестужев-Рюмин: «я говорил о воздушном шаре с одним вельможею, сенатором, которого имени не хочу назвать; он был точно уверен, что воздушный шар истребит неприятельскую армию, и доказывал, уверяя честью своею, что уже сделана проба и собрано было стадо овец, над которым поднялся шар с тремя человеками, и стадо истреблено». К сожалению, сенатор слишком верил «разгульной молве». Из опыта с маленьким шаром ничего не вышло, как «с прискорбием» извещал Ростопчин императора 29 августа: «шар не поднимал и двух человек». «Леппих, — заключил Ростопчин, — сумасшедший шарлатан». К такому выводу Ростопчин пришел только в самый последний момент, когда в виду вступления французов в Москву пришлось и Леппиха, и его шар отправлять из города.
С неудачей Леппиха рушилась и надежда Ростопчина. Трудно, конечно, сказать, насколько верил Ростопчин в возможность нового сражения под Москвой, когда писал Александру 29 августа: «Я сделаю все возможное, как и всегда делаю, чтобы доставить князю Кутузову средства одержать победу над чудовищем, который явился для разрушения престолов и уничтожения народов. Москва будет стоить ему много крови, прежде нежели он в нее войдет». Здесь скорее сказывалось обычное хвастовство Ростопчина. Слишком развязно давая обещания и действительно мороча ими всех своих корреспондентов, Ростопчину оставалось только до конца вести политику самообмана и тем самым сложить ответственность на других: «И когда меня не будет, — писал Ростопчин в том же письме, — живой или умирающий, я постоянно сохраню одно желание, чтобы вы разубедились в людях, удостоенных вашей доверенности и своею глупостью, неспособностью или вероломством приведших вас на край пропасти».
В последние дни в Москве, естественно, царит паника. Уезжают все, кто только может. Ростопчин должен принимать экстренные меры к вывозу казенного имущества, к отправке раненых, которые в огромном количестве скапливаются в Москве после Бородина и т. д. Но и здесь энергия Ростопчина проявляется совсем в другом направлении. Ростопчин, упрекавший московское общество в шпиономании, готов каждого заподозрить в измене. Ему кажется, что «якобинцы» подговаривают дворян остаться в Москве. Он готов заподозрить в измене чуть ли не весь состав правительствующего сената.
Сенат, не получавший никаких предписаний из Петербурга, в ночь на 30 августа послал нарочного в Петербург и ожидал распоряжений министра юстиции. Но гр. Ростопчин признавал только одну свою власть — и без всяких разговоров 30 августа адъютант Ростопчина явился в сенат и приказал от имени Ростопчина закрыть заседания и «немедленно выехать из Москвы». «Я весьма заботился, — объяснял Ростопчин в „записках“ свой поступок, который, по его собственному признанию, впоследствии считали деспотическим, — чтобы ни одного сенатора не оставалось в Москве и чтобы тем лишить Наполеона средства действовать на губернии посредством предписаний или воззваний, выходивших от сената… Таким образом я вырвал у Наполеона страшное оружие, которое в его руках могло бы произвесть смуты в провинциях, поставив их в такое положение, что не знали бы, кому повиноваться».
Однако, если ограничиться исключительно лишь объяснениями одного Ростопчина, то будет ясно, что истинная причина негодования Ростопчина на сенат, крылась совсем в другом. Ростопчин, по его словам, узнал, что трое сенаторов, принадлежащих к «партии мартинистов» (Лопухин, Рунич, Кутузов), «предложили послать депутацию в главную квартиру, чтобы узнать от главнокомандующего — не в опасности ли находится Москва и пригласить меня в сенат, чтобы я сообщил сведения о способах защиты и о мерах, какие я намереваюсь предпринять в настоящих обстоятельствах. Вся эта проделка была делом самолюбия, и сенат хотел присвоить себе право верховной власти». Давать отчет кому-либо Ростопчин вовсе не намеревался, тем более, что его хвастливые обещания не могли найти решительно никакой конкретной поддержки в фактическом положении вещей. И пока «честные люди и мартинисты рассуждали, как отнестись со своими требованиями» к Ростопчину и «отправить депутацию на главную квартиру», Ростопчин своей административной властью разрешил все недоумения, предупредив, что «в случае неповиновения» «он» немедленно под хорошей стражей увезет «всякого сенатора, который будет упорствовать остаться в Москве». Таким образом и здесь Ростопчин нашел повод выставить себя мудрым спасителем отечества, сумевшим вовремя прервать интригу «мартинистов», хотевших «убедить своих товарищей не оставлять города, представляя этот поступок, как долг самопожертвования»… а в действительности имея «намерение», оставаясь в Москве, «играть роль при Наполеоне» (Зап., 712). Надо ли выяснять, что все это явилось плодом вымысла ростопчинской фантазии в более позднее время, когда его «деспотизм» далеко уже не встречал одобрения в правительственных кругах, когда и его героизм у современников отчасти был поставлен под подозрение.
30 августа, когда происходила сцена с удалением из Москвы сенаторов, Ростопчин, вероятно, уже не думал о защите Москвы. Ночью он получил уведомление от Кутузова, что «Наполеон отделил от своих войск целый корпус, который двинулся по направлению к Звенигороду». «Неужели не найдет он свой гроб от дружины московской, — спрашивал Кутузов, — когда бы осмелился он посягнуть на столицу московскую… Ожидаю нетерпеливо отзыва вашего сиятельства». Казалось бы, вот где Ростопчин мог бы показать реальные результаты своей продуктивной деятельности, своей воинственной пылкости. «Я ему ничего не ответил», говорит Ростопчин в своих записках (713). Предложение Кутузова показалось московскому властелину «весьма дурною шуткою», потому что Кутузову «хорошо было известно, что Москва опустела и в ней оставалось не более 50 тыс. жителей». Так рассказывал Ростопчин впоследствии. Но А. Н. Попов не без основания предполагает, что со стороны Кутузова в данном случае не было «злой насмешки». Кутузов мог вполне искренно поверить, что Ростопчин исполнил свое обещание сформировать добровольную дружину (помимо ополчения) из московских обывателей. Ведь о ней так много говорил хвастливый московский градоправитель[31], не принявший ни одной меры к организации той дружины, которая должна была явиться вооруженная по первому его кличу, чтобы отразить французов. Мы знаем уже, как боялся в действительности «русский барин», принявший на себя роль народного трибуна, своих даже невооруженных молодцов. Но при всем том отказаться от приемов своей рекламной и фальшивой демагогии Ростопчин не мог.
На почтовом тракте (Swibach)
30-го утром Ростопчин вручает Глинке для немедленного напечатания написание «летучим пером», как выражается Глинка, «Воззвания на Три горы». На основании разговора по поводу воззвания между Глинкой и Ростопчиным можно видеть, что здесь Ростопчин сознательно выступал с обманом: «У нас, на Трех горах, ничего не будет, — заявил Ростопчин; — но это вразумит наших крестьян, что им делать, когда неприятель займет Москву». — «Наши силы многочисленны… Не впустим злодея в Москву… Идите… Я буду с вами и вместе истребим злодея». Для чего допускал эту фальшь Ростопчин? Для того, чтобы поддержать спокойствие и порядок в столице, — отвечает Ростопчин. В действительности мера его привела к совершенно противоположным результатам. Уже объявление 30 августа, в котором Ростопчин заявлял, что он клич кликнет «дня за два», произвело, по словам Бестужева-Рюмина, «ужасное волнение в народе, волнение самое убийственное: стали разбивать кабаки, питейная контора на улице Поварской разграблена, на улицах крик, драка… Словом, Москва в этот день как будто вовсе была без начальства». Таков был неизбежный результат демагогии Ростопчина, которого предусмотрительно, как мы знаем, боялся кн. Вяземский. Ростопчин в своих записках, в свою очередь, констатирует подобные факты, забывая только сказать или не понимая, что они явились прямым продуктом его литературного творчества. Ростопчин рассказывает о заговоре 12 «негодяев» «поджечь город, ударить в набат и во время общей тревоги и смущения броситься грабить богатые лавки». «За три дня до вступления неприятеля в Москву, — передает Ростопчин, — мне дали знать, что некто Наумов, маленький дворянин, пользовавшийся худою славою, подговаривал лакеев и назначил им место, где надо собраться, чтобы пуститься на грабеж, когда придет время. Он набрал и записал их уже более 600, когда я узнал об этом умысле. Между прочим, меня известили, что он „похваляется, что убьет меня самого“»… (Записки, 699).
Как нимало достоверны все рассказы Ростопчина, можно не сомневаться в существовании подобных фактов — погромные элементы были вызваны к жизни самим Ростопчиным. В виду волнения, отмеченного Бестужевым-Рюминым, Ростопчину пришлось принимать меры к закрытию кабаков 30 и 31 августа. «Я прибег к этой мере, потому что множество мародеров, дезертиров и мнимых раненых стекалось отовсюду в Москву; а напиться даром допьяна могло привлечь и часть войск и так находившихся в беспорядке. Пьяные же могли начать грабеж, и может быть, поджечь город, прежде нежели пройдет через него наша армия» (114)… Но меры Ростопчина уже не достигли цели, как определенно свидетельствует очевидец событий и настроения в Москве в последние дни перед сдачей… Легковерная толпа пошла за патриотическим призывом Ростопчина. 31 августа на Трех горах собралось оставшееся население, чтобы «спасти от наступающего врага Москву». «Народ в числе нескольких десятков тысяч, — рассказывает Бестужев-Рюмин, — так что трудно было, как говорится, яблоку упасть, на пространстве 4 или 5 верст квадратных, как с восхождением солнца до захождения не расходились в ожидании графа Ростопчина, как он сам обещал предводительствовать ими; но полководец не явился, и все с горестным унынием разошлись по домам» (Ib., 83). Автору воспоминаний казалось, что «малейшая поддержка этого патриотического взрыва, и Бог знает, взошел ли бы неприятель в Москву?» Как ни наивно это предположение чиновника вотчинного департамента, оно ярко характеризует личность Ростопчина, храброго на словах, но не на деле. Ростопчин не явился… Он сознательно морочил оставшееся московское население и боялся обнаружения своей фальши. Он был близок к народу, но до крайности боялся этого вооруженного народа, вооруженного хотя бы и рогатками, вилами и топорами. Демагог не способен был лично поддержать в критический момент патриотического взрыва именно из-за страха.
В окрестностях Петровской слободы (Фабер дю-Фор)
Очевидно, уже в это время московская толпа чувствует большое озлобление против Ростопчина, он вынужден пообещать на другой день начать действовать: «Я завтра еду к светлейшему князю, чтобы с ним переговорить… я приеду назад к обеду и примемся за дело: обделаем, доделаем и злодеев отделаем». Верил ли кто-нибудь еще в подобные обещания? Вряд ли: в Москве началась уже полная анархия: «Проходя пешком через Москву, — сообщает современник Евреинов („Р. Арх.“, 1874, I, 103), — я ничего более не встречал, кроме беспорядков и безобразий. Кабаки уже начали разбивать». «За сутки пред вступлением в Москву неприятеля, — рассказывает (быть может, не совсем точно) „Очевидец о пребывании французов в Москве“ (Москва, 1862, 46) —…нигде не было видно ни одной души, исключая подозрительных лиц, с полубритыми головами, выпущенных в тот же день из острога: это колодники, обрадовавшись свободе, на просторе разбивали кабаки… и другие подобные заведения… Вечером острожные любители Бахуса от скопившихся в их головах винных паров, придя в пьяное безумие, вооружась ножами, топорами… и со зверским буйством бегая по улицам, во все горло кричали…: „Руби проклятых французов“». На утро вступления французов в Москву беспорядки, конечно, еще усиливаются. В то время, когда русский арьергард под начальством Милорадовича проходил через Москву, а французский авангард под начальством Себастиани вступал в Москву, на улицах начинался уже разгром домов и лавок опьяневшей толпой. Мы имеем очень яркие показания русских очевидцев о той картине, которую можно было наблюдать в Москве 2 сентября с утра. На улицах бушует толпа. Она состоит из подонков общества, из «колодников», выпущенных или вырвавшихся из тюрем, — одним словом, из таких элементов, которые совершенно терроризировали мирное население. Ростопчин в 1813 г. определял оставшееся в Москве население в 10 т. человек: «когда Бонапарт взошел в Москву, в ней было всего 10 т. жителей» («из них, по крайней мере, половина всякой сволочи, дожидавшейся, как бы пограбить город», сообщал Ростопчин в письме Воронцову) («Р. Арх.», 1887, I, 181). В письме к Вязьмитинову (30 октября 1812 г.) Ростопчин уверяет, что из 10.000 «наверно» 9.000 было таких, «кто с намерением грабить не выехал». Среди этой толпы видную роль играют «колодники», которые, по уверению Ростопчина, все (в числе 120 человек) были отправлены в Нижний. Правда, такое предписание было сделано (Щукин, III, 195), но в действительности оно осталось только на бумаге. Помимо французских свидетельств (см., напр., яркую картину у Coignet Roos и др.) достаточно и русских: вот, напр., как описует Москву в 5 час. дня ближайший друг и помощник Ростопчина А. Я. Булгаков: «У заставы нет никого. Кабак разбит. У острога колодники бегут; их выпустили или они поломали замки свои… Против Пушкина убивают солдаты наши лавочника. Еду по Басманной — ужасная картина, не у кого спросить, где граф. Грабеж везде ранеными и мародерами» («Р. Арх.», 1866, 701–2). Другая картина, начертанная очевидцем, дворовым человеком: «Перед самым тем временем, как вступил француз в Москву, приказано было разбивать в кабаках бочки с вином. Народ-то на них и навалился; перепились пьянехоньки. Вино течет по улицам, а иные припадут к мостовой и камни лижут. Драки, крик!» (Толычева, «Рассказы очевидцев о 1812 г.», стр. 102). Еще совершенно аналогичное свидетельство в письме Петра Лунина к П. И. Арбеневу (18 сентября): «В день входа неприятеля главнокомандующим и губернатором распущены были и отворены остроги находящимся в оных преступникам, они, а не французы, грабят и жгут наши дома, что и по сие время продолжается» («Р. Ст.», 1873, XII, 992). Можно найти и другие указания (напр., Щук., III, 19). Но особенно любопытен рассказ оставшегося в Москве начальника Воспитательного Дома И. В. Тутолмина, который попал в трагическое положение, так как все его рабочие и караульщики перепились, таская из разбитых «войсками» кабаков вино «ведрами, горшками и кувшинами»… (Письмо к Баранову. Щук., V, 147). Такую картину представляла Москва 2 сентября. И не только в то время, когда уже «ни коменданта, ни главнокомандующего, ни обер-полицмейстера, ни квартальных» уже в Москве не находилось. Так было с утра, когда Ростопчин делал свои последние распоряжения.
Смерть Верещагина (Картина акад. Лебедева, написанная специально для издания)
Перенесемся теперь на двор ростопчинского дворца на Б. Лубянке, где суждено было разыграться кровавой трагедии и гибели невинного Верещагина. Этот ужасный эпилог деятельности Ростопчина служит ему лучшим историческим памятником и лучшей личной характеристикой. 10 часов утра. Все готово для отъезда Ростопчина. «Я спустился на двор, чтобы сесть на лошадь, и нашел там с десяток людей, уезжавших со мной, — рассказывает Ростопчин. — Улица перед моим домом была полна людьми простого звания, желавших присутствовать при моем отъезде. Все они при моем появлении обнажили голову. Я приказал вывести из тюрьмы и привести ко мне купеческого сына Верещагина, автора наполеоновских прокламаций, и еще одного французского фехтовального учителя по фамилии Мутона[32], который за свои революционные речи был предан суду и уже более трех недель тому назад приговорен уголовной палатой к телесному наказанию и к ссылке в Сибирь, но я отсрочил исполнение этого приговора. Оба они содержались в тюрьме… и их забыли отправить с 730-ю преступниками… Преступники эти… ушли три дня тому назад… Приказав привести ко мне Верещагина и Мутона и обратившись к первому из них, я стал укорять его за преступление, тем более гнусное, что он один из всего московского населения захотел предать свое отечество; я объявил ему, что он приговорен сенатом к смертной казни и должен понести ее, и приказал двум унтер-офицерам моего конвоя рубить его саблями. Он упал, не произнеся ни одного слова… Тогда обратившись к Мутону, который, ожидая той же участи, читал молитвы, я сказал ему: „Дарую вам жизнь; ступайте к своим и скажите им, что негодяй, которого я только что наказал, был единственным русским, изменившим своему отечеству“. Я провел его к воротам и подал знак народу, чтобы пропустить его. Толпа раздвинулась, и Мутон пустился опрометью бежать, не обращая на себя ничьего внимания, хотя заметить его было бы можно: он бежал в поношенном своем сюртучишке, испачканном белою краскою, простоволосый и с молитвенником в руках. Я сел на лошадь и выехал со двора и с улицы, на которой стоял мой дом. Я не оглядывался, чтобы не смущаться тем, что произошло?» («Рус. Ст.», 1889, XII, 723). Мы взяли in extenso описание «казни» Верещагина, сделанное самим Ростопчиным. Описание, в котором каждое слово звучит фальшью, совершенно не соответствует действительной картине, нарисованной другими современниками. Не говоря уже о характеристике настроения толпы, собравшейся перед домом Ростопчина, — настроения, весьма мало подходящего к тем фактам, которые мы только что могли наблюдать на улицах Москвы по единогласному показанию современников, Ростопчин, излагая в своих воспоминаниях (1823 г.), не потрудился даже справиться со своими собственными предписаниями и письмами того времени, когда происходило описываемое событие. Он забыл, что предписание о высылке колодников было дано им лишь 1 сентября, он забыл вместе с тем, что 8 сентября он несколько иначе описал казнь Верещагина в письме к императору: «велел нанести ему три сабельных удара. Он прикинулся мертвым, но увидав, что я уехал, вздумал бежать и попал в руки народной толпы» («Р. Арх.», 1892, VIII, 534). Воспроизвести с фотографической точностью трагическую смерть Верещагина, легшую кровавым пятном на совести Ростопчина, вряд ли возможно. Но и то, что мы знаем, разрушает рассказ Ростопчина. Несомненно, Ростопчин отдал толпе Верещагина. Это засвидетельствовано даже столь близким лицом к Ростопчину, как В. А. Обресковым, рассказ которого о трагической смерти Верещагина передает Д. Н. Свербеев. По словам Обрескова, когда Ростопчин отдал драгунам приказание рубить «изменника» палашами, «драгуны замялись, приказание повторилось. Удары тупыми, неотточенными палашами последовали, но не могли в скором времени достигнуть цели. Ростопчин велел толпе докончить заранее обдуманную им казнь за измену» (Соч., I, 465). В устах другого современника мы услышим сейчас и другое освещение. Столь часто цитировавшийся нами Бестужев-Рюмин передает в своих воспоминаниях рассказ чиновника вотчинного департамента, которому случайно пришлось сделаться очевидцем «казни» Верещагина. Этот случайный очевидец, явившись в департамент, рассказывал под непосредственным впечатлением: «Ах, Алексей Дмитриевич, какой ужас я видел, проходя мимо дома графа Ростопчина, которого двор был полон людьми, большею частью пьяными, кричавшими, чтобы шел он на Три горы предводительствовать ими к отражению неприятеля от Москвы. Вскоре на такой зов вышел и сам граф на крыльцо и громогласно сказал: „Подождите, братцы! Мне надобно еще управиться с изменником!“ И тут представлен ему несчастный купеческий сын… Верещагин… и Ростопчин, взяв его за руку, вскричал народу: „Вот изменник! от него погибает Москва!“ Несчастный Верещагин, бледный, только успел громко сказать: „Грех, вашему сиятельству, будет!“ Ростопчин махнул рукою, и стоявший близ Верещагина ординарец графа, по имени Бурдаев… ударил его саблею в лицо; несчастный пал, испуская стоны, народ стал терзать его и таскать по улицам. Сам же граф Ростопчин, воспользовавшись этим смятением, сошел с крыльца и в задние ворота дома своего выехал из Москвы на дрожках» («Чтения», 1859, II, 85). В сущности, в соответствии с этим рассказом передают факт почти все современники. Возьмем воспоминания Каролины Павловой, где смерть Верещагина рассказывается на основании «очевидца тогдашних происшествий».
Вид Москвы с балкона дворца (Де-ла-Барта)
«Когда народ московский, — говорить Павлова, — успокоенный прокламациями графа Ростопчина, которые постоянно твердили о бессилии и скором уничтожении армии Наполеона, вдруг узнал, что эта армия стоит на Поклонной горе, готовая вступить беспрепятственно в Москву, вопль отчаяния пронесся по городу. Озлобленная чернь бросилась к генерал-губернаторскому дому, крича, что ее обманули, что Москву предают неприятелю. Толпа возрастала, разъярялась все более и стала звать к ответу генерал-губернатора. Поднялся громкий крик: „Пусть выйдет к нам. Не то доберемся до него!“ В этом затруднительном положении граф Ростопчин не потерял присутствия духа… он вышел к народу, который встретил его сердитыми восклицаниями: „Нам солгали. Говорили, бояться нечего, французы разбиты, а французы вступают в Москву“. — „Да, вступают, — ответил громким голосом граф, — вступают, потому что между нами есть изменники“. — „Где они? Кто изменник?“ закричала неистовая толпа. „Вот изменник“, сказал граф, указывая на стоящего вблизи молодого Верещагина. Этот последний, пораженный бессовестным обвинением, побледнел и проговорил: „Грех вам, ваше сиятельство!“ В ту же минуту вся чернь в остервенении кинулась на него, и между тем как она терзала и убивала несчастного, граф Ростопчин вошел опять в дом, из которого поспешно выбрался на задний двор, сел на готовые дрожки и переулками выехал из Москвы» (Воспоминания К. К. Павловой, «Р. Арх.», 1875, X, 225). В воспоминаниях Д. П. Рунича при некоторой хронологической неточности передается почти такой же рассказ об этом «чудовищном убийстве». «На рассвете, — говорит Рунич, — решетка, обширный двор его (т. е. Ростопчина) дома от улицы, ломилась под натиском огромной толпы, состоявшей из низменных, отчаянных подонков столицы[33].
Ф. В. Ростопчин (Ланглуа)
Ростопчин обратился к толпе с речью и, указывая на Верещагина, сказал, „что изменник своей родине, приготовивший путь врагам, достоин смерти!“ — и тотчас приказал жандармам изрубить его саблями, сам нанес ему первый удар и велел бросить тело умирающего невинного страдальца через решетку на улицу. Разгоряченная чернь набросилась на него и волочила его по улицам; Ростопчин сел в ожидавший его легкий экипаж и отправился к армии, только что выступившей из Москвы»… «Вот истинный рассказ об этом чудовищном убийстве», заключает Рунич (Из записок, «Рус. Ст.», 1901, III, 603). Выписки можно было бы продолжить. И опять в воспоминаниях декабриста Штейнгеля («Общ. движ.», 388) мы встретимся с таким же освещением: Ростопчин отдал на растерзание Верещагина, чтобы, «пользуясь этим временным занятием черни, можно было с заднего крыльца сесть на лошадь и ускакать из Москвы в момент почти вступления в нее неприятеля». Наконец другой современник, не только очевидец, по и непосредственный участник «казни» Верещагина, драгунский офицер, Гаврилов повторяет буквально то же самое: «С утра густая толпа народа стеклась на дворе и запрудила улицу, шумела, гамила и волновалась… Прокричав на крыльце народу, что Верещагин изменник, злодей, губитель Москвы, что его надо казнить, Ростопчин закричал Бурдаеву (вахмистру Гаврилова), стоявшему подле Верещагина: „руби!“ Не ждавши такой сентенции, он оторопел, замялся и не подымал рук. Ростопчин гневно закричал на меня: „Вы мне отвечаете своей собственной головою! Рубить!“ Что тут делать, не до рассуждений! По моей команде: „Сабля вон“, мы с Бурдаевым выхватили сабли и занесли вверх. Я машинально нанес первый удар, а за мной и Бурдаев. Несчастный Верещагин упал, мы все тут же ушли, а чернь мгновенно кинулась добивать страдальца и, привязав его к хвосту какой-то лошади, потащила со двора на улицу, Ростопчин в задние ворота ускакал на дрожках» («Щ. Сб.», VIII, 67)…
Мы видим, как в сущности совпадают решительно все показания как очевидцев, так и других современников, рассказывавших о смерти Верещагина или со слов очевидцев, или по слухам. Расхождения только в деталях. И подобная картина не только психологически правдоподобна, но она стоит в полном соответствии с уличной обстановкой в Москве 2 сентября. Пред нами пьяная толпа, — толпа, состоящая из общественных низов, наэлектризованная ожиданием вступления французских войск, бегством начальствующих лиц в Москве, отступлением русских войск, последними распоряжениями Ростопчина об увозе пожарных труб, затоплением в реке пороховых бочек и хлебных барж и т. д. Пред нами толпа, начавшая с утра уже «грабить дома», по собственному признанию Ростопчина… И эта толпа мирно стоит в ожидании того, как граф уедет из Москвы? Как он выйдет для последнего прощания с оставленным в руках французов населением? Толпа, которую систематически натравляли на «злодеев», которой внушали всякие ужасы, которую манили обещанием расправиться в любой момент со «злодеем», если только он появится под стенами священного города, — и эта толпа — будет миролюбиво провожать того, кто столько раз фразисто говорил, что он поведет толпу на патриотический подвиг защиты столицы? Нет, это слишком невероятно. Пред ростопчинским дворцом собралась буйная толпа, требующая если не ответа, то выполнений обещаний. И московскому барственному демагогу не оставалось ничего более, как трусливо бежать пред личной опасностью и тем ликвидировать свои отношения с московским населением. В жертву народной ненависти было принесено невинное лицо. В тот момент Ростопчину до этого не было никакого дела. Нужен был лишь предлог, чтобы отвлечь на некоторое время внимание[34].
Останкино в начале XIX в.
Такова истинная картина действительных мотивов поступка Ростопчина. Смерть Верещагина произвела сильное впечатление на современников[35]. Против Ростопчина негодовало общественное мнение: «Вот убийство, которое невозможно объяснить, не очерня памяти Ростопчина», сказал в своих «Записках» Рунич, при всем своем личном недоброжелательстве к Ростопчину, вполне одобрявший его деятельность в московский период. И откликом этого негодования явилось известное письмо Александра, в котором император, действительно, очень «мягко» делал Ростопчину упрек: «Я бы совершенно был доволен вашим образом действий при таких трудных обстоятельствах, если бы не дело Верещагина, или лучше — его окончание. Я слишком правдив, чтобы говорить с вами иным языком, кроме языка полной откровенности. Его казнь была бесполезна, и притом она ни в каком случае не должна была совершиться таким способом. Повесить, расстрелять было бы гораздо лучше». Ростопчин в ответ, выставляя себя только исполнителем приговора сената, который «единогласно» присудил к смертной казни Верещагина, «злодея по наклонности и по образу мыслей». Если бы это было так, то неужели Ростопчин не мог выбрать другого времени для убийства! Ложь здесь слишком очевидна…[36] Впоследствии были попытки если не оправдать Ростопчина, то смягчить ужасные обстоятельства «казни» Верещагина и найти объяснение поступку Ростопчина. Это пытался сделать кн. П. А. Вяземский, кн. А. А. Шаховской, отчасти и Д. Н. Свербеев. «Потомство, — писал Свербеев в 1870 г.[37], — не имеет права обвинять Ростопчина в убийстве по расчету, в убийстве для спасения своей жизни. В таком обвинении я умываю руки. Ростопчин мог быть и, по моему убеждению, был преступным убийцей Верещагина, но он не мог быть и не был убийцей из трусости. В этом ручается нам вся его жизнь и каждая его строка, до нас дошедшая» (I, 465). Все изложенное, думается, уже достаточно опровергает мнение Свербеева…
Отдав толпе Верещагина, Ростопчин скрылся. А толпа, возбужденная еще более произведенным неистовством, устремляется в Кремль к арсеналу, чтобы здесь с оружием в руках встретить неприятеля.
На этом можно и закончить повествование о деятельности Ростопчина — спасителя отечества в 1812 году. «Я спас империю, — гордо и самоуверенно заявлял Ростопчин в оправдательном письме к Александру по поводу верещагинского дела. — Я не ставлю себе в заслугу энергии, ревности и деятельности, с которыми я отправлял службу вам, потому что я исполнял только долг верного подданного моему государю и моему отечеству. Но я не скрою от вас, государь, что несчастие, как будто соединенное с вашею судьбою, пробудило в моем сердце чувство дружбы, которою оно всегда было преисполнено к вам. Вот что придало мне сверхъестественные силы преодолевать бесчисленные препятствия, которые тогдашние события порождали ежедневно» («Щ. Сб.», VIII, 71).
Так казалось Ростопчину в ноябре 1812 года[38]. Но в момент оставления Москвы он, по-видимому, не чувствовал себя так самоуверенно. Отсутствием этой самоуверенности и объясняется отчасти ненависть, которую питает Ростопчин к Кутузову: «Сегодня утром я был у „проклятого Кутузова“, — пишет Ростопчин жене 1 сентября. — Эта беседа дала видеть низость, неустойчивость и трусость вождя наших военных сил»… «Бросают 22.000 раненых, а еще питают надежду после этого сражаться и царствовать» («Р. Арх.», 1901, XIII, 762)…
Мы еще встретимся с Ростопчиным в обновленной Москве. Но каковы же были реальные результаты его деятельности в Москве до прихода французов? Хорошо подвел эти итоги Л. Н. Толстой в «Войне и мире». Читатель, конечно, помнит меткую характеристику Ростопчина в конце V главы II части, где Толстой говорит об оставлении Москвы населением. «Они уезжали каждый для себя, а вместе с тем только вследствие того, что они уехали, и совершилось то величественное событие, которое навсегда останется лучшей славой русского народа… Граф же Ростопчин, который то стыдил тех, которые уезжали, то вывозил присутственные места, то выдавал никуда негодное оружие пьяному сброду, то поднимал образа, то запрещал Августину вывозить мощи и иконы, то захватывал все частные подводы, бывшие в Москве, то на 136 подводах увозил делаемый Леппихом воздушный шар, то намекал на то, что сожжет Москву, то принимал славу сожжения Москвы, то отрекался от нее; то приказывал народу ловить всех шпионов и приводить к нему, то упрекал за это народ; то высылал всех французов из Москвы, то оставлял г-жу Обер-Шальне, составлявшую центр всего французского московского населения… то собирал народ на Три горы, чтобы драться с французами, то, чтобы отделаться от этого народа, отдавал ему на убийство человека и сам уезжал в задние ворота: то говорил, что он не перенесет несчастия Москвы, то писал в альбом по-французски стихи о своем участии в этом деле, — этот человек не понимал значения совершающегося события, а хотел только что-то сделать сам, удивить кого-то, что-то совершить патриотически-геройское и, как мальчик, резвился над величавым и неизбежным событием оставления и сожжения Москвы и старался своей маленькой рукой то поощрять, то задерживать течение громадного, уносившего его власть с собой, народного потока».
Дом гр. Орлова-Денисова на Лубянке, бывший гр. Ростопчина — до перестройки (Из колл. И. Е. Забелина)
Не показывает ли все рассказанное выше правильность нередко оспаривавшихся выводов Л. Н. Толстого. Ростопчин действительно не понимал положение вещей. Он фантазировал и всех морочил, желая разыгрывать роль спасителя отечества, к которой еще менее был пригоден, чем «мальчик». Если согласиться с Толстым, что оставление Москвы было «величественным событием, которое останется лучшей славой русского народа», то в этом событии, как мы видим, Ростопчин не играл решительно никакой роли. Впоследствии Ростопчин приписал себе и эту славу. Он объяснил даже все свои действия именно этой целью: соблюсти спокойствие в Москве и выпроводить из нее жителей; на деле Ростопчин только препятствовал осуществлению того «величественного события», которое инстинктивно, из страха подготовили московские обыватели… Москва должна была остаться пустой к прибытию Наполеона. Из нее спешно вывозили имущество, деньги, бумаги и т. д. Конечно, в две недели вывезти все было невозможно, а при господствовавшей панике подчас самое главное оставалось. Не даром Волкова 15 октября писала: «говорят, что в какой-то газете пишут, что Москву сдали опустелую, увезя из нее все до последней нитки. Видно, что, кто в газете пишет, у того в Москве волоса нет». Сколько ни увозили из Москвы, сколько ни зарывали в землю, в столице оставалось достаточно и жизненных припасов и всякого рода имущества. Не даром на Стендаля Москва произвела на первых порах впечатление одного «из прекраснейших храмов неги» («Р. Арх.», 1892, X, 235). Французы нашли немало барских домов с достаточным штатом дворовых людей, оставленных охранять барское имущество (см., напр., письмо Волковой от 17 сентября, приказчика Сокова к Баташову, в доме которого на Швивой горке поместился Мюрат («Р. Арх.», 1871) и т. д. Можно было бы привести множество рассказов по этому поводу из французских мемуаров[39]. Но вряд ли стоит это делать, потому что этот факт несомненен сам по себе и засвидетельствован, наконец, многими реестрами, которые поданы были правительству после выхода французов из Москвы лицами, потерпевшими от пожара. Беглый обзор того, что осталось в Москве, снимает весь патриотический налет с «великого события», долженствовавшего сделаться неувядаемой славой России. Мы знаем, увозили драгоценные вещи, жемчуги с икон и оставляли народные святыни — мощи[40] и т. д. Оставлены были на произвол судьбы, на попечение «злодеев» тысячи русских раненых, проливших свою кровь в защиту отечества. Указать точную цифру оставленных раненых вряд ли возможно. Мы знаем, что в письме к жене 1 сентября Ростопчин исчисляет количество оставляемых раненых в 22.000. Сколько было увезено в последние два дня, когда русские войска проходили оставляемую Москву, сведения разноречивы. И различные источники насчитывают оставленных раненых от 2 до 15 тысяч, из которых, по свидетельству Ростопчина, осталось в живых ко времени его возвращения в Москве не более 300. Внук Ростопчина, сын его дочери, гр. Сегюр, написавший жизнеописание своего деда, добавляет к этой печальной повести: и большинство несчастных (раненых) «погибло в огне, зажженном соотечественниками» (Vie du Rostoptchine. Paris, 1873, 262). Таковы были реальные результаты энергичной деятельности московского главнокомандующего. При всем желании найти что-либо положительное в деятельности Ростопчина, в конце концов, находим лишь отрицательное.
По возвращении в Москву Ростопчин старательно собирал портреты тех московских крестьян, которые известны были наибольшим числом убийств французов[41]. С какой целью? Припомним, слова С. Н. Глинки, свидетельствующие о том, что Ростопчин, издавая призыв к населению идти на Три горы, думал якобы этим указать московским крестьянам, что они должны делать, когда французы займут Москву. Можно подумать, что Ростопчину принадлежит инициатива возбуждения народной войны, того образа действий, который спас Россию. Итак, Ростопчин как бы действительно «спаситель отечества». Ростопчин целых три месяца подготовлял народное настроение, возбуждая в населении «патриотическую ненависть» к французам. Но и здесь Ростопчин ошибался. Его прокламации не могли возбуждать и не возбуждали патриотического чувства. Его грубые выходки с мирными иностранцами возбуждали скорее в населении чувство недоумения и неодобрения. За несколько дней до убийства Верещагина Ростопчин подверг, конечно, без суда, торговой казни своего повара-француза: «J' ai fait naturaliser russe mon chef de cuisine», острил граф. Л. Н. Толстой нарисовал замечательную картину того чувства, которое вызвал в московском населении этот факт. Это чувство характеризуется лучше всего словом — испуг. Ростопчин не мог оказать влияния на народное чувство потому, что, скажем вновь словами Л. Н. Толстого, «не имел ни малейшего понятия о том народе, которым думал управлять». Ему лишь казалось, что он руководил настроением жителей «посредством своих воззваний и афиш, писанных тем ёрническим языком, который в своей среде презирает народ и который он не понимает, когда слышит его сверху». Ростопчин был бессилен поднять «патриотизм», который он видел только в человеконенавистничестве. И того, что не сделал Ростопчин, сразу сделал пожар Москвы.
Пожар Москвы придал войне «характер народной и религиозной», как заметил иностранец Домерг. «Вся Россия, казалось, почерпнула в этой великой катастрофе новую энергию» («Ист. Вест.», 1881, 614).
Гр. Ф. В. Ростопчин (рис. Тончи)
С этого момента как бы растет ненависть к французам, поправшим как бы все лучшие народные чувства. Мы слышим о жестокостях, которые совершают крестьяне над пойманным врагом. От этих жестокостей веет иногда таким ужасом, что не знаешь, чем только можно объяснить возможность таких зверских поступков. Они способны вызвать тем большее удивление, что на ряду со зверскими расправами мы встречаемся с трогательными фактами незлобивости и жалости к полуголодному, умирающему врагу (см. статью «Народная война»).
Эти случаи жестокости, конечно, происходили на почве суеверия и темноты. Их возращали в народной массе во имя «патриотизма» деятели, подобные гр. Ростопчину. Их проповедь, их примеры превращали людей в каких-то остервенелых зверей. Они проповедывали, что «Бог повелел» совершать эти зверства над «врагами Христовой Церкви», над «чадами антихриста» (см., напр., «наставление» Дениса Давидова крестьянам с. Токарева 2 сентября). Ростопчин, собиравший портреты тех крестьян Московской губернии, которые убили наибольшее число французов, т. е. проявили наибольшую жестокость во имя «патриотизма», мог гордиться, что он в этом отношении достиг некоторых реальных результатов, т. е. вписал несколько страниц ненужных жестокостей в русскую историю, но этого еще слишком мало, чтобы зачислить Ростопчина в ряды «спасителей отечества».
С. Мельгунов
Привал арестантов (рис. Орловский)
VI. Ростопчинские афиши
Н. М. Мендельсона
Когда Ростопчин принялся за издание афиш, его литературная репутация была уже прочно установлена. Если его комедия «Вести или убитый живой» имела, главным образом, успех скандала, так как в ее действующих лицах Москва без труда разглядела портреты хорошо знакомых ей лиц, то его «Мысли в слух на Красном крыльце» и переписка Силы Богатырева имели успех гораздо более значительный. Брошюра разошлась в 7.000 экземплярах; герой Ростопчина, Сила Андреевич Богатырев, по словам одного из современников, faisait les delices du club anglois; Жуковский в первой книжке «Вестника Европы» за 1808 г. высказывал пожелание, чтобы «какому-нибудь доброму человеку пришла счастливая мысль подслушать, записать и напечатать в „Вестнике“» некоторые монологи старика Силы Андреевича Богатырева; анонимный автор книжки под заглавием «Разговор двух россиян и исконные чувства российского дворянина при получении Высочайшего манифеста б июля» рекомендует Богатырева, как «старичка…, который в честности, в доброте души, в благородном характере, а после в верности государю и любви к отечеству весьма преизбыточествует»[44].
Афиши Ростопчина в их целом были повторением размышлений Силы Богатырева, окрашенных ненавистью к французам и призывом к национальному чувству. Это ясно видели современники Ростопчина, и кн. Вяземский, вспоминая 1812 г., писал: «Знакомый нам Сила Андреевич 1807 г. ныне повышен чином. В 1812 г. он уже не частно и не с Красного крыльца, а словом властным и воеводским разглашает свои мысли в слух из своего генерал-губернаторского дома на Лубянке»[45].
Сам Ростопчин, вспоминая 1812 г., объяснял появление своих афиш ясно сознанной им необходимостью «держать город в курсе событий и военных действий», влиять на умы народа, «возбуждать в нем негодование и подготовлять его ко всем жертвам для спасения отечества»[46], наконец содействовать прекращению беспорядков[47].
При осуществлении первой задачи Ростопчин лишь изредка прибегал к помощи Силы Богатырева. Распространяя официальные заявления правительства, опубликовывая известия из армии, он обыкновенно брал на себя роль лишь передаточной инстанции, говорил языком официальным и только кое-где прибавлял несколько строк в духе своего любимца. Так, сухо сообщая, что 25 августа во весь день ничего не произошло, кроме перестрелки егерей, он прибавляет: «В субботу французов хорошо попарили: видно, отдыхают!»
Иное нужно сказать о тех афишах, которыми Ростопчин хотел поднять настроение москвичей, возбудить в них ненависть к врагу или внести известную долю успокоения во взволнованную атмосферу тогдашней московской жизни. Здесь Сила Богатырев был неизменным помощником графа.
Ростопчинское объявление
В 1807 г. Богатырев говорил, что «Бонапарте — мужичишка, который в рекруты не годится, — ни кожи, ни рожи, ни виденья. Раз ударишь, так след простынет и дух вон».
В 1812 г. в том же духе заговорил Карнюшка Чихирин, герой лубочной картинки, выпущенной в свет с текстом Ростопчина. На картинке[48] изображен кабак, целовальник за выручкой, Карнюшка и толпа, слушающая его речи. Карнюшка, «выпив лишний крючок на Тычке, услышал, что будто Бонапарт хочет идти на Москву, рассердился и, разругав скверными словами всех французов, вышед из питейного дому, заговорил под орлом»… Карнюшка советует Бонапарту сидеть дома. «Полно тебе фиглярить: вить солдаты-та твои карлики да щегольки: ни тулупа, ни рукавиц, ни малахая, ни онуч не наденут. Ну, где им русское житье-бытье вынести? От капусты раздуются, от каши перелопаются, от щей задохнутся, а которые в зиму-то и останутся, так крещенские морозы поморят, будет у ворот замерзать, на дворе околевать, в сенях зазябать, в избе задыхаться, на печи обжигаться»… Карнюшка напоминает Бонапарту про поляков, татар и шведов, которых «наши так отпотчевали, что и по сю пору круг Москвы курганы, как гробы, а под гробами-то их кости». У французов дома остались слепой да хромой, старухи да ребятишки, а у нас «выведено 600.000 да забритых 300.000, да старых рекрут 200.000. А, все молодцы: одному Богу веруют, одному царю служат, одним крестом молятся, все братья родные»… Поэтому — «не наступай, не начинай, а направо кругом ступай и знай из роду в род, каков русский народ». Окончив свою речь, Карнюшка «пошел бодро и запел: „Во поле береза стояла“, а народ, смотря на него, говорил: „Откуда берется? А что говорит дело, то уж дело!“»[49]
Эти гаерные речи Карнюшки, появившиеся за два месяца до вступления неприятеля в Москву, в значительной степени определили тон остальных летучих листков Ростопчина. Несмотря на его заявление, что, в сознании серьезности положения, он к августу прекратил «выпуск ежедневно появлявшихся рассказов и картинок, где французов изображали какими-то карликами, оборванными, дурно вооруженными и позволяющими женщинам и детям убивать себя», — несмотря на это, отголоски хвастливых выкриков Карнюшки мы в изобилии встретим в ростопчинских афишах.
12 июля прибыл в Москву государь, и в дни его пребывания здесь Ростопчин особенно старался раздуть патриотические чувства. После его отъезда настроение заметно упало, что чрезвычайно беспокоило Ростопчина в связи с другими тревожными обстоятельствами, — бродившими в народе смутными слухами о воле, которую несет Наполеон, вздорожанием съестных припасов.
Действуя рука об руку с преосвященным Августином, который с церковного амвона старался поддержать настроение народа на той высоте, на которой оно было во время кратковременного пребывания государя, Ростопчин выпустил «Дружеское послание» к жителям Москвы. «Слава Богу, все у нас в Москве хорошо и спокойно, — писал Ростопчин. — Хлеб не дорожает и мясо дешевеет. Одного всем хочется, чтоб злодея побить, и то будет. Станем Богу молиться, да воинов снаряжать, да в армию их отправлять. А за нас перед Богом заступники: Божия Матерь и московские чудотворцы. Пред светом милосердый государь наш Александр Павлович, а пред супостаты христолюбивое воинство; а чтобы скорее дело решить, государю угодить, Россию одолжить и Наполеону насолить, то должно иметь послушание, усердие и веру к словам начальников, и они рады с вами и жить и умереть. Когда дело делать, я с вами, на войну идти перед вами, а отдыхать за вами. Не бойтесь ничего, нашла туча, да мы ее отдуем, все перемелется, мука будет. А берегитесь одного: пьяниц да дураков, они, распустя уши, шатаются, да и другим в уши врасплох надувают. Иной вздумает, что Наполеон за добром идет, а его дело кожу драть, обещает все, а выйдет ничего. Солдатам сулит фельдмаршальство, нищим — золотые горы, народу — свободу, а всех ловить за виски да в тиски и пошлет на смерть: убьют либо там, либо тут».
«Чем он победил врага своего? — Нагайкою!» (И. Теребенев)
Предупреждая москвичей против изменников, которые «выхваляют Наполеона и сулят и то и другое», Ростопчин в «Дружеском послании» советовал тащить таких людей «за хохол на съезжую» и обещался с ними «разделаться, будь они хоть пяти (sic.) пядей во лбу». Вскоре ему пришлось унимать патриотический пыл москвичей, переходивший в дикий самосуд над иностранцами, заподозренными в шпионстве или в симпатии к Наполеону. «Побранить есть за что, — обращался он к москвичам по поводу избиения двух немцев у меняльной лавки. — Два немца пришли деньги менять, а народ их катать; один чуть ли не умер. Вздумали, что будто шпионы, а для этого допросить должно; это мое дело. А вы знаете, что я не спущу и своему брату русскому. И что за диковинка — ста человекам прибить костянова француза или в парике окуренова немца! Охота руки марать! И кто на это пускается, тот при случае за себя не постоит. Когда думаете, что шпион, ну, веди ко мне, а не бей и не делай нарекания; русским войски-та французския должно закопать, а не шушерам глаза подбивать».
Москва считала Смоленск своим оплотом. Получив известие о взятии Смоленска французами, Ростопчин не огласил официального донесения в подлинном виде, а изготовил собственный бюллетень, в котором не щадил красок для изображения геройства русских войск и неисчислимых потерь неприятеля. Отступление за Днепр он толковал здесь, как маневр, имевший целью соединение корпуса, защищавшего Смоленск, с главной армией перед решительной битвой. Но Москву уже трудно было успокоить… Волнение приняло особенно лихорадочный характер, когда, в сопровождении архиепископа Иринея и толпы смольнян, прибыла в Москву чудотворная икона Смоленской Божией Матери. Начался усиленный отъезд из Москвы.
«Здесь есть слух и есть люди, кои ему верят и повторяют, что я запретил выезд из города, писал по этому поводу Ростопчин. — Если бы это было так, тогда на заставах были бы караулы и по нескольку тысяч карет, колясок и повозок во все стороны не выезжали. А я рад, что барыни и купеческие жены едут из Москвы для своего спокойствия. Меньше страха, меньше новостей; но нельзя похвалить и мужей, и братьев, и родню, которые при женщинах в будущих отправились, без возврату. Если по их есть опасность, то непристойно; а если нет ея, то стыдно. Я жизнью отвечаю, что злодей в Москве не будет»… Твердую уверенность в этом Ростопчин подкрепляет сообщением, что у русских около 300.000 войска, во главе которого стоит «светлейший князь Кутузов, истинно государев избранный воевода русских сил»… «А если мало этого для погибели злодея, тогда уж я скажу: ну, дружина московская, пойдем и мы! И выйдем сто тысяч молодцов, возьмем Иверскую Божию Матерь да 150 пушек и кончим дело все вместе. У неприятеля же своих и сволочи 150.000 человек; кормятся пареною рожью и лошадиным мясом. Вот что я думаю и вам объявляю, чтоб иные радовались, а другие успокоились, а больше еще тем, что и государь император на днях изволить прибыть в верную свою столицу. Прочитайте, — понять можно все, а толковать нечего».
По мере, приближения к Москве отступавшей русской армии, настроение столицы делалось все тревожнее, и ростопчинские афиши употребляли поистине громадный усилия, чтоб поддержать настроение москвичей.
«Казак вручает Наполеону визитный билет на взаимное посещение» (Теребенев)
Незадолго до Бородинской битвы Ростопчин сообщает, что «наш авангард под Гжатью; место, нашими войсками занимаемое, есть прекрепкое, и тут светлейший князь намерен дать баталию. Теперь мы равны с неприятелем числом войск. Через два дни у нас еще прибудет 20.000 человек, но наши войска русские, единого закона, единого царя, защищают церковь Божию, домы, жен, детей и погосты, где лежат отцы наши. Неприятели же дерутся за хлеб, умирают на разбое; если они раз проиграют баталию, то все разбредутся, и поминай, как звали!» Он сообщает во всеобщее сведение письмо Кутузова, который сединами своими уверял москвичей, что «еще не было ни одного сражения с передовыми войсками, где бы наши не одерживали поверхности, а что не доходило до главного сражения, то сие зависело от главнокомандующих». Он намекает москвичам на ожидающую их радость от воздушного шара, изготовлявшегося Леппихом, и тут же прибавляет: «Генерал Платов… едет обратно в армию и поспеет к баталии, чтоб там петь благодарный молебен и „Тебе Бога хвалим“».
Наступило 26 августа. В этот знаменательный день москвичи еще не знали о том, что происходило на Бородинском поле. По рукам ходили две афиши, извещавшие, что в армии 25 августа положение было без перемен.
На другой день Ростопчин опубликовал следующее известие, полученное от Кутузова через курьера: «Вчерашний день, 26-го, было весьма жаркое и кровопролитное сражение. С помощью Божиею, русское войско не уступило в нем ни шагу, хотя неприятель с отчаянием действовал против его. Завтра, надеюся я, возлагая мое упование на Бога и на московскую святыню, с новыми силами с ним сразиться». От себя Ростопчин, между прочим, прибавляет: «Я посылаю в армию 4.000 человек здешних новых солдат, на 250 пушек снаряды, провиант. Православные, будьте спокойны! Кровь наших проливается за спасение отечества. Наша готова, и если придет время, то мы подкрепим войска. Бог укрепит силы наши, и злодей положит кости свои в земле русской».
Ростопчинская афиша
Вспоминая 1812 г., Ростопчин говорил о том, как тяжело ему было после Бородина «придумывать, чем бы можно произвести впечатление на массы»[50].
Афиши двух последних дней августа свидетельствуют об этой трудности: в них Ростопчин явно грешит против истины[51].
Выехав из Москвы до вступления в нее неприятеля. Ростопчин из Владимира обратился с воззванием к крестьянам Московской губернии. Описав злодейства французов, их надругательства над святынями, Ростопчин предостерегал крестьян против «ласки» злодеев. «Ужли вы, православные, верные слуги царя нашего, кормилицы матушки каменной Москвы, на его (Наполеона) слова положитесь, дадитесь в обман врагу лютому, злодею кровожадному! Отымет он у вас последнюю кроху, и придет вам умирать голодною смертью. Проведет он вас посулами, а коли деньги даст, то фальшивые, — с ними ж будет вам беда»… Ростопчин призывал крестьян к беспощадному истреблению «гадины заморской». Куда ни придут французы, «тут и вали их живых и мертвых в могилу глубоку… Истребляйте сволочь мерзкую, нечистую гадину и тогда к царю в Москву явитеся и делами похвалитеся. Он вас опять восстановит по-прежнему, и вы будете припеваючи жить по-старому. А кто из вас злодея послушается, к французу приклонится, тот недостойной сын отеческой, отступник закона Божия, преступник государя своего, отдает себя на суд и поругание, а душе его быть в аду с злодеями и гореть в огне, как горела наша мать Москва».
Таково было содержание «Ростопчинской газеты», таков был своеобразный опыт общения власти с народом в годину тяжелых испытаний.
Как относилось население Москвы к афишам Ростопчина?
В простонародье, — точнее сказать, в среде мещанства и мелкого купечества, куда еще до 1812 г. в изобилии проникали произведения казенно-патриотической литературы, они вызывали некоторый интерес.
Об этом свидетельствует, например, И. М. Снегирев в докладе «О простонародных картинках», прочтенном в 1823 г. в обществе любителей российской словесности. «Мы видели в Москве, — пишет Снегирев, — какое имели влияние над простым народом в 1807 и 1812 г. развешанные у ограды Казанского собора картины лубочные: мужик Долбило, ратник Гвоздило, Карнюшко Чихиркин и словоохотный Сила Андреевич Богатырев, который со ступеней Красного крыльца разглагольствовал с православными о святой Руси, и слова его были по сердцу народу русскому. Когда же закипела война, когда недоумение овладело душами, тогда Ростопчин и посредством народных картинок говорил с простолюдинами, внушая им мужество, любовь к отчизне и рвение защищать себя, царя и веру; тогда толпы народа собирались к ограде храма… смотреть сии картинки, читать или слушать патриотические воззвания»[52]…
По словам Сергея Глинки, который сам во многих местах читал простонародью «Дружеское послание» Ростопчина, оно производило сильное впечатление. Но оценивая рассказ Глинки, как и воспоминания Снегирева, нужно помнить, что они подкрашены в духе тогдашней официально-патриотической литературы.
В кругах тогдашней интеллигенции отношение к афишам было различное. М. А. Дмитриев, называя их «мастерской, неподражаемой вещью», свидетельствует, что Ростопчина тогда «винили в публике: и афишки казались хвастовством, и язык их казался неприличным»[53].
Д. А. Бестужев-Рюмин с насмешкой говорил об их содержании, называл язык их «пошлым и площадным». Они весьма нравились Жуковскому, которого Ростопчин причислял к якобинцам, и их не одобрял Карамзин, живший тогда у графа и предлагавший ему писать за него воззвания к народу. Отзыв Вяземского нам известен.
«Я — русской барин», говорил про себя Ростопчин в «Дружеском послании», и сказал сущую правду. Русский барин, богатый и титулованный, бывший, как у себя дома, на бульварах и в салонах Парижа, бранивший французов на чистейшем французском языке, проповедывавший необходимость национального воспитания, а собственных детей воспитывавший при помощи наемных иностранцев, человек, являвший в своем лице, по словам его биографа, соединение «английского глубокомыслия, французской любезности и чувств истинного русского боярина и патриота»[54], честолюбивый и властолюбивый, — Ростопчин задумал управлять умами, руководить народным мнением… Он заговорил на том приторном и деланном, ложно-народном языке, который считали для себя обязательным старые баре, обращаясь a ce bon peuple russe. Заносчиво-хвастливые, в лучшем случае не сообщавшие всей правды о положении дел, обманувшие многих доверчивых людей сначала уверениями, что «злодей в Москве не будет», потом фантомом московской дружины, — его афиши могли сделать только одно: раздуть ненависть к врагу. Но разве ее было мало и без них?
Н. Мендельсон
«Руской Курций»
«Ратник Московского ополчения, жертвующий жизнию в намерении убиением избавить отечество от злобного врага Наполеона, вместо его поражает ошибкою Польского полковника. Произ. к славе Россиян, случившееся во время вторжения Французов в Москву».
На большой дороге между Можайском и Москвой (Фабер дю-Фор)
VII. Русская армия в период от сдачи Москвы до Тарутина
Подп. А. А. Кожевникова
Нельзя, конечно, удивляться тому, что широкие круги тогдашнего общества, стоявшие вдали от армии, так относились к сдаче Москвы и из-за политического значения факта сдачи не замечали совершенно его стратегического значения. Но поразительно то, что почти так же относились к нему и военноначальники, собравшиеся в Филях на военный совет.
Была потрачена масса красивых слов, касающихся политического значения сдачи Москвы, и очень мало говорилось о том, что должна делать после сдачи Москвы армия, как использовать ей для своих целей эту сдачу. Следя за обменом мнений и прениями лиц, собравшихся на совет, невольно возникает мысль, что никто из них не давал себе ясного отчета о создающемся положении вещей, никто не представлял себе будущего за исключением главнокомандующего. Всем было ясно, что дать оборонительный бой на очень плохой позиции — на Поклонной горе — была бессмыслица, которая повела бы только к погибели армии и не спасла бы Москвы. На необходимости боя, впрочем, настаивал только один Беннигсен, да и то едва ли искренно, а скорее имея в виду, что его мнение, как «наиболее храброе», будет учтено где следует, что впоследствии и подтвердилось совершенно точным историческим документом — его письмом к Аракчееву. Все понимали, что для спасения армии должна была быть принесена в жертву Москва, но что дальше делать спасенной армии и какое ей занять положение по отношению враждебной армии — на этом вопросе останавливались очень мало.
О предстоящих действиях армии были высказаны мнения только двумя лицами: Барклаем и полковником Толем.
Мнение последнего о том, что все усилия русской армии должны быть направлены на то, чтобы отрезать противника от юга, было совершенно правильным. Если бы неприятель завладел Калугой, где были сосредоточены в то время провиантские запасы русской армии, Тулой и Брянском с их оружейными заводами и южными губерниями, не истощенными войной, то исход последней был бы пагубным для России. Толь правильно определил цель действий русской армии, но предложил для достижения ее план совершенно невыполнимый. Он предлагал несколько изменить позиции русских войск и затем после боя, если в том встретится надобность (а в этой надобности никто не сомневался), отступать по старой Калужской дороге, т. е. не проходя с армией через Москву.
Остается только удивляться, что такой умный и распорядительный офицер, как Толь мог предлагать этот самоубийственный для русской армии план. Но этому плану русская армия в виду наседавшего на нее авангарда Мюрата должна была менять позицию, неизвестно на какую, затем «почтить Первопрестольную боем», в исходе которого никто не мог сомневаться, так как французская армия была вдвое многочисленней русской и была одушевлена мыслью о конечном акте кампании — взятии Москвы, а затем отступать. Отступательный же марш она должна была произвести на глазах противника под прямым углом к его операционной линии с ровно ничем не прикрытым флангом и по местности, пересеченной естественными препятствиями: речкой Сетунью и оврагами.
Разумеется, этот план не мог быть принят на военном совете.
Гораздо основательней было предложение Барклая-де-Толли, и оно вытекало совершенно логично из создавшегося положения вещей и общего направления действий, которого он придерживался, будучи главнокомандующим. По его мнению, следовало возможно дольше задержать противника арьергардным боем, а главными силами проследовать через Москву и отступать по Нижегородской дороге. Оттуда русская армия могла действовать во фланг французской с одинаковым успехом при ее наступательных движениях по обоим возможным для последней направлениям, т. е. на Петербург или на юг.
По плану Барклая-де-Толли русская армия получала все соединенные с сдачей Москвы стратегические выгоды. При отступлении через самую Москву неприятель был поставлен до последнего момента в полную неизвестность о том, что делает русская армия. Наступление его должно было совершаться со всеми предосторожностями, так как сдача Москвы без всякого боя была все-таки крайне невероятна. Можно было ожидать боя даже на самых улицах столицы. Если бы арьергарду не удалось совсем задержать наступление французов, то во всяком случае занятие большого города, к которому стремились все их помыслы, должно было произвести неизбежную заминку в наступательном движении. Все эти благоприятные для русской армии обстоятельства получались при отступлении ее через самый город Москву. Действительность подтвердила правильность этих соображений, и результаты превзошли лучшие ожидания. Как известно, командующему арьергардом Милорадовичу удалось путем переговоров задержать наступление французской армии. Затем преследование велось настолько неэнергично, что русская армия выиграла так много времени, что 3 сентября Кутузов мог дать ей дневку, чтобы дать подтянуться отсталым. Обстоятельство весьма важное, так как число отсталых при прохождении через Москву должно было быть очень велико.
Что же касается до второй части предложения Барклая — об отступлении армии на Нижегородскую дорогу, то против него восстал Ермолов, который совершенно правильно указал на то, что вследствие предстоящего осеннего разлива рек, в особенности Оки, главная армия может оказаться отрезанной от юга и от южных армий Чичагова и Тормасова.
Предложение Барклая тоже не было принято военным советом. Да и вообще он не принял никакого решения, которое бы предложил для исполнения главнокомандующему. Кутузов поэтому под свою ответственность отдал приказание сдать Москву без боя и, пройдя Москву, отступать по Рязанской дороге. Командующему арьергардом Милорадовичу было приказано, боем, переговорами, чем угодно, возможно дольше задержать наступление французов. Обозам выступать с позиции среди ночи (на 2 сентября), войскам выступать вслед за обозами, не дожидаясь рассвета.
Этими самостоятельными распоряжениями, как мы впоследствии увидим, старый фельдмаршал вызвал сначала всеобщее недоумение, потом нарекания, затем они послужили главными основаниями, на которых были основаны интриги, направленные против него. Впоследствии же, когда всем стало ясно, насколько маневр русской армии сначала на Рязанскую дорогу, а потом на Калужскую, вышел удачен, стали утверждать, что мысль об этом маневре принадлежит не ему, а какому-то другому лицу.
Бивуак (Фабер дю-Фор)
Первая весть о сдаче без боя Москвы была получена государем через случайное лицо — одного помещика, покинувшего Москву. Затем о сдаче Москвы и об отступлении армии по Рязанской дороге его уведомил Ростопчин. Письмо было послано 1 сентября, получено государем 7-го. Взволнованный полученными сведениями, государь тотчас же послал начальника главного штаба, кн. Волконского, в армию. Отправляя его, государь сказал: «Не понимаю, зачем фельдмаршал пошел на Рязанскую дорогу, ему следовало идти на Калужскую. Тотчас поезжай к нему, узнай, что побудило его взять это направление; расспроси об армии и о дальнейших его намерениях». Слова государя очень характерны и выражают собой всеобщее настроение и то недоумение, которое господствовало в обществе и в армии по поводу приказания об отступлении по Рязанской дороге. Если таково было недоумение общества, то необъяснимо, как вожди армии и Ростопчин, хорошо знавший местность вокруг Москвы, не понимали цели и разумности движения по Рязанской дороге. Ростопчин в одном из своих писем государю прямо-таки называет маневры русской армии бесцельным и нерешительным мотанием. Достаточно, между тем, взглянуть на карту Московской губернии, чтобы убедиться в полной разумности отступления по Рязанской дороге. Отступление армии по Калужской дороге было, как мы выше указали, совершенно невозможным. Движение по направлению к Подольску было соединено с тем же, если не с еще большим риском, как и по Калужской. Затем ближайшая дорога к конечной цели передвижения русских войск, т. е. все к той же Калужской дороге, была дорога Рязанская. Последняя не представляет таких опасностей, как первая. Правый фланг отступающей армии защищен течением Москвы-реки, так что нападение с фланга почти невозможно. На этой дороге подвержен опасности только тыл. Помимо этого очень важного преимущества, по Рязанской дороге, после перехода через Москву-реку у Боровской переправы по линии селений Кулакова-Мячкова, находятся прекрасные для оборонительного боя позиции. Правый берег Москвы-реки господствует над левым, который открыт для действия по нем артиллерии. Протекающая впереди холмов Москва-река и Пахра делают позиции естественной крепостью. Боровской перевоз отстоит от Москвы всего верстах в тридцати, так что достаточно одного форсированного марша от Москвы, чтобы достичь вышеуказанных прекрасных позиций.
Не подлежит ни малейшему сомнению, что еще в Филях Кутузов знал и взвесил все выгоды отступления по Рязанской дороге и вполне ведал, что творил. По окончании совета он, нисколько не колеблясь и не предлагая вопроса на обсуждение собравшимся военачальникам, приказал отступление по Рязанской дороге. Почему это приказание, как мы выше указали, вполне правильное и логичное, вызвало недоумение в главной квартире, объясняется теми взаимоотношениями, которые к тому времени в ней установились. Беннигсен, начальник штаба Кутузова, все время советовал и даже действовал вопреки воле своего непосредственного начальника и по возможности интриговал против него. Кутузов за это платил Беннигсену полным недоверием. Если Ермолов пишет в своих записках, «что он не переставал признавать главную квартиру врагом всякой тайны», то в этом отношении старый фельдмаршал шел гораздо дальше на деле. Из своих планов и соображений он делал тайну от своего начальника штаба. Не в лучшем положении в отношении осведомленности находился и другой старший начальник Барклай-де-Толли. Близкое к нему лицо, его друг Вольцоген, пишет, что в то время «никто не знал ничего». Немудрено поэтому, что распоряжения главнокомандующего толковались вкривь и вкось, и что Ростопчин, прикомандировавшийся к главной квартире после сдачи Москвы, слыша всевозможные толки, даже совершенно добросовестно пришел к тому убеждению, что Кутузов действует, сам не понимая, что творит.
Согласно приказанию фельдмаршала главные силы выступили с Поклонной горы в ночь на 2 сентября, и когда он сам в 8 часов утра, проехав через Москву, остановился у Преображенского кладбища за Покровской заставой, то уж значительная часть войск прошла через город, и к вечеру главные силы сосредоточились у деревни Панков, в 17 верстах от Москвы, где была назначена ночевка. День 2 сентября Милорадовичу удалось выиграть путем переговоров с Мюратом, и арьергард проследовал через Москву в ночь на 3-е. Вечером же 2 сентября через него же Мюрат выразил согласие на перемирие до 7 час. утра 3 сентября. Передовые отряды Мюрата под предводительством ген. Себастиани следовали за отступающим русским войском по пятам, не вступая, однако, в бой, так что 3-го утром получилось такое положение, что некоторые неприятельские кавалерийские части оказались сзади передовых русских цепей. Гвардейский, казачий и Изюмский гусарский полки оказались совсем отрезаны в Москве, так что вынуждены были выступить через Нижегородскую заставу. Они получили приказание присоединиться к отряду Винцингероде, стоявшему на Тверской дороге. Нельзя, конечно, не согласиться с ген. Себастиани, который при разговоре с Милорадовичем, происходившем среди самых передовых цепей, с улыбкой указал на любезность французов, которые могли бы в значительной степени затруднить отступление русских, если бы того захотели. Было ли это действительно любезностью со стороны Мюрата и Себастиани, или бездействие французов было результатом их убеждения, что с занятием Москвы война окончена, но только наш арьергард 3-го числа отступил без боя до деревни Вязовки в 6 верстах от Москвы, и обе армии, так сказать, распутались.
Так как 3-го числа неприятель не предпринимал никаких наступательных действий, то Кутузов дал своим войскам дневку. Последняя была полезна для армии, помимо того, что дала возможность подтянуться отсталым, еще тем, что за этот день дороги значительно очистились от повозок, бежавших в последний момент жителей Москвы, которые страшно затрудняли движение войск.
Казак (Орловского)
4 сентября главные силы переправились по Боровскому мосту за Москву-реку. На левом берегу остался только арьергард под начальством Раевского, корпус которого сменил войска Милорадовича. В этот день французы не предпринимали также сколько-нибудь энергичного наступления. Из села Жилина главнокомандующий, в то время, как уже началась переправа войск через Москву-реку, отправил с донесением государю полковника Мишо. На следующий день главные силы, ночевавшие на холмах против села Мягкова, двинулись по правому берегу р. Пахры по направлению к Подольску и ночевали на Каширской дороге. Арьергарду Раевского пришлось в этот день переправиться через Москву-реку под сильным натиском неприятеля. Кавалерия его отряда под начальством ген. Васильчикова до позднего вечера своими атаками вынуждена была прикрывать переправу. Когда же последняя совершилась и пехота и артиллерия заняли позиции на правом берегу реки у Кулакова, то кавалерия также переправилась, причем ей удалось разрушить за собой мост. К вечеру 5 числа все русские войска таким образом были за Москвой рекой, т. е. в относительно безопасном положении. С этого числа начался и знаменитый фланговый марш русской армии на Калужскую дорогу.
Это движение имело настолько серьезные результаты, что сначала его надо считать моментом поворота всей компании в пользу русских. Барклай-де-Толли в одной из своих позднейших записок, в то время, когда уже страхи улеглись, пишет государю: «Сие движение есть важнейшее и приличнейшее по обстоятельствам из совершенного со времени прибытия князя (Кутузова). Сие действие доставило нам возможность довершить войну совершенным истреблением неприятеля». Ничего нет удивительного, что многие хотели присвоить себе честь быть автором плана этого движения. Все, кто имели почему бы то ни было повод быть недовольными Кутузовым, старались доказать, что мысль о марше сначала на Рязань, а потом на Калужскую дорогу принадлежала не ему. Ермолов в своих записках пишет, что многие присваивали себе мысль о фланговом марше, но что ему известно, что она принадлежит Беннигсену.
Что положение вещей было совсем не таково, каким представляет его себе Ермолов, видно из донесения Кутузова государю, посланного через полковника Мишо[55].
Этим донесением совершенно определенно устанавливается, во-первых, то, что в действиях фельдмаршала не было нерешительности и мотания, а он поступал вполне планомерно, во-вторых, что автором плана флангового марша был сам главнокомандующий. Не опровергает последнего обстоятельства и то маловероятное сведение, что будто бы Кутузов сам указывал, что мысль о передвижении на Калужскую дорогу принадлежит Толю. Это сведение на наш взгляд указывает только на то, что не все в главной квартире ничего не знали. Ничего не знали в штабе Барклая-де-Толли, не знали Беннигсен и Ростопчин. Но нельзя, конечно, допустить, чтобы маститый фельдмаршал сам один не только придумал, но и выработал все детали плана. Несомненно, в этом участвовали и офицеры квартирмейстерской части, которым он доверял, и, конечно, в первую голову Толь, любимец, как его называли, князя.
Во всяком случае Беннигсен в выработке этого плана не играл никакой роли.
Роль же в этом деле Беннигсена, как и во все время его пребывания в армии, сводилась, главным образом, к интригам против Кутузова и Барклая-де-Толли.
Отъездом в Петербург полковника Мишо Беннигсен воспользовался для своих целей и в свойственном ему духе. Он написал письмо Аракчееву, которое он и просил Мишо передать по назначению. В этом письме Беннигсен, прекрасно понимая, какое удручающее впечатление должна была произвести на государя весть о сдаче Москвы и как он должен был быть этим недоволен, писал, что он, Беннигсен употребил все усилия, чтобы Москва не была сдана без боя, о чем просил довести до сведения государя. Что фельдмаршал сделал непростительную ошибку, сдав город, так как была полная возможность обороняться; но что теперь его настроение таково, что он понял свою ошибку и более склонен принимать его, Беннигсена, советы. Кроме того, он писал, что Барклай-де-Толли на военном совете в Филях тоже очень настаивал на сдаче Москвы без боя и заявил даже, что государь одобрит это действие.
Как мы видим из этого письма, Беннигсен не остановился перед ложью, клеветами на Барклая, так как последний не говорил и не мог говорить о том, что государь «одобрит сдачу Москвы без боя», желал воспользоваться моментом немилости к фельдмаршалу и командующему 1 армией и выставить свою личность в удачный момент.
Момент же для того, чтобы пустить в ход интригу, Беннигсен выбрал очень удачный: было весьма вероятным, что сдача Москвы настолько повлияет на государя, что фельдмаршал не останется у власти. Что настроение в то время в Петербурге было очень не в пользу Кутузова, видно из постановления Комитета Министров. Мишо приехал в Петербург 9 сентября, а уже 10-го заседал Комитет Министров, который, как бы идя на встречу желанию государя, постановлением своим осудил действия рекомендованного им Кутузова и указал, что донесения его находит не точными и неполными. Как известно, государь согласился с мнением Кутузова о том, что сдача столицы не есть еще окончание компании и ожидания лиц, ждавших отставки фельдмаршала оказались преждевременны. Весьма вероятно, что отсрочка в то время участи фельдмаршала находилась в связи с поездкой в армию Волконского, которому государь поручил расспросить и узнать точно о положении дел и ему донести.
Донской атаман Д. Е. Кутейников (Музей 1812 г.)
Как мы выше упомянули, 5-го числа все русские войска были уже за Москвой-рекой. 5-го же вечером главные силы дошли до Каширской дороги, 6-го до Подольска. Вслед за главными силами двинулся и арьергард. Командующий кавалерией отряда Раевского Васильчиков оставил на Рязанской дороге 2 казачьих полка под начальством полковника Ефремова, которому было приказано по возможности привлечь на себя внимание неприятеля и отступать не вслед за главными силами, а по направлению к Рязани. Действия Ефремова и его казаков были настолько удачны, что преследовавший их французский авангард был в течение нескольких дней в полной уверенности, что перед ними весь русский арьергард, что главные силы отступают на Рязань. Только в ночь на 10 сентября командовавший передовыми силами французского авангарда генерал Себастиани, преследовавший казаков до Бронниц, донес, что он пошел по ложным следам и что русская армия исчезла. При следовании через Каширскую и Серпуховскую дорогу Васильчиков оставил на них также по два казачьих полка с тем же приказанием отступать не к главным силам, а на юг по тем дорогам, по которым они стояли. Этим отрядам, хотя и не удалось ввести в заблуждение противника, но они были полезны тем, что отвлекли впоследствии от войск Мюрата сильные наблюдательные отряды.
7 сентября русская армия имела дневку в Подольске, а 8-го достигла селения Горок на старой Калужской дороге. Из Подольска был выслан отряд Милорадовича, состоявший из 8 пехотного и 1 кавалерийского корпусов, в авангард по направлению к Москве до Десны. В окрестностях селения Горок и Красной Пахры русская армия остановилась на несколько дней. Так как она почти выполнила свое назначение и была на старой Калужской дороге, то заняла выжидательное положение. Из Красной Пахры был отряжен генерал Дорохов с 2.000 легкой кавалерии на Смоленскую дорогу. Отряд этот действовал очень удачно, в партизанском духе и уничтожил несколько транспортов и отдельных небольших отрядов.
Наполеон, получив в ночь на 10 сентября донесение генерала Себастиани о том, что русская армия куда-то рассеялась, и что перед авангардом только казачьи части и о нападении русских на Смоленской дороге, приказал бывшему тогда в Москве Мюрату самым энергичным образом преследовать русских. Корпусу Понятовского выступить по направлению к Подольску, а Бесьеру — по Тульской дороге. Мюрат, убедившись в том, что Себастиани введен в обман, 12 сентября со своей кавалерией направился по той дороге, по которой отступили русские, т. е. к Подольску, и приказал Понятовскому ускорить движение к этому городу. Движение кавалерии Мюрата и корпуса Понятовского не осталось незамеченным ни в русском авангарде, ни в главной квартире, и в последней было принято за общее наступление французской армии. Для воспрепятствования обходу русской позиции с фланга и тыла, Милорадович от авангарда отделил отряд, силою приблизительно в 2 пехотных дивизии под начальством генерала Остермана к деревне Немчиново. В этом же направлении была послана дивизия Паскевича от войск Раевского. Оба эти отряда, соединившись и заняв позиции, были вполне достаточны для воспрепятствования обходу. Встретив на пути отряд Остермана, Мюрат донес Наполеону, что русская армия наступает и, очевидно, намерена вступить в бой. Согласно этому донесению император отдал распоряжение об общем наступлении всей своей армии. Это распоряжение было отменено, когда вслед за тем от Мюрата было получено донесение, что русская армия отступает. Мюрат в последнем случае был введен в заблуждение передвижением Остермана на другую позицию. Как мы видим, оба донесения Мюрата Наполеону были неправильны. Вообще в этот период войны заметно сильное ухудшение разведочной службы в французской армии, которое объясняется тем, что французская кавалерия, терпя сильный недостаток в фураже, пришла уже в плохое состояние.
В виду наступления Понятовского и Мюрата Кутузов 14 сентября собрал военный совет. На этом совете Беннигсен предлагал идти навстречу до Подольска наступающей французской армии (как в то время считали), встретиться с ней и вступить в бой. Почему русские должны были возвращаться назад по тому пути, по которому прошли, и оставлять без прикрытия столь важную стратегическую линию, как Калужская дорога, на которой они уже находились, представляется совершенно непонятным. Вполне естественно поэтому, что этот план никто на совете не поддерживал. Относительно же того — выжидать ли неприятеля при Красной Пахре, позиции, при которой не представлялось особых выгод, или же отступать южней от Москвы и там искать удобной позиции — мнения разделились. Вообще настроение армии было повышенное и против каких бы то ни было отступательных движений. Старшие начальники армии, среди которых был на этот раз и Барклай-де-Толли, резко высказались против дальнейшего отступления и предлагали, укрепив позиции, выжидать неприятеля на месте. С другой стороны, мнение, которое поддерживал Кутузов, об отступлении южней от Москвы имело в свою пользу очень важное соображение, помимо того, что позиция под Красной Пахрой была неудовлетворительна.
Донской атаман А. А. Карпов (Музей 1812 г.)
От Москвы вели на Калугу собственно три дороги: старая Калужская, через Красную Пахру и Тарутино, новая Владимирская, через Боровск и Малый Ярославец, и Тульская, через Серпухово и Тарусу. Старая Калужская дорога средняя из этих дорог. Все эти три дороги на линии Красной Пахры расходятся друг от друга на весьма значительное расстояние, которое отсюда по мере движения на юг все уменьшается. Поэтому, чем южней русские войска заняли бы позиции, тем легче было бы наблюдение за всеми тремя дорогами, по какой бы из них неприятель ни предпринял наступление. Мнение фельдмаршала восторжествовало, и было решено отступать на юг, пока не представится выгодная позиция. 16 сентября войска перешли в деревню Бабенково, а арьергард занял позиции при Красной Пахре. 17 сентября Мюрат энергично атаковал позицию Милорадовича у Красной Пахры, но был отбит. У Бабенкова русская армия простояла несколько дней. Сюда, по приказанию Кутузова, стягивались отделившиеся от армии отряды, в том числе и отряд Дорохова. Отозвание последнего отряда к главным силам было, конечно, ошибкой, так как он очень успешно действовал на Смоленской дороге — коммуникационной линии французов. Сам же по себе он не мог считаться сколько-нибудь серьезным подкреплением главных сил.
Главная квартира в это время была занята приисканием позиции на старой Калужской дороге. На этой почве между главнокомандующим и Беннигсеном разыгралось довольно крупное столкновение. Беннигсен настаивал на том, чтобы укрепиться на позиции у Бабенкова, утверждая, что она вполне пригодна для действия всей армии. Кутузов, имея сведения от офицеров квартирмейстерской части, что под Тарутиным очень удовлетворительная позиция, настаивал на отступлении южней. Выведенный из себя возражениями Беннигсена, Кутузов, наконец, заявил: «Я слагаю с себя командование армией; я только волонтер, вы, как старший, вступаете в отправление обязанностей главнокомандующего, в вашем распоряжении мой штаб. Будьте любезны осмотреть позиции и затем действуйте под свою ответственность». По осмотре позиции Беннигсен в виду того, что ответственность могла пасть на него, должен был признать, что позиция никуда не годится. После этого Кутузов объявил, что он опять вступает в командование армией, приказал отступать к Тарутину. Во время передвижения русской армии к Тарутину, Мюрат, под начальством которого из корпусов Бесьера и Понятовского и его собственного сосредоточилосъ до 26 тысяч человек, предпринял обходное движение к с. Богоявленскому. Это движение было фланговым по отношению к главным силам и в тыл по отношению к арьергарду. Благодаря удачным действиям Милорадовича и в особенности русской артиллерии полковника Захаржевского, которая выехала на позицию на глазах неприятельской кавалерии и открыла по ней огонь, наступление Мюрата было неудачным и русский арьергард не потерял связи с главными силами. 21 сентября он отступил почти без потерь к Спас Купле, а на следующий день перешел за реку Чернишну.
Этими немногими боями и стычками исчерпывается описание внешних действий французской и русской армий друг против друга за период времени от сдачи Москвы до боя при Тарутине. С 22 сентября по 6 октября русская армия и армия Мюрата стояли друг против друга и одна в виду другой, причем аванпосты были только разделены речкой Нарой, и не предпринимали никаких военных действий.
Со стороны русских такая затяжная остановка была вполне объяснимой. Кутузов ясно понимал, что каждый день замедления военных действий дорог. С каждым днем русская армия усиливалась. С Калугой установилось регулярное сообщение, следствием чего было и правильное продовольствие войска. С каждым днем армия увеличивалась численно, принимая в свои ряды рекрутов и ратников. К концу 2-ой недели стоянки у Тарутина в распоряжении Кутузова было уже слишком 80.000 правильно сорганизованного войска, не считая тех войск, которые были в отдельных отрядах, и казаков. Для французов же каждый день причинял огромный вред. Все больше развивающиеся партизанские действия делали сообщение с Западом все затруднительней. Отсутствие фуража вокруг Москвы ослабляло кавалерию, необходимую для борьбы с партизанами. Стоянка в сожженной Москве ослабляла французское войско. Бездействие Мюрата поэтому может быть объяснено только тем, что он, как привычный кавалерийский начальник, не чувствовал почвы под ногами, не имея хорошей кавалерии, или же тем, что французы продолжали надеяться, что взятием Москвы война окончена. На то, что Наполеон считал момент выгодным и возможным для заключения мира, указывает приезд в главную квартиру 23 сентября его флигель-адъютанта Лористона с предложением перемирия. Кутузов, хотя и принял Лористона, за что впоследствии получил от государя замечание, но от переговоров о перемирии отказался, сославшись на то, что не имеет на это полномочий.
В отношении высшего управления армией за этот период произошло несколько важных перемен.
Во время стоянки армии под Красной Пахрой из Петербурга прибыл флигель-адъютант полковник Чернышев, который привез главнокомандующему выработанный в Петербурге общий план военных действий[56]. В том же рескрипте было указано, что Тормасов отказывается от командования запасной армией и переводится в главную, причем на усмотрение главнокомандующего предоставлялось назначить его начальником 2-ой армии на место раненого Багратиона или, если обе армии будут соединены в одну, дать ему какое-нибудь другое назначение.
Г.-л. И. Е. Ефремов (Донск. музей)
После страшной убыли в войсках под Бородином и во время арьергардных боев до Москвы русская армия настолько растаяла, что разделение ее на две армии являлось совершенно излишним, тем более, что обе армии давно уже действовали совокупно. Существование двух отдельных штабов армий и, сверх того, штаба главнокомандующего только затрудняло, замедляло и путало управление. В виду этого Кутузов никого не назначил заменяющим Багратиона, а Сен-При, начальник штаба 2-ой армии, получил другое назначение, вследствие чего 2-ая армия была в непосредственном ведении главнокомандующего и его штаба. 7 сентября в Подольске Кутузов назначил одного общего для всех армий, или, лучше сказать, штабов, дежурного генерала Коновницына. На последнего он, довольно демонстративно избегая Беннигсена, очень часто возлагал те обязанности и поручения, которые входили в сферу деятельности начальника штаба. Скромный и считавший себя недостаточно опытным Коновницын в этих случаях прибегал к помощи Ермолова, начальника штаба 1-ой армии. Такой порядок или, лучше сказать, беспорядок, конечно, не мог не отзываться дурно на общем течении дел.
Вышеупомянутым рескриптом, присланным с полковником Чернышевым с полномочием о возможности соединения армий, Кутузову развязывались руки. 16 сентября он издал приказ, по которому 5 пехотных и 3 кавалерийских корпуса, входивших в состав 2-ой армии, должны были войти в состав 1-ой армии, под начальством Барклая-де-Толли, остальные же ее части — в состав отряда Милорадовича. Штаб армии составлялся из следующих лиц: начальник штаба — Ермолов, дежурный генерал Коновницын, генерал-квартирмейстер Толь, генерал-интендант сенатор Ланской, начальник артиллерии — ген.-майор Левинцер, начальник интерной части ген.-майор Ферстер.
Приказ по армии от 16 сентября, которым узаконялось уже давно установившееся фактически положение вещей, но которым еще раз подчеркивалась ненужность двух главнокомандующих, был новым уколом самолюбию Барклая-де-Толли, побудившим его под предлогом болезни просит об увольнении его из армии. Получив согласие на увольнение от Кутузова, Барклай-де-Толли через два-три дня после приказа по армии уехал из нее. На его место Кутузов не назначил никого, объявив, что впредь до распоряжения Его Величества он вступает лично в командование 1-ой армией, т. е. в сущности единственной, которая тогда была под Москвой.
Болезнь, конечно, была предлогом для отъезда Барклая, так как за две недели перед тем при прохождении армии через Москву он не слезал с лошади в течение 18 часов, под Красной Пахрой его все видели здоровым и ободрявшим войска при раздаче наград обещанием скорого наступления и истребления французов. Истинные мотивы его отъезда, объяснены в письме, которое он представил Кутузову вместе с просьбой об отставке. Письмо, если откинуть в сторону те пессимистические ноты, вызванные оскорбленным личным самолюбием, является очень ценным историческим документом, характеризующим положение вещей в главной квартире и в армии в период Отечественной войны от Москвы до Тарутина, поэтому мы приводим его полностью.
Н. А. Дурова (Пис. А. Брюллов)
Барклай-де-Толли пишет:
«С сердцем, исполненным горести, я был принужден, как по причине расстроенного здоровья, так и по обстоятельствам, которые буду иметь честь объяснить, усердно просить вашу светлость избавить меня от командования армиею. Решимость оставить армию, с которой я желал жить и умереть, мне стоит многих сожалений. Но я считал это своею обязанностью для пользы службы моему Государю и для личного успокоения просить, как милости, позволения удалиться. Но время решительное, когда грозная опасность отечества вынуждает отстранить всякие личности, вы позволите мне, князь, говорить вам со всею искренностью и обратить ваше внимание на все дурное, которое незаметно вкралось в армию или без вашего соизволения или не могло быть вами замечено.
Управление армиею, так хорошо установленное, в настоящее время не существует. Ваша светлость начальствуете и даете приказания, но генерал Беннигсен и все те, которые вас окружают, также дают приказания и отделяют по своему произволу отряды войск, так что тот, кто носит название главнокомандующего, и его штаб не имеют об этом никаких сведений до такой степени, что в последнее время я должен был за получением сведений о различных войсках, которые были отделены от первой армии, обратиться к вашему дежурному генералу, но и он сам ничего не знал. Чтобы узнать, где находятся казаки этой армии, отнеслись к генералу Платову, но и он ничего не знал. На этих днях мне был прислан приказ: отделить часть кавалерии для подкрепления арьергарда, и при этом забыли, что вся кавалерия, не исключая кирасир, уже была отделена, о чем меня даже и не уведомили.
Квартирмейстерская часть совершенно расстроена, потому что нет генерал-квартирмейстера; сегодня это Толь, завтра Нейтгарт, на другой день Хоментовский и пр. исправляют эту должность, и все офицеры этой части, которые были распределены между главною квартирой и различными корпусами, и каждый из них имел свое назначение, составляют теперь свиту ген. Беннигсена, который употребляет их так, что недавно никто не знал, по какой идти дороге и где остановиться.
Обе армии, зная только, что надо следовать большою дорогой, шли без порядка. Экипажи, артиллерия, кавалерия, пехота, часто изломанные мосты останавливали движение, о починке которых не прилагалось никаких стараний. Приходя после утомительного перехода на назначенное место, войска бродили остаток дня то влево, то вправо, не зная, где остановиться, и, наконец, останавливались по сторонам большой дороги в колоннах, без биваков и продовольствия. Я сам за несколько дней не имел при себе никого из квартирмейстерского корпуса, который мог бы дать мне сведения о переходах и стоянках.
Корпус путей сообщения, образованный при армии для наблюдения за дорогами и мостами и который под начальством полковника Монфреда прекрасно исполнял свои обязанности, отделен от армии. Ген. Беннигсен отдал его под начальство Ивашева, присоединив к нему и всех пионеров обеих армий — 800 ч. конных и 2.000 пеших ополченцев и, несмотря на то, что по пути нет ни мостов, ни приготовленных дорог, а старые офицеры этого корпуса или уволены или разосланы, так что я ничего об этом не знаю, хотя они и принадлежат к армии.
Две трети армии со всею кавалериею, хотя она так расстроена, что не может более служить, находятся в арьергарде и исключены из всякой зависимости от главнокомандующего армиею, потому что они получают приказания только от ген. Беннигсена и ему представляют донесения, и я должен иногда выпрашивать, так сказать, как милости, сведений, что делается в арьергарде.
Три раза в один день отдаются приказания атаковать неприятельские аванпосты и три раза отменяются. Наконец приводятся бесполезно в исполнение около вечера без цели и основания, потому что ночь заставляет прекратить действия. Подобные поступки заставляют опасаться, что армия потеряет всякое доверие к своим начальникам и даже храбрость.
Вот, князь, верная картина армии и положения того, кто после заслуг, оказанных отечеству, находится в несчастном состоянии подпасть ответственности и страдать за все дурные последствия, которые он предвидел и не имел никакой власти предупредить их.
При этих обстоятельствах, которые еще усиливает враждебная партия своим смертельным ядом, когда величайшее несчастие может последовать для армии, пользы службы требуют, по крайней мере, с моей стороны не ронять достоинства главнокомандующего. Моя честь, мое имя вынуждают меня, как честного человека, на этот решительный шаг. Армия, которая находится не под начальством одного, но многих, не может не приблизиться к совершенному разложению.
Все эти обстоятельства в совокупности расстроили мое здоровье и сделали меня неспособным продолжать службу».
Письмо к государю, в котором он просил об увольнении из армии, содержит в себе только указания на факты, но заключает в себе и довольно резкие обвинения против Кутузова и Беннигсена. (См. статью «Барклай-де-Толли», III т.).
Был ли прав Барклай-де-Толли, описывая в столь мрачных красках положение дел в русской армии? Если мы обратимся к запискам и письмам некоторых других современников и очевидцев, то встретимся еще с более мрачной картиной.
Беннигсен, напр., всюду и везде, даже и в письмах к государю, выставлял Кутузова, как дряхлого старика, лентяя, сибарита и человека вполне непригодного для такого великого дела, к которому он был призван. Вследствие только неспособности Кутузова происходили неудачи русского оружия. О непорядках в отношении управления, продовольствия и пр. армии Беннигсен благоразумно умалчивает, так как эти непорядки должны были быть отнесены столько же на счет Кутузова, как и его, Беннигсена, как начальника штаба.
Но описания Барклая-де-Толли и Беннигсена далеко уступают в мрачности тому описанию, которое делает в своих письмах на имя государя Ростопчин, прикомандировавшийся к армии, пока та была в пределах Московской губернии. По его мнению и убеждению, в армии был какой-то хаос, из которого она выбралась уже неизвестно каким Промыслом Божьим. В его письмах достается почти поголовно всем[57].
Конечно, нельзя отрицать того, чтобы постоянное отступление и сдача Москвы хорошо повлияли на дух, а следовательно, и на армию. Всякое отступление влечет за собой эти последствия. При отступлении же через собственную страну, где солдаты самым тесным образом соприкасаются с мирными жителями, слушают их соболезнования и упреки, наконец, где им добровольно предлагают всевозможное имущество, чтобы оно не досталось неприятелю, эти дурные последствия усугубляются.
За время движения армии от Бородина к Москве было заметно значительное учащение случаев дезертирства и мародерства. Кутузов нисколько не скрывал и не замалчивал этого печального явления, напротив того, не считая напоминаний в приказах по армии, он совершенно официально предложил начальнику Московского ополчения принять самые энергичные и строгие меры против солдат мародеров. Наконец сдача Москвы, которая, по выражению Милорадовича, «не предусмотрена никаким регламентом», должна была деморализирующим образом действовать на русские войска. Это было неизбежным последствием прохождения через большой город и сдачи Москвы. До Петербурга весть о дезертирах и мародерах русской армии дошла, очевидно, в очень преувеличенном виде — весьма вероятно, что письма Ростопчина сыграли свою роль. Обеспокоенный этой вестью, государь приказал выработать особую форму присяги, по которой солдаты действующей армии должны были поклясться не покидать своих команд, не обижать мирных жителей, не предаваться грабежу и т. п. Лист с присягой был переслан Кутузову, но государь предоставил на его усмотрение привести войска к присяге или нет. Старый фельдмаршал, который, как мы выше упомянули, не замалчивал темных явлений в своей армии, когда это было необходимо[58], однако, не счел нужным унижать вверенные ему войска вторичной поголовной присягой, так как в этом не видел на этот раз никакой надобности.
«Твердость русского крестьянина.
— Где крестьяне, куды давали свои пожитки?
— Ась, не слышу; говори громче»
(И. Теребенев).
Относительно продовольствия войск и голодовки частей целыми днями, сведения Ростопчина нужно признать тоже преувеличенными. Правда, от Москвы до самого Тарутина войска продовольствовались путем закупки и реквизиции самими частями, а не от интендантства. При большом скоплении войск в одном месте этот способ продовольствия представляет мало гарантий к полному удовлетворению нужд отдельных частей. Поэтому весьма вероятно, что некоторым частям иногда и приходилось голодать. Но чтобы последнее явление было повальным в русской армии, — на это нет никаких указаний. Барклай-де-Толли, упоминая в своем письме о многих неудобствах и затруднениях, которые пришлось претерпевать армии вследствие плохого управления, не упоминает о том, что ей приходилось голодать. Вильсон, находившийся в армии во время ее стоянки у Красной Пахры, т. е. в то время, когда она еще довольствовалась путем реквизиции, не скрывая от государя раздоров и неурядиц, происходивших в главной квартире, доносил ему, что в армии он застал полный порядок, хороший дух войск, полные артельные котлы[59].
Указание Барклая-де-Толли на полную дезорганизацию, или лучше сказать, на отсутствие военно-инженерной части надо признать совершенно правильным. Вильсон также обратил внимание государя на то, что войска при переправах через реки и топкие места подвергаются не только крайним неудобствам, но очень часто и опасностям.
По поводу беспорядков в армии нельзя также не упомянуть о рескрипте государя на имя главнокомандующего от 2 октября. Рескрипт этот для Кутузова весьма не лестный, и в нем государь упрекает его в медленности и предлагает приступить к наступательным действиям[60].
Примечание составителя статьи. В январском 1912 года номере журнала «Министерства Народного Просвещения» впервые опубликованы некоторые письма фельдмаршала Кутузова к его дочерям, которые были неизвестны составителю статьи. Из этих писем одно имеет непосредственное отношение к настоящей статье и им подтверждается та мысль, что еще задолго до совета в Филях и сдачи Москвы в голове фельдмаршала созрел совершенно определенный план о переносе театра военных действий на Калужскую дорогу, который он не скрывал от приближенных к нему офицеров главной квартиры. Письмо это писано под диктовку Кутузова Кудашевым, помечено 19 августа «pres de Гжатск» и адресовано дочери фельдмаршала Анне Михайловне Хитрово, проживавшей в то время в своем имении под Тарусой. В письме Кутузов, между прочим, пишет: «Но нужно сказать откровенно, что мне не нравится ваше пребывание около Тарусы, вам могут наделать беды, так как, что такое представляет собой одна бедная женщина с детьми; поэтому я хочу, чтобы вы уехали подальше от театра войны. Уезжайте же, дорогой друг, но я требую, чтобы сказанное мною было хранимо вами в глубочайшей тайне».
А. Кожевников
Лагерь при Тарутине (с рис. И. Иванова)[61].
Москва при французах
I. Французы в Москве
Прив.-доц. Ю. В. Готье
2 сентября русский арьергард Милорадовича тихо и в полном порядке прошел всю Москву от Дорогомиловской до Покровской заставы, а за ним, по пятам, в город вошел первый отряд французов под командой генерала Себастиани.
Известен напыщенный рассказ Сегюра о вступлении Наполеона в Москву. По существу дела он близок к истине; его искажают лишь театральные подробности и преувеличения, обычно присущие историку великой армии. В событиях 2 сентября можно отметить несколько последовательных моментов — заключение неформенного и негласного перемирия между Милорадовичем и Мюратом, движение войск по городу, появление Наполеона перед Дорогомиловской заставой и, наконец, его въезд в город. Инициатором перемирия был ген. Милорадович. Получив приказание доставить письмо Одинцова к начальнику штаба французской армии маршалу Бертье, Милорадович поручил посланному им полковнику Демидову передать командовавшему французским авангардом Мюрату, что если французы желают занять Москву целой, то должны дать нам спокойно выйти из нее с артиллерией и обозом. После некоторого колебания Мюрат согласился на предложение русского генерала, поставив со своей стороны одно только условие, чтобы французы в тот же день, т. е. 2 сентября, могли фактически занять Москву.
Условия были в точности выполнены с обеих сторон, и этим именно объясняется совершенно особый и своеобразный характер этого дня. Быстро и молчаливо шли обе армии одна за другой, часто прямо соприкасаясь. Оставшиеся в Москве жители не всегда даже могли отдать себе отчет в том, что за каким-нибудь казачьим отрядом плотной стеной шли по московским улицам враги; некоторым только трубные сигналы, отличавшиеся от наших, да команда на иностранном языке открывала глаза на происходящее.
Въезд французов в Москву (Совр. грав.)
«В центре города, на расстоянии полуверсты от улиц, по которым шли отступающие русские войска, не имели никакого понятия о их движении», тем более приходится это говорить о далеких уголках города: столь же незаметным и неожиданным, как появление неприятеля у заставы часам к 12 дня, было и вступление его в город, происшедшее около 2 часов. «Я был у приятеля, — пишет очевидец, — в переулке, всего в 300 шагах от улицы, по которой наступала французская армия, но мы узнали об этом только, когда кавалерийский отряд с несколькими орудиями пронесся мимо нас, чтобы скорее занять Кремль. В это мгновение раздалось 5 пушечных выстрелов, где-то в отдалении ответили 4 мелких полевых орудия и, немного спустя, выстрелили один раз в сторону Кремля из небольшого орудия. Я никогда не мог узнать причины всей этой перестрелки»… Как бы то ни было, это были единственные выстрелы при сдаче Москвы, вызванные отчаянной попыткой нескольких фанатиков-патриотов оказать сопротивление французам в кремлевских воротах.
Наполеон переночевал в селе Вязьмах, в 40 верстах от Москвы, он после полудня подъехал к Москве и здесь разыгрались сцены в общем довольно верно описанные и Сегюром. Москва казалась местом блаженства и отдыха для наступавшей армии; французы, не исключая самого Наполеона, подходили к ней в упоении, а чудный вид, открывавшийся на город с Поклонной горы, еще более содействовал подъему их духа. Оставление города жителями было для них первым и неожиданным разочарованием; и это разочарование пережил и сам император. Резкость его в беседе с несколькими иностранцами, встретившими его вместо ожидаемой депутации горожан, лучше всего показала его раздражение. Целый час провел Наполеон у заставы в таком волнении, что, по словам очевидца, его свита оставалась перед ним вкопанная. Он так и не решился в этот день въехать в Москву и остался на ночлеге в одном из трактиров Дорогомиловской слободы.
Однако к вечеру 2 сентября город был уже занят французской армией. Когда император французов занимал своими войсками среднеевропейские столицы, Берлин или Вену, то жизнь не умирала в них, несмотря на потрясение страны, несмотря на ненависть к французам; понятно, следовательно, недоумение Наполеона при виде решительной пустоты города, достигнуть которого он, по-видимому, так сильно стремился. Тем не менее, первые меры Наполеона направлены были к тому, чтобы успокоить оставшихся жителей и создать более или менее прочный порядок управления городом. И то и другое было всецело в интересах «великой» армии и ее предводителя, потому что Москва была прежде всего нужна им как место отдыха, а порядок в городе и урегулированное пользование всем, что предполагалось найти в Москве, должны были поддержать порядок в войсках и сохранить силы армии для дальнейших действий.
Генеральный план столичного города Москва
С целью поддержания порядка были приняты меры двоякого рода. При самом вступлении французов были расставлены кавалерийские пикеты вдоль Москвы-реки и по некоторым улицам для предупреждения грабежей со стороны утомившихся и озлобленных долгим походом солдат. Эта мера не привела, однако, к желанному успеху, и уже 2 сентября к вечеру, по единогласному свидетельству русских и французских очевидцев, на различных улицах Москвы появились шайки мародеров, в первое время преимущественно из вспомогательных и союзных войск. Затем было приступлено к организации управления Москвой, высшее руководство которым было возложено, конечно, на французов; в низших, однако, органах его должны были принимать участие и русские. Маршал Мортье был назначен генерал-губернатором, генерал Дюронель — комендантом, Лессепс, бывший генеральный консул в Петербурге, покинувший Россию после начала военных действий и вызванный Наполеоном в главную квартиру как эксперта по русским делам, — «интендантом города и московской провинции», т. е. чем-то вроде начальника гражданского управления. Организация московского муниципалитета потребовала довольно много времени и была более или менее закончена только позднее, когда пожар и его последствия успели очень изменить первоначальные предположения французов; тем не менее, прокламация к русскому населению Москвы от 19 сентября (1 октября) 1812 года хорошо рисует эти первоначальные и в значительной степени теоретические предположения. Мы решаемся поэтому привести ее здесь.
Вступление французов в Москву (Немец. луб. карт.)
«Жители Москвы! Ваши несчастья велики, но его величество император и король желает прекратить их. Ужасные примеры вам показали, как он наказывает неповиновение и преступления. Приняты строгие меры для прекращения беспорядков и восстановления общей безопасности. Отеческое управление, составленное из вас самих, будет вашею городскою управою (municipalite). Оно будет заботиться о вас, о ваших нуждах, о вашей пользе. Его члены будут отличаться красной лентой через плечо, а городской голова, сверх того, будет носит белый пояс. Но вне отправления своей службы они будут носить перевязь на левой руке из красной ленты. Городская полиция возобновлена в ее прежнем виде, и ее деятельностью введен уже лучший порядок. Правительство избрало и назначило двух главных комиссаров, или полицмейстеров, и двадцать частных комиссаров, или приставов, в прежних частях города. Вы их будете узнавать по перевязке из белой ленты на левой руке. Многие церкви различных исповеданий открыты, и в них беспрепятственно производится богослужение. Ваши сограждане ежедневно возвращаются в свои жилища, и отданы приказания, чтобы им в несчастном их положении оказывали должную помощь и покровительство. Такие меры приняты правительством для того, чтобы восстановить порядок и облегчить ваше положение. Но чтобы достигнуть этого, необходимо, чтобы и вы приложили к тому все старания, чтобы забыли по возможности те несчастия, которые вы претерпели, наполнили бы ваши души надеждою на участь менее суровую, чтобы вы были уверены, что неизбежная и позорная смерть ожидает тех, которые бы осмелились покуситься на вас лично или на ваше имущество, и не сомневались, наконец, в том, что они будут сохранены, потому что такова воля величайшего и справедливейшего из всех монархов. Солдаты и обыватели, какой бы народности вы ни были! Восстановите общественное доверие (la confiance publique), источник благоденствия государства, живите как братья, подавайте взаимно друг другу помощь и покровительство, соединитесь вместе, чтобы не дать ходу намерениям злых людей, повинуйтесь гражданским и военным властям, и в скором времени перестанут литься ваши слезы».
Летний сад в Москве (Фабер дю-Фор)
Но именно общественного доверия и не хватало. Его и не могло быть, потому что испуганная кучка оставшихся в Москве жителей, с одной стороны, не могла питать особенного доверия к врагам, а с другой стороны, служа французскому управлению Москвы, боялись оказаться изменниками своей родине. Вербовка русских членов муниципалитета, по рассказам современников, производилась из-под палки чуть ли не под угрозами расстрела, а назначенный городским головой купец Находкин нашел в себе мужество с самого начала заявить, что он ничего не будет делать против родины и присяги своему законному государю.
Мы упомянули выше о пожаре Москвы; это — центральное явление французской оккупации, имевшее громадное значение и для самого города с его русским населением и для судьбы неприятельской армии[62].
Каковы были его результаты? Можно наметить троякого рода последствия московского пожара для остававшихся в ней русских и для занимавшей ее неприятельской армии. Прежде всего наличному населению Москвы как оставшимся в ней жителям, так и неприятельской армии пришлось и во время пожара и после него испытать страшные бедствия от самого пожара, от недостатка припасов, истребленных огнем, и от нападения грабителей. Свидетельства очевидцев, французов и русских, полны рассказами о пережитых ужасах и опасностях, о зверствах и жестокостях грабителей, о чудесных спасениях, и среди этих рассказов изредка попадаются повествования о благородных и самоотверженных поступках[63], на которые оказывались одинаково способны избранные люди с обеих сторон. Не утомляя читателя бесчисленными рассказами этого рода, приведем лишь из «Былого и Дум» рассказ о скитаниях и судьбе Яковлевского семейства и дворни:
22-й бюллетень великой армии
«Сначала еще шло кое-как, первые дни то есть; ну, так, бывало, взойдут два-три солдата и показывают, нет ли выпить; поднесешь им по рюмочке, как следует, они и уйдут да еще сделают под козырек. А тут, видите, как пошли пожары, все больше да больше, сделалась такая неурядица, грабеж пошел и всякие ужасы. Мы тогда жили во флигеле у княжны, дом загорелся; вот Павел Иванович (Толохвастов) говорит: „Пойдемте ко мне, мой дом каменный, стоит глубоко на дворе, стены капитальные“, — пошли мы, и господа и люди, все вместе — тут не было разбора; выходим на Тверской бульвар, а уж и деревья начинают гореть; добрались мы, наконец, до голохвастовского дома, а он так и пышет, огонь из всех окон. Павел Иванович остолбенел, глазам не верит. За домом большой сад, мы — туда, думаем, там останемся сохранны, сели пригорюнившись на скамеечках; вдруг, откуда ни возьмись, ватага солдат препьяных; один бросился с Павла Ивановича дорожный тулупчик скидывать; старик не дает, солдат выхватил тесак, да по лицу его и хвать, так у них до кончины шрам и остался, другие принялись за нас, один солдат вырвал вас у кормилицы, развернул пеленки, нет ли де каких ассигнаций или брильянтов, видит, что ничего нет, так нарочно, озорник, разодрал пеленки, да и бросил. Только они ушли, случилась вот какая беда: помните нашего Платона, что в солдаты отдали; он сильно любил выпить и был он в этот день очень в кураже, повязал себе сабли, так и ходил. Граф Ростопчин велел раздавать в арсенале за день до вступления неприятеля всякое оружие, вот и он промыслил себе саблю. Под вечер видит он, что драгун верхом въехал на двор; возле конюшни стояла лошадь, драгун хотел ее взять с собою, но только Платон стремглав бросился к нему и, уцепившись за поводья, сказал: „Лошадь наша, я тебе ее не дам“. Драгун погрозил ему пистолетом, да, видно, он не был заряжен: барин сам видел и закричал ему: „Оставь лошадь, не твое дело!“ Куда ты! Платон выхватил саблю, да как хватит ею по голове, драгун-то и покачнулся, а он его еще, да еще. Ну, думаем мы, теперь пришла наша смерть, как увидят его товарищи, тут нам и конец. А Платон-то, как драгун свалился, схватил его за ноги и стащил в творило, так его и бросил, бедняжку, а еще он был жив; лошадь его стоит, ни с места, и бьет ногой землю, словно понимает: наши люди заперли ее в конюшню, должно быть, она там сгорела. Мы все скорей со двора домой, пожар-то все страшней и страшней: измученные, не евши, взошли мы в какой-то уцелевший дом и бросились отдохнуть; не прошло часу, наши люди с улицы кричат: „Выходите, выходите, огонь, огонь!“ — тут я взяла кусок равендюха с биллиарда и завернула вас от ночного ветра; добрались мы так до Тверской площади, тут французы тушили, потому что их набольший жил в губернаторском доме; сели мы так просто на улице, караульные везде ходят, другие верховые ездят. А вы-то кричите, надсаждаетесь, у кормилицы молоко пропало, ни у кого куска хлеба. С нами была тогда Наталья Константиновна, знаете, бой-девка, она увидела, что в углу солдаты что-то едят, взяла вас и прямо к ним, показывает, маленькому, мол, манже; они сначала посмотрели на нее так сурово, да и говорят: „але, але“; а она их ругать, экие, мол, окаянные, такие-сякие; солдаты ничего не поняли, а таки вспрыснули со смеха и дали ей для вас хлеба моченого с водой, и ей дали краюшку. Утром рано подходит офицер и всех мужчин забрал и вашего папеньку тоже, оставил одних женщин да раненого Павла Ивановича, и повел их тушить окольные дома, так до самого вечера пробыли мы одне; сидим да плачем, да и только».
В отсутствии угла, в постоянной опасности от огня и грабителей, в незнании, что предпринять, куда идти, и в полном отсутствии всякой власти и был главный ужас этих дней.
Среди всеобщей неурядицы, увеличивавшейся с каждым днем, разлагалось и управление, введенное французами в Москве. Совместное участие русских и французов в муниципалитете не удалось; в суматохе, при возраставшей озлобленности обеих сторон не могло установиться общей работы; и импровизированный городской голова Находкин, о котором современники сохранили добрые воспоминания, и надворный советник Бестужев-Рюмин, оставшийся в Москве хранить архивы, сделанный товарищем головы и с большой похвалой отзывавшийся о генерал-губернаторе маршале Мортье, и другие русские, назначенные или согласившиеся принять участие во французском управлении Москвы, устранились от дела, видя, что при данных условиях их деятельность не может иметь каких-либо результатов. Среди грабителей, остановить которых не было никакой возможности, опускались руки и у назначенных приставами в полицейской части города французских офицеров: вот несколько образцов их безотрадных донесений, относящихся уже к концу сентября. «Часть моего округа, — доносит один из таких офицеров Лаланс, — постоянно грабят солдаты 3 корпуса, которые не только отнимают у несчастных укрывающихся в подвалах все ничтожное имущество, которое у них осталось, но имеют жестокость наносить им раны саблями. Раненые, которые помещены в госпиталь Воспитательного Дома, выходят оттуда отнимать у русских набранную ими капусту и картофель». Пристав Пресненской части Мишель Марк писал 29 сентября: «Отставного русского сержанта обокрал третьего дня вечером фурьер 10 роты гвардейской кавалерии и взял четверть овса, 4 рубашки и 2 пары чулок». Пристав Басманной части, Гюбер Дроз, извещал того же числа, что в его округе нет ничего нового, «исключая того, что солдаты воруют и грабят».
Москва 12 октября 1812 г. (Фабер дю-Фор)
При таком положении дел трудно было думать о какой-либо правильной деятельности по управлению городом. Что положение русского населения к концу оккупации было действительно тяжелым, признавали и французы: «Судьба жителей, оставшихся в Москве, стала ужасной, — пишет очевидец маркиз де-Шамбре. — Покинув дома, обреченные на сожжение, они бродили по городу, сгибаясь под тяжестью захваченного с собой имущества, подвергаясь насилиям солдат, которые, оскорбив и ограбив их, доходили в своем варварстве до того, что принуждали их нести в лагерь у них же отнятое добро. Необходимость во взаимной помощи заставляла их соединяться толпами, которые располагались вместе на ночлег под открытым небом. Изнемогая от голода и усталости, они питались овощами, находимыми в огородах… а позднее участвовали вместе с солдатами в поисках по погребам». О житье под открытым небом на окраинах Москвы, например, на Орловом лугу у Калужской заставы, на месте нынешней городской больницы, говорят и русские очевидцы. «На Орловом лугу народ, что муравейник; сели тут и мы; чего-чего там не было! И старый, и малый, и нищий, и богатый. Корзинки с новорожденными детьми, собаки, узелки и сундучки. Все расположились на лугу и говор-то, говор, что пчелиный рой. Погода, на наше счастье, стояла сухая, только ночи, разумеется, были свежи. А насчет пищи мы жили без нужды. Все кондитерские остались отперты, да частные кладовые, да ряды. Бери, кто что хочет, особенно в рядах. Провизии брать из рядов да из кладовых мы не считали грехом, потому что и без того бы не уцелела; опять, не умирать же нам с голода, а вот беда, что многие из наших грабили не хуже неприятеля. Уйдут, бывало, с Орлова луга, бродят по пустым домам и принесут с собой целые узлы накраденных вещей. И смотреть-то, бывало, срамно»… Таков бесхитростный рассказ свидетельницы пребывания москвичей на Орловом лугу.
Наполеон направляется из Кремля в Петровский дворец (Fermand)
Но если плохо было русским, то и для армии Наполеона дела обстояли далеко не важно. Наполеон с самого начала оккупации говорил всем окружающим о своем желании водворить порядок в городе. Но расстройство в армии было очень сильно и стало давать себя чувствовать уже в первые дни пребывания армии в Москве. Одной из главных причин этого явления было отношение к самому городу Москве, в которое стала французская армия. Москвы ждали как обетованной земли. В первый момент действительность, казалось, превзошла ожидания; дождались не только отдыха, но и громадной добычи, которую ничего не стоило взять в оставленном жителями городе. И начальники с первого дня фактически не препятствовали грабежу русского города, видя в этом нечто в роде заслуженной платы за тяжелый поход. Но грабеж помешал организовать с первых дней правильное продовольствие армии. Богатые московские запасы, которые при правильном расходовании могли бы представить богатые ресурсы, были разворованы и большей частью истрачены зря, без расчету. По отзывам самих французов, после первых дней всеобщего грабежа некоторые части войск не имели пропитания, хотя солдаты и даже офицеры имели много драгоценных вещей, дорогих материй, даже чая и сахара. Первый момент был упущен, а далее дело шло все хуже и хуже. Среди пожара и грабежей безвозвратно исчезала дисциплина; официальным признанием этого грустного факта был практиковавшийся в конце оккупации разрешаемый начальством очередной грабеж отдельных районов Москвы различными частями войск попеременно. Известно, что такое упадок дисциплины для армии, но на этом дело не останавливалось: перед французской армией уже в Москве вставал ужасный призрак голода. Пожар и беспорядочный грабеж скоро истребили московские припасы. От недостатка фуража лошади в Москве гибли сотнями ежедневно. Официально все в армии Наполеона обстояло благополучно, издавались успокоительные прокламации. На Большой Никитской в барском доме Познякова был устроен импровизированный французский театр для развлечения офицеров армии. Но все, что мы знаем о деятельности Наполеона и главного штаба армии за это время, говорит о беспокойстве и заботах и о том, как постепенно назревала мысль об эвакуации разоренной столицы, дальнейшая задержка в которой могла только повредить уже подточенным жизненным силам великой армии[64].
6 октября, когда достаточно выяснилась и неудача попыток завязать переговоры с императором Александром I и частичный переход в наступление со стороны Кутузова и невозможность долее оставаться в Москве, Наполеон отдал приказ о выступлении по Калужской дороге. В Москве с молодой гвардией на некоторое время задержался ее генерал-губернатор, маршал Мортье, которому Наполеон с первого своего ночлега, из села Троицкого, на р. Десне, предписал раненых и отсталых солдат отправить из Москвы в Можайск, 10 или 11 октября в 2 часа утра поджечь магазины с вином, казармы и все публичные здания, исключая Воспитательного Дома, поджечь кремлевский дворец, изломать все ружья, лафеты и колеса и положить порох под кремлевские стены; взрыв Кремля должен был последовать за выходом последних французских войск из города. Этот акт вандализма чрезвычайно характерен для самого Наполеона. Войдя в Москву, Наполеон принимал меры, чтобы сберечь ее, потому что она была ему нужна; теперь, озлобленный и раздраженный, он сорвал свою злобу на уцелевших исторических памятниках Москвы; это была расправа над ничем неповинной вещью, — расправа, к которой не раз прибегал Наполеон в минуты сильного гнева, но никогда, кажется, эта расправа не переходила столь резко границы бесцельного вандализма.
Оставление Москвы французами на некоторое время погрузило город в полную анархию. Мортье выступил из Москвы 11 октября вечером. «Ночь после выступления Мортье была самой ужасной из пережитых нами, — пишет несколько раз упомянутый очевидец, бывший офицер немец. — Вместо радости от ухода врагов мы чувствовали только страх от взрыва Кремля и от ожидания худшей из смертей. На рассвете мы услыхали крики вошедших в Москву крестьян, вооруженных ружьями, награбленными в Москве или отнятыми у французов. Эти разбойники бросились прежде всего к казначейству и разграбили оставшуюся там медную монету. К ним быстро присоединилась и московская чернь. Другое зрелище возбудило еще большее негодование. На Петровке какой-то священник с обнаженной саблей в руках призывал чернь грабить дома иностранцев»[65].
Наполеон в Кремле (Шмелькова)
В это время вступил в Москву первый русский отряд под командой генерала Иловайского, состоявший по большей части из казаков; окончательно порядок в городе был водворен генералом А. X. Бенкендорфом и регулярной кавалерией, находившейся под его начальством[66]. На третий день по вступлении в Москву казаков Иловайского было назначено первое торжественное молебствие, причем, по словам князя А. А. Шаховского, «одна только большая церковь в Страстном монастыре нашлась удобной к совершению божественной литургии».
Закончим наш очерк первыми впечатлениями того же князя Шаховского, одного из первых русских, вошедших в разоренную столицу: «При въезде на погорелище царской столицы мы увидали подле Каретного ряда старуху, выходившую из развалин; она, взглянув на нас, вскрикнула: „А… русские!“ и в исступлении радости, перекрестясь, она поклонилась нам в землю. Это полоумное изъявление сильного радушия заставило нас улыбнуться, хотя слезы сверкали в глазах наших, увидя с Тверского вала чрез пепелище, уставленное печными трубами и немногими остовами каменных домов и церквей, даже Калужские ворота».
Ю. Готье
Москва 8 октября 1812 года (Фабер дю-Фор).
II. Организация управления в занятых французами русских областях
В. Я. Уланова
Административная русская десница, не ведавшая, что творила военная шуйца, в большинстве названных пунктов силой задерживала население с его имуществом на месте жительства до момента занятия неприятелем города, и в руки французов попадало не только невывезенное имущество и запасы, но и много обывателей, стремившихся всеми силами выскользнуть из рук наступавших.
Грабежи, паника среди населения, начавшиеся пожары мешали французским вождям использовать с наибольшей выгодой стратегических и продовольственных целей занятые города и области с оставленными в них запасами и трудоспособным населением. В частности завоеватели не только рассчитывали воспользоваться силами последнего для своих продовольственных целей, но и стремились примирить обывателей с фактом подчинения новому повелителю, сделать из них деятельных сотрудников своего предприятия не только за страх, но и за совесть. «Правительством приняты меры для того, чтобы восстановить порядок и облегчить ваше положение», заявила одна французская прокламация. «Но, чтобы достигнуть этого, необходимо, чтобы и вы приложили к тому свои старания, чтобы забыли, по возможности, те несчастия, которые вы претерпели, наполнили бы вашу душу надеждами на участь менее суровую»…[67]
Сомнения насчет того, не будут ли такие «старания» противоречить долгу присяги, французы старались всячески успокоить. «Вражда императора Наполеона с императором Александром до вас не касается, — говорил в подобном случае французский генерал русскому обывателю: — ваши обязанности будут состоять лишь в том, чтобы наблюдать за благоденствием города»[68]. Если такие аргументы и были слишком грубым приспособлением к русской обывательщине, то привлечение населения к самоуправлению и некоторым образом к самозащите было со стороны французов таким приемом, который, действительно, мог устранить панику среди населения, организовать силы местных жителей в целях завоевателей, под флагом наблюдения за благоденствием обывателей. Конечно, французы могли придать форму организации местного управления только такую, которая им была ближе всего известна по отечественной практике и отвечала всепоглощающим задачам военного управления, в котором местное управление играло служебную роль и было вспомогательным винтом в общей системе. В этом смысле французские муниципалитеты с характерным преобладанием в них правительственного элемента и бюрократической опеки ближе всего отвечали условиям централизации военного управления и не были новшеством на русской почве, с ее магистратными (в Западном крае) и городскими учреждениями екатерининской формации.
Организация управления в занятых французами областях с привлечением к участию в нем местного населения, конечно, не везде прививалась с одинаковым успехом: для этого недостаточно было удачной для обеих сторон формы управления, — многое зависело от самого населения, — от добровольного участия его в отведенном ему новым правительством деле.
В этом отношении следует строго различать две категории занятых французами городов с их уездами: во-первых, области, полученные Россией по разделу с Польшей, с преобладающим литовско-польским населением, и, во-вторых, области исконно-русские или с смешанным составом населения. Если для второй категории нашествие Наполеона было покорением, небесной карой, то для первой армия Наполеона представлялась «Мессией, пришедшим восстановить древнюю Польшу», занятие областей французами было «освобождением от ярма Московского рабства заступничеством… Великого Наполеона»[69]. Немудрено, что при таких чувствах и настроении населения этого края всякая организационные начинания Наполеона встречали среди жителей живейший отклик и активное содействие. Как известно, Наполеон, после занятия Великого Княжества Литовского, учредил здесь стройную систему управления, с привлечением к участию местного элемента. Приказом от 1 июня 1812 г. Наполеон назначил временное правительство Великого Княжества Литовского из 5 членов, с поручением ему заведывать финансами края, доставкой провианта, организацией местного ополчения, народной гвардии и жандармерии. Временному правительству, имевшему свое пребывание в г. Вильне, были подчинены губернские «комиссии», открытые в губерниях Виленской, Гродненской, Минской и Белостокской. В помощь комиссиям были определены городские муниципалитеты с обязанностью заведывания городским имуществом, благотворительными учреждениями и муниципальной полицией. Деятельность всех этих учреждений, составленных из граждан княжества Литовского по назначению, должна была протекать под контролем императорского комиссара и военного губернатора[70].
Эта организация управления не только была торжественно приветствована населением, как законное правительство[71], но встретила себе официальное признание и поддержку со стороны варшавской конфедерации, обратившейся к временному правительству, как к своему органу, с предложением «принять всевозможные меры, внушаемые гражданской ревностью и важностью обстоятельств, к укреплению и установлению общего союза для восстановления отечества»[72].
Таким образом, навстречу организационным действиям Наполеона шло творческое стремление населения, стремившегося возвратить себе утерянную свободу и политическую независимость. Конечно, при таких условиях работоспособность организованного Наполеоном управления в крае была обеспечена.
Совсем иное отношение встретили учреждения Наполеона со стороны населения в тех областях, где преобладающим элементом было исконно-русское население. В этом отношении демаркационной чертой был, кажется, г. Могилев. По сообщению Н. Дубровина, «Могилевский маршал Маковецкий и Быховский-Кригер приняли на себя устройство торжественной встречи (маршала Даву). Они силой выгоняли жителей из домов и приказывали им кричать: „виват Наполеон!“ Городской голова, после нескольких пощечин, полученных им от Кригера, купил наскоро крошечный хлеб и поднес его Даву от имени города… Принимая оставшихся в городе сановников и дворян, маршал Франции выразил им свое удивление, что не находит в губернии того энтузиазма и польского духа, который он видел в других губерниях. Поэтому он предостерегает сторонников России от вредной деятельности»[73]. И действительно, в Белоруссии не только народ, но и помещики остались верными русскому правительству. Шарпантье требовал присяги Наполеону и формирования войска, но ни того, ни другого не добился. Полоцкие помещики отказались присоединиться к конфедерации. В Могилевской губернии повторилось то же самое. Неприятель хотел произвести в Могилевской губернии рекрутский набор, но крестьяне все разбежались и удалось набрать только до 400 шляхтичей. В Подольской, Волынской и Киевской губерниях русское население подавляло все прочее настолько, что Волынь, на которую так надеялся Наполеон, поставила в солдаты только двух человек. Шварценберг, вступивший с своими войсками в Волынь, не мог даже найти надежных лазутчиков. «Я тоже, — говорит де-Прадт, — хотя не щадил издержек, не мог завести постоянной переписки с Волынью. Польские дворяне Киевской губернии принуждены были выразить императору Александру свои верноподданнические чувства и поставить по 5 ратников с 500 душ»[74].
Еще труднее было для агентов Наполеона привлечь к деятельному участию в организуемом управлении население таких городов, как Смоленск и Москва. Но, тем не менее, управление это было организовано, и при том из местных жителей. Более или менее определенные известия об организации муниципалитетов у нас имеются о городах: Вильны, Минска, Могилева, Витебска, Чаус, Смоленска и Москвы. По этим данным мы и попытаемся реставрировать то, что хотел создать Наполеон и чего ему удалось достигнуть в этом отношении.
Провести во всех занятых великой армией русских областях ту сложную и стройную систему управления, какую Наполеон осуществил в Литве, было невозможно по многим причинам.
Могилев, Волынь, Смоленск, а тем более Москва, с тянувшими к ним уездами и областями (департаментами, как их называли французы), не представляли для населения своего края такого административного значения, какое, например, имела Вильна для Литвы, Варшава для Польши, так как обращение их в административные центры края не возбуждало бы в населении ни особых национальных надежд, ни тем более сепаратистических стремлений. С другой стороны, едва ли можно было, судя по настроению этого края, набрать там личный состав такого ответственного центрального органа края, каким было, напр., Временное Правительство всего княжества Литовского.
Даже Губернских Комиссий, состоящих из местных жителей по назначению, какие были в Минске, Белостоке, Вильне, Гродне, мы не находим ни в Могилеве, ни в Витебске, ни в Смоленске, ни в Москве. Функции этих учреждений в русских городах возлагаются на представителей военного управления, в лице генерал-губернатора, военного губернатора, коменданта и интенданта города и «департамента».
Правда, должности эти существовали и в Литве. Так, напр., генер.-адъютант Гогендорп был генерал-губернатором Вел. Княжества Литовского; бар. Жомини — военным губернатором Вильны, генералы французской службы Барбанегра и сменивший его Брониковский (поляк) были губернаторами «Минской Провинции» и т. д. Но лица эти не единолично управляли вверенной им областью, городом или провинцией. Литовский генерал-губернатор Гогендорп является председателем Временного Правительства Вел. Княжества Литовского; губернаторы Барбанегра и Брониковский председательствуют в «Минской Комиссии», составленной из назначенных в нее местных жителей.
Адам Хрептович, член административного совета в Вильне 1812 года (Рустема)
Ни в Витебске, ни в Могилеве, ни в Смоленске и в Москве подобных «Комиссий» при генерал-губернаторе и губернаторе мы не находим. Так, в Смоленске высшая власть сосредоточена безраздельно в лице военного губернатора бар. Жомини, а потом Барбанегры, в Москве — в руках генерал-губ. маршала Мортье, губернатора Дюронеля и коменданта Мильо.
Из отмеченных нами в Литве коллегиальных учреждений, в состав которых входили в качестве членов местные жители, в русских городах были введены только муниципалитеты, которые, таким образом, явились повсеместными учреждениями, привлекающими в дела местного управления жителей занятых французами городов.
Организация муниципалитетов в Вел. Княжестве Литовском была отчасти предопределена приказом самого Наполеона (для Вильны), отчасти производилась Временным Правительством и Комиссиями. Отношения сложны; в муниципалитете нуждаются и к нему обращаются с запросами и приказаниями чуть не все коллегиальные и единичные правительственные учреждения Вел. Княжества Литовского.
Гораздо проще подведомственные отношения муниципалитетов Смоленска и Москвы (о других городах у нас для этого нет данных). Здесь организатором и непосредственным начальником их является интендант; только, кажется, муниципальная полиция, по крайней мере, в Москве подведомственна была коменданту[75].
По словам свящ. Н. А. Мурзакевича, «интендант Смоленской губернии Вилльлебланш назначил тит. совет. Михаила Ярославцева мэром города, главным секретарем — гимназического учителя Ефремова; членами: Рутковского» и т. д. Н. А. Мурзакевич приводит далее и самый текст бумаги, полученный одним из муниципалов от коменданта. «Смоленск, 26 (14) августа 1812 г. Имею честь препроводить, государь мой, к вам приобщенное при сем определение, назначающее вас членом Муниципального совета г. Смоленска. Почему вас и приглашаю в завтрешний день, т. е. 28 (16) текущего месяца, прибыть в дом интенданта для введения вас в новую должность. Поздравляем себя отношением, каковое между нами поставлено. Прошу вас принять уверение в отличном к вам уважении. Государственного совета аудитор, Смоленской губернии интендант, Р. А. Вилльлебланш». Другим предписанием на имя мэра тот же интендант заявляет: «Г. Мэр! Уведомляю вас, что по определению от 26 сентября сего 1812 г., я назначил адъюнкта Чапу казначеем г. Смоленска и муниципалитета. Он обязан весть счет исправно и не выдавать без моего предписания… Брун имеет смотреть за мельницами и за доставлением съестных припасов, когда муниципалитет учинит о сем рассмотрение. Г. Узелков будет иметь дела, относящиеся до благоденствия деревенских жителей, и доставлять людей по требованию правительства. Г. Рагулин должен смотреть за городскою полицией, а особливо за чистотою улиц и погребением мертвых тел»[76].
Тот же Вилльлебланш предписывает присутственные часы муниципалитета, делает выговоры его членам за манкировки, дает им денежные награды в поощрение и т. д.[77]
Отсюда явствует роль интенданта в его отношении к организации и деятельности муниципалитета. Не только назначение членов, распределение дела между ними, но весь обиход муниципальной деятельности находится, по-видимому, под бдительной опекой интенданта. Такое всеобъемлющее воздействие едва ли может считаться типичным для всех муниципалитетов России. Не говорю уже про муниципалитет Вел. Княжества Литовского, где было муниципалитету предоставлено очень широкое поле для самодеятельности и проявления свободной инициативы; даже муниципалитет г. Москвы, по-видимому, пользуется большей свободой от интендантской опеки.
Из повествования упомянутого уже выше Г. Кольчугина мы узнаем, что московский интендант (Лессепс) ведет личные переговоры с членами муниципалитета об их приглашении, вводит их в заседание муниципалитета, но, по-видимому, распределение дел между членами поручает самому муниципалитету; больше того, кажется, самый выбор некоторых, по крайней мере, членов он поручает самим русским. Я приведу в сокращении это сообщение Кольчугина: «Представили меня Лессепсу, который объявил мне, что я избран в муниципалитет и занял бы свое место. Я… просил его об увольнении. Лессепс сказал мне, что он отменить меня не может, потому что выбран я не им, а вашими русскими, и собственно для вас, русских… Лессепс… ввел меня в одну из комнат, где уже голова с прочими муниципальными заседали, приказали им, чтобы они показали мне место, а мне оное занять… Перевязал мне на левой руке алую ленточку в знак, что я муниципал, о каковых знаках пропечатано было и в объявлениях.
Тут сказано мне особенно (тайно?) головою, в извинение выбора моего, что я, по знанию… языков, могу быть верным переводчиком; а на иностранцев (переводчиков), хотя оные и в подданстве (русском?), не во всем полагались. Он приказал мне замечать из разговоров их о делах и движениях неприятельских… В муниципалитете тогда было первое присутствие, в котором имели суждение, кому какую часть назначить и ею заниматься…»[78]
Ф. Островский, начальник армии бюро по войне в Вильне (Bacciarelli)
Таким образом, деятельность московского муниципалитета из этой цитаты представляется нам сравнительно со смоленским муниципалитетом более независимой, не только в распределении между членами его обязанностей, но и в выборе самих членов, так равно и в возможности, под рукой французского интенданта, собирать сведения, направленные, по-видимому, не в пользу назначившей муниципалитет власти.
Назначались или выбирались члены муниципалитета, а если назначались, то чем руководствовалась при этом назначавшая их власть, которой, несомненно, неизвестны были обыватели только что занятого города?
Для Литвы этот вопрос решается просто. И в члены Временного Правительства и в Губернские Комиссии, и в виленский муниципалитет члены от населения назначены поименно приказом самого Наполеона. Несомненно, в этом случае Наполеон действовал по совету своей свиты, в рядах которой было не мало поляков и литовцев. Труднее было выбирать военной власти себе сотрудников в таких городах, как Смоленск и Москва. Здесь осталось население самое случайное, мало известное не только французам, но и самим русским.
Естественно, интенданту приходилось прислушиваться к голосу старожилов и даже приглашать в члены муниципалитета лиц «по выбору самих русских», как это было в случае с Кольчугиным. Только этим соображением можно объяснить тот, на первый взгляд, странный факт, что в преданной французам Литве члены Коллегий назначаются, а во враждебной Москве отчасти избираются «самими русскими».
Обращаясь затем к вопросу о состоянии и звании лиц, из которых вербовались муниципалитеты, мы должны отметить сравнительный демократизм этих назначений, применяемый, впрочем, только к личному составу муниципалитетов и муниципальной полиции, потому что в составе, например, Временного Правительства и Коллегий Вел. Княжества Литовского мы рядом с князьями, графами, маршалами не встречаем, напр., ни одного купца, мещанина и разночинца ниже заседателя и врача.
Зато в составе муниципалитета г. Вильны рядом с докторами, адвокатами и другими лицами «свободных профессий» мы встречаем трех купцов, седельного мастера и музыканта[79], и это в том крае, где, по-видимому, на выбор не мог влиять недостаток «именитых» и «ясновельможных». Заметное место после «разночинцев» отведено купечеству и в смоленском муниципалитете, а по уездам в эти должности, по-видимому, привлекались наряду с майорами, поручиками, прапорщиками также мещане[80].
Еще любопытнее личный состав московского муниципалитета. Из 87 лиц, принимавших то или иное участие в правлении, учрежденном французами в Москве, было около 20 иностранцев, 15 чиновников разных рангов (от надворных и титулярных советников до коллежских регистраторов), 15 купцов и детей купеческих, 4 военных в отставке, 4 ученых (профессор, магистр и учителя), два дворовых человека и один вольноотпущенный[81].
На характере учрежденных французами муниципалитетов более всего отразился строй французских муниципалитетов, в которых вся исполнительная и распорядительная часть принадлежит мэру и его помощникам; остальные члены муниципалитета во Франции (числом от 10 до 36) составляют муниципальный совет с функциями совещательного характера.
Пожар Москвы (Вендрамини)
Сколками с этих учреждений являются и наши временные муниципалитеты. Так, в «списке личного состава муниципалов г. Вильны» мы находим прежде всего: 1) президента, или мэра, и его четырех помощников; затем следуют «члены муниципального совета» числом 12[82]. Из приказа Вилльлебланша Михаилу Ярославцеву, мэру смоленского муниципалитета, видно, что в составе последнего были: 1) мэр; 2) его товарищ, который «занимается с вами (т. е. с мэром) всеми обыкновенными делами вообще; решает и подписывает (дела) один, в случае отсутствия» мэра; кроме них, упоминаются еще 8 членов, в числе которых генерал-секретарь и казначей[83]. Впрочем, в этом списке помечены не все члены, принимавшие то или иное участие в смоленском временном правительстве. Не упомянут здесь Желтовский, член муниципального совета, ни сменивший его Н. Великанов[84]. Из секретного списка, разосланного обер-полицмейстером Ивашкиным московским приставам о розыске скрывшихся 28 лиц «из бывших в службе неприятеля» в Смоленске, в числе членов муниципалитета помечено одно неизвестное из приказа Вилльлебланша лицо (отставной майор Мец) и остальные 27 человек, «употребленных в разных поручениях»[85].
Н. Брониковский (Изабэ)
Московский муниципалитет состоял: 1) из мэра и шести его товарищей; 2) из 16 членов муниципалитета, в числе которых были казначей и секретарь. Особый отдел управления составляла муниципальная полиция, подведомственная, как мы видели, коменданту и губернатору. В составе ее числились: 1) два главных комиссара (магистр Московского университета Виллер, исправлявший должность полицмейстера, и помощник его иностранец Бюжо); 2) пятнадцать комиссаров (в большинстве случаев иностранцы, ранее проживавшие в Москве); 3) восемь комиссарских помощников. Кроме этих собственно членов муниципального управления, при нем состояло 12 лиц «для разных поручений», в числе которых было 5 переводчиков[86].
Из этого же отчасти списка мы можем определить и распределение обязанностей между членами муниципалитета. Мэр был председателем муниципалитета и главным руководителем его дел. По определению Вилльлебланша, он «занимается… всеми обыкновенными делами вообще… решает и подписывает»[87]… На имя мэра адресуются все предписания и требования военной власти, через него объявляются выговоры и поощрения[88]: он ближайшее ответственное лицо пред интендантом, воля которого при условиях военного времени вполне поглощала волю мэра. Товарищи мэра, кроме исполнения обязанностей последнего, за его отсутствием, имели, кроме того, еще свои специальные обязанности, и были чем-то вроде председателей одной из шести комиссий, или отделений (bureaux) муниципалитета: 1) попечения о бедных; 2) надзора за ремесленниками; 3) содержания дорог, улиц и мостов; 4) квартирмейстерской части; 5) закупки провианта и 6) спокойствия и тишины в городе. Остальные шестнадцать членов муниципального совета Москвы входили членами в одну или несколько из этих комиссий[89].
Нечто подобное замечается в распределении обязанностей и между членами смоленского муниципалитета.
Нам не удалось выяснить отношение к муниципалитету муниципальной полиции, которая была в непосредственном распоряжении коменданта и губернатора, но существование в смоленском и московском муниципалитетах, заведующих «спокойствием», «тишиной» и «полицией» в городе, по-видимому, говорит в пользу некоторой подчиненности городской стражи и муниципалитету.
В таком виде рисуется нам организация того учреждения, в которое французы нашли возможным привлечь местное население себе на помощь при устройстве порядка и управления в занятых областях. Между муниципалитетами отдельных городов была, конечно, разница, но не столько качественная, сколько количественная.
Французы ожидали большой пользы от учреждения этих муниципалитетов. Открытию их предшествовало торжественное провозглашение (proclamation) о них при посредстве печатных листков, распространяемых не только в городах, но и в селах.
По Смоленской губернии среди крестьян ходила следующая прокламация:
«Смоленские обыватели! Французское войско и гражданское правление употребляет все способы, дабы предоставить вам спокойствие, защиту и покровительство. Приходите и приезжайте в г. Смоленск, где открывается новое присутствие под названием „муниципалитет“, т. е. гражданский правительственный совет. Здесь будут разбираться всякие дела с участием вас, русских граждан.
Около дорог, по которым проходят войска, одни поля и сенокосы разорены, но другие остались в целости; между тем владельцы их скрылись, и французское правление не знает, как с этими землями быть. Поэтому, господа помещики и прочие землевладельцы, явитесь и имейте доверие к нашему правлению. Вы будете спокойны, в чем уверить вас в здешней губернии французский император и восстановит в прежний порядок. Вы, крестьяне, снятый ныне с полей озимый хлеб и прочие сельские продукты, за оставлением себе на обсеменение и продовольствие, привозите их, как и прежде, для продажи в г. Смоленск, где в течение короткого времени, вследствие множества французского народа, получите весьма изрядные выгоды и скоро забудете прошедшую потерю. Если же вы желаете какой-либо защиты, то объявите об этом, и вас император французский примет под свое покровительство.
Крестьяне, будьте покойны, занимайтесь без всякого страха вашими работами: французские войска вам уже не будут больше мешать, они уже удаляются отсюда. Что же касается войск, которые имеют намерение проходить здесь в будущем времени, то им даны строжайшие предписания, чтобы вам обид и притеснений никаких не учиняли. Французское правительство ожидает от вас привоза в город по-прежнему хлеба и прочих жизненных продуктов, за которые вы будете получать выгодную плату и большие деньги от самого французского императора; он в настоящее время пребывает в ожидании от вас повиновения и покорности»[90].
Компетенция муниципалитетов выясняется не столько из общих руководств, которые давались муниципалам при вступлении их в должность[91], сколько из текущих разъяснений и предписаний интендантов, адресованных муниципалитетам, и из протоколов заседаний последних, и это тем более, что функции муниципалитетов росли и развивались по мере предъявляемых им ходом событий требований; эти предписания, разъяснения и протоколы рисуют нам период формирования муниципалитетов. Так, в протоколе виленского муниципалитета от 17 сент. 1812 г. мы читаем: «Муниципалитет, не получая до сего времени от комиссии Временного Правительства Вел. Кн. Лит. указания, какого рода тяжбы могут разбираться муниципалитетами, постановил просить судебный комитет временного правительства об ускорении присылки названного распоряжения»[92].
Впрочем, в самый момент учреждения муниципалитетов, как можно судить из приведенных прокламаций, французы ожидали от муниципалитетов двух услуг: во-первых, содействия интендантским целям и, во-вторых, введения нормального течения жизни среди обывателей. Второе требование, конечно, было средством осуществления первого, которое доминировало над всеми остальными. Да иначе и быть не могло при условиях военного времени: ведь в военное время и национальное правительство подчиняет «местные пользы и нужды» самоуправлений требованиям военного характера. На вопрос, сделанный маршалу Даву в Могилеве членами новоучрежденного правления, в чем должна заключаться их должность, какое установить судопроизводство, какими законами руководствоваться, он отвечал: «Господа! Наполеон требует от вас трех вещей: хлеба, хлеба и хлеба…»[93] Сам Наполеон по этому поводу писал в Москве маршалу Мортье: «Необходимо, чтобы русское городское управление образовало общество из русских и отрядами посылало их по деревням забирать продовольствие, уплачивая за него деньги… При городском управлении устроить склад, из которого это продовольствие и будет выдаваемо»…[94] Самое назначение интендантов в качестве ближайших начальников муниципалитетов говорит за преобладание интендантских целей в учреждении муниципалитетов. Продовольственный вопрос составляет лейт-мотив переписки интендантов с муниципалитетами и протоколов заседания последних.
Так, виленский муниципалитет доносит по начальству, что «еврейским кагалом доставлено, согласно предписанию, триста штук волов»; предписывает тому же кагалу, «дабы 125 штук волов непременно были бы доставлены сего числа»; Временное Правительство предписывает «администрации виленского департамента немедленно снестись с муниципалитетом города Вильны, дабы часть (нужных) лошадей была поставлена городом, а часть — уездами»[95].
Смоленский муниципалитет получил от своего интенданта следующее предписание от 20 октября. Артикул 1-й: «Доставить со всей Смоленской губернии: хлеба 5.681 четв. 6 пуд. 21 фунт; быков 700; овса 565 четв. 11 пуд.; сена 3.030 пуд. 12 фунт. и столько же соломы». Артикул 2: «Сей запас должен быть доставлен в магазины, т. е. хлеб и фураж, к 1 числу декабря сего (1812) года и притом 2/3 означенного количества вдруг (так перевели в муниципалитете слово aussitot), по получении сего определения; скот же к 1 марта будущего 1813 г., а одну треть тотчас, по получении сего определения». Артикул 3: «Сумма сих запасов будет зачтена вместо обыкновенных земских подушных налогов; когда же которая-нибудь округа не выставит означенного количества запаса, то оная принуждена будет заплатить деньгами; напротив, выставившая больше за излишнее против положенного получит деньги». За невыполнение этих требований виновным грозили военною экзекуцией[96]. Исполнителями этих приказов на местах были «уездные комиссары», по крайней мере, в Смоленской губ.[97]
Московский муниципалитет содействовал интендантству в этом отношении тем, что командировал своих членов сопутствовать «конвою, который французы отправляли для закупки хлеба, или фуражировки, по селениям около Москвы»[98]. Трудно учесть результаты этого рода деятельности муниципалитетов, по-видимому, по принуждению исполнявших ее. Не лишены интереса в этом отношении следующие заметки дневника Н. А. Мурзакевича. «Сентябрь, 10 число… Булка смешанного с отрубями хлеба в 15 фунтов стоила от 2 руб. 50 коп. до 4. Могилевские жиды перевозили провизию, а крестьяне, понуждаемые комиссарами — под страхом взыскания. Продавали хлеб за 5 коп. фунт; фунт говядины до 12 коп.; чарку водки небольшую 25 коп. Такая дешевизна была недолго… Октябрь, 19. Военный смоленский губернатор Жомини вознамерился занять собор под хлебный магазин в 30.000 кулей; требовал ключи чрез муниципалитет»[99]. Что касается Москвы, то известно, что, при выступлении неприятеля из столицы, было уничтожено несколько магазинов, и, несмотря на то, русские, по обратном занятии Москвы, нашли несколько лабазов с хлебом[100]. Кроме того, по сообщению Богдановича, обратное движение французской армии затруднялось большими стадами рогатого скота[101].
Свящ. Н. А. Мурзакевич
Учесть роль «невольных муниципалов» в провиантмейстерской деятельности, по неимению данных, к сожалению, невозможно. Более определенна в этом отношении деятельность муниципалитетов по квартирмейстерской части. В протоколах виленского муниципалитета мы, между прочим, находим такое постановление: «Муниципалитет поручает отделу по расквартированию поспешить с переписью домов, расположенных в городе, и пригласить для помощи в этом деле некоторых лиц из числа обывателей»[102]. В первом же заседании смоленского муниципалитета (27 августа 1812 г.) было решено письменно просить губернатора о присылке «офицера его штаба» для исчисления, совместно с муниципалитетом, годных для жилья домов в городе и для собрания сведений о живущих в них лицах, а также просить еще губернатора, чтобы он выдал чрез плац-коменданта билеты на жительство в домах и проверил, имеют ли право на такое жительство живущие в них лица[103]. Впоследствии один из смоленских муниципалов докладывал следственной комиссии о своей квартирмейстерской деятельности: «Должность моя состояла только в том, что показывал квартиры, по присылаемым от коменданта цидулькам, из коих одну, состоявшуюся на собственный мой дом, для усмотрения при сем представляю»[104].
На обязанности муниципалитетов лежало доставлять все необходимое для госпиталей и отчасти заведывать ими. В этом отношении особенно выдвинулись своей деятельностью муниципалитеты Вел. Княжества Литовского. Администрация минского департамента свидетельствовала, что в Минске «находятся несколько военных лазаретов; все они устроены самым тщательным образом. Кровати, матрацы и одеяла… чисты и красивы.
Все соперничают друг перед другом в доставлении всего необходимого своим избавителям»[105]. И действительно, протоколы виленского и минского муниципалитетов зарегистрировали множество случаев добровольного пожертвования корпии, белья, подушек и др. принадлежностей лазарета[106].
По-видимому, госпитальная деятельность муниципалитетов Смоленска и Москвы не встречала такой энергичной поддержки у общества. Так, смоленский муниципалитет постановил «женщин, ничем не занятых», определить «за плату» для мытья белья и приготовления корпии для раненых[107]. Среди членов московского муниципалитета известны два, которые «имели надзор за госпиталями (из них один купец, а другой — старший штаб-лекарь в штате московской управы благочиния)».
Если в содействии интендантским целям французов русские муниципалитеты действовали более или менее вяло, то в их деятельности по благоустройству и защите местного населения заметно больше инициативы и энергии, особенно когда приходилось защищать обывателей от чрезмерных требований военной власти и злоупотреблений насильников. По-видимому, муниципалитетам было предоставлено право ходатайствовать пред военной властью об отмене действий и распоряжений последней, если они причиняли ущерб населению. По крайней мере, Вилльлебланш требовал от смоленского муниципалитета, чтобы во всех случаях, когда то или другое его приказание окажется неудобным к исполнению, мэр обращался бы непосредственно к интенданту: при этом предписывалось исполнять только такие приказания, которые подписаны интендантом или его секретарем[108].
Виленский муниципалитет обращался много раз с энергичным протестом против нарушения прав местного населения. По поводу приказания губернатора Жомини весь лес с реки Вилии употреблять только на военные нужды, муниципалитет доносил временному правительству, что «это постановление исполнено, но что муниципалитет считает долгом довести до сведения временного правительства, что сами обыватели нуждаются в топливе. Лесов около Вильны нет; каким же образом могут жители г. Вильны исполнять повинность (печь хлеб и гнать пиво и водку для армии) и удовлетворить собственные нужды без дров? Обыватели приходят толпами жаловаться». Муниципалитет запрашивает, «не найдет ли временное правительство возможным постановить, дабы военные и обывательские нужды были тождественными и вышеуказанный лес был бы разделен согласно надобностям»[109]. На требование правительства собрать рекрутов с г. Вильны, муниципалитет последней заявил, что «среди населения совсем нет молодых людей и набрать рекрутов является невозможным». Муниципалитет, рекомендует вместо набора обратиться к добровольцам[110]. Характерно и следующее «представление» муниципалитета административной комиссии:
«Военные караулы… задерживают въезжающие в город подводы с продуктами, требуя предъявления билета, выданного плац-комендантом и вымогая взятки, что пугает обывателей и уменьшает подвоз. В виду изложенного, муниципалитет просит о расследовании сего дела»[111].
Смоленские муниципальные власти также печаловались пред интендантом за население, и даже уездное: «Нет возможности более сносить таких жестокостей и грабежей (со стороны солдат, расквартированных по уездам), — писал один из русских комиссаров губернатору. — Если далее хотя малое время все оное от них происходить будет, то данных комиссарам повелений (о сборе провианта) ни под каким видом выполнить будет неможно, ибо жители, не имея чем себя содержать и пропитать, оставя свои домы, разбредутся. Пожалуйста, поскорее запретите им те буйства, насилия и грабежи чинить, и снабдите меня на все оное вашею милостивою резолюцией»[112].
Впрочем, членам муниципального правительства, по-видимому, была предоставлена власть арестовывать нарушителей тишины, порядка и постановлений и отправлять их к интенданту или в муниципалитет. Вышеупомянутый смоленский комиссар жалуется на французские отряды, что они отбирают и отпускают на свободу тех грабителей, которых он арестовывал и отправлял в Смоленск[113].
Над местными жителями муниципалитетам, по-видимому, в некоторых случаях было предоставлено право суда. Вилльлебланш писал смоленским муниципалам: «В качестве членов муниципального совета, вы пользуетесь полной юрисдикцией над жителями; поэтому вам следует сделать г.г. Рейнеку, Раховскому и Шевичу выговор за их леность и предостеречь их о возможности строгих мер по отношению к ним»[114]. В среде членов московского муниципалитета были лица, специальной обязанностью которых было «заботиться о тишине, порядке и правосудии». Яркий свет на отношение муниципалитета к местному суду проливает «объявление муниципального совета г. Вильны о выборе участковых судей». Согласно этому объявлению, выбранные муниципалитетом мировые судьи «все отчеты о решенных делах имеют присылать еженедельно муниципалитету, как представителю правительства в данном городе, наблюдающему, чтобы не было несправедливости, и имеющему право не только уволить подобного судью за несправедливости, но и предать его городскому суду за преступное неисполнение обязанностей». Суду этому подведомственны были следующие дела: 1) о неплатежах за забранные съестные припасы и аптекарские товары; 2) тяжбы между ремесленниками и слугами с нанявшими их лицами и взыскание убытков, причиненных обеим сторонам; 3) тяжбы по найму домов и квартир; 4) дела о нарушениях тишины и спокойствия и о неисполнении распоряжений полиции. Суды эти, не добившись примирения сторон, могут налагать за проступки пени не свыше 50 злотых в пользу одной из тяжущихся сторон или в городскую кассу; арестом или тюрьмой не свыше трех дней.
Постановления названных судов приводятся в исполнение полицией, за исключением ареста и тюрьмы, для чего требуется подтверждение муниципалитета в том случае, если сторона апеллирует к нему о таком подтверждении[115].
Было ли так ясно регламентировано отношение муниципалитетов к суду собственно в русских городах — нам неизвестно; хотя вышеприведенные данные указывают на несомненно предоставленную им юрисдикцию; весь вопрос, следовательно, в фактическом применении ее русскими муниципалитетами.
Проступки, выходившие за пределы подсудности муниципальных судов, в Литве передавались суду войтов и городскому суду; насилия, мародерства и вообще тяжкие проступки разбирались военным судом, решения которого приводились в исполнение в 24 часа[116].
К числу обязанностей муниципалитетов по водворению «благоденствия среди обывателей» относится забота о бедных, призреваемых и об их пропитании. Любопытно отметить, что «отделение (bureaux) попечения о бедных» при московском муниципалитете было самым многочисленным: оно состояло из 7 человек. Насколько их деятельность содействовала «благоденствию» опекаемых, для суждения об этом, к сожалению, мы не имеем данных.
Гораздо заметнее деятельность муниципалитетов по восстановлению церковного порядка в городах. На обязанности трех московских муниципалов лежало смотреть за порядками богослужения в храмах. Члены эти распоряжались очисткой храмов от навоза, трупов и сора и восстановлением богослужения в Москве[117].
Могилевский муниципалитет предписал архиепископу Варлааму совершить торжественное богослужение в день именин Наполеона, и возглашением имени последнего вместо имени русского императора и торжественно присягнуть Наполеону, что и было исполнено[118].
В тот же день виленский муниципалитет in corpore присутствовал при богослужении, и мэр его произнес торжественную речь[119].
Могилевский муниципалитет требовал от духовенства «понедельных ведомостей: о родившихся, браком сочетавшихся и умерших»[120].
От витебского и могилевского муниципалитета было объявлено, чтобы в городе «от захождения до совершенного восхождения солнца в церквах в колокола не звонили, да и днем к обедне и вечерне звонили бы тихо и непродолжительно»[121].
Маршал Даву в Чудовом монастыре (Верещагина)
Для полноты перечисления функций муниципальной деятельности нам остается указать, что на обязанности его отдельных членов лежало заботиться об очистке улиц и мостовых от мертвых тел и нечистот[122]; других членов муниципалитета мы застаем при исполнении смертной казни; причем муниципалы принимают от осужденного его последнее завещание и распоряжаются выкопать могилу[123]; наконец, муниципалитеты объявляют о распродаже с аукциона имущества неисправных плательщиков налогов и посылают своих членов для осмотра и описи этого имущества[124].
Бар. Г. Жомини (Минере)
Так обширна и разностороння была деятельность муниципалитетов, функционировавших у нас, на Руси, каких-либо 2–3 месяца при бурях и грозе военной непогоды. У нас нет данных, по которым бы можно было учесть реальные результаты этой деятельности как для французов, так и для местных жителей. Слишком капиллярным явлением были муниципалитеты на фоне разыгрывавшихся стихийных событий того времени, чтобы оказывать заметное влияние на них и отразиться в памятниках; к тому же, боязнь наказания за свое участие «во французском управлении» заставила членов муниципалитетов, по возможности, уничтожить следы своей деятельности, и нам, волей-неволей, приходится судить о ней из общих описаний и соображений. Оставшийся в Москве Шмидт, майор генерального штаба французской армии, на вопрос гр. Ростопчина, «оказало ли некоторую пользу временное правление, учрежденное французами в Москве?» — ответил: «Временное правление, учрежденное французами в Москве, не принесло большой пользы французской армии; разве только тем, что некоторые из его членов… указали некоторые места, где были скрыты драгоценные вещи, и оказали содействие при обольщении нескольких крестьян»[125]. Выше мы видели, что польза эта указанным содействием не ограничилась, особенно, если принять во внимание деятельность всех муниципалитетов, от Вильны до Москвы. Главное же значение муниципалитетов было в том, что они посильными заботами о «благоденствии» оставшихся обывателей содействовали облегчению страданий последних, водворению относительного порядка и были человечным мостом между незнавшими страны завоевателями и покинутым на их произвол населением, не успевшим уйти с пути неприятеля.
В этом отношении не безынтересно для нас воспоминание одного современника, который, даже преломляя события сквозь призму зоологического национализма, не смог затемнить существенного в деятельности местного муниципалитета в пользу местного населения. Житель г. Чаус (Могилевской губ.), говоря о расположении французских войск в Могилевской губернии, замечает: «Не могу сказать, чтобы эти отряды занимались грабежами и насилиями; этому обязаны мы были… временному тогдашнему военно-польскому „ржонду“, который составлен был из ксендзов, знатнейших помещиков и чиновников римско-католического исповедания; вернее же сказать — боязни самого ржонда потерпеть нападение от своих крестьян православного исповедания, которые в военное время могли (?) восстать против своих неправославных помещиков и ксендзов. Самый ржонд, чтобы предотвратить это, исходатайствовал у начальства французской армии охранительные по городам и даже местечкам Могилевской губ. военные команды, под названием „Ochrana“, дабы держать в страхе все православное народонаселение. Следовательно, ржонд этот внушал командам удерживаться от грабежа и насилия, чтобы не возбудить общего восстания православных на всех помещиков римско-католического исповедания и ксендзов»[126]. В этом случае мемуарист приписывает свою личную безопасность и сохранность имущества козням поляков и ксендзов так же великодушно и с благодарностью, как один московский домовладелец, обязанный спасением своего роскошного дома московскому муниципалу, счел своим патриотическим долгом донести на этого муниципала Ростопчину, как на пособника французов в расхищении его имущества[127].
Но налетом подобного патриотизма и национализма факт незатушеван: «злокозненный» католический «ржонд» в Чаусах, «предатель-муниципал» в Москве содействовали спасению жизни и имущества своих обвинителей так же, как подобные им «муниципалы поневоле» делали это во многих других городах и весях покинутой без предупреждения России.
Да, муниципалитеты делали скромно большое дело, и их можно упрекнуть разве в том, что они не могли принести большей пользы своим соотечественникам, чем они ее принесли; но в этом помешал им целый ряд независящих обстоятельств, сковывавших их по рукам и ногам.
Прежде всего нужно принять во внимание, что служба в муниципалитетах для многих из муниципалов была «подневольною»: принималась под страхом смерти и страданий семьи и рассматривалась, как служение врагу, которое безнаказанным не обойдется. Отсюда манкировка обязанностями, непосещение заседаний и уклонение от подписывания протоколов заседания и т. п. Вот как описывает свои переживания один из таких «подневольных муниципалов»: «Лессепс объявил мне, что я избран в муниципалитет и занял бы свое место. Я, выслушавши приказание, просил его об увольнении, представя ему, что имею престарелых родителей, жену и осмерых детей малолетних, и что дом наш частию выгорел и весь разграблен». Лессепс отказал. «Я стал усиливаться просьбою: он, долго слушав и осердясь, сказал: „Что ж вы много разговариваете? Разве хотите, чтоб я об вас, как об упрямце, донес моему императору, который в пример другим прикажет вас расстрелять?..“»
Это не единичное свидетельство трагических переживаний муниципалов поневоле[128].
Интендантам приходилось принимать энергичные меры воздействия для оживления деятельности русских муниципалов. «Я просил вас, г. мэр, — писал смоленский интендант в одной из своих бумаг, — продолжать заседания до 2 часов. Я посылал в муниципалитет в 1 час, а там не было даже приказного». В другой бумаге он пишет: «Г. мэр! Требуя от вас почтарей для организуемой мною теперь почты, я желал, чтобы они присланы были тотчас же; но вам всегда надо писать о самом простом деле по три раза. Прошу вас озаботиться этим немедленно и предупреждаю, что не приму никаких оправданий». Через 4 дня после этого интендант обращается уже ко всему муниципалитету с таким строгим посланием: «Я с сожалением вынужден известить вас, что не могу быть доволен вашей беспечностью в службе вашему отечеству. Сегодня, в 9½ часов, в муниципалитете не было ни мэра, ни одного из членов. Работающих нет никого, кроме гг. Рутковского и Ефремова. Предупреждаю вас, что — как ни прискорбно будет для меня — я буду вынужден прибегнуть к мерам строгости, если это будет так продолжаться»[129]. Впрочем, не одними угрозами, а и милостивыми подарками от имени Наполеона пытался Вилльлебланш поощрять своих вялых муниципалов. Так, им выдано было мэру и его товарищу по 200 франков; «генерал-секретарю» Ефремову «за особые услуги по управлению» 224 франка, а остальным разно — от 75 до 15 франков[130].
Помимо страха за будущее, деятельности русских муниципалов, особенно на пользу обывателей, препятствовала разнузданность военщины, особенно ко второй половине кампании, и лишения, которые заставляли разноплеменных солдат не дожидаться распоряжений интенданта, а грубо требовать от муниципалов и обывателей себе необходимого. Н. Великанов писал: «По прошествии двух недель (его пребывания в смоленском муниципалитете), по причине беспрестанных на меня нападений, брани и намерения от приходящих французских офицеров бить меня сделался я болен и пробыл в болезни, страхе и трепете, ожидая себе, жене и сыну смерти, более недели, после чего, несколько оздоровевши, вновь сходил раза два в муниципалитет, но ничем уже, по слабости здоровья, не занимался»[131].
Один из муниципальных комиссаров доносил смоленскому военному губернатору Барбанегре: «Разных наций военные люди, а особливо прусской армии конные солдаты с их офицерами… делают чрезвычайные грабежи и, забирая хлеб, скот, лошадей, все увозят с собой, и жителей бьют до полусмерти и по ним стреляют, невзирая ни на какие воинские залоги и охранные команды, от которых хотя и объявляются им данные от французского правительства письменные о том запрещения, но оными пренебрегают; и арестованных и отправленных в Смоленск отпускают на свободу»[132]. Да и военные губернские власти не всегда обладали достаточным в их положении тактом.
Все это, конечно, были обстоятельства, которые мешали нормальному развитию деятельности насажденных у нас французами муниципалитетов, и все это должно быть учтено при оценке их деятельности и трудоспособности.
Прокламация французских властей для жителей Москвы и Московской провинции от 1 окт. 1812 г.
Опасения муниципалов, что их служба будет признана за измену отечеству, сбылись. Вслед за удалением французов были назначены две следственные комиссии «по делу о чиновниках и разного звания людях, бывших при неприятеле в разных должностях», — одна в Москве (указом Сенату от 9 ноября 1812 г.) в составе Ростопчина и сенаторов Модераха и Болотникова; другая в Смоленске (указом от 6 февраля 1813 г.). Комиссии действовали энергично и «без послабления»: особенно отличились своей неразборчивостью духовные следователи[133] и пресловутый граф Ростопчин, который еще до окончания следствия заявил, что в числе привлеченных к следствию, по его мнению, «невинных нет, а есть более или менее виноватые»…[134] Следственные материалы комиссий были переданы в сенат, который «несколько раз требовал дополнительных сведений о подсудимых»; нашел возможным освободить некоторых из них от содержания в тюрьме и отдать их до окончания дела на поруки (29 января 1814 г.); и, наконец, 8 июля 1815 г. препроводил в московское губернское правление указ, заключавший суждение о степени виновности каждого из подсудимых и постановление над ними приговора.
«Вины, — говорил сенатский указ, — большею частью состоят в одной только слабости духа, не позволившей им упорствовать с твердостью против угроз и насилий бесчеловечного врага, коего власти покорены были они „неволею и правом сильного“».
Однако были и такие, «коих предосудительные поступки и подозрительные действия, в исполнении возложенных на них от неприятеля должностей и разных поручений, обнаруживают в них людей сомнительной нравственности и правил, противных как святости присяги верноподданного, так и обязанностям доброго гражданина». К числу таких отнесено было из московских муниципалов 22 человека, и им положены разные наказания (самое строгое — к лишению чинов, дворянства и ссылке в Сибирь на житье).
Третью категорию в сенатском указе составляют лица, не занимавшие никаких должностей и привлеченные к следствию по одному подозрению; таких 21. Некоторые из них числились в должностях только на бумаге, а на деле не принимали никакого участия в правлении. Манифестом от 30 августа 1814 г., между прочим, объявлялась амнистия для осужденных по этому делу.
Для многих «милость» эта была запоздавшей. Не говоря уже о том, что обвиняемые, между которыми были совсем невиновные, в течение двух лет претерпели всякие лишения, тюрьму и страх за будущее[135]; некоторые умерли во время следствия[136]. Смоленский мэр (тит. сов. В. М. Ярославцев) лишил себя жизни.
В. Уланов
Пожар Москвы (Нюренбергская гравюра)
III. Пожар Москвы
И. М. Катаева
Все современники согласно свидетельствуют, что пожар начался в первый же день вступления французов в Москву, 2 сентября, в понедельник к вечеру[137].
Действительно, часов в 8–9 вечера пожар вспыхнул в нескольких пунктах: на Солянке — около Воспитательного Дома, в Китай-Городе — в скобяных и москотильных рядах и около нового Гостиного двора[138], затем — за Яузским мостом, по направлению к Швивой горке. Зловещее зарево пожара, охватившего Москву, было хорошо видно нашей отступившей армии. Наши войска, к вечеру 2 сентября, сделав переход в 15 верст до деревни Панки, «увидели в городе пожар: это было только начало, — говорит очевидец. — В продолжение ночи пожар усилился, и поутру 3 сентября уже большая часть горизонта над городом обозначилась пламенем. Огненные волны восходили до небес, а черный густой дым, клубясь по небосклону, расстилался до нас. Тогда все мы невольно содрогались от удивления и ужаса… Место удивления заступило негодование. — Вот тебе и златоверхая Москва! Красуйся, матушка, русская столица! говорили солдаты»[139].
Тутолмину с подчиненными удалось кое-как потушить пожар около Воспитательного Дома; но в других местах пожары разгорались все более и более. В особенности страшную картину представляло пожарище Гостиного двора на Красной площади во вторник 3 сентября, около полудня; в это время Наполеон со свитой проехал из Дорогомилова, где он ночевал, в Кремль, а вслед за тем его войска начали занимать предназначенные им части Москвы[140]. На московских улицах наблюдались тишина и безмолвие. Только, по мере приближения к Кремлю, стали встречаться жители и толпы французских солдат, открыто обменивавшихся и торговавших награбленной добычей. Толпы увеличивались еще более на Красной площади, у большого Гостиного двора, уже пылавшего со всех сторон. «Громадное здание, — говорит один из очевидцев, — походило на исполинскую печь, из которой вырывались густые клубы дыма и языки пламени. Возможно было ходить лишь по наружной галерее, где находилось множество лавок. Тысячи солдат и каких-то оборванцев грабили лавки. Одни тащили на плечах тюки сукон и различных материй, другие катили перед собою бочки с вином и маслом, третьи таскали головы сахару и других продуктов… При этом страшном грабеже не было слышно криков; грабители работали молча, сосредоточенно. Слышался только треск пламени, стук разбиваемых у лавок дверей, грохот от падающих сводов. Пламя пожирало беспощадно сокровища Европы и Азии, накопленные здесь. Из погребов, набитых сахаром, маслом, смолистыми и спиртовыми товарами, вырывались густые клубы дыма и потоки пламени»[141].
Яузский пожар тоже разгорался сильнее и охватил деревянные здания на Швивой горке и около церкви архидиакона Стефана. Этот пожар угрожал роскошному дому заводчика Баташова, где только что накануне расположился неаполитанский король со своей свитой. По распоряжению Мюрата, не желавшего покидать удобной квартиры, французские войска приняли меры к тушению пожара. Им усердно помогала дворня Баташова во главе с приказчиком Соковым, защищая дом своего господина, хозяйское добро и свое имущество. Баташовский дом в этот день удалось отстоять, но деревянные домики, тянувшиеся вниз до Яузы, сгорели дотла[142]. Тогда же — 3-го числа, сильный пожар свирепствовал на Покровке, опустошал Немецкую слободу и местность около церкви Ильи пророка. В тот день, утром, казаки, внезапно появившись у Москворецкого моста, подожгли его в виду неприятеля. Вслед за тем запылали на берегу р. Москвы казенные хлебные магазины и с оглушительным треском взлетел на воздух находившийся там же склад артиллерийских снарядов. Вблизи Москворецкого моста загорелись Балчуг, а по другую сторону (в Китай-Городе) — Зарядье, и все шире и шире пламя захватывало Гостиный двор.
Так как пожар угрожал Кремлю, где расположился Наполеон и где были сосредоточены артиллерийские снаряды, то Наполеон приказал маршалу Мортье, назначенному московским генерал-губернатором, во что бы то ни стало прекратить огонь. Французские солдаты напрягали все усилия, чтобы исполнить приказ императора. Но это было не легко, так как огонь находил обильную пищу в горючих веществах, хранившихся в подвалах и лавках москотильного, свечного и масляного рядов, а с другой стороны — пожарных инструментов не было под рукой: они были вывезены по распоряжению Ростопчина. Тем не менее, к вечеру французам удалось, если не совсем потушить огонь на Красной площади, то значительно ослабить его силу и отстоять Кремль от угрожавшей ему опасности. Наполеон мог спокойно спать в кремлевском дворце, в палатах русских царей. Французские генералы и офицеры также надеялись отдохнуть и устроиться с комфортом в русской столице после трудностей долгой утомительной кампании. В тот же день — 3-го, некоторые из них отправились в Каретный ряд, чтобы выбрать себе по вкусу щегольской экипаж из находившегося там громадного готового запаса, причем выбиравший отмечал экипаж своим именем. Но, недолго спустя, загорелся весь Каретный ряд. Французы, занятые тушением пожара в центре, мало обращали внимания на более отдаленые части, где в разных местах, как уже указывалось выше, бушевало пламя.
Наступила ночь с 3 на 4 сентября, «страшная ночь», как называют ее очевидцы. В эту ночь поднялся сильный ветер, который вскоре перешел в настоящую бурю. Порывы ветра разносили огонь по всем частям города; к утру Москва представляла уже огромное бушующее огненное море.
Разные современники в ярких чертах описывают этот день 4 сентября. Шевалье д'Изарн, французский эмигрант, живший несколько лет в Москве и оставшийся в ней при занятии ее Наполеоном, пишет: «В среду, утром, к девяти часам поднялся со страшной силой северный ураган; вот когда начался большой пожар. Из моих окон видно было, как сперва огонь вспыхнул на той стороне реки, гораздо позади Комиссариата[143] и потом начал распространяться мало-помалу по направлению ветра; в один час огонь разнесся в десять различных мест, так что все огромное пространство по ту сторону реки (Замоскворечье), застроенное домами, превратилось в море пламени, волны которого бушевали в воздухе, разнося повсюду опустошение и ужас. В то же время пожар снова вспыхнул в городе (Китай-Городе) еще с большею силою, чем в первые дни. Особенно там, где были лавки, огонь нашел себе обильную пищу в товарах, которые были заперты там. Это обстоятельство, а также сильная буря, теснота места и множество горевших пунктов города делали всякое противодействие огню невозможным, так что несчастные хозяева спешили только захватить с собою самые ценные вещи и бежать. Вот когда начался грабеж, и все, что уцелело от пламени, попадало в руки солдат. Пока пожар превращал в пепел город, остальные части Москвы также пылали: Пречистенка, Арбат, затем — по направлению вала (Садовая) через Красные ворота и Воронцово поле до самой Яузы, по ту сторону Яузы и Яузке — все было в пламени. Вся полоса воздуха над городом превратилась в огненную массу, которая изрыгала горящие головешки; а вследствие расширения воздуха от теплоты буря еще более усиливалась; никогда небо в своем гневе не являло людям зрелища ужаснее этого!»[144].
4 сентября опасность снова стала угрожать Воспитательному Дому на Солянке. В этот день, говорит Тутолмин в своем донесении императрице[145], «был самый жесточайший пожар; весь город был объят пламенем, горели храмы Божии, превращались в пепел великолепные здания и домы; отцы и матери кидались в пламя, чтобы спасти погибающих детей, и делались жертвою их нежности. Жалостные вопли их заглушались только шумом ужаснейшего ветра и обрушением стен. Все было жертвою огня. Мосты и суда на реке были в огне и сгорели до самой воды. Воспитательный Дом… со всех сторон был окружен пламенем. Все окрестные строения пожираемы были ужасным пожаром; пламя разливалось реками повсюду… и ночь не различалась светом со днем. В Воспитательном Доме воспитанники с вениками и шайками расставлены были по дворам, куда, как дождь, сыпались искры, которые они гасили. Неоднократно загорались в доме рамы оконничные и косяки; главный надзиратель с подчиненными гасил, раскидывая соседние заборы и строения, загашая водою загоравшиеся места, и таким образом спас дом с воспитанниками и пришельцами. Только что один деревянный дом и аптека сгорели».
Зарево Замоскворечья (Верещагина)
Вновь усилилась опасность пожара и для Кремля. Утром этого дня Наполеон проснулся в хорошем расположении духа, почувствовав облегчение от простуды, беспокоившей его со времени Бородинской битвы и не подозревая еще новой опасности. Когда вошел к нему доктор Метивье, то по обыкновению он спросил его: «Что нового?» Когда доктор сообщил ему, что повсюду вокруг Кремля распространились пожары, император равнодушно отвечал: «Это неосторожность солдат; они, вероятно, разложили огни для приготовления пищи слишком близко к деревянным домам». Но вдруг взгляд его остановился, улыбка исчезла с уст, выражение лица его сделалось ужасным. Он вскочил с постели; не произнося ни слова, быстро оделся, причем так сильно толкнул ногой мамелюка, подавшего ему сапог левой ноги на правую, что тот упал навзничь, и затем вышел в соседнюю комнату. Очевидно, в эту минуту мысль об опасности пожара Москвы со всеми истекавшими отсюда последствиями с отчетливой ясностью промелькнула в мозгу Наполеона. Он подошел к окну. Страшная картина представилась взорам императора.
Пожар Москвы во время нашествия французов 2 сент. 1812 г. (Нем. лубочная грав.)
Перед окнами дворца, как на ладони, расстилалось Замоскворечье, все объятое пламенем; лишь кое-где можно было различить незагоревшиеся еще кровли зданий и колокольни. Волны дыма и пламени, казалось, переносились через реку и подступали к Кремлю. Наполеон обратился в другую сторону, но и там ожидала его такая же ужасная картина. Гостиный двор снова весь был объят пламенем. Горели Ильинка и Никольская; видны были пожары со всех сторон, на Тверской, на Арбате, на Остоженке, у Каменного моста. Резкие порывы северо-восточного ветра, часто менявшего направление, несколько раз обращали огонь к Кремлю. Осыпаемый огненными искрами, Кремль освещался иногда таким светом, что, казалось, будто в его стенах уже начинался пожар; а между тем туда ввезены были подвижной пороховой магазин и все боевые снаряды молодой гвардии; фуры с боевыми снарядами стояли против окон дворца, в котором ночевал император Наполеон[146].
Сильное волнение овладело императором при виде этого зрелища. Адъютант Наполеона, гр. Сегюр, был свидетелем этих психических переживаний Наполеона. «Первым его движением, — говорит Сегюр, — был гнев: он хотел властвовать даже над стихиями. Но скоро он должен был преклониться и уступить необходимости. Удивленный тем, что, поразив в сердце империю, он встретил не изъявление покорности и страха, а совершенно иное, он почувствовал, что его победили и превзошли в решимости. Это завоевание, для которого он все принес в жертву, исчезало на его глазах в облаках дыма и пламени. Им овладело страшное беспокойство; казалось, его самого пожирал огонь, который нас окружал. Ежеминутно он вставал, ходил и снова садился. Быстрыми шагами он пробегал дворцовые комнаты; его движения, порывистые и грозные, обличали внутреннюю, жестокую тревогу. Он оставляет необходимую работу, принимается за нее снова и снова бросает, чтобы посмотреть в окно на непрекращавшееся распространение пожара. Из его стесненной груди вырываются короткие и резкие восклицания: „Какое ужасное зрелище! Это сами они поджигают; сколько прекрасных зданий; какая необычайная решимость; что за люди: это скифы!“»
Несмотря на значительное пространство, отделявшее кремлевский дворец от пожарищ, оконные стекла во дворце накалились до такой степени, что к ним едва можно было прикасаться. Поставленные на крышах солдаты едва успевали тушить искры и головни, сыпавшиеся со всех сторон на дворец. Тревога внутри Кремля возрастала. Маршал Бертье и другие приближенные Наполеона отдали приказ быть всем наготове к выходу. Но император медлил отдать сигнал к выступлению. Ему, только что заняв дворец русских царей, не хотелось немедленно его оставить, как вдруг раздался крик: «Кремль горит!» Наполеон вышел из дворца на сенатскую площадку, чтобы самому непосредственно убедиться в угрожавшей опасности. Действительно, загорелась Троицкая башня близ самого Арсенала. Усилиями гвардии этот пожар был потушен; но ежеминутно могла возникнуть новая опасность. Тогда Мюрат, Евгений Богарне и другие приближенные лица обратились к Наполеону с настойчивой просьбой немедленно покинуть Кремль. Он, наконец, согласился. Решено было выехать в загородный Петровский дворец.
Пожар Москвы (Немец. грав.)
Но как было выбраться из Кремля? «Мы были окружены, — говорит гр. Сегюр, — целым морем пламени; оно угрожало всем воротам, ведущим из Кремля. Первые попытки выйти из него были неудачны. Наконец найден был под горой выход к Москве-реке. Наполеон вышел через него из Кремля со своей свитой и старой гвардией. Подойдя ближе к пожару, мы не решались войти в эти волны огненного моря. Те, которые успели несколько познакомиться с городом, не узнавали улиц, исчезавших в дыму и развалинах. Однако же надо было решиться на что-нибудь, так как с каждым мгновением пожар усиливался все более и более вокруг нас. Одна узкая извилистая улица казалась более входом, нежели выходом из этого ада. Император пешком, не колеблясь, пошел вперед по этой улице[147]. Он шел среди треска пылающих домов, при грохоте разрушавшихся сводов, среди падавших вокруг него горящих бревен и раскаленных кровельных листов железа. Груды обломков затрудняли его путь. Пламя, высоко поднимавшееся над крышами, силой ветра наклонялось над нашими головами. Мы шли по огненной земле, под огненным небом, между огненных стен. Сильный жар жег наши глаза, но мы не могли закрыть их и должны были пристально смотреть вперед. Удушливый воздух, горячий пепел и вырывавшееся отовсюду пламя спирали наше дыхание, короткое, сухое, стесненное и подавляемое дымом. Мы обжигали руки, стараясь защитить лицо от страшного жара, и сбрасывали с себя искры, осыпавшие и прожигавшие платье. В этом-то ужасном положении, когда все спасение наше зависело, по-видимому, от быстроты, проводник наш сбился с пути и остановился в смущении. Здесь окончилась бы наша жизнь, исполненная треволнений, если бы случайное обстоятельство не вывело императора Наполеона из этого грозного положения». Солдаты из корпусов Даву и Нея, грабившие в этой части города, неожиданно натолкнулись на императора и его свиту. Они вывели его по пожарищам к реке Москве у Дорогомиловского моста. Отсюда Наполеон и его спутники, следуя берегом реки, достигли до села Хорошева, переправились через реку по плавучему мосту и мимо Ваганькова кладбища, пробираясь полями, только уже при наступлении темноты достигли Петровского дворца, измученные и потрясенные страшными впечатлениями этого дня[148].
Пожар бушевал еще 5 сентября. Но, к счастью, к вечеру этого дня погода изменилась: небо покрылось тучами, пошел сильный дождь, ветер начал стихать; вместе с тем начала постепенно ослабевать и сила огня. На другой день, 6-го, дождь продолжал идти еще с большей силой, ветер совсем стих, и пожары почти прекратились, хотя еще в разных местах дымились пожарища, и кое-где вспыхивал огонь. Накаленная почва и мостовые, по которым едва можно было ходить, охладели. Удушливый воздух, наполненный запахом гари, дымом и пеплом, освежился; дышать стало легче, хотя не надолго: дома и улицы повсюду были наполнены разлагавшимися трупами людей и животных, заражавших воздух.
Самые ужасные дни миновали. После пожара Москва представляла печальное зрелище: повсюду — огромным пространства обгорелых пустырей, между которыми едва можно было различить направление прежних улиц. Кое-где виднелись уцелевшие здания; на каждом шагу попадались груды дымившихся развалин, уныло торчали печные трубы, остатки стен и столбов. По улицам трудно было пробираться от разбросанных обломков дерева, железа и пр.; тут же валялась всевозможная мебель и домашняя утварь, выброшенная из домов или оставленная грабителями, которые захватывали все, что попадалось под руки, и затем бросали, завидев более ценную добычу.
По очищении Москвы французами, московский обер-полицмейстер Ивашкин доносил официально гр. Ростопчину о состоянии столицы:
«Соборы, храмы Божии и монастыри, оскверненные неистовствами их (неприятелей), в пяти местах подорванный Кремль, выжженные Грановитая палата и часть дворца, некоторые казенные здания и 6496 обывательских, каменных и деревянных домов[149], множество мертвых трупов людей и лошадей, разбросанных по улицам, все сие вместе составляло ужасную истину варварства извергов сих»[150]. Погорели торговые ряды и лавки (8521) с торговыми складами и товарами, большая часть заводов, фабрик и ремесленных заведений. Сгорели 122 церкви (из 329), остальные пострадали от пожара или были разграблены. Погиб целый ряд культурных и просветительных учреждений, в том числе — университет с пансионом и библиотекой, библиотека гр. Бутурлина, пользовавшаяся большой известностью в Москве (40.000 томов), с крупным собранием живописных картин, театр, дом Благородного собрания, Английский клуб; пострадали архивные хранилища с рукописными памятниками отечественной истории. Помещение архива Вотчинного Департамента уцелело от огня, но, несмотря на хлопоты и ходатайства Бестужева-Рюмина лично перед Наполеоном, французская гвардия, расположившаяся в сенатском здании, натворила немало бед; по свидетельству очевидца, французы «для удобства своего помещения стали хозяйничать по-своему, из архивных книг и вязок устроили постели, столы и стулья, другие, как ненужные, повыкидали из окон, а иные употребляли на топливо для приготовления пищи»[151].
Всех культурных потерь учесть невозможно. Имущественные убытки для казны и московского населения исчисляются сотнями миллионов рублей. В отношении зданий и построек погибли, как видно из вышеуказанного, более, чем ¾ старой Москвы. Из отдельных частей и улиц пострадали следующие.
Москва 12 сентября 1812 г. (Фабер-дю-Фор)
Кремль не был захвачен пожаром, но сильно пострадал от порохового взрыва, которым, по приказанию Наполеона, был ознаменован выход французов из Москвы в ночь на 11 окт. От этого взрыва обгорели дворец и Грановитая палата; сильно пострадал Арсенал и колокольня Ивана Великого: пристройка к высокой башне, где висели колокола, взорвана на воздух; башня, хотя и устояла, но была сильно повреждена, и «Иван Великий стоял, как сирота, лишенный подпор своих». Никольские ворота были повреждены. От Никольских ворот до арсенальных все было завалено обломками. Кремлевская стена пострадала, главным образом, со стороны, обращенной к реке Москве: от Москворецкого моста, вдоль по набережной, стена взорвана в трех местах, железная решетка набережной сбита в реку; угольная башня, обращенная к Каменному мосту, была взорвана совершенно и большей частью обрушилась в реку. Пострадали и Боровицкие ворота. Прочие кремлевские башни и стены уцелели. Уцелели и все кремлевские соборы, несмотря на близость взрыва, от которого пострадал «Иван Великий»; в них от сильного потрясения оказались только выбитыми стекла.
Китай-Город с торговыми рядами и почти всеми зданиями выгорел. Уцелели на Никольской несколько домов, в том числе Синодальная типография. Но находившиеся на Никольской книжные лавки все сгорели. В Белом городе пострадали особенно сильно части к западу и юго-западу от Кремля, начиная с Петровки, Дмитровки и Тверской, далее — Моховая, Никитская, Воздвиженка, Знаменка, Арбат, Пречистенка и Остоженка с переулками. Замоскворечье все выгорело. Выжжена Немецкая слобода и в ней — Слободский (Лефортовский) дворец. Выгорели Басманная, Покровка, Земляной вал и Садовая; здесь уцелели Шереметевская больница, Спасские казармы и Сухарева башня. Огонь сравнительно пощадил улицы от Китай-города по радиусам: Маросейке, Мясницкой, Сретенке, Лубянке и поперечные: Кузнецкий Мост, Чистые пруды и т. д. по бульварам — до Страстного монастыря.
«Москва не представляет уже первобытного своего блеска, — пишет один очевидец, преданный традициям дворянства, приехав в Москву в феврале 1813 г. — Теперь она представляет обширное пожарище, на коем торчат одни печные трубы, кучи камней, развалин и глыб земли, обрушенной взрывами, и сие зрелище приводит каждого в содрогание. Теперь уже не можно сказать сынам сей древней колыбели и гробницы русского дворянства с любезным ее стихотворцем: „Что матушки Москвы и краше и милее“. Теперь всякий скажет: „Что матушки Москвы печальнее, унылее, огорченнее“… Нет экипажей, нет дворянства… В дверях же славного нашего Благородного собрания, первого клуба в России, теперь сделана лавочка, где продаются лапти, кульки, веревки и прочее. Охотный ряд есть базар из возов; на Красной площади по обеим сторонам построены в два ряда деревянные лавочки, наподобие бывших хлебных и табачных. Суконных товаров, также посуды, сахару, чаю и прочего еще мало, но меняльщиков серебра и серебряных денег очень много. Причина сему та, что всякий купец из Серебряного ряда мог в одном мешке унести все с собою… Фабрик целых осталось мало»[152]…
Наполеон на пожарище (Фабер-дю-Фор)
Полтора года спустя Ф. Ф. Вигель так описывает свой въезд в Москву в июле 1814 г.: «Около полудня 18 июля увидел я издали Москву… Золотая шапка Ивана Великого горела вся в солнечных лучах, как бы венец сей новой великомученицы… Сама она, в отдалении, по-прежнему казалась громадною, и только проехав Коломенскую заставу, мог я увидеть ужасные следы разрушения. Те части города, через которые я проезжал, кажется, Таганская и Рогожская, совершенно опустошены были огнем. Вымощенная улица имела вид большой дороги; деревянных домов не встречалось, и только кое-где начинали подыматься заборы. Далее стали показываться каменные, двух- и трех- этажные обгорелые дома, сквозные, как решето, без кровель и окон. Только приближаясь к Яузскому мосту и Воспитательному Дому, увидел я, наконец, жилые дома, уцелевшие или вновь отделанные»…
Кремль не был еще вполне приведен в порядок. Следы разрушения видны были и в неотстроенном здании Арсенала, в заваленной мусором и обломками площади соборов; дворца еще не было, и Грановитая палата без него казалась «печально вдовствующей». Соборы были уже очищены и приведены в прежнее состояние. «В следующие дни, — пишет Вигель, — не пощадил я денег на извозчиков, чтобы изъездить Москву по всевозможным направлениям. Я находил целые улицы нетронутые пожаром, точно в том виде, в каком я знал их прежде; в других видел каменные дома, коих владельцы, вероятно, богатые, с большими пожертвованиями начинали их вновь отделывать; в иных местах стук топора возвещал мне подымающееся надворное деревянное строение; но гораздо более показывались мне дворы, совсем поросшие травой. Вообще возбуждающее во мне сожаление встречал я чаще, чем утешительное»[153].
В 1813 г. была учреждена особая Комиссия строений в Москве, и отпущены для нее средства из казны. На Комиссией была возложена задача приведения Москвы в благоустроенный вид. Составлен был новый план города, на основании которого должны вновь быть отстроены пострадавшие казенные здания, стены Кремля и Китай-Города, урегулировано возведение построек на Красной площади и в других местах, вновь распланированы площади и бульвары; частным лицам, потерпевшим от пожара и разорения, выдавалось вспоможение на обстройку в виде беспроцентной ссуды на пять лет. По официальной ведомости 1819 г.[154] видно, что еще сотни домов в различных частях Москвы, даже и таких центральных, как Китай-Город, Охотный ряд, Тверская, Петровка и пр., стояли обгорелые, неотстроенные, без крыш; много еще незастроенных и неогороженных пустырей, без мостовой, без тротуаров. Из казенных зданий, наприм., не был еще вполне отстроен университет: по Никитской улице два университетских флигеля стояли обгорелые и неотстроенные, заборы, мостовые и тротуары — в неисправности, не восстановлен казенный Петровский театр и мн. др.
Однако же положение Москвы в центре России, ее твердо установившееся культурное и промышленно-торговое значение были причиной того, что жизнь снова забила ключом в старой русской столице.
И. Катаев
IV. Пожар Москвы и русское общество
Пожар Москвы (Сведомского)
1. Впечатления от пожара и мнения современников
Д. А. Жаринова
Это — экономический и культурный центр. Из отдаленных губерний отправляют сюда на продажу возы хлеба, «в уверенности, — как говорит современник, — что выиграют на его цене». Деньги, вырученные от продажи хлеба, тут же, в Москве, обмениваются на всевозможные продукты обрабатывающей промышленности — русской и иностранной. В 1811 г. в Москве было 167 фабрик, 172 завода и до 216 мелких мануфактурных предприятий. Наряду с этим, по признанию П. Вяземского, Россия училась говорить, читать и писать по-русски по книгам и журналам, издаваемым в Москве. В Петербурге придерживались старого стиля, в Москве народился новый литературный слог талантливых молодых писателей. Образовательные учреждения, публичные лекции, театр, балы в Дворянском собрании и у московских вельмож, — все это поддерживало культурные интересы в массе дворян, съезжавшихся по зимам в Москву из своих имений. У более достаточных были в Москве дома, другие ютились в наемных квартирах. В Москве жили на покое бывалые сановники, покинувшие службу, но не утратившие влияния; это, по выражению Вяземского, «соединение людей более или менее исторических» в значительной степени руководило общественным мнением всей России: «в Петербурге сцена, в Москве зрители; в нем действуют, в ней судят». Мнением Москвы интересуются государи; в случае победы из Петербурга отправляется курьер в Москву с рескриптом генерал-губернатору, заключавшим в себе лестные для Москвы выражения. Для получения сведений о настроении Москвы иностранные послы отправляют в нее особых агентов. Мы видели, как 15 июля пример Москвы подействовал на другие губернии. «Ежели Москва погибнет, все пропало! — пишет М. А. Волкова В. И. Ланской. — Бонапарту это хорошо известно: он никогда не считал равными наши обе столицы. Он знает, что в России огромное значение имеет древний город Москва, а блестящий, нарядный Петербург почти то же, что все другие города в государстве. Это неоспоримая истина».
Пожар в Кремле (Верещагина)
В то время, как С. Н. Глинка еще на собрании 15 июля и даже ранее[155] указывал на печальную возможность сдачи Москвы, для большинства, наоборот, самая мысль об этом казалась дикой. Москва — сердце, святыня России — может ли правительство отдать ее врагам? Но неприятель шел уверенно и быстро. Вопрос о судьбе Москвы сам собой становился источником тяжелых сомнений и тревог. Весть о занятии Смоленска, по выражению Глинки, «огромила Москву… Раздался по улицам и площадям гробовой голос жителей: отворены ворота к Москве!» Кто мог уехать, тот предпочитал пережидать события где-нибудь в более безопасном месте. Современники переживали тяжелое настроение. В городе шел рекрутский набор, сопровождаемый воем и плачем, слышавшимся целое утро, как у самого рекрутского присутствия, так и по всем прилегающим к нему улицам. Общее смятение не мешало некоторым патриотам представлять Москву «венчанною мученицей, с христианским терпением спокойно ожидающею неизбежной казни». «О, как величественна и прекрасна была она тогда в глазах наших, — пишет Вигель, — сия родная Москва, наша древность, наша святыня, колыбель нового могущества нашего! Нет, разве только дети в последние минуты жизни обожаемой матери могут так трепетать, видя приближение конца ее!»
Москва стала жертвой не только оскорбительного для русских завоевания, но и пожара. Гибли народные святыни, казенные и частные здания, роскошные обстановки, библиотеки, плоды долголетней заботливости целого ряда поколений; в лавках и подвалах были брошены товары; убытки потерпели не только местные, но и провинциальные купцы; пожар Москвы оплакивался в Одессе. С приостановкой известий из запятой врагами столицы состояние ее представлялось еще более бедственным, чем было на самом деле. «Москвы нет! — пишет из Нижнего Батюшков. — Потеря невозвратная! Гибель друзей, святыня, мирное убежище наук, — все осквернено шайкой варваров… Сколько зла! Когда будет ему конец? На чем основать надежды? Чем наслаждаться? А жизнь без надежды, без наслаждений — не жизнь, а мученье!»… «Как я ни ободряла себя, как ни старалась сохранить твердость посреди несчастий, ища прибежища в Боге, — пишет Волкова, — но горе взяло верх: узнав о судьбе Москвы, я пролежала три дня в постели, не будучи в состоянии ни о чем думать и ничем заниматься»… Из покинувших Москву более зажиточные легко устроились в разных провинциальных городах; но, несомненно, вопрос о помещении не так просто решался для массы выехавших из столицы и из-под ее окрестностей мелких дворян, у которых, кроме подмосковных, ничего не было. Даже найдя себе приют в каком-нибудь радушном провинциальном семействе, они чувствовали себя бездомными странниками, лишенными родного угла…
так обращаются москвичи к нижегородцам в романсе В. Л. Пушкина, написанном в это время. У слушавших этот романс навертывались слезы, иные не могли удерживать рыданий…
Пожар Кремля (с английск. гравюры)
Но взятие и пожар Москвы, как и вообще Отечественная война, по мнению современников, породили в русском обществе и утешительные явления. Пробудилось общественное самосознание; восстановилось согласие как между разными классами населения, так и между правительством и обществом. «Несчастье велико; потеря стоит дорого; но я все стою твердо в том, что в самом крайнем бедствии доверенность к начальству спасительна», такую благонамеренно-патриотическую мораль выводит из событий один москвич в письме к знакомому. Автор «Сибирских записок», Ипполит Канарский, рассказывает, как при нашествии французов в Сибири опасались прежде всего «изменений в правлении» и возмущения ссыльных; но весть о сдаче Москвы заставила последних плакать, «как о потере своей собственности, и неприметно было духа возмущения ни в одном месте». Вигель свидетельствует о необыкновенном согласии между всеми состояниями, которое стало водворяться с самого начала войны. «Прекратились все ссоры, все неудовольствия, составилось общее братство, молящееся и отважное. Время быстро протекшее! Кто видел это время, тот по гроб его не забудет». Здесь говорится о «времени, быстро протекшем», но А. И. Тургенев в октябре 1812 г. рисует себе и более прочные перспективы. «Сильное сие потрясение России, — читаем мы в письме Тургенева к Вяземскому, — освежит и подкрепит силы наши и принесет нам такую пользу, которой мы при начале войны совсем не ожидали. Напротив, мы страшились последствий от сей войны совершенно противных тем, какие мы теперь видим. Отношения помещиков и крестьян (необходимое условие нашего теперешнего гражданского благоустройства) не только не разорваны, но еще более утвердились… Политическая система наша должна принять после сей войны также постоянный характер, и мы будем осторожнее в перемене оной». Часть мазков в этой грандиозно-трогательной картине всеобщего единения должна быть отнесена, разумеется, не на счет действительных фактов, а на счет патриотического настроения авторов записок[156]; но нельзя не признать, что вражда к французам, особенно обострившаяся со взятием Москвы, в значительной степени стушевала влияние тех элементов оппозиции, которые еще оставались. В 1814 г. в комитете 13 января разбиралось дело подпоручика Калинина, который, служа в петербургском ополчении, во время нашествия французов «сочинил» конституцию; чиновник, ехавший через Рязань, распускает какие-то «непозволительные и непристойные слухи»; любопытен написанный неизвестным автором «Взгляд на нашу теперешнюю беду», где причиной «беды» выставляется прежде всего «моральное развращение» русского народа, а затем и политический грех — занятие престола государем, не знающим ни духовных, ни гражданских законов и «прилепленным к одному только барабанному бою и солдатской амуниции». Но критика эта не вызывает осложнений. В Петербурге А. С. Шишкову приходится выпустить объявление от имени Управы благочиния с воспрещением частным лицам самовольно хватать прохожих, показавшихся подозрительными, так как от такого добровольного содействия полиции попадали на съезжую совершенно неповинные люди. 4 сентября в Ростове приняли за шпионов и чуть не убили офицера и казака за то, что оба они сообщали о сдаче Москвы, а на казаке было французское вооружение. В Твери, при губернаторе Кологривом, не отличавшемся особенными административными способностями, был наряжен целый штат чиновников, выбранных дворянством со специальной целью секретного наблюдения за действиями обычной полиции. В Нижнем Новгороде на патриотическом банкете у губернского предводителя, князя Грузинского, дворянский патриотизм чуть было не стоил жизни Сперанскому, сосланному в это время в Нижний. «Повесить, казнить, сжечь на костре Сперанского!» предлагали дворяне. Местная власть была уже близка к тому, чтобы уступить дворянству, но, к счастью, нашелся незнатный дворянин, отговоривший своих товарищей по сословию от этого суда Линча. Сперанский был отправлен на жительство в Пермь… Ненависть к французам достигала апогея. Между русскими, особенно между дворянами, началось, по словам Вигеля, «нечто страшное, давно небывалое! В них загорелась неутолимая, казалось, жажда мести. Москва перестала для них существовать; оплакав, как следует, родимую, они с некоторой радостью смотрели, как терзают труп ее, мысленно приготовляя ей кровавые поминки»… Начали сознавать, что Москва — западня для Наполеона и чем он в ней дольше останется, тем это выгоднее для русских. Личность Наполеона возбуждала ненависть; «при одном его имени, по выражению Вигеля, и черты лица оставались неподвижны, но чело являло гнев, и уста шептали угрозы». «Я не переживу Москвы, я возвращусь в нее и убью Наполеона, — говорил еще при выезде из Москвы будущий партизан Фигнер своему знакомому П. X. Граббе. — Радуюсь, что тебя встретил, скажи это А. П. Ермолову и что судьбу моего семейства поручаю его предстательству».
Ненависть к Наполеону отвлекла русскую общественную мысль от критики внутреннего строя, но, протягивая руку правительству, общество — в лице представителей самых разнообразных политических течений — требовало одного — продолжения войны во что бы то ни стало. Известие об отдаче Москвы вызвало в Петербурге негодование и удивление[157]. Говорили, что Кутузов обещал скорее лечь костьми, чем допустить неприятеля к Москве. Ростопчин принял все меры к тому, чтобы, заняв столицу, неприятель в ней нашел себе могилу — и вот Наполеон в Кремле! В обществе распространился ропот. По словам графини Эдлинг, «с минуты на минуту ждали волнения раздраженной и тревожной толпы. Дворянство громко винило Александра в государственном бедствии, так что в разговорах редко кто решался его извинять или оправдывать»[158]. Трудно сказать, насколько это действительно было так: но при дворе были, видимо, напуганы и хотели мира[159]. Из Петербурга готовились вывезти на север кадетские корпуса, Смольный институт; намеревались снять с подножия и увезти в Архангельск памятник Петру Великому[160]. Но не потому ли сдача Москвы вызвала такое негодование в Петербурге, что рассматривалась, между прочим, и как первый шаг к позорному миру? Войны Наполеона нередко заканчивались взятием столиц. Опасения мира, распространяющиеся еще с средины августа, особенно ярко выступают в письме Багратиона к Аракчееву — от 15 августа 1812 г.: «Слух носится, — пишет Багратион, — что вы думаете о мире: чтобы помириться — Боже сохрани! после всех пожертвований и после таких сумасбродных отступлений — мириться!.. Вы поставите всю Россию против себя и всякий из нас за стыд поставит носить мундир… Надо драться, пока Россия может и пока люди на ногах: ибо война теперь не обыкновенная, а национальная». По свидетельству императрицы Елизаветы Алексеевны и Штейна, государь не мог бы заключить мир, даже если бы захотел этого[161]. В Подсолнечном начальник тверского ополчения, кн. А. А. Шаховской, сообщил ген. Винцингероде подслушанные им в ямской слободе патриотические толки. «Я только одного желаю, — воскликнул Винцингероде, схватив Шаховского за руку, — чтобы вельможи думали, как эти крестьяне, и сегодня же напишу императору их слова. О! Я уверен, что он никак не помирится с Бонапартом!» Александр остался верен народному настроению. Собственноручным письмом поставив на вид Кутузову всю тяжесть ответственности за потерю столицы, государь в то же время твердо высказался за продолжение войны. В манифесте, написанном по Высочайшему повелению Шишковым, указывалось, что неприятель занял Москву «не от того, чтоб преодолел силы наши или бы ослабил их, но потому, что главнокомандующий сам уступил временной необходимости, дабы затем, с надежнейшими и лучшими способами, превратить кратковременное торжество неприятеля в неизбежную ему гибель». В армии потеря Москвы привела сначала к значительному упадку духа; но за этим упадком как в обществе, так и в армии появились скоро симптомы подъема. О полнейшем отчаянии (morne desespoir) по поводу взятия Москвы пишет жене Д. А. Гурьев; но в то же время, по его словам, «настойчивость одна может вывести нас из унизительного состояния, в какое мы попали, и решимость быть настойчивыми тверда у всех. Немыслимо, чтобы 100.000 человек внутри России могли приводить в трепет 45 миллионов, настроенных патриотически». Кн. А. А. Шаховской, ополченец, описывает Михайловскому-Данилевскому первые впечатления его отряда при сдаче и пожаре Москвы. Из Клина, где остановился отряд, прекрасно было видно зарево: «русские вещие сердца замерли и вскоре прискакавший к нам с приказанием остановить нас, где застанет, уверил в ужасной истине». Но после обедни Шаховской уже напомнил дворянам, что «Россия не в Москве». Все ободрились. Начались патриотические толки, офицеры занялись карточной игрой, «в ожидании, что прикажут делать, куда поведут и где Господь приведет подраться с злодеями»… Сдача Москвы мало уронила в глазах русского общества и главного непосредственного виновника этой сдачи — Кутузова. Против Кутузова настроен Ростопчин и его непосредственные подчиненные, А. П. Ермолов; но вместе с тем Кутузов — ставленник московского и петербургского дворянства, назначенный главнокомандующим в угоду общественному мнению: напасть на него — значило признать негодность собственного выбора. «Зачем предаваться унынию? — пишет 26 сентября Д. П. Трощинский Кутузову из Полтавы. — Вы еще живы; дух российский еще жив и в сердцах соотечественников наших воспламенится несчастием, как бурею искра в погасающем пожаре. Сия надежда утешает меня»… Неудачи Кутузова частью объяснялись ошибками его предшественника, частью прощались. «Проходя по улицам покидаемой Москвы, солдаты и офицеры, по словам ген. Ковальского, плакали». «Кутузов отдавал ее на произвол неприятелю и сделай это Барклай — в войсках, несомненно, произошло бы восстание!»
Как отнеслось общество к самому факту пожара Москвы? Известно, что, увенчав своим величественным заревом Отечественную войну 1812 г., пожар Москвы стал источником красивой патриотической легенды. Легенда о пожаре, как и всякая легенда, возникла в результате целого ряда действительных фактов, рассматриваемых сквозь призму известного определенного настроения.
Французы взяли Москву, французы ее жгут — вот общий голос, раздавшийся в России по взятии Москвы. Так объясняют пожар московские жители, не успевшие бежать или пробравшиеся в столицу после ее занятия французами, так говорят со слов московских беглецов жители подмосковных, так смотрят на дело в армии. «Французы грабили и оскверняли храмы Господни, сожгли почти всю нашу древнюю столицу и вышли из нее, пробыв в ней больше месяца», пишет современница Л. И. Золотухина. «Наш милый, родимый город, — пишет другая современница, — представляет лишь груды пепла… Не успевшие бежать из города подвергаются ужасным пыткам… В их глазах жгут и разоряют дома их господ, для спасения коих многие из них остались… Наполеон, иначе сатана, начал с того, что сжег дома с их службами». Когда спрашивали жителей Москвы, почему они не тушат пожара, то некоторые, по словам Шевалье д'Изарна, отговаривались страхом, что французы убьют их, если они будут тушить. «Москву французы зажигали», значится в рапорте остававшегося при французах в Москве чиновника горного правления Тихонина обер-берг-гауптману Соймонову от 20 ноября 1812 г. Обвинение французов встречаем у иерархов в их проповедях, в торжественном молитвословии по поводу одоления Наполеона, в официальном известии о пожаре, написанном А. С. Шишковым, наконец, в Высочайшем рескрипте 14 ноября 1812 г. В рескрипте упоминается о враге, который нанес ущерб России «не преодолением противопоставленной ему обороны» и «не силою осадных орудий», «но действиями неприличных и срамных для воина зажиганий, грабительств и подрываний». В начале 1813 г. И. М. Муравьев-Апостол видит в Москве «величественную жертву спасения нашего», закланную «на алтаре Отечества», но пожар, по его мнению, устроен французами, «сволочью Наполеона»; Москва, — столица пылает и злодей, осклабясь на зарево ее, мечтает: «нет более России». В ноябре 1812 г. «Вестник Европы» с негодованием отвергает всякую возможность подозрения русских в московском пожаре. Утверждая, что русские сожгли Москву, «Бонапарт лжет на душу свою». «Кто же был зажигателем и опустошителем Кремля, в который не впускали ни одного русского человека, кроме несчастных страдальцев, употребленных в работу? Он думает, что отразил на русской народ все поношение, приказавши по кровожадной привычке своей повесить нескольких простаков (а может быть, и бездельников), пойманных будто бы в зажигательстве!» Наполеону было чрезвычайно важно отклонить от себя подозрение в уничтожении столицы. Отсюда его знаменитые бюллетени. В письме к императору Александру от 20 октября 1812 г. всю ответственность за пожар Наполеон целиком слагает на Ростопчина и его подчиненных. С Ростопчина обвинение переходит и на другие лица: по словам Боволье, при сдаче Москвы приказ о ее сожжении дал Кутузов[162]. О том, что русские могут сжечь Москву, говорили французам и жившие в Москве иностранцы, пришедшие к этой мысли еще при самом приближении Наполеона к столице, в виду крайнего обострения националистического чувства в ее жителях. Пожаром Москвы грозил французам Милорадович, если они не дадут времени вывезти из Москвы обоз и часть артиллерии. Русские, по мнению французов, устроили пожар, и это с французской точки зрения было тем более бесполезным варварством[163], что съестные припасы, которые надо было прежде всего истребить, сохранились в изобилии в подвалах. Но, не лишив французов продовольствия, пожар не дал Наполеону почить на лаврах и явился одной из важных причин расстройства его великой армии. Естественно, что бюллетени, печатаемые в «Монитере», в странах и общественных кругах, враждебных Наполеону, были приняты в совершенно нежелательном для Наполеона смысле. Пожар Москвы — это новая беспримерная жертва со стороны русских для защиты отечества. Таково представление о пожаре, слагающееся особенно в Англии, — в стране, руководившей в борьбе с Наполеоном всей Европой[164]. В конце октября появляется в «Монитере» заключение следственной комиссии о пожарах, и в то время, как большинство русских еще в начале 1813 г. считают разорение Москвы делом французов, граф Ливерпуль в заседании английской палаты лордов уже 18 декабря 1812 г. поднимает вопрос о назначении пособия московскому населению, сжегшему свои жилища.
Возвращение из Петровского дворца (Верещагина)
Кроме заграничных, у патриотической легенды были и свои местные источники. Ростопчин уже после потери Смоленска пишет, что если французы возьмут Москву, то народ русский, следуя правилу: «не доставаться злодею», «обратит город в пепел, Наполеон получит, вместо добычи, место, где была столица». «Если вы Москву оставите, она запылает за вами», говорит Ростопчин А. П. Ермолову уже перед самой сдачей столицы. Все эти фразы естественно было понять, как намерение сжечь Москву; такое впечатление оставили они и в П. X. Граббе, записавшем разговор Ростопчина с Ермоловым. С другой стороны, что поджоги в Москве производили не одни французы, — это было еще лучше известно русским современникам пожара, чем французским. Под влиянием хода событий, под влиянием той оценки московского пожара, которая была сделана иностранцами, отдельные, по характеру совершенно разнородные, факты складываются и у русских патриотов в величественную картину подвигов не тех или иных лиц, а всего русского народа. Петербургский иностранец Фабер уже в письме от 1 декабря 1812 г. свидетельствует, что так объясняют пожар «честные русские люди, знающие свой народ» — «les Russes de bonne foi et qui connaissent leur nation». Таких «честных» людей сначала было немного, но скоро число их растет. Граббе допускает, что «пожар был делом немногих», но несомненно, по его утверждению, он «был мыслью всех»… «Потомство не забудет этого завещания нашего поколения, как должно принимать зашедшего в нашу любимую столицу ослепленного Провидением врага». Окончательно утверждается легенда со времени заграничного похода 1813–14 гг., когда русская и иностранная версии сплетаются еще теснее. «Напрасно многие ищут оправдаться в этом, — говорит по поводу московского пожара А. П. Ермолов, — и слагают вину на неприятеля: не может быть преступления в том, что возвышает честь всего народа… За что отнимать у себя славу пожертвования столицею, когда справедливый неприятель у нас ее не похищает! Ни один народ из всех, в продолжение двадцати лет пред счастием Наполеона спрятавшихся, не явил подобного примера: судьба сберегла его для славы Россиян»… «Москва, из своего пепла восставшая, прекрасная, богатая, — говорит Граббе, — новою вечною славою великой жертвы озаренная, конечно, всегда будет помнить вместе с целой Россией свои дни скорби и запустения, но помнить с тем, чтобы гордиться ими»…
Грустно звучит сожаление о напрасно погубленной старой Москве в письме князя П. Вяземского к А. И. Тургеневу от 7 ноября 1812 г. «Представь себе, — пишет Вяземский, — человека, у которого заболел мизинец на ноге и у которого глупый лекарь, испугавшись того, отпилил ногу и после, какою-то нечаянною благостью неба, успел излечить ее и, положим так, даже возвратить совершенно здоровье больному, о котором уже все ближние отчаивались. Конечно, ни ему ни ближним его нельзя не восхищаться: ведь глупый лекарь мог легко и совсем его уморить; так, конечно, но все же он остался на всю жизнь свою безногим»…
Д. Жаринов
Восстановленная Москва (Альб. Браза 1825 г.)
«Теплые зимние квартиры, или Москва, хорошо проветренная Наполеоном и его великой армией» (С англ. кар.)
2. Кто сжег Москву?
С. П. Мельгунова
„Наполеон с С…. после сожжения Москвы“ (Теребенев)
„Пылай, великая Москва!“ Но когда она пылала, то, сколько я знаю, общее чувство было вовсе не восторженное» («Р. Арх.», 1875, X, 224). И понятно, «весть о пожаре Москвы грянула как громовой удар». «Осторожные» барыни, заперев накрепко свой московский дом, были совершенно спокойны насчет своего оставленного там имущества. При таких условиях, действительно, обвинение французов в пожаре являлось лучшим агитационным средством, что и отметил, как мы уже знаем, в своих воспоминаниях Домерг. Но французы неповинны в пожаре. Им не могла принадлежать инициатива уже потому, что «глупо было бы допустить, — как выражался Рунич, — что французы подожгли город, в котором они нашли в изобилии все, что было необходимо для их существования и который представлял собою к тому же надежный пункт, из которого они могли вести переговоры или руководить военными действиями во все стороны, как из центра, находившегося в их руках» («Рус. Стар.», 1901,III, 604–5). Мы знаем, какие усилия употреблялись для борьбы с дезорганизацией, и действительно, было бы «глупо» разрушать одной рукой то, что создается другой. Таким образом, ранняя русская версия о французах-поджигателях абсолютно лишена основания (см. также у Свербеева, I, 433). Единственно, что можно сказать, — это то, что на первых порах завладевшие столицей не обратили должного внимания на начавшийся пожар. Он «не казался опасным, — говорил Наполеон О'Меаре на Елене 3 ноября 1816 г. — Мы думали, что он возник из-за солдатских огней, разведенных слишком близко от домов, сплошь деревянных[166]. На следующий день огонь увеличился, но еще не вызывал серьезной тревоги… На следующее утро поднялся сильный ветер, и пожар распространился с огромной быстротой» («Napoleon dans l'exil». О' Mear, p. 44).
Гр. Ф. В. Ростопчин (англ. грав.)
Версия о французах-поджигателях была хороша только для 1812 года…[167] Какое же имеет под собой историческое основание французская версия? У позднейших историков Отечественной войны мы найдем различное решение этого вопроса. Первый официальный историк войны, отвергая «обвинение в умышленном и заранее обдуманном зажжении Москвы Российским правительством», видит «причины первых пожаров» в сожжении комиссариатских барок на Москве-реке по распоряжению отчасти Ростопчина, отчасти Кутузова. «В то же время, — говорит он, — загорались дома и лавки, но уже ни по чьему-либо приказанию, не по наряду, но по патриотическим чувствованиям» («Сочинения» Михаил. — Данилевского, 1850 г., т. IV, 518). Затем к французским грабителям присоединились «бродяги из русских» и, «вероятно, вместе с неприятелями старались о распространении пожара, в намерении с большею удобностью грабить в повсеместной тревоге» (Ibid., 520). На другой точке зрения стоит ген. Богданович в своей истории Отечественной войны: «Выказывать пожар Москвы в виде гибели Сагунта — столь же нелепо, сколько приписывать его жестокости Наполеона и буйству его войск». По его мнению, «главным или, по крайней мере, первым виновником его был граф Ростопчин». Д. П. Рунич в своих воспоминаниях пошел дальше: «Для всякого здравомыслящего человека есть один только исход, чтобы выйти из того лабиринта, в котором он очутился, прислушиваясь к разноречивым мнениям, которые были высказаны по поводу пожара Москвы. Несомненно только император Александр мог остановиться на этой мере» («Рус. Стар.», 1901, III, 604). «Не пройдет и века, — добавлял Рунич, — как тайна разъяснится и на пожар Москвы, без сомнения, будут смотреть, как на одну из лучших жемчужин, украшающих венец Александра. Ростопчину остается только слава, что он искусно обдумал и выполнил один из самых великих планов, „возникавших в человеческом уме“» (Ibid., 606). Фантастическое настроение Рунича, конечно, не войдет в историю, ибо под ним нет решительно никакого фундамента. Отойдет в область предания и вся вообще патриотическая легенда. Тщетны усилия доказать, что «Москва была вольной жертвой нашего патриотизма». Если этот вопрос был возведен «до апогея патриотического самопожертвования», то, по мнению Свербеева, «мыслящая русская публика» ухватилась за него «более ловко, чем искренно» (I, 437). В 1812 г. Д. Н. Свербеев выступил в «Вестнике Европы» с большой статьей, посвященной разбору причин московского пожара в 1812 г. (статья эта вошла в виде приложения в первый том его записок). Отрицая участие Ростопчина в московском пожаре, Свербеев давал такой ответ (и «единственно возможный», по его мнению) на вопрос, кто сжег Москву: «не мы, русские, и не они, французы, задуманно и заранее преднамеренно; и мы, русские, т. е. остававшиеся во время неприятеля в Москве, и они, французы, т. е. все галлы и все их двадесять язык, те и другие, но не задуманно и не заранее намеренно. Может быть, в редких случаях и были между зажигателями русские по чувству ненависти к врагу и из мщения за жестокое с ним обращение неприятеля, но главнейшею причиной пожаров было отсутствие всякой дисциплины в неприятельском войске и всякого порядка между кочующими по городу толпами жителей». «Не должно ли будет согласиться, что Москве труднее было уцелеть, нежели сгореть при таких ужасных беспорядках, продолжавшихся не день, не два, целую неделю» (I, 446–7). Если мы поставим вопрос, как сгорела Москва, то, в сущности говоря, замечаниями Свербеева, совпадающими с точкой зрения Михайловского-Данилевского, вопрос будет вполне исчерпан, надо лишь будет добавить, что первыми поджигателями-грабителями явились не французы, а русские (см. статью «Ростопчин — московский главнокомандующий»). Полупьяная толпа, взвинченная прокламациями Ростопчина, растерзав Верещагина, направляется в то же время в Кремль и там с оружием в руках встречает неприятеля. Этой толпой, начавшей поджоги, руководили, конечно, не только корыстные цели, здесь сыграло роль и чувство инстинктивного самосохранения.
И кто бы не поджег Москву (сознательно или бессознательно) — все равно не приходится удовольствоваться, что полудеревянная Москва, при стоявшей засухе, при отсутствии средств для тушения пожара (пожарные трубы были вывезены по распоряжению Ростопчина), при полной дезорганизации, начавшейся еще за три дня до вступления французов, могла сгореть в несколько дней[168].
Но при всем том можно ли игнорировать так решительно утверждение французских источников, что пожар был подготовлен Ростопчиным? Можно ли, по крайней мере, отрицать всякое участие Ростопчина в пожаре? Французские источники в один голос указывают на Ростопчина, как на одного из виновников пожара. «L'incendie de Moscou a ete consu et prepare par le general gouverneur Rastopchine», гласили бюллетени великой армии. Они утверждали, что поймано до 300 поджигателей со взрывчатыми веществами, что при царившем безначалии пьяные колодники бегали по улицам и бросали огонь. Наиболее полное объяснение пожара, как акта, приуготовленного заранее, мы найдем в протоколе от 24 сентября военной комиссии, судившей поджигателей в числе 26 человек («Бумаги 1812 г.», П. И. Щукина, ч. I, 129). Комиссия свидетельствует, что на суде фигурировали «разные вещи, употребленные к зажиганию, как-то: фитили ракет, фосфоровые замки, сера и другие зажигательные составы, найденные частью при обвиненных, а частью подложенных нарочно во многих домах». Эти зажигательные средства, по мнению комиссии, были приготовлены Шмитом (т. е. известным нам Леппихом): «построение великого шара только выдумано для того, чтобы скрыть истину». В подтверждение комиссия ссылалась на прокламации Ростопчина с угрозой сжечь французов, если они осмелятся войти в Москву. Таким же доказательством являлось для нее выпуск из тюрьмы преступников, которым дана свобода с тем, чтобы они «подожгли город в двадцать четыре часа» по вступлении французских войск. Затем — свидетельствует протокол комиссии — «разные офицеры, военнослужащие в российской армии и полицейские чиновники получили тайно приказ остаться в Москве, будучи переодеты, чтобы распоряжаться зажигателями и дать им сигнал к запалению». Наконец «бессомнительно доказано, что губернатор Ростопчин, для отнятия всех средств тушить пожар, приказал вывезть… из 20 кварталов в Москве все пожарные трубы, дроги, крючья, ведра и все проч. пожарные орудия». Все это явно доказывает, что «пожар произошел от уложенного плана».
Первый официальный историк Отечественной войны назвал процитированный протокол военной комиссии сцеплением «вымыслов и лжи». Но уже Богданович несколько мягче выразился о военно-судебной комиссии: здесь «ложь перемешана с истиною». И действительно, если вся концепция французской версии, быть может, и не выдерживает критики, то почти все отдельные факты, приведенные военно-судной комиссией, не могут быть аннулированы. Вопреки утверждениям официальных историков, «колодники» не были вывезены из Москвы: брошенные на произвол судьбы, обреченные к полуголодному существованию, они участвовали и в упомянутых выше «патриотических» подвигах и в разграблении домов — им ничего другого и не оставалось делать. В составе 26 подсудимых мы видим поручика 1-го Московского пехотного полка Игнатьева, солдата и девятерых полицейских (Soldat de police a Moscou). Из свидетельств самого Ростопчина мы знаем, что он выбрал нескольких наиболее надежных полицейских, которые должны были остаться в Москве и доносить московскому градоправителю о положении дел. Они остались и исправно отправляли свою миссию, за что впоследствии были вознаграждены. Что же касается зажигательных веществ, найденных в домах и у подсудимых, то и здесь, несомненно, была доля правды. У нас нет никаких реальных оснований утверждать, что зажигательные снаряды, фигурирующие в качестве вещественных доказательств в протоколах французской военной комиссии, являются вымыслом. Основания могут быть исключительно лишь психологические — Наполеону выгодно было для реабилитации в общественном мнении представить дело таким образом. Как ни сильны подчас бывают для исторических выводов подобные соображения, все же они требуют проверки. Бесспорно, шар Леппиха сам по себе не имеет никакого отношения к пожару (среди ранних иностранных историков высказывалась мысль, что Леппих дал первую мысль о сожжении). Но после Леппиха остались «горючие материалы». Это факт, не подлежащий сомнению. Они и послужили, по словам Ростопчина, «предлогом, за который с жадностью ухватились, чтобы доказать, что в этой лаборатории приготовлялись зажигательные материалы для сожжения Москвы» (Воспоминания. «Р. Ст.», 1889, XII)[169]. Но как быть с тем, что все французские мемуаристы, современники, участники великой армии — солдаты и офицеры без различия, действительно в один голос утверждают, что у поджигателей были «горючие материалы». Возьмем ли мы сержанта Бургоня, возьмем ли кого-нибудь другого — мы встретим все одно и то же в различных вариациях. Нет ничего более легкого, как утверждать, что все эти показания очевидцев недостоверны, что все это — позднейшие повторения французской официальной версии. Но есть ли для этого какое-нибудь основание: подчас рассказ очевидца отличается такой непосредственностью, что сразу можно увидать, где он рассказывает с чужих слов, по слухам, и где передает личные впечатления и наблюдения. Несомненно, рассказы очевидцев окрашены большой дозой субъективизма, детали часто очень недостоверны, но это все же не повод для поголовного отрицания их рассказов. Сержант Бургонь в своих воспоминаниях (цитирую по русскому переводу в издании Суворина) много раз рассказывает, как он со своим патрулем наталкивался на поджигателей с «факелами», перебегавших из одного дома в другой, он рассказывает, как ему приходилось охранять, по просьбе мирных обывателей, дома от поджогов и т. д. «По крайней мере, две трети этих несчастных (забранных в плен патрулем) были каторжники… остальные были мещане среднего класса и русские полицейские, которых легко было узнать по их мундирам» (39). Свидетельство простого сержанта, рассказ о непосредственных наблюдениях представит, конечно, гораздо большую ценность, чем знаменитый рассказ Сегюра, всецело передающий официальную версию о пожаре, поджигателях и ракетах. Возьмем ли мы артистку Луизу Фюзи (Fusil, «Souvenirs d'une Femme sur la Retraite de Russie», Paris, 1911), возьмем ли итальянца офицера Ложье (Laugier, «La grande armee», Paris), возьмем ли полковника Комба («Memoires», Paris, 1896), возьмем ли генерала Дедема («Memoires», Paris, 1900), возьмем ли письмо Марэ, герцога Бассано, датированное 21 сентября (Chuquet, «Lettres de 1812», Paris, 1911), — мы повсюду встречаемся с одним и тем же. Единогласие поразительно. Марэ говорит о «горючих материалах», найденных в домах (Chuquet, 48), а капит. Бургоэн, остановившийся в доме Ростопчина на Лубянке, рассказывает, как вскоре после прибытия в трубах была обнаружена кадка с фитилями, ракеты и т. д. («Souvenirs», 167). Последнее сообщение особенно любопытно…[170]
Расстрел поджигателей (Верещагин)
Однородные факты, сообщаемые иностранными мемуаристами, во всяком случае, показывают, что московская полиция во главе с Ростопчиным замешана в пожаре. Сообщения современников-иностранцев можно добавить и сообщениями русских современников (напр., о горючих веществах, спрятанных в некоторых домах, о поджогах людьми, нанятыми Ростопчиным, говорит ген. Левенштерн в своих воспоминаниях («Р. Ст.», 1901, I, 105). Но в особенности приходится обратить внимание на показание одного из самых достоверных свидетелей-очевидцев московских событий летом и осенью 1812 г. — Бестужева-Рюмина. В своем «Кратком описании» он рассказывает, как он пошел посмотреть (в то время, когда французы еще не вступили в город), что делается в городе. «На Лобном месте, что близ кремлевских Спасских ворот, площадь была полна народу, так что тесно было; в воздухе же был нестерпимый смрад от того, что лавки москотильного ряда были уже зажжены, и, как говорили, зажигал лавки сам частный пристав городской части, какой-то князь» (86)[171]… Если мы сопоставим эти факты с предписанием Ростопчина 1 сентября полицмейстеру Ивашкину о вывозе пожарных труб («Щук. Сб.», I, 96) с приказом его разбить бочки со спиртом и водкой, с распоряжением о сожжении комиссариатских барок у Симонова монастыря и Красного Холма (что и было исполнено «по мере возможности, в виду неприятеля до 10 часов вечера», как доносил пристав Вороненко), то еще очевиднее будет довольно деятельное участие московской полиции в первых поджогах. Ростопчин выражал полную уверенность, что Москва сгорит, как только вступят в нее французы. Мы сошлемся в данном случае не на намеки, которые делал Ростопчин в своих объявлениях московскому населению или в ранних письмах к Багратиону и разговорах с Ермоловым («Воспоминания Ермолова», I, 210), не на апокрифическую в значительной степени беседу, которую ведет перед отъездом из Москвы Ростопчин со своим младшим сыном и которую передает внук Ростопчина Сегюр: «Приветствуй Москву в последний раз, через ½ часа она будет в огне» («Vie», 239), и на свидетельство принца Евгения Вюртембергского, что Ростопчин считал лучше сжечь Москву, чем отдавать ее французам (Ib., 230)[172]. Мы сошлемся лучше на два письма Ростопчина от 1 сентября, из которых одно было адресовано императору Александру, а другое — жене. «Москва в руках Бонапарта будет пустынею, если не истребит ея огонь, и может стать ему могилою», пишет Ростопчин императору («Р. Арх.», 1892, VIII, 530). «Город уже грабят, — сообщает Ростопчин жене, — а так как нет пожарных труб, то я убежден, что он сгорит». («Р. Арх.», 1901, VIII, 464). «Я хорошо знал, — пишет Ростопчин через неделю жене (9 сентября), — что пожар неизбежен» (Ib., 468). Правда, через два дня он приписывает себе только мысль о сожжении Москвы, которую не удалось выполнить. «Моя мысль поджечь город до вступления в него злодея, — сообщает 11 сентября Ростопчин жене, — была полезна. Но Кутузов обманул меня… Было уже поздно…» (Ib., 472). Через месяц, 13 октября, почти то же Ростопчин повторяет и Александру: «Скажи мне два дня раньше, что он (Кутузов) оставит Москву, я бы выпроводил жителей и сжег ее» («Р. Арх.», 1892, VIII, 555). Многие хотят видеть в последних указаниях как бы подтверждение того, что Ростопчин, лелея, быть может, мысль о сожжении Москвы, фактически не принимал в нем участия. Вряд ли, однако, это отрицание может опровергнуть приведенные выше показания. При всех разговорах и намеках на возможность сожжения Москвы действительность и сознание современников были очень далеки от такой возможности. При том впечатлении, которое произвел на русское общество пожар Москвы; при том негодовании против варварского поступка французов, какое он вызвал, — признание со стороны Ростопчина, что он участвовал в сожжении Москвы, хотя бы даже с патриотической целью, показалось бы чудовищным и вызвало бы скорее бурю негодования. Ростопчину неизбежно приходилось молчать о своем «патриотическом» подвиге. Нельзя забывать и того, что только в официальных реляциях можно было утверждать, что Москва оставлена пустой, что из нее все вывезено. Современники, зная правду, конечно, не верили подобным сообщениям, тем более, что в момент оставления Москвы, в момент бегства из Петербурга, решительно никаких сознательных патриотических целей не ставилось. Содействуя поджогам Москвы, не ставил каких-либо сознательных патриотических целей и сам Ростопчин: это была простая месть человека, находившегося «в крайне раздраженном состоянии», «слепая ненависть», как выразился один из современников. Ростопчин подводил итоги своим многочисленным обещаниям, которые все оказались мыльными пузырями. И эта «слепая ненависть» отзывается, действительно, чем-то «скифским», если мы припомним, что в Москве на милосердие неприятелей оставляли тысячи русских раненых…
Русские покидают Москву сент. 1812 г. (С совр. Нюренбергской гравюры)
При таких условиях Ростопчину о своем «подвиге» приходилось умалчивать и стирать следы своего участия в московском пожаре. Вернувшись в Москву после французов, Ростопчин еще в большей мере должен был считаться с враждебным настроением тех, кто потерпел материальные убытки от пожара. Он сам признавался в письме к Воронцову, что «многие верят ему», т. е. Наполеону. И мы видим, что Ростопчин принимает довольно энергичные меры к прекращению нежелательных слухов: он еще с большим усердием предъявляет обвинение в политической неблагонадежности и отдает в «рекруты» тех, которые «много врут о разорении Москвы»… Проходят годы. Непосредственные впечатления от пожара ослабевают. За границей, как мы знаем (см. статью Д. А. Жаринова), творится «патриотическая легенда» о пожаре Москвы. Ростопчин делается европейской знаменитостью. Его поступок с сожжением собственного поместья Воронова возводится в перл патриотического воодушевления: «Сожигатель Эфесского храма, — говорит Вильсон, — доставил себе постыдное бессмертие, разрушение Воронова должно остаться вечным памятником русского патриотизма» («Рус. Стар.», 1897, X, 199). Ростопчин чрезвычайно чувствителен к славе. Лучше всего это может показать письмо, адресованное из Москвы 28 апреля 1814 г. Воронцову: «Сделайте же мне одолжение, устройте, чтобы я имел какой-либо знак английского уважения, шпагу, вазу с надписью, право гражданства». Ростопчин прекрасно сознает, что его «известность держится на пожаре Москвы», как пишет он одной из своих дочерей (Segur, «Vie», 266). Бонапарт «соделал своими ругательствами имя мое незабвенным». «В Англии народ желал иметь мой гравированный портрет», в «Пруссии женщины модам дают имя мое», так характеризует Ростопчин свою заграничную популярность («Рус. Вестн.», 1813, № 5. Соч. 301). Человек столь мелкого самолюбия упивался своей славой, хотя бы она основывалась на «скифском» поступке. Ростопчин попадает в Париж, где он разыгрывает из себя знаменитость. Все его хотят видеть. Издаются его портреты с подписями «L'incendiaire Rostopchin». Московский властелин в отставке удовлетворен и вовсе не намерен возражать против тех «ругательств», которые, по собственному признанию, создают ему славу. И только в 1823 г. Ростопчин выступает с знаменитой брошюрой «La verite sur l'incendie de Moscou», в которой писал: «я отказываюсь от прекраснейшей роли эпохи и разрушаю здание своей знаменитости» (Сочин. Изд. 1853 г., 202). Зачем издал Ростопчин эту брошюру через десять лет молчания? «Он хотел сложить ответственность с одного себя за последствия пожара, — отвечает внук Ростопчина (Ib., 263). — Он хотел вернуться в Москву и зная, что его „патриотический подвиг“ на родине далеко не возбуждает того восторга, уважения или любопытства, как в Западной Европе, пишет брошюру, которую посылает своими компатриотам, как „залог для примирения“» (Segur, «Vie», 270). «Казалось бы, — писал Свербеев в своей статье о пожарах Москвы, — что после такого резкого отречения Ростопчина от возводимого на него подвига, после такого искреннего и вместе насмешливого на то негодования с первых строк его знаменитой брошюры[173], после всех приведенных им в ней доказательств, что он никогда не замышлял сожжения Москвы[174], современники и потомство оставят его память в покое и перестанут прославлять его имя небывалым подвигом. Напротив того, чем более отдалялась от нас знаменитая эпоха, тем упорнее стали мы писать, печатать, проповедывать, „что Москву сжег Ростопчин, что Москву сожгли русские“»[175]. Мы уже цитировали мнение самого Свербеева, с которым в значительной степени нельзя не согласиться. Но это мнение нисколько не опровергает участие Ростопчина в поджогах — оно свидетельствует только, что не было никакого разработанного правительством плана сожжения Москвы, что Москва вовсе не была вольной жертвой «нашего патриотизма»[176].
С. Мельгунов
«Я сжег Москву, меня сжигает дьявол» — немец. карикатура на Ростопчина (Ziegler)
V. Переписка о мире между Наполеоном и Александром
И. М. Катаева
Медаль на взятие Москвы
Но вот проходит каких-нибудь 2–3 недели, и звезда Наполеона, говорит один из участников его похода, «померкла в Москве и вскоре закатилась»[177].
Выезд Наполеона из Москвы (Немец. лубок, ориг. в Ист. муз.)
Возвращаясь из Петровского дворца в Кремль, Наполеон сам был очевидцем той деморализации, которая охватила войска вследствие дозволенного им грабежа во время пожара, под предлогом, что они отстаивают добычу у огня. Учитывая опасные последствия грабежа, Наполеон через день особым приказом по войскам запретил его.
Запрещение, под угрозой военного суда, повторялось несколько раз, но однажды пошатнувшуюся дисциплину трудно было уже восстановить, даже в гвардии. «С соболезнованием видит император, — говорится в одном из сентябрьских приказов маршала Лефевра, — что отборные солдаты, предназначенные охранять его особу, которые должны подавать другим пример подчиненности, до такой степени не повинуются приказаниям, что разбивают погреба и магазины, приготовленные для армии». Солдаты не слушались часовых и караульных офицеров, бранили и били их; офицеры, проходя с войсками мимо императора, не салютовали ему шпагой. Некоторые начальники оправдывали грабеж солдат тем, что они нуждались в хлебе и обуви, что необходимость вынуждала их к отысканию средств для существования. Действительно, продовольственное дело находилось в беспорядочном состоянии. Не было принято своевременных мер для правильного сбора запасов продовольствия и фуража. Обращение к подмосковным крестьянам относительно подвоза провианта в Москву не привело ни к каким результатам. Фуражировки в опустошенные окрестности Москвы доставляли мало продовольствия; отдаляться от Москвы с этой целью было опасно: нападения казаков и партизанов на французские отряды день ото дня становились смелее и расправа с пленными ожесточеннее. Часть французов погибала, другие же возвращались в Москву с пустыми руками. При ежедневных перекличках офицеры замечали убыль людей в командах. От недостатка корма лошади падали сотнями; кое-как поддерживалась гвардейская конница; остальные части должны были почти все спешиться. В таком же печальном положении находилась и артиллерия. В довершение всего в течение сентября Наполеон получил неблагоприятные известия о действиях австрийцев и маршалов, оставленных им для прикрытия тыла «великой армии» и для наступательных действий на флангах.
Положение Наполеона становилось чрезвычайно затруднительным. Оставить Москву было небезопасно; но и промедление в Москве угрожало дальнейшим расстройством армии. Так осуществились те предостережения, которые высказывались Наполеону некоторыми его генералами еще в Витебске и Смоленске относительно похода на Москву. Настроение императора было весьма тревожно. «Его тревога, — говорит гр. Сегюр, — выражалась порывами гнева. Особенно это случалось утром, когда он вставал с постели… По его бледному лицу можно было заметить, что его томила горькая истина его положения, со всей ясностью представлявшаяся в темноте ночей».
Только таким затруднительным положением объясняется то, что Наполеон хватался за каждый сколько-нибудь подходящий случай, чтобы начать переговоры о мире с неприятелем.
Узнав о пребывании в Москве начальника московского Воспитательного Дома, генерал-майора Тутолмина, Наполеон, по переезде из Петровского дворца в Кремль, приказал через ген.-интенданта гр. Дюма пригласить его к себе. Приняв благосклонно Тутолмина во дворце, Наполеон в беседе с ним говорил о жестоком, варварском способе ведения русскими войны, возмущался действиями Ростопчина, говорил о бесцельности сожжения Москвы и в заключение спросил: «не имеет ли он просить его о чем-нибудь?» Тутолмин высказал желание послать донесение о состоянии вверенного ему учреждения покровительнице его — императрице. Наполеон спешил воспользоваться этим случаем для осуществления своей затаенной мысли. «Вы можете послать донесение, — сказал он Тутолмину, — и я прошу вас написать при этом императору Александру, которого я уважаю по-прежнему, что я желаю мира. Отправьте с донесением своего чиновника, через которого можете получить и ответ. Я прикажу провести его через наши форпосты». Это было 6 сентября. Наполеон рассчитывал, что донесение Тутолмина и ответ на него имп. Александра даст ему повод войти с ним в непосредственные сношения.
И. А. Яковлев (Брож)
Таков был первый шаг Наполеона ко вступлению в переговоры о мире. Но этого ему показалось недостаточно. Он сделал вторую, еще более оригинальную попытку начать переговоры. До его сведения было доведено, что отставной капитан гвардии Яковлев желает получить пропуск из Москвы с семьей, прислугой и крестьянами. 9 сентября Наполеон принял Яковлева в Тронной зале и вступил с ним, как и с Тутолминым, в беседу. Свою речь и на этот раз Наполеон начал с выражения возмущения по поводу московского пожара и бесцельного опустошения русскими своей страны, что, однако, не препятствовало ему идти вперед. «Наконец надо же, — говорил он, — положить предел кровопролитию; пора нам примириться… Мне нечего делать в России. Я от нее ничего не требую более, как исполнения условий тильзитского договора; я хочу возвратиться, потому что все мои дела касаются Англии… Если император Александр желает мира, то ему стоит только известить меня об этом; я пошлю к нему одного из моих адъютантов, Нарбонна или Лористона, мир немедленно будет заключен. Но если он желает продолжать войну, то и я буду продолжать; мои солдаты только того и требуют, чтобы идти на Петербург. Ну, что же, мы пойдем, и Петербург испытает участь Москвы».
Наполеон соглашается дать Яковлеву пропуск из Москвы, но с тем условием, чтобы он, проводив своих людей домой, отправился в Петербург и нашел там случай представиться имп. Александру; пусть он в качестве свидетеля-очевидца даст отчет императору о событиях, происшедших в Москве. Как ни указывал Яковлев на невозможность исполнить подобное поручение в виду того, что он по своему общественному положению не имеет права личной аудиенции у государя, но Наполеон настоял на том, что он напишет письмо императору Александру, а Яковлевъ доставит это письмо по назначению.
«Государь, брат мой! — так начинает Наполеон свое письмо к императору Александру. — Узнав, что брат министра вашего величества при Кассельском дворе находится здесь, я призывал его к себе и говорил с ним. Я поручил ему отправиться к вашему величеству и выразить вам мои чувства». Наполеон говорит далее о сожжении «прекрасной, великолепной Москвы», выражает уверенность, что это печальное событие произошло не вследствие повеления императора Александра, так как «такие неистовства, недостойные ни великого монарха ни великого народа», были бы, конечно, не согласны с его (императора Александра) правилами, сердцем, с его светлым образом мыслей. «Я веду войну, — писал Наполеон, — с вашим величеством без всякого озлобления. Простая записочка от вас, прежде или после последнего сражения, остановила бы мое движение, и, чтобы угодить вам, я пожертвовал бы выгодою вступить в Москву. Если вы, ваше величество, хотя отчасти сохраняете прежние ко мне чувства, то вы благосклонно прочтете это письмо».
Прошло две недели, но Наполеон не получил на свое письмо никакого ответа. Допуская, что Яковлев мог не исполнить поручения, Наполеон решился, наконец, взять на себя инициативу официальных дипломатических переговоров о мире или, по крайней мере, перемирии. Но послать своего уполномоченного непосредственно в Петербург Наполеон не мог; необходимо было войти сначала в соглашение с русским главнокомандующим, получить от него пропуск и проводников для своего посла. На кого было возложить исполнение этой чрезвычайно трудной и ответственной миссии? Выбор мог колебаться между двумя дипломатами, сопровождавшими Наполеона в походе, гр. Коленкуром и Лористоном. Оба они были опытными дипломатами, до разрыва с Россией были послами в Петербурге, знали Россию и императора Александра. Наполеон остановился сначала на Коленкуре. Но тот, хорошо понимая положение вещей, дал понять Наполеону всю ошибочность этого шага, указывая, что император Александр не согласится на мир, и попытка переговоров обнаружит только всю затруднительность положения французской армии. Наполеону не понравились возражения Коленкура; «хорошо, — резко оборвал он его, — в таком случае я пошлю Лористона». Но и последний попробовал отклонить от себя щекотливое поручение. Наполеон, раздраженный противоречием, наконец, воскликнул: «Я желаю мира, мне нужен мир; я непременно хочу его заключить, только бы честь была спасена. Отправляйтесь немедленно же в русский лагерь».
Лористону оставалось только повиноваться. Свидание Лористона и Кутузова состоялось на другой же день, 23 сентября в Тарутинском лагере.
Наполеон и маршал Лористон. «Мир во что бы то ни стало» (Верещагина)
Кутузов охотно принял предложение относительно приема уполномоченного французского императора. Это давало ему возможность узнать ближе настроение и намерения Наполеона и извлечь из свидания известную выгоду; а именно, — подав Наполеону надежду на мир, усыпить его бдительность и долее задержать в Москве, пока силы русской армии будут пополнены и ей придет на помощь надежный союзник — зима. Но при этом Кутузов сделал одну ошибку. Желая избежать нежелательных толков в армии, он решил обставить свидание всевозможной тайной и назначил его вне пределов лагеря, за линией наших форпостов, по дороге в Москву. Это обстоятельство произвело как раз совершенно обратное впечатление. В армии, среди генералов и высшего офицерства, пошел слух, что главнокомандующий имеет намерение войти в тайные переговоры с Наполеоном, что он не прочь заключить с ним конвенцию, в силу которой французская армия очистит русскую территорию, что конвенция будет содержать в себе даже предварительные условия мира. Между тем, в виду сожжения Москвы и известий о поведении там французов, настроение в армии было весьма воинственное; никто не хотел и слышать о мире. Это и подало повод к конфликту между Кутузовым и некоторыми из высших генералов, уже давно интриговавших против главнокомандующего. Таковы были, в особенности, Беннигсен и английский агент при русской армии, генерал Вильсон. Последний был ревностным блюстителем английских интересов, ненавидел Наполеона и пользовался личным доверием императора Александра. Как уполномоченный сильнейшей союзной державы и сам по себе человек честолюбивый и заносчивый, Вильсон был очень склонен преувеличивать свои полномочия. Этим и объясняется сцена, устроенная им Кутузову 23 сентября, когда Вильсон, явившись к нему в качестве представителя штабных и армейских генералов, после крупного объяснения заявил, что армия может отказать фельдмаршалу в повиновении, если он исполнит свое намерение поехать для свидания с неприятельским генералом за линию наших форпостов. В виду того, что Вильсон в своем мнении был поддержан такими влиятельными лицами, как герц. Вюртембергский — дядя императора, его зять — герц. Ольденбургский и кн. Волконский, генерал-адъютант, прибывший незадолго перед тем в армию с депешами из Петербурга, Кутузов уступил в пункте, касавшемся места встречи с Лористоном. Он принял его вечером 23 сентября в своей главной квартире, в лагере.
Г.-м. И. В. Тутолмин
Из донесения Кутузова нам известно содержание беседы его с Лористоном. Посол Наполеона не прямо приступил к главному предмету своей миссии. Он завел речь с предложения о размене пленных и о необходимости прекратить зверские жестокости при нападении русских партизанов на французских солдат. Кутузов ответил отказом на оба предложения, ссылаясь по поводу последнего на невозможность изменить настроение народа, создавшееся при известных условиях вступления французов в Россию.
Затем Лористон перешел к главному вопросу. «Дружба, — говорил он, — существовавшая между вашим государем и императором Наполеоном, расторгнулась несчастным образом, по обстоятельствам посторонним, и теперь настал удобный случай восстановить ее. Эта война необычайная, война жестокая, должна ли продолжаться вечно? Император, государь мой, искренно желает положить предел несогласиям между двумя великими народами и положить его навсегда».
Кутузов отвечал, что он не имеет никакого полномочия для переговоров о мире. «При отправлении моем в армию, — сказал он, — и названия мира ни разу не упомянуто… Я подверг бы себя проклятию потомства, если бы сочли, что я подал повод к какому бы то ни было примирению; таков в настоящее время образ мыслей нашего народа».
Лористон подал Кутузову письмо Наполеона, в котором император французов писал: «Посылаю к вам одного из моих генерал-адъютантов для переговоров с вами о многих важных предметах. Прошу вашу светлость верить словам его, особенно, когда он станет выражать вам чувства уважения, издавна мною к вам питаемые. Засим молю Бога о сохранении вас под Его священным кровом».
Лористон сообщил далее о намерении Наполеона послать его для переговоров в Петербург и обратился с просьбой к Кутузову исходатайствовать на это согласие императора Александра и пока, в ожидании ответа, заключить перемирие.
Кутузов отклонил последнее предложение, но обещал довести до сведения государя о желание Наполеона. Лористон принялся рассчитывать время, когда может прийти ответ из Петербурга, и обнаружил при этом большое нетерпение получить его возможно скорее, предлагая даже поехать туда, не дожидаясь ответа. Но и это предложение было отклонено Кутузовым. Лористону не оставалось ничего более, как раскланяться. Свидание кончилось.
Коленкур был вполне прав, указывая Наполеону на ошибочность его шага относительно начатия переговоров о мире. Ни в русской армии ни, тем более, в Петербурге не имели еще ясного представления о затруднительности положения французов. Теперь это положение уяснилось как нельзя лучше. Известие о цели и смысле посольства Лористона быстро распространилось в армии. Уже 25 сентября лорд Тэрконель, агент английского правительства, отправляясь из Тарутинского лагеря в армию Чичагова, пишет: «Бонапарт присылал своего генерала для свидания с фельдмаршалом Кутузовым, главное поручение коего было стараться заключить перемирие, но объявленный предмет состоял в том, чтобы сделать представление о варварской системе, с каковой производится сия война… Французы признались в своей слабости»… и т. д.[178]
Что касается императора Александра, то он, начиная с июня месяца 12 года, несколько раз официально заявлял о твердой решимости «не положить оружия, доколе ни единого неприятельского воина не останется» в России. Еще 7 сентября в особо торжественных выражениях, в форме обета, он повторил это решение полковнику Мишо, посланному Кутузовым с известием о сдаче Москвы. Несмотря на это, в Петербурге некоторые сомнения на этот счет были, так как при дворе была влиятельная партия, стоявшая за заключение мира. По сообщению известного германского патриота Штейна, проживавшего в это время в Петербурге и стоявшего близко к императору Александру, к миру с Наполеоном были склонны канцлер гр. Румянцев, гр. Аракчеев и министр полиции Балашев; они имели сильную опору в самой императорской семье: вел. кн. Константин Павлович прямо высказывался за мир; даже вдовствующая императрица Мария Феодоровна, в эпоху Тильзита выказывавшая сильнейшую ненависть к Наполеону и упрекавшая своего сына за дружбу с этим «извергом», теперь была подавлена несчастьем и советовала Александру преклониться перед неотразимой судьбой. После сдачи Москвы при дворе господствовало глубокое уныние. Всех приводила в ужас мысль об очищении Петербурга пред натиском Наполеона и перспектива бегства в Олонецк или Оренбург. К этому присоединялись неутешительные известия из русской армии. Происходивший переворот в соотношении наших и неприятельских сил пока еще не сопровождался какими-либо наглядными результатами. Последствием известного флангового движения было пока дальнейшее отступление нашей армии и затем полное бездействие, так раздражавшее императора Александра, о чем он в резких выражениях писал Кутузову. Немногие лица, наряду со Штейном (адм. Шишков, гр. Кочубей), ратовали против примирения с Наполеоном[179]. Но имп. Александр, под риском восстания в армии, не мог решиться на мир. В этом смысле он писал Кутузову в ответ на его донесение о свидании с Лористоном и требовал впредь недопущения каких-либо переговоров и клонящихся к миру сношений с неприятелем, присоединив к тому строгий выговор Беннигсену за разговор с Мюратом на передовых позициях в Тарутине.
Наполеона Александр не удостоил ответом ни на одно из его обращений.
И. Катаев
С редкого издания James'a 1826 г.
(С картины О. Рех.)
VI. Наполеон перед отступлением
A. К. Дживелегова
Pour la premiere fois l'aigle baissait sa tete.
V. Hugo.
О продолжении наступления никто серьезно не думал. Все наступательные проекты маскировали требование отступления. Мюрат предлагал двинуться на Калугу, разбить там Кутузова и идти зимовать на Днепр. Евгений находил, что правильнее идти на Петербург, а оттуда на Ригу на соединение с Макдональдом; зимовать, по его мнению, нужно было на Двине. Словом, и король Неаполитанский и вице-король Италии советовали отступать. Ней прямо, не скрывая, советовал с первых же дней думать об отступлении. По его мнению, нужно было отдохнуть дней восемь в Москве, набрать съестных припасов и пуститься в обратный путь на Смоленск, пока не наступили холода. Для Наполеона было ясно, таким образом, что выбирать приходится не одно из трех, а одно из двух: оставаться в Москве или отступать.
Было ли уже так невозможно оставаться в Москве? После того, как Москва сгорела, Наполеон, смотря на обуглившуюся груду, однажды спросил у Дарю, главного интенданта армии: «Что делать?» Дарю отвечал: «Оставаться здесь, разместиться в уцелевших домах, в подвалах, собрать съестные припасы, какие еще можно найти в городе, поторопить прибытие провианта и припасов из Вильны, превратить эти развалины в огромный укрепленный лагерь, сделать неуязвимыми наши сообщения с Литвой, с Германией, с Пруссией, — и снова начать весной».
«Это совет льва!» воскликнул Наполеон, но все-таки предпочел отступление (Rapp, Mem., 235).
Самое трудное, оставаясь в Москве, было кормить лошадей[180]. Казаки и партизаны зорко стерегли окрестности, и фуражиры, выходившие небольшими партиями, подвергались большому риску. Да и то ген. Дедем (Mem., 253) утверждает, что овса было так много, что после выступления из Москвы его оставалось достаточно, чтобы прокормить двадцать тысяч лошадей в течение полугода. По его мнению не хватало только сена и соломы, из-за которых и приходилось, главным образом, рассылать фуражиров. Что касается провианта, то с ним дело обстояло не так плохо. Об этом подробно говорит Наполеон в беседах с доктором О'Мэара на св. Елене (см. Napoleon dans l'exil. Беседа 8 ноября 1816 г.). Об этом же говорят и русские современники. Читатель знаком с выдержкой из письма Волковой, где говорится: «Сколько ни увозили из Москвы, сколько ни зарывали в землю, в столице оставалось достаточно и жизненных припасов и всякого рода имущества» (см. выше в ст. о Ростопчине). Чем дальше, тем чаще находились припасы, замурованные в стенах и погребах, уцелевших домов (Pion des Loches, Mes campagnes, 304). О том же говорит Боссе в известном месте своих мемуаров: «Мы собрали массу запасов всякого рода, которые ежедневно увеличивались благодаря открытиям солдат в погребах сгоревших домов. По очень понятной предосторожности русские, уезжая, замуровали входы в эти погреба, спрятав там все наиболее ценное. В подвалах находили кучи всяких вещей: муки, роялей, сена, часов, вина, платьев, мебели красного дерева, водки, оружия, шерстяных материй, книг в великолепных переплетах, мехов на разные цены. Церкви тоже были полны запасами» (Mem., II, 107). Солдаты с необыкновенным удовольствием производили эти розыски и с каждым днем отыскивали больше. Припасы собирали, и когда настал час оставления Москвы, то пришлось сжигать целые склады. В Симоновом монастыре сгорели огромные склады третьего корпуса, да и в Москве осталось не мало, чего не успели сжечь (Fezensac, Journal, 65–68). Ген. Дедем, уезжая из Москвы, видел «магазин необъятной длины, доверху полный лучшей мукой», который грабили солдаты. Он говорит далее, что более трети города осталась цела и была полна всем, в чем нуждалась армия (Mem., 253).
Это подтверждает такой осторожный свидетель, как маршал Даву. Он пишет жене 18(30) сентября: «Несмотря на пожар, мы находим огромные ресурсы для продовольствования войск. В этом отношении чудовища (les monstres), разрушившие город, не достигли цели». И через несколько дней, 22 сентября — 4 окт.: «Мы оправились и отдохнули с тех пор, как мы здесь, даже больше, чем могли бы рассчитывать. С каждым днем мы выигрываем во всех отношениях». Спустя еще пять дней, 27 сент. — 9 окт., маршал восхваляет «мягкость московского климата» (A d'Eckmuhl et M-ise de Blocqueville, Le Marechal Davout, raconte pas les siens et par lui meme. La Russie et Hambourg, стр. 177 и след.).
Наконец, едва ли не самым красноречивым свидетельством тому, что и в сгоревшей Москве было много провианта, является еще один факт: после того, как французы предали пламени то, что не могли увезти с собой, русские, вернувшись, нашли несколько лабазов с хлебом («Р. Арх.», 1866, стр. 699).
Обыкновенно указывают на то еще, что, оставаясь в Москве, Наполеон должен был сознательно идти на полную дезорганизацию армии. И это едва ли так справедливо. Все свидетельства, в том числе и русские, сходятся в том, что французская часть великой армии была не тронута или почти не тронута дезорганизацией. Мародеров доставляли почти исключительно иностранные, особенно немецкие контингенты[181]. Настоящая дезорганизация, охватившая и французов, началась только во время отступления.
С военной точки зрения зимовка в Москве едва ли также представляла опасность. Правда, Наполеон, стремясь получить в руки крупный козырь и занять столицу, сделал две больших ошибки перед вступлением в Москву. О них говорит Ростопчин в письме к графу С. Р. Воронцову от 28 апр. 1813 г. («Рус. Арх.», 1908, кн. 6, стр. 274): «Если бы он (Наполеон) после Бородина вместо большой дороги пошел на Верею и Боровск, он подверг бы голодовке нашу армию, отрезав все подвозы, которые были направлены на Калугу и приходили оттуда. Тогда он вступил бы в Москву несколькими днями позднее. Если бы, вместо того, чтобы оставаться в Москве, он тотчас же напал на Кутузова, он рассеял бы всю нашу армию, и мог бы спокойно отдыхать». Но даже имея по соседству нашу армию, Наполеон большой опасности не подвергался. Кутузов никогда не рискнул бы напасть на Наполеона в укрепленной Москве. Опасность была только со стороны армии Чичагова, которая двигалась с юга. Но корпус Виктора был уже на месте, и если бы Наполеон остался в Москве, сохраняя стотысячную слишком армию, Шварценберг не посмел бы оказать ему неповиновения. Шести корпусов, оставшихся в тылу: Шварценберга, Ренье, Виктора, Макдональда, Удино и Сен-Сира, хотя последние два и сильно поредели, было совершенно достаточно, чтобы Наполеон в Москве мог не бояться ни наступления Чичагова ни опасной диверсии Витгенштейна (ср. Saint-Cyr, Mem., т. III, гл. V)[182].
Наполеон это взвешивал очень хорошо, и один момент так твердо было уже решение зимовать, что он велел Боссе составить список тех артистов Comedie Francaise, которых без большого ущерба для театра можно было бы вызвать из Парижа в Москву (Bausset, Mem., II, 107). Сообщая об этом, Боссе горько прибавляет: «Разумеется, если бы он решился остаться в Москве, не случилось бы ничего хуже того, что случилось».
«Последние минуты Наполеона в Москве в 1812 г.» (Ист. муз.)
Наполеон не остался, в конце концов, не по военным соображениями, а по политическим. Он, боялся зимовать так далеко от Германии, так далеко от Парижа, когда никаких решительных успехов за ним не было. Он боялся, что какая-нибудь роковая случайность отрежет его среди зимы от Германии и Франции и в случае какой-нибудь неожиданности он не сможет вовремя поспеть, куда нужно. Если принять во внимание всю совокупность политических условий, нужно признаться, что предосторожность Наполеона не была излишней. К тому же факты очень скоро показали, что император отлично знал психологию людей покоренных и задавленных деспотизмом. Через несколько дней после того, как великая армия выступила из Москвы, в Париже разыгрался заговор генерала Мале, который едва не кончился удачно. Словно предчувствуя его, Наполеон торопился оставить город, сделавшийся роковым в его судьбе. Его дальнейший план кампании был выработан. Весной он решил идти на Петербург. Москва была занята. Гнаться за русскими до Волги и до Урала не имело никакого смысла. Занятие северной столицы давало больше уверенности на мир. Но идти на Петербург немедленно было рискованно. Во-первых, местность была плохо заселена и, следовательно, трудно было провиантировать армию. Во-вторых, поход в Петербург из Москвы был опасен тем, что ставил великую армию между Кутузовым и Витгенштейном, разрывал ее сообщения с коммуникационной линией Вильна — Москва и удалял ее от польских и литовских баз (Labaume, Relation complete de la campagne de Russie, 237). Необходимость быть ближе к Германии и Франции и заставила Наполеона предпринять отступление к Смоленску, где он хотел зимовать, чтобы весною двинуться всеми силами на Петербург. «Принимая во внимание, — говорит он (Mem., dictes aux generaux, IV, 248), — что расстояние от Москвы до Петербурга то же, что от Смоленска до Петербурга, император предпочел провести зиму в Смоленске, у литовской границы, чтобы весною идти к Петербургу»…
Насколько выполнимым казался план ухода из Москвы и зимовки на Днепре, видно из того, что те же опасения высказывал Ростопчин в письмах к Александру. «Я держусь того мнения, — пишет он 8 сент., — что Бонапарт уйдет от него (Кутузова) в то время, как он будет всего менее ожидать того. Он направится на Тверь, где имеются запасы, и произведет тревогу в Петербурге. Держась на Поречье, он снова очутится в Белоруссии, не встретив никакого препятствия. Там он, может быть, останется на зимних квартирах, возвратится в Париж властителем Смоленска и разрушителем Москвы и приготовится к другому походу на будущий год» («Р. Арх.», 1892, 8, стр. 542)[183].
Словом, у Наполеона были важные соображения, вызвавшие необходимость оставить Москву. Из них политическое опять-таки было главным. Подобно тому, как политика заставляла Наполеона идти вперед[184], так теперь она толкала его из Москвы. В обоих случаях, вопреки всем указаниям правил военного искусства, сказывалась основная фальшивость всего политического положения Наполеона, созданное его ненасытным честолюбием и его эгоистическими расчетами[185].
Тарутино. 6 октября 1812 г. (Гессе)
Но нужно отдать справедливость Наполеону. Он сделал все, чтобы обеспечить успешное выполнение своего нового плана. «Движение к Смоленску, — говорит он (там же), — нельзя называть отступлением». Для него это был обыкновенный стратегический марш, ибо армия не была разбита. И она не должна была быть разбита, если принять во внимание соотношение сил Кутузова и Наполеона, если бы не морозы. Перед тем, как покинуть Москву, Наполеон велел пересмотреть все календари и справочники за сорок лет, чтобы установить, когда начнутся большие морозы. Ему доложили, что раньше первых чисел декабря н. с. этого опасаться нечего (Bausset, там же, 108). Следовательно, чтобы дойти до Смоленска, в его распоряжении было около сорока дней, вдвое больше того, что ему было нужно. Стоявшая все время прекрасная погода подтверждала эти прогнозы. И та ошибка, которую допустил Наполеон, оставшись в Москве больше месяца, — самая крупная ошибка его в этот период — не привела бы к тем трагическим результатам, к которым она привела, если бы сбылись его метеорологические прогнозы.
Но либо императору дали плохую справку, либо морозы начались особенно рано, хотя середина октября ст. ст. едва ли черезчур необычный для морозов срок. Как бы то ни было, не успела армия перейти на Смоленскую дорогу, как морозы начались, и в одну ночь от холода пало 30.000 лошадей. Армия была дезорганизована, не будучи ни разу побеждена. Подобно тому, как пожар Москвы разбил план наступления, так теперь морозы разбили план отступления. Но даже при всей дезорганизации армии, она могла бы зимовать в Смоленске, если бы Шварценберг не покинул ее. Двинувшись не к Минску, а к Варшаве, он давал возможность Чичагову беспрепятственно идти к Березине и угрожать Вильне с ее магазинами. Один из участников похода поляк Брандт, бывший в 1812 г. капитаном, указывает еще на одну ошибку, сделанную Наполеоном. «Я всегда думал, — говорит он (Ernouf, „Souvenirs d'un officier polonais“, стр. 292), — что император даже среди развалин Москвы мог еще вернуть себе счастье, провозгласивши без оговорок восстановление Польши и направив, наконец[186], к Минску корпус кн. Понятовского. Последний, присоединив к себе дивизию Брониковского и Домбровского, сумел бы заставить Шварценберга действовать решительнее, помешал бы операциям Тормасова и Чичагова и, несомненно, привел бы императору серьезное подкрепление к Березине. Большего и не требовалось для того, чтобы изменить судьбу кампании». Но этого не было сделано, и в решительный момент единственным резервом оказался корпус Виктора. Виктор оставался один и для того, чтобы поддерживать Удино против Витгенштейна (корпус Сен-Сира успел к этому времени окончательно растаять), и чтобы защищать Березину от Чичагова, и чтобы подавать руку Наполеону. Стратегическое положение сразу сделалось невозможным[187].
В конечном счете, таким образом, Наполеона толкали на ошибку политические причины, а довершили его сокрушение стихийные или почти стихийные обстоятельства, которые трудно было предвидеть.
А. Дживелегов
«Победа при Тарутине над Мюратом» (Скотти)
VII. Бой под Тарутиным
Подп. А. А. Кожевникова
План сражения при с. Тарутине 6-го октября 1812 года.
Перед самым боем Мюрат доносил Наполеону о жалком состоянии своей кавалерии и о невыгодах расположения по реке Чернишне, вследствие чего получил предписание, в случае надобности, отступать к Воронову, выставить в передовую линию пехоту, а кавалерии дать возможность отдыха. Это распоряжение исполнено не было, и в день боя французы занимали то же расположение, какое было раньше.
Правый фланг упирался в реку Нару и был занят кавалерией Сен-Жермена. Центр занят пехотой: дивизией Клапареда — впереди реки Чернишны (по отношению к расположению русских войск) и дивизии Дюфура — сзади речки. Затем на левом стоял корпус Понятовского, который был прикрыт кавалерией: справа Нансути и слева Себастьяни. Левый фланг французского расположения не был защищен никакими естественными препятствиями, а напротив того, был подвержен крайней опасности, так как спереди и слева был лес, доступный не только для пехоты, но и для кавалерии. Усиленная охрана этого фланга была необходима. Между тем сторожевая служба велась настолько небрежно, что не только казаки постоянно рыскали в лесу, но он был прекрасно обрекогносцирован Толем и другими офицерами квартирмейстерской части.
Согласно русской диспозиции для боя главный удар должен был быть именно на этот фланг.
Генерал Орлов-Денисов с 10 казачьими и 4 полками регулярной кавалерии должен был зайти в тыл неприятельского расположения. 2-й, 3-й и 4-й корпуса со своей артиллерией должны были, незаметно пройдя лес, ударить в левый фланг неприятельского расположения.
Главные силы должны были действовать с неприятельского фронта. Выстроенная широкой линией легкая кавалерия, войдя в связь с нашими колоннами правого фланга, должна была одновременно с последними атаковать неприятеля. Кроме того, генерал Дорохов, стоявший в Каменке, соединившись с отрядом Фигнера, должен был напасть на село Вороново, уничтожить бывшие там 2 полка и отрезать неприятелю отступление.
Такова в кратких чертах сущность диспозиции. Некоторые военные писатели, как, напр., Богданович, называют ее очень хорошей. По идее она, несомненно, была хороша, и если бы была выполнена на самом деле, то отряд Мюрата был бы уничтожен. В последнем только случае бой мог считаться действительно выигранным и имевшим результат.
На самом деле полная диспозиция была написана очень длинно и с излишними подробностями. Кроме того, все сложные передвижения войска должны были исполнены ночью. Наконец общее начальство над всеми войсками правого фланга было вручено Беннигсену, который не преминул от себя написать диспозицию; последней вносились поправки в общую. Одна из них, весьма существенная, страдает поразительным непониманием дела, чтобы не сказать больше. К отряду Орлова-Денисова, состоящему из 14 полков конницы и конной артиллерии, придавался для чего-то один егерский полк, который мог только замедлить его движение. Кроме того, полезное действие этого отряда было совершенно парализовано тем, что он лишался самостоятельности и должен был, дойдя до деревни Стремилова, верстах в 4 от левого фланга неприятельского расположения, остановиться и ждать выхода пехотных корпусов из леса и начала их действий против неприятеля.
На самом деле, как и обыкновенно бывает, бой разыгрался совсем не согласно диспозиции. Уже не говоря о том, что он произошел днем позже, чем предполагался, что не имело особого значения, но еще главное то, что он начался гораздо позднее по времени, чем предполагался. Части должны были быть на местах к рассвету и в это же время начать наступление. К назначенному времени был на месте, т. е. у деревни Стремилово, только один Орлов-Денисов. Он дожидался начала общего наступления до 7 часов, и до этого времени его не дождался, почему и решился действовать самостоятельно.
Несмотря на такое опоздание, первый натиск кавалерии был очень удачен, французские войска были застигнуты врасплох на биваках, смяты, отброшены за Рязановский овраг и лишились своей артиллерии. Но затем казаки отряда предались грабежу и дали возможность неприятелю оправиться. Весьма вероятно, что казаки были бы отброшены, и их внезапное, удачное нападение не имело бы никаких результатов, если бы принц Евгений Вюртембергский по своей инициативе не решился бы действовать с двумя вышедшими из леса батальонами тобольцев, именно на этом пункте — у Рязановского оврага. К нему присоединился тот пехотный полк, который был придан отряду Орлова-Денисова, и 3 орудия. Если этот слабый отряд, занявший весьма важную позицию не мог предпринять чего-нибудь решительного и воспрепятствовать отступлению в порядке неприятеля, то во всяком случае благодаря ему русские не были отброшены с того места, которое заняли. На Рязановском овраге, согласно диспозиции, должны были сосредоточиться не 6 батальонов, а целый 3-й пехотный корпус, но он во время боя получил другое назначение.
Из войск 2-го корпуса, предназначенного для действия против расположений неприятеля у деревни Тетерники, первыми дебушировали из леса 2 егерских полка, появление которых для неприятеля не было неожиданностью, так как они были встречены артиллерийским огнем. Командовавший ими генерал Багговут решился идти в атаку, которая не была успешна, так как сам он был убит. Кроме того, егеря подверглись атаке французских карабинеров, которые многих изрубили. В это время на место боя прибыл Беннигсен.
Видя частичную неудачу, Беннигсен не предпринял никаких решительных мер, вследствие чего подходившие к опушке леса части второго корпуса оставались в бездействии в течение часа под огнем неприятеля. В это время Беннигсен выжидал выступления из лесу 4 корпуса Остермана, который должен был вступить в бой одновременно со 2-м корпусом. На розыски и с приказанием ускорить движение этого корпуса был послан генерал Данилевский, который попал под огонь возвращавшихся откуда-то через лес в деревню Тетерники двух польских рот и был тяжело ранен. Третьему корпусу, который по диспозиции должен был выйти из леса за речку Чернишну к Рязановскому оврагу, было предписано пересечь лес и идти на поддержку 2-го корпуса по направлению к Тетерникам.
Когда, наконец, 3-й и 4-й корпуса вышли из леса и кавалерия главных сил была построена для атаки, французы уже начали отступление в полном порядке. Когда отступление французов было уже совершившимся фактом и французские колонны были за Чернишной, Беннигсен двинул вперед свои войска.
Главные силы к моменту отступления французов были построены в боевой порядок. Несмотря на это и убеждения Ермолова и Милорадовича, Кутузов, однако, решительно отказался двинуть войска вперед, и была отряжена только часть легкой кавалерии для преследования неприятеля, остальные войска возвратились в Тарутинский лагерь.
Во время отступления французских войск к Спас-Купле не произошло сколько-нибудь серьезных военных действий, могших изменить результат боя. Дело ограничилось несколькими отдельными пехотными и кавалерийскими стычками. Отряд Орлова-Денисова преследовал неприятеля до самой Спас-Купли, но серьезных, решительных атак, которых можно было ожидать от такого сильного кавалерийского отряда, не было. Дорохов со своей кавалерией не поспел в нужный момент, и из его отряда участвовала в преследовании только горсть казаков.
Насколько в общем был ничтожен общий успех русских, видно из сравнительных потерь обеих армий: победители-русские потеряли 1.200 человек, побежденные-французы всего около двух с половиной тысяч, и это при тех условиях, что на стороне русских были выгоды наступательного, неожиданного боя и отступления неприятеля с несравненно слабейшей по численности кавалерией.
Трудно объяснить поведение Кутузова и отказ его двинуть главные силы. Невольно возникает мысль, не желал ли он выставить на вид бездарность Беннигсена, который не сумел с превосходными силами и при очень выгодной для него боевой обстановке довести бой до решительных результатов. Но это, конечно, только предположение. Очень возможно, что совершенно добросовестно, видя отступление французов, он считал силы Беннигсена вполне достаточными для решительного поражения. Не мог он в минуту боя знать о том, что отряд Орлова-Денисова будет почти бездействовать во время отступления неприятеля и что Дорохов совсем не примет участия в битве. Наконец его нерешительность объясняют тем, что во время самого боя им было через партизанские отряды получено известие о выступлении Наполеона из Москвы. Так как было неизвестно, по какому он выступит направлению, то Кутузов, боясь обхода, не решился отводить свои главные силы далеко от укрепленного Тарутинского лагеря. Последнее объяснение весьма правдоподобно, если принять во внимание, что Кутузов дал согласие на бой весьма неохотно, не считая момент для решительных действий наступившим.
Беннигсен был настолько взбешен действием фельдмаршала, что после боя не счел даже нужным соблюсти перед ним воинскую вежливость и, принимая от него поздравление с победой, не слез даже с лошади. В донесении своем о битве он приписывал исключительно себе победу и писал, что доносит о сражении, «которое он имел честь начать, продолжить и окончить». В частных беседах он обвинял Кутузова не только в том, что тот из личного чувства его не поддержал главными силами, но что, будто, он даже умышленно задержал корпус Остермана. Последнее обвинение было уже, конечно, ни на чем не основано.
Если и согласиться с Беннигсеном, что честь победы под Тарутиным принадлежала исключительно ему, то, как мы выше видели, честь эта не может считаться очень великой, вследствие совершенно ничтожных результатов боя. Значение ее только моральное, как первого успеха русского оружия после сдачи Москвы. Последнее значение старался муссировать и Кутузов, а потому в войске бой под Тарутиным праздновался, как общая блистательная победа. То же значение придали победе и в Петербурге. Кутузов, Беннигсен и другие военачальники были щедро награждены.
А. Кожевников
«Наполеон у Калужских ворот» (Фабер дю-Фор)
VIII. Оставление французами Москвы
С. А. Князькова
«Изгнание из Москвы неприятеля отрядом легкой кавалерии под командой ген.-майора Иловайского 4-го, октября 10, 1812 г.» (И. Иванова)
Оставшийся в Москве с 8.000 отрядом маршал Мортье имел приказание подорвать заранее минированные стены и башни Кремля, поджечь дворец и все общественные здания, кроме Воспитательного дома, превращенного в лазарет для оставшихся в Москве французских и русских больных и раненых. Маршал исполнил приказ. В Кремле рыли подкопы и закладывали мины на виду у всех. На работы насильно брали русских, хватая их на улицах. «Меня взяли туда французы, — рассказывает очевидец, — и других многих работников из наших привели и приказали нам подкопы рыть под кремлевские стены, под соборы и дворец, и сами тут же рыли. А у нас просто руки не подымались. Пусть все погибает, да хоть не нашими руками. Да воля-то не наша была: как ни горько, а копай. Окаянные-то тут стоят, и как увидят, что кто из нас плохо копает, так сейчас прикладами бьют. У меня вся спина избита»… Так как работы по минированию Кремля происходили открыто, то слух, что французы хотят взорвать Кремль и Москву, очень скоро распространился среди оставшихся в Москве русских. Многие стали спасаться бегством. От беглецов узнал о намерении неприятеля генерал Винцингероде, стоявший со своим отрядом в селе Чашниках, верстах 12–15 от Москвы. «Нет, Бонапарт не взорвет Москвы, — говорил Винцингероде своим подчиненным. — Я дам ему знать, что, если хоть одна церковь взлетит на воздух, то все попавшиеся нам в плен французы будут повешены». Захватив с собой несколько казаков, но без трубача, Винцингероде поскакал к французским аванпостам, но здесь его отказались признать парламентером и привели к Мортье, как военнопленного. Мортье тоже не признал Винцингероде парламентером и объявил его военнопленным до тех пор, пока участь его не будет решена самим Наполеоном.
Никольская башня в Кремле после взрыва
В ночь с 8 на 9 октября Мортье выступил со своим отрядом из Москвы, и немедленно начались взрывы заранее подожженных мин. Первый удар был самый сильный. Земля затряслась, уцелевшие от пожара дома разваливались, стены домов даже далеких от мест взрывов трескались, потолки обрушивались, людей подбрасывало на воздух. «Раздетые, израненные осколками стекол, камнями, железом, несчастные выбежали в ужасе на улицы. Непроницаемый мрак окутывал Москву; холодный осенний дождь лил потоками. Отовсюду слышались дикие крики, визг, стоны людей, раздавленных падающими зданиями. Слышались призывы о помощи, но помогать было некому. Кремль освещен был зловещим пламенем пожара. Один взрыв следовал за другим, земля не переставала колебаться. Все напоминало, казалось последний день мира»… В Кремле взлетели на воздух три башни с набережной его стороны, Арсенал по линии от Никольских ворот до Наугольной башни и со стороны Троицких ворот; до половины свалилась угловая башня; осыпался верх Никольских ворот — до иконы св. Николая Чудотворца, на которой уцелело даже стекло киота; сгорел дворец, выгорела Грановитая палата, жестоко пострадали соборы. Опустошения были бы, несомненно, еще значительнее, если бы, проливной дождь не подмочил фитили; только благодаря этой случайности уцелели Иван Великий и Спасские ворота. Совершив свое злое дело, Мортье пошел на соединение с отступающими главными силами. «Этот поджог, — говорит Шамбре, один из участников похода, — не оправдываемый никаким военным мотивом, не может быть рассматриваем иначе, как акт безумной мести Наполеона, взбешенного, что ему не удалось приклонить Александра под свое ярмо. Подобный поступок приносил только пользу его врагам, раздувая ненависть, которую старались внушить русскому народу к французам, и побуждая Александра вести истребительную войну против французской армии»…
Движение французов из Москвы было замечено в самом начале нашими партизанами, и один из них, генерал Дорохов, отправил Кутузову донесение в этом смысле. Кутузов, кажется, недоверчиво отнесся к извещению Дорохова, но все же послал ему подкрепление — два полка пехоты. 10 октября, когда донесение Дорохова было подтверждено слухами и сбивчивыми донесениями начальников передовых частей, Кутузов, чтобы окончательно выяснить дело, приказал генералу Дохтурову с 2-м пехотным полком и легкой гвардейской кавалерийской дивизией идти на обозначенный Дороховым путь отступления французов, а генералу Милорадовичу — сделать демонстрацию в сторону Москвы. К вечеру 10 октября Дохтуров вошел в соприкосновение с французами и, думая, что перед ним небольшой отряд, хотел напасть на него. Дохтуров, наверное, жестоко поплатился бы за свою отвагу: перед ним была вся армия Наполеона, и пять наших полков, конечно, были бы смяты. Но вечером прискакал к Дохтурову партизан Сеславин и донес, что он, укрывшись в лесу, пропустил мимо себя всю армию Наполеона, видимо отступающую из Москвы, и что видел даже самого Наполеона. Сеславин успел захватить в плен несколько отставших французских гвардейцев и одного из них, перекинув через седло, привез к Дохтурову. Француз доложил Дохтурову на его расспросы, что «уже четыре дня, как мы вышли из Москвы. Маршал Мортье оставлен с отрядом в Москве и по взорвании кремлевских стен присоединился к армии. Батарейная артиллерия, безлошадные кавалеристы и все обозы отправлены по можайской дороге под прикрытием польских войск князя Понятовского. Завтра главная квартира императора будет в Боровске. Далее наша армия пойдет к Малоярославцу». Убедившись в достоверности донесения Сеславина, Дохтуров немедленно отменил свое распоряжение об атаке неприятеля, отошел несколько назад и 11-го поспешно двинулся к Малоярославцу. В главную квартиру с известием обо всем он тогда же послал своего дежурного штаб-офицера Болговского. Болговской прискакал около полуночи 10 октября в Леташевку, где находился Кутузов, и явился к дежурному генералу армии Коновницыну. Коновницын, пораженный рассказом Болговского, послал за Толем, и они пошли будить фельдмаршала. Кутузов потребовал Болговского к себе и принял его, сидя на постели, но «в сюртуке и декорациях. Вид его был величественный и чувство радости сверкало уже в очах его»… «Расскажи, друг мой, — сказал он Болговскому, — что такое за событие, о котором ты привез мне вести? Неужели воистину Наполеон оставил Москву и отступает?»
Болговской начал было по форме подробно докладывать, но Кутузов перебил его: «Говори скорее, не томи душу»… Когда Болговской кончил доклад, Кутузов хотел что-то сказать, но вдруг… не заплакал, а захлипал и, обратясь к образу Спасителя, сказал: «Боже, Создатель мой… Наконец Ты внял молитве нашей… С сей минуты Россия спасена»… Немедленно даны были приказания передовым частям нашей армии двинуться вслед за отступавшими французами к Малоярославцу. Милорадович со своей стороны также скоро убедился, что французы отступают, и послал своего адъютанта поручика П. Д. Киселева с партией казаков к Москве, с приказанием узнать — действительно ли Москва очищена французами. 11 октября Киселев вступил в Москву через Тверскую заставу вскоре после выступления Мортье и захватил 120 пленных из замешкавшихся французов. Таким образом прямое сообщение армии с Москвой было восстановлено чуть не в самый день очищения ее французами.
(Ориг. в Ист. муз.)
Действия Дорохова, Дохтурова и Сеславина имели очень важное значение для дальнейшего течения кампании. Намерение Наполеона заключалось в том, чтобы двинуться сперва по старой дороге, соединиться с авангардом Мюрата и перейти на новую калужскую дорогу; таким образом Наполеон рассчитывал обойти нашу армию и открыть себе свободный путь на Калугу. Дорохов своевременно известил главные наши силы о выступлении французов из Москвы. Сеславин вовремя добыл сведения об этом движении, Дохтуров умело воспользовался полученными сведениями и вовремя поспел к Малоярославцу, куда подтянулись и главные наши силы и успели занять позиции к югу от Малоярославца на пути предположительного движения Наполеона к Калуге. Первый виновник этого успеха Сеславин, резюмируя рассказ о своем подвиге, со справедливой гордостью говорит: «Неприятель предупрежден под Малоярославцем, французы истреблены, Россия спасена, Европа освобождена, и мир всеобщий есть следствие сего важного открытия»… Итак, преследование наполеоновой армии началось вовремя и удачно. Мы запоздали на несколько часов вследствие неожиданности известия, но это промедление было несколько компенсировано умными распоряжениями Дохтурова. На преследование Наполеона наша армия выступала отдохнувшей и возросшей количественно. За три недели стоянки в Тарутинском лагере русская армия получила значительные подкрепления, и число ее с 60.000 возросло до 97.000 человек, не считая ополченцев и двадцати слишком тысяч казаков, которые тогда не считались регулярным войском. Таким образом, достопамятное преследование нами отступавшего неприятеля началось при полном почти уравнении наших и неприятельских сил, причем мы имели то преимущество, что превосходили французов кавалерией, были лучше обставлены со стороны продовольствия и запасов, и главное — мы, наконец, наступали и теснили перед собой грозного врага: это подымало дух армии и заставляло каждого, как говорит современник, «действовать за десятерых»…
С. Князьков
(Ориг. в Ист. музее)
Третий период войны
(Наполеон с маршалами при отступлении)
I. Малоярославец и начало отступления
А. К. Кабанова
Наполеон выступил из Москвы 7 окт. по старой калужской дороге, где в Воронове стоял отступивший из-под Тарутина Мюрат, а дальше к югу расположился укрепленный Тарутинский лагерь. Но не доходя до Воронова, с Горок, Наполеон повернул на запад и перешел по берегу Пахры на новую калужскую дорогу. Для того, чтобы обмануть Кутузова, он оставил здесь корпус Нея с остатками авангарда Мюрата. 7-го (19-го) в с. Фоминское подошли передовые отряды французов (дивизии Бруссье и Орнано). Об этом донес Кутузову, стоявший неподалеку отсюда в Котовом, Дорохов[188]. Кутузов послал сюда целый корпус Дохтурова с целью захватить французские отряды. Но, не доходя до места своего назначения, Дохтуров получил известие от партизанов, что неприятель занял уже Боровск. Движение к северу было бесполезно, нужно было думать о том, как предупредить неприятеля в Малоярославце и не дать ему пройти к югу, где в Калуге располагались богатые провиантские магазины. Дохтуров от Аристова двинулся наперерез к Малоярославцу, туда же спешил Платов с казаками, с 11 октября тронулась из Тарутина и вся армия Кутузова. Если Наполеону важно было захватить Калугу, то для русских еще важнее было отстоять ее. Здесь были расположены как продовольственные, так и боевые запасы, отсюда подходили подкрепления с юга. Вот почему под Малоярославцем было проявлено необыкновенное упорство с обеих сторон.
После 12-часового пути Дохтуров 11 числа уже к вечеру подошел к Спасскому, здесь он соединился с Платовым, но несколько задержался, так как пришлось наводить мосты через речку Протву. С 5 часов утра завязался бой на улицах Малоярославца, — бой, имевший исключительное значение для всей кампании 1812 г.
План сражения при Малоярославце в 1812 г.
Нужно иметь в виду, что Малоярославец стоит на нагорной стороне реки Лужи. Река образует здесь с луговой стороны треугольник, с луговой стороны и подходили французы и еще 11-го к ночи дивизия Дельзона из корпуса вице-короля итальянского Евгения восстановила мост через Лужу, собираясь двинуться на следующий день через город, пока же в город были введены только два батальона. Этим батальонам и пришлось прежде всего столкнуться с русскими, они были отброшены 33 егерским полком. В город введены были три полка под начальством Ермолова (33, 6 и 19), но французы повели атаку всей дивизией Дельзона и, хотя они лишились своего начальника, убитого в бою, русские были выбиты из своих позиций. Бригадный генерал Гильемино, занявший место Дельзона, искусно захватил холм, возвышавшийся над большой дорогой, занял расположенные там церковь и строения стрелками и наносил оттуда постоянный и ощутительный вред атакующим русским. С 11 часов атаки и с той и с другой стороны были возобновлены — вице-король Евгений постепенно выдвинул все дивизии своего корпуса — Бруссье, Пюно и гвардейскую. Дохтуров, несколько раз посылавший в бой свою пехоту, был отбит, но в это время из Спасского стала подходить вся армия Кутузова. Дохтурова поддержали сначала Раевский во главе 7 корпуса, потом уже к вечеру был введен в сражение и 8 корпус Бороздина. Наполеон послал на помощь две дивизии Даву, и город остался за ним. Очевидцы говорят, что он 8 раз переходил из рук в руки, естественно, что после такого ужасного боя город представлял из себя груды развалин. К ночи, когда и канонада, наконец, прекратилась, выяснилось, что положение дел все еще остается нерешенным.
И весь следующий день войска простояли в виду друг у друга — Кутузов занял крепкую позицию в 2½ верстах от города, совершив за ночь искусный переход за Немцовский овраг, а Наполеон с главными силами стоял перед городом. Оба готовились к окончательному бою. В этот день император созвал совет. «Смоленск был целью. Как идти туда — через Калугу, Медынь или Можайск? — рассказывает нам гр. Сегюр. — Идти на Калугу, значит дать генеральный бой Кутузову». — Это и предлагал Мюрат. Но Бессьер, начальник кавалерии гвардейской, считал этот шаг безрассудным, позиции Кутузова казались ему неприступными. Даву высказался за движение на Медынь и Юхнов, но там нельзя было пройти безопасно, из Вереи пробовал идти на Медынь кн. Понятовский, но был отбит русскими. Ясно было, русские и там стерегут дорогу и Кутузов подойдет с армией под Медынь, как подошел под Малоярославец. Оставалась одна дорога на Можайск, большая дорога из Москвы в Смоленск, истощенная прежними походами. 14 октября Наполеон отошел на Верею, чтобы оттуда перейти на Можайск.
Победа при Малоярославце (Скотти)
Но и в русском лагере далеко не все были одного мнения. Кутузов, выдержав целый день свое решение принять бой, на следующий день (14-го), несмотря на убеждения Толя и Ермолова, решил приблизиться к Калуге, так как боялся, что неприятель обойдет его с фланга. Так, почти одновременно, обе армии стали отступать. Здесь сразу намечались основные мотивы в плане действий обоих главнокомандующих — Наполеон переоценивал легкость пути до Смоленска, переоценивал способность своей армии переносить лишения, которые грозным призраком стояли уже перед его глазами; Кутузов, предпринимая свое фланговое движение, переоценивал силы Наполеона, видя его все еще в ореоле непобедимости, а, может быть, он не был способен по старости к смелым энергичным действиям. Вот почему в этот период, когда решался вопрос о том, прорвется ли Наполеон к Калуге, пройдет ли он победителем к Смоленску, чтобы стать на зимние квартиры в Белоруссии, вполне уместна была опытность Кутузова: его осторожность, умелое маневрирование войск, военные хитрости принесли свои безусловные плоды. Теперь нужно было думать о том, как скорее и с меньшей тратой собственных сил покончить с остатками великой армии, уничтожив ее или принудив сдаться во всяком случае прежде, чем она встретит подкрепления за Смоленском. Кутузов или не смог довести ее до подобной катастрофы, или, может быть, избегал этой катастрофы. Но первую часть своей задачи: обессилить неприятеля, заставить его бежать, он исполнил блестяще, едва ли кто-либо из русских генералов мог справиться с ней, и он мог писать без хвастовства: «Je pourrais etre fier etant le premier general devant qui l'orgueilleux Napoleon fuit»[189].
Сражение под Малоярославцем 12 октября 1812 г. (Гессе)
Совершив свой подвиг, одним грозным видом своей девяностотысячной армии в порядке, на глазах у Наполеона, выстроившейся за Малоярославскими высотами, заставив отступить императора французов, Кутузов был не уверен, куда двинется неприятель. Наполеон целым рядом ложных передвижений запутывал истинные намерения свои. Его хитрость удалась. Чтобы быть как раз на полпути между дорогами: к северу через Боровск, Верею на Можайск и к западу через Юхнов, Ельню на Смоленск или прямее на Красный, Кутузов отошел на юг к Детчину и далее на юго-запад к Полотняным заводам, где задержал армию на целых два дня до 15 октября. В это время Наполеон успел уже, оставив на востоке Можайск, выйти у с. Успенского на разоренную смоленскую дорогу. Он шел с возможной быстротой, нужно иметь в виду, что вся сила его к этому времени сосредоточилась в пехоте. 19-го он был уже в Вязьме, в то время как Кутузов, не имея достаточных сведений из своих авангардов и от партизанов, все еще шел круто на север, к той местности на смоленской дороге, откуда уже давно отошел неприятель. Правда, им были разосланы повсюду отдельные отряды и некоторые, как, например, Платов с казаками скоро нагнали неприятеля. Уже 19-го он атаковал неприятельский отряд Даву у Колоцкого монастыря. Даву, отступая, останавливался, выбирал крепкие позиции, отбивал врага. Его корпус был поставлен в особо неблагоприятные условия — нападения легкой кавалерии отражались прежде всего на нем. Как раз в это время к Платову спешил авангард Милорадовича, а фельдмаршал повернул на запад. К 21 числу, к вечеру, Милорадович стоял в Спасском, Кутузов с армией располагался южнее, в Дуброве. Французские войска были в таком положении: Жюно с вестфальцами и Наполеон с гвардией отошел на Вязьму, Ней стоял южнее Вязьмы, в Крапивне; он, по предписанию императора, должен был пропустить мимо себя корпуса вице-короля итальянского, Понятовского и арьергард Даву и самому идти в арьергарде. 22-го с рассветом русские войска, выйдя на большую дорогу, не доходя до Вязьмы, строились между Вязьмой и Федоровским, стремясь отрезать Даву от других корпусов. Здесь расположился Милорадович, а Платов с казаками, Паскевич и гр. Орлов наседали на французов с обоих флангов. Положение Даву оказалось безвыходным, но ему на помощь вернулись корпуса принца Евгения и Понятовского, и Даву удалось обойти русских. А Ней отбивался в это время от присланного Кутузовым Уварова с двумя кавалерийскими дивизиями. Намерения русских не удались — правда, неприятель потерпел сильный урон, но заставить сдаться целый корпус не удалось.
Под Смоленском (Одье)
Частью это нужно объяснить несогласованностью нападающих, излишним молодечеством многих из них, частью медлительностью Кутузова («поведение фельдмаршала приводит меня в бешенство», пишет по этому поводу английский генерал Вильсон), но нужно отдать должное также искусству французских маршалов, вице-короля и Даву, мужеству их корпусов, не растерявшихся, отбивающих атаки русских. К вечеру французские войска отступили за Вязьму, а русские заняли пылавшие развалины ее.
Бой под Вязьмой — дело маршалов Наполеона. Он сам в нем не участвовал. Поспешно двигался он по дороге в Смоленск, перед ним шли вестфальцы, молодая гвардия, расстроенная кавалерия Мюрата, с ним — старая гвардия, далее тянулись отряды вице-короля и Даву, шествие замыкал отважный Ней. С 24 числа мороз стал крепчать, дошел до 12о, начались вьюги. A русские все продолжали беспокоить теперь уже Нея, так как он стоял в арьергарде. Под Дорогобужем, при переправе через Осьму, он с двумя дивизиями выдержал натиск русского авангарда. Особенно тяжело отразился на состоянии французской армии день 28 октября. На юг от Смоленска, у Ляхова, западнее Ельни, партизаны, подкрепленные полками Орлова-Денисова, напали на бригаду генерала Ожеро, состоявшую в отряде генерала Бараге-д'Ильера. После долгого боя вся бригада сдалась (сам Ожеро, 19 офицеров, 1650 солдат). Это был первый случай сдачи целой военной колонны. В это же время шли бои на Духовщинской дороге. Наполеон предписал вице-королю из Дорогобужа повернуть на Духовщину, чтобы оттуда открыть сношения с Витебском. 26 октября принц Евгений повернул к северо-западу на Духовщину, с 27 же числа его стали беспокоить казаки Платова, 28 числа предстояла переправа через Вопь, приток Днепра. Поднявшаяся вода смыла мосты, построить новые не удалось, приходилось переходить реку в брод, местами вплавь. — Тут же началось нападение казаков. Нужна была вся стойкость и отвага принца Евгения, чтобы удержать войска хоть в некотором повиновении. Эта переправа стоила вице-королю половины его корпуса и чуть ли не всех пушек, осталось их всего лишь 12. А между тем в Духовщине французов ждали новые несчастия — здесь получено было известие, что русские взяли Витебск, а значит и двигаться туда не было никакого смысла. Здесь же ждал французов авангард генерала Кутузова (не нужно смешивать с фельдмаршалом), который шел северной дорогой через Звенигород на Гжатск и дальше прямо на Духовщину. Уставшим и истощенным французам и итальянцам корпуса вице-короля пришлось выдержать новые атаки. Так добрел и этот корпус до Смоленска. Но здесь он узнал, что продовольствие, собранное здесь, все уже роздано, что, после непродолжительного отдыха, нужно двигаться далее. Это был удар по больным ранам, по голодным ртам, а далеко ни все могли вынести этот удар.
Сражение под Красным 6 ноября 1812 г. (Гессе)
Французские войска думали в Смоленске найти и достаточное продовольствие и готовые зимние квартиры. Правда, запасы, собранные в Смоленске, были достаточны, но прежде всего было в высшей степени трудно организовать правильную раздачу порций, озверевшие от холода и голода французы разбивали провиантские магазины, вырывали из рук съестное, резали лошадей фуражиров. «Человек, который несет хлеб или что-нибудь съестное, не может быть безопасен, — пишет Пюибюск, провиантмейстер французской армии. — Он или должен оставить свою ношу или его убьют». А кроме того, сама раздача была организована на началах, далеко несправедливых. Тот же Пюибюск свидетельствует нам: «Раздача жизненных припасов весьма неуравнительна, все наклоняется к пользе гвардии, как-будто бы прочее войско, столько раз сражавшееся, недостойно и жить на свете».
О зимних квартирах, конечно, и думать не приходилось. Неприятель был за плечами. Оставалось одно, как можно скорее выйти из Смоленска и спешить далее в Белоруссию, оттуда в Литву и Польшу, где население было более расположено к французам, а главное, чтобы избегнуть нападения с боков Чичагова и Витгенштейна. Дав армии четырехдневный отдых, Наполеон начал выступать из Смоленска отдельными отрядами. Впереди шли поляки, вышедшие еще 31 октября, за ними совершенно расстроенные вестфальцы Жюно, еще далее — дивизия Клапареда (1 ноября); затем уже 2-го выступили Мортье с молодой гвардией, а позднее старая гвардия с Наполеоном. Даву, принц Евгений и Ней оставались еще в Смоленске. Дивизия Клапареда подошла к Красному, обогнав вестфальцев, и вытеснила отсюда гр. Ожаровского, который шел впереди армии Кутузова и, наконец, заняла Красный. Это было 3 ноября. Наполеон со своей гвардией шел также к Красному. У деревни Ржавки, параллельно дороге, разместился авангард Милорадовича, встретивший войска Наполеона сильной канонадой, но кавалерийские атаки предприняты им были лишь тогда, когда большая часть колонн неприятельского отряда прошла мимо русской позиции. Наполеон был пропущен. Правда, он потерпел, но далеко не так, как можно было ожидать. Однако русские генералы считали это большим успехом. Генерал Ермолов, донося фельдмаршалу, что в Смоленске осталось до 25 тысяч с Даву, самоуверенно добавлял: «Это все должно быть истреблено и принадлежать нам».
Из этих осужденных, в глазах Ермолова, на уничтожение отрядов первым тронулся уже раньше расстроенный корпус принца Евгения. Когда русская пехота пошла в атаку на эти остатки итальянского корпуса, осаждаемого со всех сторон казаками, прискакал Милорадович и от лица Кутузова просил задержать атаку. Французы сами повели атаку и, хотя им пришлось много оставить на поле сражения, много сдалось на милость победителю, однако они пробились до Красного. Как поляки Зайончика и вестфальцы, так и остатки корпуса вице-короля немедленно пошли далее по дороге в Оршу. Наполеон же с остальными войсками остался в Красном и решился на смелое дело — атаковать Кутузова, чтобы заставить его приблизить к себе авангард и таким образом дать дорогу Даву, а за ним и Нею. Сражение следующего дня шло в трех пунктах: подходящему Даву пришлось иметь дело с авангардом Милорадовича, который так же, как и в деле с вице-королем, действовал крайне пассивно. Армия Кутузова была разбита на две части: одна часть под начальством кн. Голицына должна была атаковать Наполеона, а другая обойти неприятеля и встать на пути между Красным и Оршей; ею командовал Тормасов. Но Наполеон, казалось, забыл свою недавнюю апатию. Французские мемуаристы-очевидцы именно к этому бою приурочивают его знаменитые слова: «J'ai assez fait l'empereur, il est temps que je fasse le general». И он вновь стал гениальным полководцем. Он держался против сильнейшего и бодрого неприятеля, пока дивизии Даву одна за другой переходили опасный Лосминский овраг под картечью Милорадовича. Наполеон пропустил их всех вперед, предписав, не останавливаясь, идти к Красному, куда пошел и он. В арьергарде оставалась дивизия Фридрихса, которая одна и оказалась жертвой наступавшей армии Тормасова. Нерешительность фельдмаршала повредила и здесь: Тормасов по дороге был остановлен, и его авангардный отряд генерала Розена успел захватить лишь эту дивизию Фридрихса.
Марш. Ней, князь московский (Ланглуа)
Оставался Ней, с самой Вязьмы шедший в арьергарде армии. Несмотря на то, что он получил извещение от Даву, что вице-король сильно потерпел, что сам Даву в опасном положении, Ней решил исполнить предписания императора и вышел из города только 5 ноября, взрывая за собой смоленские стены, свидетелей многих осад и приступов. Русские войска совсем не ожидали Нея и ему без выстрела удалось перейти через опасный Лосминский овраг, обойти первые ряды русской артиллерии. Лишь тогда русские одумались, открыли огонь, начались атаки. Милорадович предлагал Нею сдаться, обещая ему почетные условия. Маршал отказался и сам повел атаки. Французы шли под расстрел, но имели даже частичный успех, хотя, конечно, урон их был громаден. Ночь прекратила сражение. Фезанзак, один из полковых командиров, передает нам следующий диалог: «Плохо наше положение», сказал Ней тихо одному из своих офицеров. «Что же вы будете делать?» спросил, в свою очередь, офицер. «Перейду за Днепр». — «А где дорога?» — «Найдем». — «А если Днепр не замерз?» — «Замерзнет». И Нею удалось переправиться через Днепр там, где он действительно уже замерз, у Сырокоренья. Есть основание предполагать, что русским была известна эта переправа, более того, А. Н. Попов прямо утверждает, что Кутузов извещал об этом Платова. Почему же Ней совершил эту переправу беспрепятственно? М. Богданович подчеркивает «беспечность» русских, которые, по-видимому, даже не докончив боя, «расположились по квартирам, а кавалерия; высланная для наблюдения за отступавшими французами, совершенно потеряла их из вида». Ней с остатками своего корпуса долго бродил, преследуемый казаками, засел под конец в селении Якубове, с ожесточением отбиваясь от врага, и здесь ему удалось войти в сношение с вице-королем, который пришел к нему на помощь. Так последний отряд великой армии соединился с ней.
Заканчивая описание этого многодневного боя в окрестностях Красного, нельзя не согласиться со словами мемуариста-француза: «Этот старец (Кутузов) исполнил наполовину и плохо то, что так мудро задумал».
Так отступала великая армия, потеряв на пути до 50 тысяч. В научной литературе все еще горячо дебатируется вопрос о причинах погибели французской армии — природные ли условия или победы русских сыграли тут главную роль? При ближайшем рассмотрении этот вопрос сам по себе отпадает — победы русских потому и были так легки, что французы с трудом могли драться, подавленные теми условиями, в которые они были поставлены.
(Современная грав.)
Первое, что сильно ослабляло боевую способность великой армии, было «наследие Москвы», создать которое сознательно стремился Кутузов.
Армия еще в Москве начала терять свою дисциплину. Ван-Дедем обвиняет в этом прежде всего офицеров, они распустились, а за ними и нижние чины. «Свыше 10о мороза я не могу найти ни одного генерала на своем посту», говорил сам Наполеон.
За боевую негодность значительной части армии, или, по крайней мере, того, что шло с армией, — говорил один вид ее при выходе из Москвы. «Можно было подумать, — восклицает очевидец, — что двигался какой-то караван кочевников или одна из армий древних времен, возвращавшаяся после великого нашествия с рабами и добычей». Женщины и дети, следовавшие за армией, и особенно эта добыча, возбуждавшая личное корыстолюбие, прежде всего тормозила действия войск. Наполеон и маршалы энергично боролись против этого, но малоуспешно: правда, эти же богатства иногда и спасали армию, особенно при набеге казаков: алчные до наживы, казаки бросались грабить, давая возможность французам оправиться и отбить врага.
Второе, что ослабляло французскую армию, это было отсутствие продовольствия и возникший отсюда голод.
Уже в бою у реки Чернишни оказались дефекты французской конницы: лошади были истощены, добывать фураж в стране, враждебно настроенной, было нелегко. Кроме этого, лошади были плохо подкованы. Одним словом, важная часть всякой армии — лошади были в совершенно неудовлетворительном состоянии. К чему это вело? Кавалерия не могла нести своей прямой службы — вести дело наблюдения за неприятелем, добывать фураж, провиант и отражать легкую кавалерию врага — казаков. Артиллерии постепенно совсем не стало — она стала обузой для войска. В бою под Красным при подсчете орудий, действующих у русских, историки приводят цифры 30, 50, 60, у французов — 6, 12. Французская армия стала однородной по оружию пехотой. Но пехоте добывать себе пропитание нелегко, особенно в истощенной стране, при одной возможности — идти большой дорогой, не сворачивать по сторонам, где стерегут казаки. И вот понемногу, вывезенный из Москвы, провиант, неправильно распределенный, зачастую сам по себе не ценный, понемногу истощается и от неумеренного употребления, и от захвата врагом, и от неправильной перевозки. «Не подумали даже, — пишет доктор де-ла-Флиз, — о перестановке обозов на полозья». Начинается голод. Нечего говорить, как это ослабляет силы армии. Встречаемые на пути провиантские магазины, даже в Смоленске, не оказывались достаточными. Можно открыть любые мемуары этой ужасной войны, письма очевидцев ее и примеры этого страшного голода зачастят перед нами. Тот же де-ла-Флиз пишет от 4 ноября (по нов. ст.): «Мы встретили на дороге большое количество палых лошадей, и тут я в первый раз увидел, что солдаты вырезывали лошадиное мясо и варили из него суп». Кутузов в письме к дочери пишет: «Некоторые мои генералы уверяли, что они видели двух несчастных, жаривших на огоньке части тела третьего их товарища». И эти примеры далеко не единичны. О какой же дисциплине или способности к бою можно говорить после этого?
Затем свою роль сыграли, конечно, и холода. Правда, первоначально погода как-будто благоприятствовала французам, градусник показывал 4о — 6о, к 20-м числам декабря он дошел до 12о — 15о, а позднее, при выходе французов из Смоленска, доходил до 20о и более. Но к этому нужно отнести и влияние погоды на почву — образование гололедицы, например. По этому поводу очень интересное суждение высказывает доктор великой армии де-ла-Флиз; вот его слова: «Крайне заблуждаются, полагая, что бывшие в армии французы, итальянцы, испанцы и португальцы погибли от холода, как непривычные к нему жители юга. Французы и итальянцы, напротив, приучены к холоду в своих нетопленых комнатах. Главная причина гибели французов заключалась в наступившие морозы в отсутствии теплой одежды, в недостатке питательного кушанья и водки, без которой нельзя обойтись, находясь постоянно на морозе». Так или иначе, конечно, холод действовал на французов очень сильно. Когда принц Евгений перед выходом из Смоленска предписал своему корпусу выстроиться, упало 13 гренадер. Особенно часты, конечно, были случаи отмораживания конечностей, а между тем это выводило человека из строя.
Эти положения говорят сами за себя — французская армия была деморализована, и к гибели ее вели в равной степени природа — суровой зимой и дурными дорогами, и свое начальство — неподготовленностью, растерянностью. Русским войскам оставалось только довершать начатое разложение армии.
А. К. Кабанов
Маршал Ней при отступлении из России (Ивона)
Раненые французы, атакованные казаками (Вернэ)
II. Партизаны и партизанская война в 1812-м году
С. А. Князькова
Д. В. Давыдов (Порт. Кипренского)
Примечание: Этот портрет вызывал многочисленные споры по вопросу о том, кто на нем изображен. Подчас ставилась под сомнение достоверность в написании художником мундира. Однако именно точность в передаче деталей сложного гусарского обмундирования позволяет с уверенностью утверждать, что на портрете изображен не Денис Васильевич Давыдов. Богатая расшивка доломана шнурами и бахромой говорит, что перед нами штаб-офицер. Белые чакчиры и кивер с султаном из белых с примесью черных и оранжевых перьев были заменены гвардейским гусарам на синие чакчиры и кивер с белым волосяным султаном в апреле 1809 г. Отметим еще одну гвардейскую деталь — лядуночная перевязь с пряжкой, на которой изображен вензель императора. На ментике можно насчитать одиннадцать рядов шнуров, что нарушает существовавшее с 1797 г. правила, по которым таких шнуров должно быть пятнадцать рядов. Но такое отклонение является характерной деталью для быта гусар того времени, так как при подгонке на фигуру не всегда было возможно выдержать правило. Поэтому и на портретах встречаются от одиннадцати до восемнадцати рядов шнуров. Изображенную на портрете форму в 1809 г. мог носить именно полковник лейб-гвардии Гусарского полка Евграф Васильевич Давыдов. (В. М. Глинка «Русский военный костюм XVIII-начала XX века»).
Из-под Бородина Давыдов прошел через село Сивково, Борис-городок, в село Егорьевское, а оттуда пробрался на Медынь, Шанский завод, на Азарово, в село Скугарево. Это село, расположенное на высоте, господствующей над всеми окрестностями, так что в ясный день оттуда можно было видеть верст на семь или на восемь всю округу, Давыдов избрал своей штаб-квартирой. Удобно для его действий это село было еще потому, что высота, на которой оно расположено, прилегала к лесу, тянувшемуся до самой Медыни. В этом лесу небольшая партия Давыдова легко могла укрываться и за чащей его следить движения неприятеля.
Остатки наполеоновской армии (Э. Шаперон).
Французская армия, ее обозы, парки, отряды разведчиков, беглые и мародеры занимали полосу по обеим сторонам Смоленской дороги верст в тридцать, так что Давыдов очутился буквально среди неприятеля, который скоро узнал о появлении русского отряда в своем тылу. На поиски Давыдова были отряжены особые отряды с повелением захватить смелого партизана живым или мертвым. Это обстоятельство очень усложнило положение Давыдова и диктовало ему величайшую осторожность. «Обезоруженные и трепетавшие французов жители, — пишет он в своих воспоминаниях, — могли легко быть весьма нескромны, а потому мы постоянно находились в большой опасности. Дабы легче избежать ее, мы днем, скрываясь и зорко следя за неприятелем, проводили время на высотах близ Скугарева; перед вечером же мы, в малом расстоянии от села, раскладывали огни, затем, следуя гораздо далее в сторону, противоположную от места, назначенного для ночлега, раскладывали другие огни, и, наконец, войдя в лес, проводили ночь без огней. Если случалось в сем последнем месте встретить прохожего, то брали его и содержали под надзором, до выступления нашего в поход. Когда же он успевал скрыться, мы снова переменяли место. Смотря по расстоянию до предмета, на который намеревались учинить нападение, мы за два или за три часа до рассвета подымались на поиск и, сорвав в транспорте неприятеля, что было по силе, обращались на другой, где наносили еще удар и возвращались окружными дорогами к спасательному нашему лесу, через который мало-помалу снова пробирались к Скугареву. Так мы сражались и кочевали от 29 августа до 8 сентября. Никогда не забуду этого ужасного времени: и прежде и после я бывал в жестоких битвах, часто проводил ночи стоя, часто засыпал на седле, прислонясь к шее лошади и с поводьями в руках, но не десять дней и десять ночей сряду, ибо здесь дело шло о жизни, а не о чести!» 2 сентября Давыдов разбил две больших шайки мародеров и захватил 160 человек в плен. В окрестных деревнях он подымал народ, раздавал отнятые у французов ружья, учил крестьян, как надо заманивать и истреблять небольшие партии неприятеля. Каждому старосте было указано держать у себя на дворе трех или четырех парней, которые, в случае, если к селу будет подходить большая партия французов, садились бы на лошадей и скакали бы на розыски самого Давыдова. 3 сентября Давыдов подобрался к Цареву-Займищу на большой Смоленской дороге с целью прямого нападения на французские обозы и транспорты. «Был вечер ясный и холодный (2 сентября), — рассказывает он; — сильный дождь, шедший накануне, прибил пыль, и мы следовали быстро. В шести верстах от села попался нам неприятельский разъезд, который, не видя нас, беззаботно продолжал путь свой… Мне нужен был язык, и потому отрядил урядника Крючкова с десятью доброконными казаками наперерез вдоль лощины, а других десять направил прямо на разъезд. Видя себя окруженным, неприятель остановился и сдался в плен без боя. Мы узнали, что в Цареве-Займище днюет транспорт со снарядами и с прикрытием в 250 человек конницы. Дабы пасть, как снег на голову, мы свернули с дороги и пошли полями, скрываясь опушками лесов; но за три версты от села, при выходе на чистое место, мы встретились с сорока неприятельскими фуражирами, которые, увидя нас, быстро поскакали к своему отряду… Оставя при пленных тридцать гусар, которые в случае нужды могли служить мне резервом, я с остальными двадцатью гусарами и семидесятью казаками помчался в погоню за французами и почти вместе с ними въехал в Царево-Займище, где застал всех врасплох. У страха глаза велики, а страх неразлучен с беспорядком. При нашем появлении все бросились врассыпную; иных захватили мы в плен не только невооруженными, но даже неодетыми; других вытащили из сараев; одна только толпа в 30 человек вздумала было защищаться, но она была рассеяна и положена на месте — это доставило нам 119 рядовых, двух офицеров, 10 провиантских фур и одну с папиросами. Остальное прикрытие спаслось бегством». Все это было доставлено в Скугарево и оттуда переправлено в Юхнов. 10 сентября Давыдов присоединил к своему отряду два казачьих полка, находившихся, или, по его выражению, «бродивших» по Калужской губернии, и несколько сот отбитых им у французов наших пленных. С таким большим отрядом, которым Давыдов распоряжался очень умело, он стал очень серьезно беспокоить тыл неприятельской армии, отбивая обозы, истребляя небольшие партии, посягая нападениями даже на сильные войсковые единицы неприятеля.
1812 год. В России (Э. Шаперон)
Известие, что русские действуют в телу его армии, на путях сообщения со Смоленском, где предполагалось устройство сильной базы для главных сил, было большой неожиданностью для Наполеона, тем более для него неприятной, что как раз в эти же дни его передовые отряды потеряли из виду наши главные силы, предпринявшие знаменитое фланговое движение; оба эти обстоятельства заставили Наполеона отрядить большие сравнительно силы на все дороги, ведущие к югу и западу от Москвы. Когда наши главные силы заняли Рязанскую и Калужскую дороги и началось Тарутинское сидение, сама собой обрисовалась задача для нашей кавалерии — действовать на сообщения неприятельской армии, и Кутузов тогда сам послал большой отряд драгун, гусар и казаков под начальством генерал-майора Дорохова на пути возможных движений и передвижений французов. Дорохов 10 сентября вышел уже на Смоленскую дорогу, напал на большой французский обоз, взорвал 56 зарядных ящиков и взял в плен более 300 человек. Польза и выгода для нас партизанских действий обрисовалась с полной очевидностью. У французов вообще было мало кавалерии; после Бородина их конные отряды, составленные из солдат разных полков, на своих заморенных лошадях оказались не в состоянии гоняться за нашими отрядами, и нашим партизанам открылось широкое поле деятельности у французов особенно после того, как Москва сгорела, запасы сразу истощились и им пришлось добывать хлеб для людей и фураж для лошадей в местностях, все более и более далеких от главного сосредоточения их сил, т. е. от Москвы. Один за другим стали тогда формироваться Кутузовым большие и малые отряды, которые он поручал офицерам, известным своей храбростью, находчивостью и решительностью. Задача всем этим отрядам ставилась одна: забравшись в тыл и фланги неприятеля, причинять ему сколько можно вреда и неустанно следить за передвижениями французских войск, донося обо всем неукоснительно в главную квартиру.
В то время, как Давыдов действовал на пространстве между Можайском и Вязьмой, отряды других партизанов подвижной завесой охватили все расположение главной французской армии. Полковник князь Вадбольский действовал в окрестностях Можайска, поручик Фонвизин — на Боровской дороге, капитан Сеславин — между Боровском и Москвой, капитан Фигнер — в окрестностях самой Москвы, полковник князь Кудашев на Серпуховской дороге, полковник Ефремов — на Рязанской. Все эти отряды, высланные от главной армии, заняли все пространство к югу от Москвы, между Вязьмой и Бронницами и находились в соприкосновении с такими же летучими отрядами, действовавшими с севера и опиравшимися на отряд генерала Винцингероде, стоявший под Клином; вправо от Волоколамска действовал отряд полковника Бенкендорфа, у Рузы — майора Пренделя и уже в окрестностях Можайска, подавая руку Давыдову, рыскали казаки подполковника Чернозубова; влево от Клина — на Дмитровскую и Ярославскую дороги — были брошены казачьи отряды Победнова, а к Воскресенску был послан майор Фиглев.
Таким образом, во второй половине сентября армия Наполеона, сосредоточившаяся в Москве и ее ближайших окрестностях, оказалась окруженной почти сплошным подвижным кольцом наших партизанских отрядов, которые не позволяли отходить сколько-нибудь далеко от Москвы неприятельским фуражирам и держали в постоянной тревоге аванпосты французской армии. До самого выступления Наполеона из Москвы и во все время его отступления партизанские отряды были истинным бичом Божиим для неприятельской армии. Это была жестокая и беспощадная война. Не имея возможности охранять большие количества пленных, партизаны старались брать пленных поменьше. Французы не считали партизанов регулярным войском и беспощадно расстреливали тех, кто им попадался в руки. Особой жестокостью по отношению к французам прославился капитан Фигнер — у него пленных обыкновенно не было. Своих подчиненных он «воспитывал на жестокость», и однажды не постеснялся обратиться с просьбой к Давыдову, когда узнал, что у него есть пленные, дать их «растерзать каким-то новым казакам, еще, по его мнению, ненатравленным». Про Фигнера ходили слухи, передаваемые очевидцами, что «варварство» его доходило до того, что он, «ставя рядом сотню пленных, своей рукой убивал их из пистолета одного после другого». «Быв сам партизаном, — пишет Д. В. Давыдов, — я знаю, что можно находиться в обстоятельствах, не позволяющих забирать в плен, но тогда горестный сей подвиг совершается во время битвы, а не хладнокровно»… И Давыдов признает, что, случалось, и он должен был давать приказ своим подчиненным брать пленных как можно менее. В таких условиях, когда не только успех, а просто день жизни покупался, так сказать, ценой крови своей или неприятельской, партизаны должны были действовать с необычайной ловкостью, рискуя каждую минуту и побеждая риск не только отчаянной храбростью и жестокостью, но и расчетливой, бдительной осторожностью. Предоставленные своим собственным силам, партизаны выработали особые приемы и способы ведения своего отчаянного дела. О покое и отдыхе думать им не приходилось. Надо было постоянно передвигаться, не застаиваясь на одном месте, чтобы не навлечь на себя превосходные силы французов, надо было находиться в движении день и ночь, и ночью больше, чем днем. В осеннюю распутицу, а потом и в зимний мороз надо было пробираться по невылазным проселкам или по снежным полям без всякого следа дороги, прячась в лесах, скрываясь в оврагах. «Лучшая позиция для партий, — говорит Давыдов, — есть непрерывное движение, не дозволяющее противнику знать место, где она находится; причем необходима неусыпная бдительность часовых и разъездов». Строго руководясь этим правилом, Давыдов всегда успевал увертываться от грозившей ему опасности.
Ген.-м. Д. В. Давыдов
Обыкновенно в партизанском отряде никто, кроме начальника, не знал, куда идет отряд и с какой целью: попадется французам кто-нибудь из отряда, он для них все равно бесполезный пленник, от него ничего не узнаешь, потому что он сам ничего не знает. Узнав о приближении или месте стоянки какого-нибудь неприятельского отряда, начальник партизанского отряда один или с двумя-тремя провожатыми подбирался ближе к неприятелю, высматривал силу отряда, охрану, месторасположение и потом, возвратясь к своим, вел свой отряд на врага и старался устроить нападение врасплох, выбирая вечернее время, или на рассвете, или время обеда. Если неприятельский отряд был не под силу, то оповещались партизаны-соседи, и нападение устраивалось сообща, неожиданно для неприятеля, быстро, с различных сторон. Связь между партизанскими отрядами поддерживали добровольцы крестьяне, прятавшиеся в лесах от французов: пробираясь только им известными глухими лесными тропами, крестьяне переносили известия о французах из одного отряда в другой и доставляли донесения самих партизанов в главную квартиру. Около каждого отряда образовалась постепенно целая сеть добровольных помощников и разведчиков, которые своим невидным, полным опасности, трудом очень облегчали дело партизанов и не раз выручали их из трудных положений. Об этих безвестных героях сохранилось, к сожалению, мало сведений. Про одного такого партизана-добровольца, Рюховского дьячка Василия Григорьевича Рагозина, рассказывают, что он особенно ловко выслеживал неприятельские партии. Обыкновенно он отправлялся один, пробираясь верхом на своей лошадке лесами, которых тогда было не мало между Рюховым, Рузой и Можайском. Узнав от скрывавшихся в лесу крестьян, что в такой-то деревне расположился неприятель, В. Г. Рагозин прятал свою лошадку в лесу, наряжался нищим, выходил на дорогу и спокойно шел в занятую неприятелем деревню, ходил между французами и выпрашивал у них, как умел, подаяние. Французы всегда добродушно относились к мнимому нищему. Только раз, заподозрив в нем шпиона, они едва не убили его… «Выследив» французов, В. Г. Рагозин «гнал» на своей лошадке в Волоколамск, где стояли казаки, и вел их к лагерю неприятеля. Всего в разное время Рагозиным было взято в плен 700 человек; сведения, которые он давал, были настолько точны, а подводил он наших так умело, что французов брали в плен всегда без потерь с нашей стороны.
Из начальников партизанских отрядов особенно прославился своей отчаянной храбростью и смелыми разведками А. С. Фигнер. Еще совсем молодой, блестяще образованный, смелый, ловкий, отлично говоривший по-французски, по-итальянски и по-немецки, А. С. Фигнер, как многие тогда, «воспылал ненавистью к поработителю отечества», т. е. к Наполеону. В то время как другие изливали свою ненависть больше на словах, Фигнер предпочитал действовать. Разочарованный в жизни, как кажется, по причине каких-то личных неудач, он решил погибнуть со славой, принеся пользу отечеству истреблением врагов, и потому не щадил себя. Когда французы заняли Москву, Фигнер, с разрешения Кутузова, взял с собой семь казаков и пробрался в занятый неприятелем город; здесь, одетый то во фрак, то в крестьянский кафтан, то в отрепья нищего, ходил он по Москве, прислушивался к толкам французов, завязывал знакомства, выведывал, что ему было нужно, высматривал расположение армии, а ночью, собрав около себя своих спутников и присоединив к ним несколько решительных человек из оставшихся в Москве, он нападал на отдельных французов и беспощадно убивал их. Про Фигнера Давыдов говорит, что это был человек, «который любил один подвергаться опасностям», и опасности для него были родной стихией. Когда началась при главной армии организация партизанских отрядов, Фигнер, конечно, стал во главе одного такого отряда, и районом своих действий выбрал самый опасный и трудный — Подмосковье. Уже в первом своем донесении в главную квартиру, он мог сообщить, что в результате его трудов было следующее: 1) в окрестностях Москвы истреблено все продовольствие; 2) в селах, лежащих между Тульской и Звенигородской дорогами, побито до 400 человек неприятеля; 3) на Можайской дороге взорван парк: шесть батарейных орудий приведены в совершенную негодность, а восемнадцать ящиков, к сим орудиям принадлежавшие, взорваны; при орудиях взяты: полковник, четыре офицера и 58 рядовых; убито: офицеров три и великое число рядовых.
Про Фигнера, его удаль и отвагу ходили рассказы, которые можно было бы счесть за легендарные, если бы про его подвиги не рассказывали очевидцы и участники, как, например, служивший под начальством Фигнера и Сеславина офицер поляк Бискупский[191]. Быть в опасности, искать самых рискованных приключений вошло как-то в обиход знаменитого партизана и выходило у него само собой, даже без особой рисовки, хотя и похвалиться своей удалью Фигнер был охотник. Любимой его проделкой было забираться переодетым в места стоянки французов и там выспрашивать и выведывать все нужное ему. Это он называл предпринять «странствие». В эти одиночные поиски он отправлялся, опираясь на толстую палку, в которой лишь при тщательном осмотре можно было узнать духовое ружье. Став у какого-нибудь моста или плотины, там, где пролегал путь следования неприятеля, переодетый крестьянином или нищим, Фигнер низко кланялся каждому офицеру, угощал солдат табаком, и меж тем считал и запоминал количество прошедших батальонов, эскадронов и орудий. Особенно он любил втереться в доверие к отдельным французам, завлечь их под разными предлогами подальше в сторону и там пустить в ход свое духовое ружье. Что-то было «сатаническое» в этом артиллерийском капитане, хотя с виду, по внешности, как говорит Д. В. Давыдов, «в нем ничего не было примечательного: он был среднего роста, приятной физиономии, белокур, круглолиц, с серыми глазами, с маленьким круглым носом, ни худ ни толст, но оказывал склонность к последнему».
А. Н. Сеславин (С.-Обен)
Племянник Фигнера, разбираясь потом в причинах жестокости партизана и способности его «озверевать», приписывает эту склонность какой-то наследственной болезни душевной, «не определенной окончательно наукой, но которая как-будто преемственно переходила в несколько поколений нашего угасающего рода». А. П. Ермолов тоже считал Фигнера душевно ненормальным человеком. Эта болезненная жестокость соединялась у Фигнера с каким-то странным отсутствием морального чутья. Убийство исподтишка человека, в доверие которого он вкрался, выходило у него совершенно естественным делом, раз этот человек был пленный, неприятель. Раз он взял в плен французского офицера, ласково обошелся с ним, даже подружился, а когда через несколько дней выведал у него все, что было надо, подошел к нему сзади, «когда сей несчастный обедал с офицерами отряда, и убил его своею рукою из духового ружья своего». С другим пленным офицером он также вошел в дружескую связь и, выведав у него все, что ему было нужно, призвал, в отряде его находившегося, Ахтырского гусарского полка поручика Шувалова и спросил его: «Знаете ли, что ваша обязанность исполнять волю начальника?» — «Знаю…» отвечал тот. «Так пойдите сейчас и задавите веревкой сонного французского офицера или застрелите его». Шувалов отвечал, как благородный офицер, и Фигнер нарядил на этот подвиг унтер-офицера Шианова, известного храбреца, но человека тупого ума, не просвещенного и уверенного, что истребление французов каким бы то ни было способом доставляет убийце царство небесное. Он исполнил приказание. Так венок подвигов храбрости этого партизана был перевит грустной памяти поступками «варварства сатанического». Этой черты за другими нашими партизанами не значится. Конечно, и они не были образцами кротости и милосердия в своем обращении с французами, но пленные, если они их брали, могли оставаться спокойными за свою жизнь и у Сеславина, и у Давыдова, даже у начальников казачьих партий. У Давыдова не обходилось иногда без некоторого, на наш взгляд, может быть, немного театрального жеста великодушия. У одного пленного неприятельского поручика, некоего Тиллинга, казаки отобрали часы, деньги в бумажнике и сняли с пальца кольцо. Тиллинг обратился к Давыдову с просьбой вернуть ему кольцо, дорогое ему по воспоминаниям о любимой женщине. «Увы… — пишет Давыдов, — будучи сам склонен ко всему романическому, сердце мое поняло его сердце, и я обещал постараться удовлетворить его желание… в это время я пылал страстью к неверной, которую полагал верною. Чувства моего узника отозвались в душе моей»… Давыдов расспросил своих казаков и, как он пишет, «был столько счастлив, что отыскал не только кольцо, но и портрет, волосы и письма, ему принадлежащие, немедленно отослал их к пленному поручику при сей записке: „Recevez, monsieur, les effets qui vous sont si chers; puissentils, en vous rappelant l'objet aime, vous prouver, que le courage et le malheur sont respectes en Russie, comme partout ailleurs. Denis Davidoff, partisan“».
Казак (Литогр. Лежена 1805 г.)
В черном чекмене, красных шароварах, с круглой курчавой бородой и черкесской шапке на голове, всегда бодрый, веселый, поэт-партизан, Д. В. Давыдов труды опасной партизанской жизни переносил, по его словам, как праздник. Еще в ранней юности военное ремесло стало для него страстью; по его собственным словам: «При первом крике о войне он торчал на аванпостах, как казачья пика», и до самой кончины (1839 г.) он сохранил, по словам кн. П. Вяземского, «изумительную молодость сердца и нрава»; всю жизнь он остался полон воспоминаний о партизанской деятельности: «кочевье на соломе, под крышей неба!.. — восклицает он, — вседневная встреча со смертью, неугомонная жизнь партизанская! вспоминаю о вас с любовью и теперь, когда в кругу семьи своей пользуюсь полным спокойствием, наслаждаюсь всеми удовольствиями жизни и весьма счастлив?.. Но отчего по временам я тоскую о той эпохе, когда голова кипела отважными замыслами, и грудь, полная надежды, трепетала честолюбием, изящным и поэтическим».
В храбрости Д. В. Давыдов мог поспорить с Фигнером, но его храбрость была иного сорта: это была храбрость на чистоту; он предпочитал с врагом встречаться лицом к лицу и побеждать в равном честном бою. Человек военный не менее Фигнера, Д. В. Давыдов был типичным для того времени рубакой-гусаром, поклонником Марса столько же, как и Бахуса — немножко бретер, немножко повеса, соображавший, как он сам говорит, «эпохи службы с эпохами любовных ощущений». На коне и в бою во главе своего отряда он забывался до отчаянной храбрости, а на безумной смелости разведки, на охоту за людьми в одиночку, как Фигнер, он не был способен: это претило его прямой и открытой натуре.
Фигнер, наоборот, щеголял больше своими единоличными подвигами, не задумываясь подвергать опасности, иногда совершенно без всякой надобности, своих сослуживцев и соратников. «Один раз, — повествует очевидец и сподвижник Фигнера, — переодевшись французским кирасиром, в белой шинели, привел он свой отряд в лес, приказал людям слезть с коней и молчать, а сам выехал на просеку, вдоль которой пролегала большая дорога, и остановился в тени у опушки леса. Вскоре раздался топот лошадей, говор солдат, и показались по дороге французские кирасиры в колонне по шести. Дав пройти трем эскадронам и, вероятно, уже будучи замечен неприятелями, Фигнер сам сделал оклик: „Qui vive!“ Тогда один из офицеров, ехавший на фланге кирасир, отделился от эскадрона и подъехал к нашему партизану, который, обменявшись с ним несколькими словами, повернул лошадь и возвратился к своим. Пройдя с отрядом, по указанию крестьян, служивших проводниками, довольно большое пространство заглохшими тропинками, Фигнер опять оставил своих партизанов в лесу с приказанием слезть с лошадей и отдыхать до его возвращения; сам же он, вызвав ехать с собой двух офицеров польского уланского полка, мундир которых подходил к одежде польских улан, служивших в наполеоновской армии, приказал одному из них, говорившему кое-как по-французски, в случае встречи с неприятелями, отвечать и за себя и за товарища своего, вовсе не знавшего иностранных языков, затем все трое, выехав из леса, увидели в верстах в двух от себя, на открытом пространстве, кругом села довольно обширный лагерь французов. „Поедем к ним!..“ сказал Фигнер, и вместе со своими товарищами маленькой рысцой подъехал к лагерю так беззаботно, что часовым даже не пришло в голову остановить его. Приближаясь к кирасирскому полку, проходившему ночью мимо его отряда, Фигнер обратился к стоявшим вместе двум офицерам, пожелал им доброго утра и вступил с ними в продолжительную беседу, между тем как офицеры его, разговаривая поневоле с обступившими их кирасирами, отчаивались в своем спасении. Наконец он распрощался с неожиданными знакомыми, повернул лошадь назад и отъехал несколько шагов, но вдруг опять возвратился к французским офицерам, сделал им несколько вопросов и хладнокровно отправился в лес к своему отряду». В другой раз Фигнер, взял с собой поручика Сумского гусарского полка Орлова, отправился с ним, одев французские мундиры, в главную квартиру командовавшего авангардом французской армии Мюрата. «Пробравшись незаметно через цепь ведетов, Фигнер подъехал к мосту на речке, прикрывавшей неприятельские биваки. Пехотный часовой, стоявший на мосту, встретил его окликом: „Qui vive?“ и потребовал отзыв; но Фигнер, вместо отзыва, которого, разумеется, не знал, разругал часового за неправильную будто бы формальность в отношении к рунду, поверяющему посты. Часовой, совсем сбившийся с толку, пропустил обоих партизанов в лагерь, куда Фигнер явился как свой: подъезжал ко многим кострам, говорил весьма хладнокровно с офицерами и, узнав все, что было ему нужно, возвратился к мосту. Там снова сделал наставление знакомому часовому, что бы он не осмеливался останавливать рундов, переехал через мост и сначала пробирался шагом, а потом, приблизясь к цепи ведетов, промчался через нее вместе с Орловым под пулями и возвратился к отряду». В 1813 году, когда наши войска действовали в северной Германии и блокировали Данциг, занятый французами, Фигнер пробрался в крепость и, выдавая там себя за итальянца, прожил в крепости около трех месяцев, причем не только разведывал о силах и средствах противника, но и старался поднять обывателей Данцига против французов. Кто-то донес на Фигнера коменданту, генералу Раппу, и он приказал арестовать подозрительного итальянца. Генерал Рапп сам допрашивал Фигнера, казалось, что ему уже нет спасения, «но необычайная находчивость и изворотливость нашего смельчака и тут выручили его: мало того, что за недостатком улик он был освобожден, но еще успел так вкрасться в доверие Раппа, что тот отправил его с депешами к Наполеону. Понятно, что Фигнер, выбравшись из Данцига, привез депеши эти в нашу главную квартиру, при которой и был временно оставлен, с награждением чином полковника». Так, в этом человеке быстрый, тонкий, проницательный и лукавый ум соединился с лицемерным и жестоким коварством, доходившим до «бессовестности», до «варварства», как говорит современник, отдающий, впрочем, должное Фигнеру, как вождю-партизану, обладавшему «духом непоколебимым в опасностях и, что все важнее для военного человека, отважностью и предприимчивостью беспредельными, средствами всегда готовыми, глазом точным, сметливостью сверхъестественною», личной храбростью замечательной… Это был авантюрист и искатель приключений, не очень разбиравшийся в средствах, и честолюбивый до крайности, живой тип кондотьера, каким-то чудом выросший на русской почве, в XIX-м веке, когда ему следовало бы родиться в Италии эпохи Сфорца и Джакопо Пиччинино. За границей Фигнер организовал отряд из испанцев и итальянцев, насильно забранных Наполеоном в солдаты и дезертировавших от французских знамен. Этот отряд он назвал мстительным батальоном. «Он мне говорил, — рассказывает Д. В. Давыдов, — что намерение его, когда можно будет от успехов союзных армий пробраться через Швейцарию в Италию, явиться туда со своим итальянским легионом, взбунтовать Италию и объявить себя вице-королем Италии на место Евгения; я уверен, что точно эта мысль бродила в его голове, как подобная бродила в голове Фердинанда Кортеца, Пизарра и Ермака; но одним удалось, а другим воспрепятствовала смерть, — вот разница. Все-таки я той мысли, что Фигнер вылит был в одной форме с сими знаменитыми искателями приключений; та же бесчувственность к горю ближнего, та же бессовестность, лицемерие, коварство, отважность, предприимчивость, уверенность в звезде своего счастья».
Донской атаман А. К. Денисов (Донской музей)
А. С. Фигнер погиб смертью храбрых 1 октября 1813 г. в неравной схватке с окружившими его превосходными французскими силами, когда пробирался далеко впереди нашей армии в Вестфальское королевство с целью поднять его население против короля Жерома.
Припертый к Эльбе, после отчаянной попытки пробиться сквозь ряды французов, Фигнер бросился в реку, но, обессилев от раны, не справился с течением и утонул. Тело его не было найдено.
В то время как А. С. Фигнер, как партизан, был человек эффекта и аффекта, Д. В. Давыдов — просто рубакой и поэтом войны, наслаждавшийся военным делом, как родной ему стихией, третий знаменитый партизан Александр Никитич Сеславин отличался большой вдумчивостью в своих действиях и, если так можно выразиться, особой содержательностью тех задач, какие ставил себе в качестве партизана. Так же, как и другие партизаны, он беспокоил чем только мог французов, но, как кажется, главное свое внимание сосредоточил на том, чтобы неусыпно следить за передвижениями наполеоновской армии с целью не упустить момента, когда начнется отступление французов от Москвы. Ему было суждено сыграть выдающуюся роль в тот поворотный момент кампании, когда Кутузов, встревоженный донесениями Дорохова о выступлении французов, послал генерала Дохтурова с большим отрядом, чтобы выяснить характер движения неприятельской армии. Сеславин в это время, скрываясь в лесу, в 4-х верстах от села Фоминского, видел самого Наполеона. «Я стоял, — рассказывает Сеславин, — на дереве, когда открыл движение французской армии, которая тянулась у ног моих, где находился и сам Наполеон в карете. Несколько человек отделилось от опушки леса и дороги, были схвачены…» С добытыми от них известиями Сеславин прискакал к Дохтурову, но осторожный Дохтуров не дал сразу веры донесению Сеславина. Тогда Сеславин сгоряча бросился вторично на французские биваки около Боровска, схватил несколько пленных, одного из них перекинул через седло, и представил Дохтурову для допроса и подтверждения своих слов. Это известие спасло отряд Дохтурова от гибели, а Кутузова вовремя удостоверило и о характере движения Наполеона и о взятом им направлении. В результате наши главные силы успели преградить Наполеону под Малоярославцем путь в южные губернии и заставили его отступать по разоренным войной местностям. Опоздай донесение Сеславина на несколько часов, французы обошли бы нашу армию под Малоярославцем, и исход войны мог бы стать тогда иным. Сеславин потом всю жизнь гордился этим своим подвигом и даже мечтал сам себе отлить статую, изображающую его сидящим на дереве и следящим за французами. И во время отступления французов Сеславин стремился занимать раньше их важные стратегические пункты и пути. Так, он занял вовремя Вязьму, город Борисов, где захватил 3000 пленных, город Забреж, и один раз, около 23 ноября, чуть было не захватил в плен самого Наполеона. Сеславину принадлежит и честь занятия Вильны. Вообще это был партизан, у которого его частная задача начальника партизанского отряда больше чем у других согласовалась и гармонировала с теми общими целями, которые в каждый данный момент должны были осуществляться главными силами армии. Но приемам ведения своего дела он ближе был к Давыдову, чем к Фигнеру, и оба эти сотоварища Сеславина по оружию отзываются о нем с большим уважением. «Сеславина, — пишет Давыдов, — я несравненно выше ставлю Фигнера и как воина и как человека, ибо к военным качествам Фигнера он соединял строжайшую нравственность и изящное благородство чувств и мыслей. В личной же храбрости не подлежит никакому сомнению: он Ахилл, а тот Улисс». «Сеславин достойнее меня, — говорил Фигнер; — на нем не столько крови».
Были среди партизанов и люди иного свойства, нежели Давыдов, Сеславин или Фигнер. Успех дела создал тогда своего рода моду — все захотели быть партизанами. Имитируя и тем самым утрируя внешность партизана, как она рисовалась людям тогдашней немного романтической эпохи, партизаны этого склада больше шумели, чем проявляли полезной деятельности. Про одного такого партизана — Пренделя — товарищи его и современники не без иронии рассказывают, как он, гоняясь за внешним эффектом, старался внушить страх к себе своей наружностью: его взоры метали молнию, его длинные усы, дребезг оружия и громкие угрозы могли поразить ужасом всякого, но сердце у него при всем том «было мягкое, и храбростью он не отличался»; за все время, пока «партизанил», он не совершил ничего замечательного, «нет ни одного действительно военного подвига, который бы совершил он под выстрелами»; вся деятельность его, как партизана, сводилась к тому, что обыкновенно, «захватив пару отсталых, он писал о подобных делах бесконечные донесения».
Но, конечно, не надо думать, что человеческие слабости были чужды Давыдову и Сеславину. В записках и сочинениях своих, как кажется, оба не прочь преувеличить, кое-что рассказать в повышенном «героическом» роде, готовы кое в чем приумолчать о подвигах сотоварища и несколько больше, чем следует, подчеркнуть свои. «Честолюбие, зависть, эгоизм, жестокосердие, все эти им подобные качества, — говорит биограф Сеславина, — не были чужды ни Фигнеру, ни Давыдову, ни Сеславину, ни одному из тех, имя которого со славою красуется в летописях Отечественной войны». Это человеческое и слабое бросает тень на совершенное этими людьми большое дело. Если говорить о них, как о людях, то осуждать их есть за что, но здесь идет речь больше о делах, чем о людях. В суровом подвиге войны они были жестоки не менее других, может быть, даже больше многих, а само по себе кровавое дело войны вообще ведь не может способствовать проявлению в людях добрых инстинктов.
Отступление (Фабер-дю-Фор)
Перечислять подвиги других партизанов — Дорохова, кн. Кудашева, кн. Вадбольского и прочих — значило бы без конца повторять одну и ту же повесть храбрых налетов на неприятеля, пленения сотен и тысяч французов, истребление обозов и артиллерийских парков.
Когда партизанская война была в полном развитии, и армия Наполеона была совершенно окружена партизанами, начальники этих подвижных отрядов отваживались сообща и на действия более широкие по своим масштабам и задачам. Одним из таких подвигов было взятие укрепленной французами Вереи, которую неприятель предполагал обратить в базу для своих действий против партизанов. По приказанию Кутузова генерал Дорохов должен был вытеснить неприятеля из Вереи и разрушить сделанные им укрепления. Верея, расположенная на высоком пригорке, была обнесена валом и палисадами и занята вестфальскими войсками в количестве одного батальона. Пятеро верейских жителей незаметно для неприятеля провели отряд Дорохова под самые укрепления. Дорохов, приказав своим идти тихо, без выстрелов сразу повел их в атаку. Вестфальцы, застигнутые врасплох, схватились за оружие, когда наши уже ворвались в город. После короткой, но жестокой схватки, когда неприятель отстреливался из домов и из церкви, Верея была взята; значительная часть гарнизона была перебита, остальные положили оружие. Несколько сот вооруженных крестьян под предводительством священника верейского собора о. Иоанна Скобеева деятельно помогали отряду Дорохова, особенно при уничтожении укреплений. Партизанские отряды наносили неприятелю очень чувствительный урон, и армия Наполеона за время своей стоянки в Москве и под Москвой потеряла, благодаря партизанам, столько людей, сколько могло стоить хорошее генеральное сражение. Только за десять дней с 9 по 19 сентября захвачено было более пяти тысяч пленных, и это при том условии, что партизаны вообще стремились не обременять себя пленными, до конца сентября партизанами было взято свыше 15.000 пленных, а сколько истреблено, того никто не ведает; Наполеон в одном своем приказе пишет, что число людей, захватываемых неприятелем в плен при производстве фуражировок, простирается до нескольких сотен ежедневно, и что маршал Ней теряет каждый день при фуражировках больше, чем на поле сражения. Трудно также установить, сколько было захвачено и уничтожено партизанами запасов фуража и артиллерийских припасов. Перехватив все дороги в тылу неприятеля, неожиданно появляясь то тут, то там, отряды партизанов прервали скоро всякое сообщение французской армии с ее тылом. Почти все транспорты и курьеры, направлявшиеся к французам, выслеживались нашими партизанами и становились их добычей. В результате французская армия голодает. Jamais je ne fus plus degoute, — писал 25 сентября Мюрат генералу Белльяру, — je suis fatigue de courir de grange en grange et de mourir de faim, — и несколько дней спустя в другом письме его звучит уже прямо отчаяние; «Ма position est affreuse, — пишет он, — toute l'armee ennemie est devant moi; les troupes de l'avant-garde sont reduites a rien; elles souffrent de la faim et n'est plus possible d'aller fourager sans courir presque la certitude d'etre pris; il n'y a guere de jours que je ne perde de cette maniere au moins deux cents hommes comment cela finira-t-il?.. Envoie nous de la farine, on nous allons mourir de faim»… но напрасно взывал Мюрат о присылке ему муки — в Москве сами голодали, и пропитание великой армии давно уже стало зависеть от того, что достанут фуражиры. Так как благодаря деятельности наших партизанов, фуражировки для малых неприятельских отрядов сделались невозможными, то для сбора припасов и для сопровождения транспортов приходилось отправлять большие отряды пехоты и конницы с артиллерией.
На Можайской дороге французам пришлось разместить целые массы войск, чтобы хоть сколько-нибудь обезопасить сообщение главной армии с ее этапами к Смоленску; вечное беспокойство, которое партизаны причиняли французам, заставляло их держаться под ружьем днем и ночью, так что полки, расположившиеся кругом Москвы на зимние квартиры, принуждены были вместо отдыха нести такие же труды, каким подвергались в походе; в результате все растет и растет деморализация армии, начало которой положил пожар Москвы. Перед французскими начальниками действительно вставал вопрос comment cela linira-t-il, и ободряющего ответа не было ни у кого.
Успех партизанских действий под Москвой вызвал организацию партизанских отрядов также и при других наших армиях — при корпусе Витгенштейна и при армии Чичагова. Чичагов бросил своих партизанов глубоко в тыл неприятеля, в герцогство Варшавское, с поручением уничтожить там запасные магазины наполеоновской армии. Полковник Чернышев, начальствовавший этими партизанами, с честью выполнил возложенную на него задачу и навел панику до самой Варшавы.
Когда началось отступление французов из Москвы, кольцо партизанов, окружавшее французскую армию, развернулось и, вытянувшись вдоль флангов отступавшего неприятеля, стремилось все время сомкнуться впереди него. Давыдов, Сеславин, Фигнер и другие действовали, главным образом, на флангах отступавших французов, производя все время набеги и налеты на колонны французов, беспокоя их биваки, охватывая обозы и парки. Полковнику Ефремову приказано было, следуя по правому флангу неприятеля, заходить вперед и, предупреждая его на марше, беспокоить при остановках. Большой партизанский отряд гр. Ожаровского был направлен к Смоленску специально для истребления неприятельских магазинов, обозов и отдельных отрядов. С тыла французов преследовали казаки Платова.
Партизан А. С. Фигнер (Тропинина)
«Партизанские отряды сопровождали длинную колонну Наполеона, — пишет Ф. Гершельман, — растянувшуюся на несколько десятков верст, с флангов. Как слепни липнут к измученному животному, также точно и легкие партизанские партии вились около французской армии, бессильной в борьбе с ними… Партизаны направляли свои удары, главным образом, в промежутки между двигавшимися эшелонами, срывали следовавшие здесь обозы, отбивали отсталых, орудия, отрывали иногда от колонн неприятельских целые части, растянувшиеся на утомительном марше. С приближением войск партизаны отхлынут от дороги, а затем опять появятся в другом месте и, постоянно тревожа противника, не дают ему покоя ни на марше, ни на биваке… Самому Наполеону не раз приходилось близко около себя видеть отважные партии наших наездников, подлетавших и к правильным еще колоннам французов». Д. В. Давыдов приводит два случая такого своего, как он выражается, «свидания» с Наполеоном. 21 октября Д. В. Давыдов, разбив большую партию отставших французов, гнал их перед собой — «катил головней», не будучи в состоянии по малочисленности своего отряда захватить всех в плен. «Надо было видеть, — пишет он, — как вся масса ужаснулась при появлении моих немирных путешественников, надобно быть свидетелем этого странного сочетания криков отчаяния с возгласами одобрительными, выстрелов защищающихся, с треском взлетавших на воздух зарядных ящиков; все это покрывалось громкими „ура“… моих казаков. Это более или менее продолжалось до времени появления французской кавалерии и за нею гвардии; тогда по данному мною сигналу вся партия отхлынула от дороги и начала строиться. Между тем гвардия Наполеона, посредине которой он сам находился, стала надвигаться. Вскоре часть кавалерии бросилась с дороги вперед и начала строиться с намерением отогнать нас далее. Я был совершенно убежден, что бой мне далеко не по силам, но я горел желанием погарцевать вокруг Наполеона и с честью отдать ему прощальный поклон за посещение его. Свидание наше было весьма недолговременно; умножение неприятельской кавалерии, которая тогда была еще в довольно изрядном состоянии, принудило меня вскоре оставить большую дорогу и отступить перед громадами, валившими одна за другой. Однако во время этого перехода я успел взять с бою в плен 180 человек при двух офицерах и до самого вечера конвоировал с приличным почетом Наполеона…»
А. С. Фигнер
Но когда французская кавалерия, потеряв массу лошадей от отсутствия корма, сошла почти на нет, партизанам все же не всегда была под силу правильная борьба с регулярным войском, сохранившим еще строй: залпами пехоты и артиллерии французы довольно удачно отбивались в таких случаях от наседавшего на них неутомимого врага. Старая гвардия Наполеона, отступавшая в полном порядке до самой Березины, была прямо недосягаема для партизанов.
«3 ноября, — пишет Д. В. Давыдов, — отряд гр. Ожаровского подошел к Куткову, а партия Сеславина, усиленная партией Фигнера, — к Зверовичам. Сего числа, на рассвете, разъезды наши дали знать, что пехотные неприятельские колонны тянутся между Никулиным и Стеспами. Мы помчались к большой дороге и покрыли нашей ордой все пространство от Аносова до Мерлина. Неприятель остановился, дабы дождаться хвоста колонны, спешившего на соединение с ним. Заметив сие, гр. Орлов-Денисов приказал нам атаковать их. Расстройство этой части колонны неприятельской было таково, что мы весьма скоро разбили ее, захватив в плен генералов Альмераса и Бюрта, до 200 нижних чинов, четыре орудия и множество обоза. Наконец подошла старая гвардия, посреди коей находился сам Наполеон. Это было уже заполдень. Мы вскочили на коней и снова явились у большой дороги. Неприятель, увидя шумные толпы наши, взял ружье под курок и гордо продолжал путь, не прибавляя шагу. Сколько не покушались мы оторвать хоть одного рядового от этих сомкнутых колонн, но они, как гранитные, пренебрегая всеми усилиями нашими, оставались невредимы; я никогда не забуду свободную поступь и грозную осанку сих всеми родами смерти испытанных воинов. Осененные высокими медвежьими шапками, в синих мундирах, белых ремнях, с красными султанами и эполетами, они казались маковым цветом среди снежного поля… Командуя одними казаками, мы жужжали вокруг сменявшихся колонн неприятельских, у коих отбивали отставшие обозы и орудия, иногда отрывали рассыпанные или растянутые по дороге взводы, но колонны оставались невредимыми… Все наши азиатские атаки не оказывали никакого действия противу сомкнутого европейского строя… Колонны двигались одна за другой, отгоняя нас ружейными выстрелами и издеваясь над нашим вокруг них бесполезным наездничеством. В течение этого дня мы еще взяли одного генерала, множество обозов и до 700 пленных, но гвардия с Наполеоном прошла посреди толпы казаков наших, как стопушечный корабль между рыбачьими лодками».
Партизанские отряды и во время преследования наполеоновской армии действовали то в одиночку, то сообща. Так, узнав, что в деревне Ляхово остановился на дневку отряд генерала Ожеро[192], партизаны Давыдов, Сеславин и Фигнер соединились вместе, привлекли к себе гр. Орлова-Денисова, напали на Ляхово и принудили Ожеро положить оружие и сдаться в плен; подмогу, шедшую к Ожеро, они тоже разбили. Не мало затрудняли партизаны движение великой армии и тем, что, забегая вперед, портили всячески дорогу, разрушали мосты, гати и плотины на пути ее следования; благодаря постоянному соприкосновению с противником, партизаны всегда были великолепно осведомлены о планах и намерениях противника; захватывая неприятельскую почту, перехватывая курьеров, посылавшихся в отдельные корпусы или во Францию, а также ехавших оттуда, партизаны нарушали связь между отдельными частями армии и тем затрудняли их совместное действие, а, с другой стороны, доставляя все добытые сведения в главную квартиру, давали Кутузову возможность знать почти наверняка и о состоянии французской армии и обо всем ее движении. Партизаны поддерживали в то же время связь между главной армией и армиями Витгенштейна и Чичагова. Но, может быть, самым важным результатом деятельности партизанов был тот толчок, который они дали развитию народной войны. Бежавшие в местностях, занятых неприятелем, крестьяне, вооружаясь топорами, вилами, дубьем, у кого были и ружьями, предпринимали настоящие охоты за отсталыми французами, осмеливались даже нападать на отдельные мелкие отряды фуражиров, неосторожно забиравшихся далеко от своих главных сил. Эта народная партизанская война разрасталась сама по себе все сильнее и шире по мере дальнейшего вторжения французов вглубь страны, а по занятии ими Москвы приняла и очень серьезный характер.
С. Князьков
Орлы (1812 г.) — Ж. Руффе
III. Народная война
В. П. Алексеева
Тогда же было положено и начало привлечению к войне мирного населения. Отъезжая из Дриссы, Александр издал манифест (6 июля), в котором призывал народ прийти на помощь правительству образованием народных ополчений и материальными средствами. Одновременно с этим главнокомандующий 1-й армии Барклай-де-Толли, вступив в пределы Смоленской губернии, призвал всех к вооруженному восстанию против неприятеля. В воззвании Барклая указывалось даже, как действовать против неприятеля, какими способами мирному населению вести эту впервые тогда начавшуюся партизанскую войну.
На призыв русского правительства откликнулись все классы населения, и весь народ в своем целом принял довольно широкое участие в войне 1812 года. Из отдельных же классов, несомненно, наибольшее участие приняли низшие и, в частности, крестьянство. Не говоря уже об ополчениях, которые сплошь состояли из крестьян, вся тяжесть защиты родной земли в полосе военных действий вынесена крестьянскими плечами[194].
Участие крестьян и отчасти других представителей низших классов населения в военных действиях 1812 года мы собственно и называем народной войной.
В первый момент, однако, все население, в том числе и крестьяне, реагировало на вступление неприятеля в русские пределы не вооруженным восстанием, а страхом и бегством в леса и отдаленные уезды. Так, Смоленская губерния, по свидетельству современников, быстро стала пустеть с приближением французской армии. «Все покидали свои дома, стар и млад, чиновник, помещик и крестьянин, повсюду тянулись обозы с наскоро захваченным скарбом». «Гжатский уезд был совершенно пуст», «Поречский уезд также страдал отсутствием крестьян и чиновников», в Дорогобужском уезде организатор народных отрядов Денисов «не нашел ни одного человека, могущего заняться вербовкой партизанов». Одним словом, как доносил тверской губернатор Кологривов, взявший в свое заведывание Смоленскую губернию, здесь «все попряталось и разбежалось, даже смоленский губернатор скрылся неизвестно куда» («Русск. Ст.», 1900 г., IX, 651–665). Когда же неприятель после Бородина направился к Москве, то, по словам Ростопчина, «жители здешней губернии от страха быть ограбленными от неприятеля или от своих войск, более, нежели на 50 верст в окрестностях Москвы, оставив свои селения, разбежались» (Щукин, «Бумаги», VII, 413). Ту же картину можно было наблюдать и в других местах — даже в таких отдаленных губерниях, как Вологодская, по свидетельству Завалишина «Древняя и Новая Россия», 1879 г., № 2, 148–149).
Если, тем не менее, народ поднялся против неприятеля и народная война не только возникла, но и приняла очень широкие и грозные размеры, то причиной тому были, на наш взгляд, во всяком случае, не обращения к народу правительства. Правительственные манифесты и воззвания были рассчитаны на пробуждение в крестьянах патриотического чувства. Только ростопчинские афиши взывали к шовинизму, точнее, просто старались вызвать в народе животное озлобление к иностранцам. Но какое же может быть отечество у раба? А русский крестьянин очень часто тогда стоял ниже раба, был вещью. И подвинуть его на защиту именно отечества было вовсе не так легко.
Современник событий Рунич объясняет широкое участие крестьян в войне, деятельное истребление ими неприятелей, совсем иными мотивами, далекими от патриотических. «Патриотизм был тут ни при чем», говорит он. По его мнению, «русский человек защищал в 1812 году не свои политические права. Он воевал для того, чтобы истребить хищных зверей, пришедших пожрать его овец и кур, опустошить его поля и житницы» («Русск. Ст.», 1901 г., III, 612). И нельзя не согласиться с Руничем. По крайней мере, факты подтверждают его диагноз.
Отступление (Фабер-дю-Фор)
Собственно, военные действия крестьян начались с того момента, когда неприятель посягнул на его собственность и жизнь. До этого же момента можно было наблюдать равнодушное отношение народа к неприятелю и даже в отдельных случаях мирное сожительство, проявление симпатий. Той, будто бы исконной ненависти к иностранцам, о которой говорят некоторые историки Отечественной войны и которую всячески старался вызвать Ростопчин, на самом деле не было[195]. Между находившимися в Москве французами и оставшимися здесь русскими нередко устанавливались вполне дружественные отношения, и некоторые из французских маршалов, как Коленкур, Кампан, оставили по себе светлую память в народе. В Москве, как и в Смоленске, налаживались торговые сношения окрестных крестьян с неприятелем, а в Витебской губернии, по наблюдениям генерала Дедема («Историч. Вести», 1900 г., т. 79, стр. 226), местные крестьяне были настроены дружественней к ним, чем к своим помещикам. При разгромах помещичьих усадьб и Москвы русские крестьяне часто действовали рука об руку с неприятелем, наводили его на след. Это факты, так сказать, иной категории, чем выше приведенные, но все же и они были возможны только при отсутствии ненависти к неприятелю. Еще характерно обращение русского народа с пленными в начале войны. К. К. Павлова рассказывает о следующем трогательном случае. В Орел прибыл транспорт пленных в самом ужасном состоянии. Одна бедная мещанка сжалилась над несчастными, взяла некоторых к себе в дом и стала ходить за ними и кормить их. «Истратив на них все, что имела, до последнего рубля, она, не решаясь и тогда покинуть их, стала обходить город нищею и полученными подаяниями продолжала содержать призренных ею бедняков» («Русск. Арх.», 1875, IX — XII, 228). В Сычевском уезде, центре партизанских действий, один местный бурмистр явил пример редкого великодушия и милосердия. Будучи смертельно ранен в схватке с французами, он завещал крестьянам не мстить за его смерть («Русск. Арх.», 1876 г., II, 310). Потом, особенно при отступлении «большой армии», отношение народа к неприятелю резко изменилось. И причиной этой перемены были именно грабежи и насилия наполеоновских войск. Генерал Ермолов склонен даже думать, что при другой тактике неприятеля не было бы никакой народной войны. «Если бы, — говорит он, — вместо зверства, злодейств и насилий неприятель употребил кроткое с поселянами обращение и к тому еще не пожалел денег, то армия (французская) не только не подверглась бы бедствиям ужаснейшего голода, но и вооружение жителей или совсем не имело бы места, или было бы не столь общее и не столь пагубное» («Записки», 242)[196].
Итак, взяться за оружие заставило крестьян чувство самосохранения. Когда они оправились от страха, вернулись в свои селения и увидали картину разорения и рыскающих повсюду мародеров и фуражиров наполеоновской армии, они схватили, что попало под руку, и пошли на обидчиков. И началась народная война. Смоленская губерния первая подверглась со стороны неприятеля разгрому, и она же стала первым и главным поприщем партизанских действий — Сычевский, Гжатский, Поречский, Вольский уезды в особенности приобрели знаменитость в истории народной войны. Потом, после взятия Наполеоном Москвы, народная война распространилась на московские уезды и, наконец, с занятием русскими войсками Тарутина и отступлением «большой армии», театром ее стала Калужская губерния и опять Смоленская. Это уже последний и самый напряженный этап борьбы народа с врагом.
В военных действиях крестьян можно различать — оборонительные и наступательные действия.
В одних случаях крестьяне ограничивались охраной данной местности от неприятеля. Не выходя за пределы своей округи, они отражали все вторжения сюда врага. Например, крестьянин подмосковного села Щелкова Кондрашев устроил караул и не только охранял свою фабрику и деревню, но разъезжал с казаками для охраны соседних деревень. Кроме того, устроил у себя приют для раненых и бежавших из Москвы от французов («Бумаги Щукина», V, 83). В Волоколамском уезде подобным же образом устроил охрану крестьянин помещика Алябьева Гаврила («Бумаги Щукина», IV, 352). А в сельце Володимирове, Серпуховского уезда, оборона была устроена общими силами всех сельчан («Русск. Арх.», 1876 г., II, 314).
«Есть ли французы не скакали так, как крысы, то не попали бы в мышеловку к Василисе» (Лубочн. карт.)
В других случаях крестьяне делали самостоятельные выступления по собственной инициативе. Выслеживали отряды фуражиров и истребляли их, устраивали облавы, ловили мародеров, нападали на биваки, забирали пленных.
Самые военные действия большей частью заключались в небольших стычках крестьян с неприятелем — внезапных, без предварительной подготовки. После занятия французами г. Вязьмы 17 мародеров вошли в деревню Николы-Погорелово. «Дворовый человек господина Б., помещика того села, увидев приближающихся неприятелей, тотчас о том известил находившихся тут женщин; некоторым велел спрятаться, а других послал собирать людей; сам же, взяв ружье, засел во рву в небольшой роще при самой дороге, где им надлежало проходить; а другого человека поставил наискось, на противной стороне, за углом оранжереи» («Русск Арх.», 1876 г., II, 393). И, когда мародеры приблизились, началась стрельба. «Раз ночью, — рассказывал один крестьянин, — четыре француза забрались около водяного колеса на мельницу. Мы узнали это и обступили, закричали им: „Сдавайтесь“, они закричали: „нон пардон!“ и начали стрелять». Когда французы расстреляли все патроны, крестьяне «их полоном взяли» («Истор. Вести», 1903 г., т. 94, 832). Такова обычная картина крестьянских выступлений. Но в некоторых случаях дело доходило до настоящих сражений и завершалось огромным полоном и взятием у неприятеля даже городов. Действия крестьянских отрядов под предводительством крестьян Курина и Стулова в Московской губернии могут служить прекрасной иллюстрацией таких больших выступлений крестьян.
Когда маршал Ней занял г. Богородск, крестьяне Вохтинской волости, с. Павлова, отправив стариков и детей в леса и другие укромные места, сами решили сразиться с неприятелем. Составили дружину и выбрали вождем поселянина Герасима Курина. 25 сентября у Большого Двора они получили, так сказать, боевое крещение и затем вплоть до 1 октября ежедневно выступали и с успехом против являвшихся в их округу фуражиров. А 1 октября у них с французами произошло уже прямо генеральное сражение, окончившееся полной победой павловских крестьян.
Г.-л. Н. С. Дорохов (Клюквина, по ориг. Доу)
На этот раз французы выслали очень сильный отряд фуражиров. Но и Курин выставил большие силы. «Число ополчения в сей день простиралось до 5.800 человек, из коих 500 было на конях, а прочие — пешие. Все они в 8 ч. утра собрались в церкви с. Павлова, где, по отслужении литургии и молебствия, простились со слезами друг с другом и поклялись перед алтарем — не выдавать товарищей до последней капли крови». Затем Курин предложил, разделив ополчившихся людей на 3 части, назначить, кроме того, 2 начальников и выбрал в эту должность вохтинского старосту Стулова и еще одного крестьянина: первому была поручена вся конница с небольшим числом пехоты, а второму — тысяча пеших. Команду же над остальными людьми и размещение к бою всех частей принял на себя сам Курин. Расположив отряды своих товарищей в засадах у с. Меленков и Юдинского овражка и приказав им оставаться там и не вступать в дело без его распоряжения, Курин разместил прочих воинов-поселян скрытно в с. Павлове. Появились два неприятельских эскадрона. Один остался вне села, другой вошел в Павлово, и командир его потребовал провианта, обещая заплатить. Тогда Курин, обещав дать, приказал Стулову атаковать первый эскадрон, а сам заманил второй эскадрон во двор, завалил ворота и истребил почти весь. Стулов атаковал первый эскадрон, прогнал его и, только встретившись с большим неприятельским отрядом, отступил. Французы преследовали Стулова до Павлова и окружили его отряд со всех сторон. Но в это время в тыл неприятеля ударили засевшие в Юдинском овражке поселяне, и французы были обращены в бегство. «Только темнота ночи спасла их от совершенного истребления. Сам Курин убил в этот день одного офицера и 2 рядовых, а вообще от его руки пало 8 человек. Победителям достались в добычу 20 пароконных повозок с лошадьми, 25 ружей, 120 пистолетов и 400 сум с патронами» (Богданович, «Отечеств. война», т. III, 397–409).
«Володимирцы» (Совр. карик.)
Понятно, мелкие и случайные стычки носили и неорганизованный характер. Но нападения неприятеля на крестьянские селения, грабежи и насилия все учащались, обращались как бы в систему. И крестьянские выступления в силу вещей очень скоро приняли организованный характер. Тогда уже народная война из эпизодической превратилась в систематическое истребление неприятеля и в правильно и широко поставленную оборону страны. «На пунктах возвышенных, господствующих над окрестною местностью, выставляемы были от крестьян посты, зорко сторожившие появление неприятеля; ежели подходившая команда была малочисленна, то воины-поселяне старались окружить и захватить ее скрытно, чтобы не обнаружить своего притона; в случае же наступления значительных сил, сторожевые подавали о том весть в ближайшее село; раздавался набат и на условленном заблаговременно пункте сходились из всех соседственных селений люди, вооруженные, кто чем мог, под командою местных начальников отставных офицеров, дворян, либо старшин, избранных крестьянами из среды своей. Иногда эти предводители пред боем возбуждали дух своих подчиненных краткой речью». Когда был занят Звенигородский уезд, жители Воскресенска учредили денную и ночную стражу. В лесах наблюдали за неприятелем, взлезая на верхушки деревьев (Богданович, «Отеч. война», т. III, стр. 397–409). Для характеристики военной тактики крестьян заслуживает внимания следующий случай, имевший место в с. Каменке, Калужской губернии. «500 человек французов, привлеченные богатством сего селения, вступили в Каменку; жители встретили их с хлебом, солью и спрашивали, что им надобно? Поляки, служившие переводчиками, требовали вина, начальник селения отворил им погреба и приготовленный обед предложил французам. Оголоделые галлы не остановились пить и кушать, проведя день в удовольствии, расположились спать. Среди темноты ночной крестьяне отобрали от них ружья, увели лошадей и, закричав „ура“, напали на сонных и полутрезвых неприятелей, дрались целые сутки и, потеряв сами 30 человек, побили их сто и остальных 400 отвели в Калугу» («Бумаги Щукина», I, 62). Вооружение крестьянских отрядов состояло из домашних орудий — в роде вил, ножей, кольев, также охотничьих ружей, а иногда они обзаводились не только военными ружьями, но даже пушками.
Интересно отметить, что в вылазках крестьян против неприятеля и баталиях принимали участие даже женщины. «В Боровске две девушки убили 4-х французов и несколько дней тому назад крестьянки привели в Калугу взятых ими в плен французов» (Из частного письма 2 окт. 1812 г. — «Бумаги Щукина», I, 62). А в Сычевском уезде старостиха Василиса получила всероссийскую известность своими энергичными действиями против неприятеля.
Дело организации народной войны прежде всего взяли на себя сами же крестьяне, иногда в организации участвовали бурмистры, помещики, наконец, в некоторых случаях администрация. «В Мосальском уезде (например), по словам полк. Поликарпова, первыми инициаторами и руководителями народной войны явились крестьяне помещика Нарышкина — сокольник Василий Половцев и бурмистр Федор Анофриев». Они сформировали целый отряд вооруженных крестьян («Новая Жизнь», 1911 г., июль и сентябрь). В селе Левшине, Сычевского уезда, самым энергичным и страшным для французов «смелостью и телесною силою своею» организатором народной войны был местный бурмистр («Русск. Арх.», 1876, II, 310). И в других уездах Смоленской губернии действовали сформированные крестьянами отряды. В Московской губернии крестьяне взяли на себя охрану селений и помещичьих усадьб.
Иногда крестьянские отряды организовались отбившимися от своих частей рядовыми. Подобным организатором явился, например, в Смоленской губернии рядовой Четвертаков. Свалившись со смертельно раненой лошади, он был взят в плен, но сумел бежать и добрел до д. Басманы. Не желая оставаться без дела, он предложил крестьянам вооружиться и идти с ним на французов. Те отнеслись недоверчиво к Четвертакову. Нашелся лишь один охотник, с которым он и отправился в путь. Дорогой они убили двух французских кавалеристов и сели на их лошадей. В с. Зоднове к ним присоединилось четыре десятка крестьян. Четвертаков посадил их всех на лошадей и, вооружив пиками, убивая французов, они брали их ружья, и отряд Четвертакова начал очень успешно действовать. Слухи о нем быстро распространились и, когда он прибыл вторично в д. Басманы, его встретили уже с восторгом, и ряды его ратников стали пополняться новыми и достигли 300 человек. Теперь Четвертаков уже превратился из случайного партизана в оборонителя данной местности. Обосновался в Басманах, устроил пикеты, организовал разведки и повел правильные военные действия против неприятеля («Русск. Ст.», 1898 г., июль, 95–102). Точно так же поступил рядовой Еременко который выбыл из строя после битвы под Смоленском 5 августа и, оправившись от раны, сформировал отряд в 300 крестьян (Поликарпов, там же).
Из помещиков организаторов и руководителей крестьянских отрядов наибольшую известность приобрели смольняне — Энгельгардт, Шубин, Лесли, предводитель дворянства Нахимов, Зубцовский, помещик Цызырев и др.
Организация крестьянских отрядов администрацией имели место в Смоленской губернии. Здесь советник тверской гражданской палаты Денисов объезжал все уезды и вызывал охотников.
Так возникали крестьянские отряды и так они действовали.
При возвращении из России (Немец. гравюра)
Народная война была вызвана необходимостью самообороны, и поскольку она оставалась в этих пределах, против участников ее ничего нельзя было иметь. Они заслуживали только признательность. Но, к сожалению, крестьяне не остались на высоте своего призвания и перешли предел необходимого. Они попрали требования гуманности, соблюдаемые обыкновенно даже и во время войны, и допустили жестокости. Они прямо охотились за мародерами и фуражирами и отводили душу их мучениями. Расправа с пленниками может потрясти душу. «Сначала, когда французы попадались понемногу, с ними возились долго, убивали нередко изысканным способом: обматывали соломою и сжигали живьем, отдавали на потеху бабам и ребятишкам. Но вот отсталые и измученные французы начали чуть не сами идти в руки, да и не десятками, а целыми сотнями. Тут уже понадобилась иная расправа. Сгоняли пленных в сараи и сжигали там сотнями, топили в прорубях, зарывали живыми в землю» (Надлер, «Александр I», ч. II, 230–231). И делалось это с невероятным хладнокровием и сознанием даже как бы богоугодности истребления «басурманов». Генерал Левенштерн видел, как один часовой мастер «осенил себя трижды крестным знаменем, схватил большой кухонный нож, бросился на улицу и убил на моих глазах 5 или 6 французов так быстро, что я не успел помешать этому». Окончив эту операцию, герой снова перекрестился и спокойно вытер и убрал нож («Русск. Ст.», 1901 г., 1–3, 363). Впоследствии эти герои хвастались даже своими подвигами. «Наловили это мы их, французов, десятка два, — говорил один крестьянин на постоялом дворе после войны, — и стали думать, что бы с ними поделать, свести, что ли, куда, сдать, что ли, кому, да куда поведешь и кому сдать? Вот и приговорили миром побить их. Выкопали в перелеске глубокую яму, повязали им, французам, руки и пригнали гуртом; стали это они вокруг ямы, а мы за ними стали и начали они жалостно талалакать, точно Богу молиться; мы наскоро посовали их в яму да живых и зарыли. Веришь ли, такой живущий народ, под землей с полчаса ворошились» (Надлер, II, 231). Ожесточилось даже женское сердце. Бабы вырывали у мужиков пленных, чтобы приложить свою руку к истязанию их и утолить жажду мести. «Вот, бывало, и наткнемся мы, парни, на одного, — рассказывал после уже старик, крестьянин, — возьмем и приведем в деревню; так бабы-то и купят его у нас за пятак: сами хотят убить… Одна пырнет ножом, другая колотит кочергой, опять другая тычет веретеном»… («Русск. Арх.», 1875 г., IX–XII, 228)[197].
Из каких бы побуждений не действовали крестьяне, но во всяком случае своим непосредственным участием в военных действиях они оказали огромную услугу России в 1812 году. Некоторые местности были обязаны своей целостью исключительно крестьянам. Свидетельства этому идут с разных сторон. По поводу действий Четвертакова было произведено следствие, и оно обнаружило воочию заслуги этого партизана. Следователи «видели своими глазами», что на пространстве 35 верст от Гжатской пристани страна не была разорена, между тем как кругом все окрестные деревни лежали в развалинах. Все жители согласно показали, что крестьян вооружил и управлял ими всецело Четвертаков и «с чувствительною благодарностью называли его спасителем той стороны» («Русск. Ст.», 1898, III, 101). «Моим Никольским спасена вся Волоколамская округа, — читаем в письме помещика Алябьева, — по причине той, что моя дача на границе Смоленской губернии, а потому все нападения от французов были на мои деревни. Гаврила же (крестьянин Алябьева) с мужиками и с дворовыми людьми перебил их в разные набеги 600 человек, а потому далее в округу и не могли пройтить, следовательно, и остались все прочие селения не только невредимы, но и в покое» («Бумаги Щукина», ч. IV, 352). «Сельцо Володимирово на Серпуховской дороге, в 40 верстах от Москвы… осталось невредимо от общего разорения единственно по верности и усердию крестьян онаго»… («Русск. Арх.», 1876, II, 314). Вообще очень многие помещики выражали свою признательность крестьянам за спасение своих имений. Отчеты приказчиков и бурмистров своим господам очень часто констатируют, что «крестьяне были от своих домов неотлучны и многие набеги неприятельских небольших партий отражали и тем спасли все деревни от огня рук неприятельских».
Полон неприятеля тоже должен быть поставлен в актив народной войне, причтен к заслугам наших партизанов. «До конца сентября они взяли в плен около 15.000 человек, истребили, вероятно, столько же и уничтожили массы неприятельского фуража и артиллерийских снарядов» (Надлер, II, 81). А после сентября, когда началось отступление Наполеона, полон возрос еще больше.
Но самой главной заслугой крестьян в войну 1812 года было нанесение последнего удара «большой армии». Для отступавшей и уже обессилевшей армии Наполеона оставалось одно средство спасения — добраться до границы. И если бы убегавшая армия имела возможность по пути подкреплять свои силы пищей и отогревать закоченевшие члены, они дошли бы до границы. Но крестьяне истребляли французов, гнали неприятельских солдат от деревень, спугивали с биваков или просто приканчивали на месте. Этим они лишали армию последнего ресурса.
За свои заслуги отдельные крестьяне получали награды в виде георгиевских и других крестов, но все крестьянство в своем целом осталась невознагражденным. Наиболее соответствующей в тот момент наградой за самопожертвование для крестьян было бы, конечно, освобождение от крепостной зависимости. Но освобождения не последовало. Последовало разоружение народа. Именно, когда война кончилась, было сделано распоряжение, которым крестьяне приглашались добровольно выдать оружие, а власти отбирать оное. Этим распоряжением крестьянам как бы предлагалось вернуться в свое прежнее состояние и забыть, что они пять месяцев считались за граждан. Рабам не надо и нельзя иметь оружие.
В. Алексеев
Отступление французской армии (Мансфельд)
IV. Березина
Переход через Березину (Falat)
1. Березинская операция
Ген. А. Н. Апухтина
Донесение Кутузова с поля сражения давало впечатление победы, а потому составленный в Петербурге план рассчитывал сосредоточить крупные силы против корпусов, оставленных Наполеоном для прикрытия своего тыла с тем, чтобы, разбив эти корпуса, преградить французской армии путь отступления.
Карта района действий между г. Красным и рекой Березиной
План Березинской операции с 12 по 16 ноября 1812 г.
План отступления Наполеона I из Москвы в 1812 г.
Кутузову представлялась полная свобода: принять или отвергнуть выработанный в Петербурге план. Хотя вошедшее в план предположение об отступлении французов по Смоленской дороге оказалось ошибочно, напротив, французы заняли Москву, — но главные черты обстановки были верны. Операционная линия противника была слишком длинна, и сообщения его являлись крайне чувствительными ко всякой серьезной угрозе. Вот почему Кутузов принял привезенный ему из Петербурга план действий и отправил распоряжение главнокомандующим частными армиями.
Перед войной с Россией Наполеон подготовил главную базу на Висле. По занятии Вильны устраивается первая промежуточная база по Неману, а вслед затем — вторая промежуточная база в Вильне, которая обращается в укрепленный лагерь. Следующая промежуточная база, устроенная под прикрытием рек Березины и Улы, была подвинута в район между Двиной и Днепром, а Смоленск со своим тет-де-поном на правом берегу Днепра послужил французам пятой и последней промежуточной базой.
Ясно, что охранение операционной линии от главной базы (на Висле) до Смоленска требовало выделения из состава армии значительных сил. Не считая Макдональда, который не принял участия в событиях, разыгравшихся на р. Березине, в тылу находились три группы войск: С. Сира, Шварценберга и Виктора. Несмотря на принятые Наполеоном меры, единство действий не было обеспечено за отсутствием единой объединяющей власти. Наполеон не мог рассчитывать, чтобы все силы, назначенные для прикрытия сообщений армии, были использованы наиболее целесообразно.
Скорее следовало опасаться, что соперничество между маршалами тут проявится в высшей степени и окажет свое влияние в роковую минуту.
План действий, составленный в Петербурге, как сказано, в общем состоял в одновременном и решительном переходе в наступление всех сил, действовавших на флангах главной армии с тем, чтобы, разбив войска, охранявшие тыл Наполеона, преградить ему путь отступления. Главная роль выпадала тут на долю Дунайской армии адмирала Чичагова, которому, по заключению мира с Турцией, предстояло двинуться к Несвижу, на сообщения Шварценберга с Минском, овладеть этим городом и, притянув из Мозыря отряд Эртеля, занять линию р. Березины, чтобы преградить здесь путь отступления французской армии.
Для выполнения этой конечной цели Чичагову предписывалось устроить у Борисова укрепленный лагерь и войти в связь с Витгенштейном, который должен был занять течение р. Улы. Чичагову вменялось в обязанность не ограничиваться укреплением Борисова, а усилить все находящиеся позиции между Березиной и Бобром, чтобы оказать сопротивление французам еще далеко впереди Борисова.
Нелегкая роль выпадала гр. Витгенштейну, которому ближайшей задачей ставилось: овладеть Полоцком и, отрезав С.-Сира от главной французской армии, отбросить его к западу. Выполнив это, Витгенштейн должен был занять течение р. Улы и преградить французам отступление в пространстве между Березиной и Двиной.
Действия Чичагова обеспечивались со стороны Шварценберга 3 резервной армией Тормасова, который, оттеснив Шварценберга в герцогство Варшавское, должен был стать у Несвижа, прикрывать тыл армии Чичагова и наблюдать течение Березины к Бобруйску. Содействие корпусу Витгенштейна возлагалось на финляндский корпус Штейнгеля.
Путь отступления французской армии преграждался занятием оборонительной линии pp. Улы и Березины, где предполагалось сосредоточить к 20 октября 160.000 человек. Весь этот план действий является смелым по идее и вполне отвечающим обстановке, но таит в себе несущественные недостатки. Основываясь на взаимодействии отрядов, разобщенных большими расстояниями, а потому не могущими установить между собой связь, план мог быть разрушен частной неудачей, понесенной тем или другим отрядом.
Отдельным начальникам ставились не общие цели, а указывались подробности исполнения. Инициатива начальников отдельных групп войск стеснялась, что неминуемо оказало влияние на результаты их действий, а главное — план не принадлежал главнокомандующему, фельдмаршалу Кутузову, но был уже навязан свыше.
Бивак на правом берегу Березины (Фабер-дю-Фор. Муз. П. И. Щукина)
Чичагов и Тормасов, действуя против Шварценберга, отступавшего перед ними в герцогство Варшавское, подошли к Любомлю. Тут был получен новый план действий и командование обеими армиями объединилось в руках адмирала Чичагова, потому что Тормасов был отозван для командования 2 западной армией.
В 1812 г. (Прянишникова)
29 сентября Чичагов занял Брест. Путь на Минск был открыт, так как Шварценберг отступил в направлении к Дрогочину. Оставив у Бреста заслон силой 27.000 человек под командой генерала Сакена, Чичагов только 15 октября сдвинулся с места и лишь 25 октября прибыл в Слоним. Здесь он узнал об оставлении Наполеоном Москвы и об отступлении французской армии. Сюда же было доставлено собственноручное письмо императора Александра, извещавшее о взятии Витгенштейном Полоцка и о поражении Сен-Сира. Все указывало на необходимость возможно скорее овладеть Минском и подойти к Березине. 4 ноября Минск был захвачен начальником авангарда армии гр. Ламбертом, а на следующий день сюда стянулись и главные силы.
В то же время Витгенштейн, имея главные силы у Чашникова, занял течение Улы: вправо до Лепеля и влево до впадения ее в Двину. Расположение это вполне отвечало идее общего плана. 6 ноября, в день сражения под Красным, французская армия имела в тылу армии Чичагова и Витгенштейна, собиравшихся преградить ей путь отступления к Вильне.
В сражении под Красным французы понесли жестокий удар, не говоря о крупных материальных потерях, нравственное потрясение было настолько велико, что армия уже не могла от него оправиться. Боевые силы армии не превосходили 23.000 штыков, 2.000 сабель и 30–40 орудий. Рядом с этими остатками вооруженных сил Наполеона шла тридцатитысячная толпа, бросившая ряды и оружие, утратившая понятие о дисциплине.
Переход через Березину (Фабер-дю-Фор)
6 ноября головные части французов достигли Орши; гвардия подошла к Дубровне, и арьергард ночевал между Дубровной и Лядами. В Дубровне Наполеон получил известие о занятии Чичаговым Минска и об отступлении оборонявшего город генерала Брониковского к Борисову. Событие это имело для Наполеона значение чрезвычайной важности. Обнаруживалось присутствие на пути отступления значительных сил противника. Непосредственная опасность грозила Борисовскому тет-де-пону, обеспечивавшему переправу французов через Березину, — важнейшую преграду между Днепром и Неманом.
С этой минуты все распоряжения Наполеона имели прежде всего в виду сосредоточить к Борисову силы, достаточные для обеспечения переправы через Березину. Ближайшими войсками являлась дивизия Домбровского, которой и приказано идти к Борисову. На поддержку направлен сменивший Сен-Сира Удино, отделенный от Виктора. При этом Наполеон высказывал, что, усиливая армию войсками Домбровского и Удино, а по возможности притягивая и Виктора, он успеет разбить Чичагова и овладеть Минском. Подобный успех настолько изменит обстановку, что явится возможность приостановить отступление и удерживать за собой район к западу от Березины.
Оставляя заслон против Витгенштейна, Наполеон указал Виктору занять положение, прикрывающее пути на Оршу, Борисов и Вильну, и заставить Витгенштейна убедиться в том, что Наполеон направляется против него. Представляя собой боковой арьергард, Виктор имел в виду возможность отхода по м. Верхнее Березино, с тем, чтобы, переправясь через реку, составить левый фланг французской армии. Но, с прибытием главной квартиры в Оршу, Наполеон ограничил задачу Виктора прикрытием движения армии между Оршей и Борисовым, куда ему следовало отступить с расчетом составить арьергард.
В Орше французская армия получила новую организацию. Корпус Даву переформирован в 3 батальона, а вице-короля — в 2 батальона. Корпуса Нея и Жюно сведены в 3 и 2 батальона.
9 ноября французские войска покинули Оршу; армии двигались к Борисову, уничтожив переправы на Днепре, т. е. положив преграду между собой и главными силами Кутузова, которые еще 7 ноября оставались в окрестностях Красного.
Вслед за отступившей французской армией был направлен Ермолов. Фельдмаршал воспретил ему переходить Днепр, разрешив переправить часть пехоты только в случае необходимости поддержать Платова, двигавшегося от Смоленска правым берегом реки. Чичагову приказано ускорить движение и войти в связь с главной армией. Положение Витгенштейна могло стать опасным; это сознавал Кутузов, на это же указывал и рескрипт императора Александра. Получая постоянные жалобы на вялость и нерешительность Кутузова от англичанина Роберта Вильсона, состоявшего при главной квартире, государь выражал опасение, что Наполеон успеет соединиться с Виктором и разбить Витгенштейна, прежде чем подойдет главная русская армия.
7 ноября, когда главная квартира Наполеона прибыла в Оршу, главные силы Кутузова находились в окрестностях Красного; авангард Ермолова сосредоточивался в Лядах; Платовъ преследовал остатки корпуса Нея по правому берегу Днепра к Дубровне; туда же двигался по большой дороге Бороздин; все партизанские отряды находились левее большой дороги; конный отряд ген.-ад. Голенищева-Кутузова прибыл в Бабиновичи.
Выбрав направление для преследования на Копыс, Кутузов получал все выгоды параллельного преследования и возможность предупредить Наполеона у Игумна или Бобруйска, если бы он повернул на это единственное открытое для него направление, имея в виду, что путь на Минск прегражден Чичаговым. Направление движения на Копыс, уклоняя русскую армию к югу, было невыгодно при единственном условии, что Наполеон двигается против Витгенштейна. Поэтому Кутузов обращал особое внимание передовых войск на выяснение истинного направления отступления Наполеона.
Это сведение особой важности было добыто Платовым и доставлено Кутузову 10 ноября. Накануне обнаружилось движение французской гвардии от Орши по большой дороге на Коханово, а значит, далее, на Борисов, приведя к неизбежной встрече с Чичаговым.
Переход через Березину (Марина)
Кутузов предупреждал адмирала о возможности движения Наполеона на юг, на Погост и Игумен и рекомендовал высылать туда партизанов, а сам, продолжая главными силами параллельное преследование, дал соответствующие направления всем передовым и партизанским отрядам.
Наступая от Бреста к Минску, Чичагов рассчитывал на присоединение к нему войск Эртеля и Лидерса: при этом условии численность его армии возрастала до 60.000. Между тем Эртель уклонился от выполнения данного ему приказания, выслав лишь на Игумен незначительный отряд. Чичагов, считая свои силы недостаточными для выполнения поставленной ему задачи, решил ослабить заслон против Шварценберга и потребовал от Сакена высылки корпуса Эссена. Конечно, рассчитывать на современность прибытия этих войск было очень трудно.
В Минске адмирал получил первые сведения о дивизии Домбровского, которая направлялась с нижней Березины к Минску, но, будучи предупреждена авангардом Чичагова, повернула к Игумну; передавались слухи о соединении Домбровского с корпусом Виктора, причем общая численность французского отряда оценивалась в 50.000.
Этих сведений и слухов было совершенно достаточно, чтобы заставить адмирала остановиться в Минске. Причинами такого решения являлись и слабость своих сил и неопределенность положения противника, а также движение Шварценберга на Волковыск, являвшееся угрозой тылу армии Чичагова.
Однако продолжительное пребывание в Минске было невозможно. Уже 6 ноября получились известия о выполнении плана императора Александра на других пунктах театра войны, а высочайший рескрипт прямо приглашал адмирала к энергичным действиям. Государь писал: «Вы понимаете, до какой степени важно ваше соединение с графом Витгенштейном в окрестностях Минска или Борисова, чтобы спереди встретить войска Наполеона, тогда как большая армия их преследует».
Чичагов, успокоенный донесением о нахождении большой части корпуса Виктора против Витгенштейна, решает продолжать наступление и искать соединения с Витгенштейном между Березиной и Днепром. Для этого один казачий полк направляется на Игумен с целью преследовать отступавшую дивизию Домбровского; авангард графа Ламберта в составе 4½ т. двигается 7 ноября по Борисовской дороге к Юхновке, имея приказание занять Борисов и открыть сообщение с Витгенштейном. Главные силы идут на Борисов двумя колоннами: правая — гр. Ланжерона, следует за авангардом, а левая — ген. Воинова, идет через Усяжи и Антонополь. При левой колонне находился и адмирал-главнокомандующий.
8 ноября гр. Ламберт, сделав 35 верст, располагается у Жодина, а конница останавливается в 10 верстах от Борисова и освещает местность вплоть до города. Захваченные пленные показывают, что Борисовский тет-де-пон занят отрядом вюртемберцев в 1½ т., а также, что в Борисове со дня на день ожидается корпус Виктора. Все сведения сводились к тому, что французы покуда располагали на реке Березине небольшими силами, которые скоро должны были значительно возрасти, гр. Ламберт решает немедленно идти к Борисову, овладеть тет-де-поном и, разбив неприятельские отряды, не допустить их соединения.
Дав авангарду привал для варки пищи, граф Ламберт продолжает движение ночью и на рассвете подходит к Борисову. Здесь были укрепления, воздвигнутые в 1812 г. русскими инженерами в предвидении войны; работы еще не были закончены, когда Борисов был занят корпусом Даву. Построенные фронтом за запад, Борисовские укрепления не могли иметь значения для французов, а потому были уже частью срыты, когда армия Чичагова спешно двигалась к Минску. Но и в таком виде укрепления эти представляли серьезное препятствие для атакующего, состоя из двух редутов, соединенных между собой ретраншементом. Леса правого берега Березины охватывали укрепления, оставляя впереди их открытой полосу местности, шириной около версты. Большая дорога из Минска у самых укреплений поворачивала влево и, обогнув правый редут, спускалась с крутого берега к мосту. Южнее дороги, там, где она выходила из лесу, имелась командующая высота, отделявшаяся от левого редута глубоким оврагом.
Гарнизон Борисова состоял из сборных команд и частей вновь формировавшихся полков. Войска эти составляли остатки Минского гарнизона и были совершенно деморализованы поражением и потерей Минска. Начальник гарнизона ген. Брониковский успел дать знать о своем положении Домбровскому, который 8 ноября, сделав переход свыше 50 верст, в 10 час. вечера подошел к тет-де-пону. Всего с Домбровским подошло 2 т. пех., 500 кав., 12 ор. В полупереходе оставался арьергард в составе 1 бат. и 2 эск. Таким образом, общая численность Борисовского гарнизона возросла до 4 т. чел. В Борисове же Домбровский нашел предписание Бертье защищать этот пункт до последней крайности.
Ген. Чаплиц
Незнакомый с местностью и не будучи в состоянии осмотреть ее засветло, Домбровский расположил свои войска по совету и указанию Брониковского. В 3 ч. утра войска уже встали в ружье на случай нечаянного нападения. И действительно, противник был близко. Еще за час до рассвета, Ламберт занял опушку леса, окружавшего укрепление. По беспечности, гарнизон Борисова об этом не подозревал и был атакован внезапно. Произошло замешательство и беспорядок, но поляки скоро оправились, и полковник Малаховский выбил из левого редута овладевший им 38 егерский полк и преследовал его до оврага. Тут увлекшиеся преследованием поляки были атакованы 7 егерским полком, и упорный бой за левый редут окончился переходом его в руки егерей.
Одновременно шел бой и за правый редут. Около 10 ч. утра оба укрепления достались гр. Ламберту; противник удерживал только ретраншемент. В это время, по дороге из с. Гура-Ушкевича обнаружилось движение пехоты и кавалерии, а отброшенные в лес польские батальоны вновь перешли в наступление, угрожая левому флангу русских. Ламберт вводит в дело последний резерв, обращаясь против показавшейся колонны, которая составляла арьергард Домбровского. Удачное действие 12 конно-артиллерийской роты заставило этот арьергард отойти назад к с. Гура Ушкевича и там переправиться по льду на левый берег Березины.
В 3 часа дня тет-де-пон был взят; пехота устремилась по мосту в город, где был полный беспорядок и деморализация. Паника распространилась и далее по дороге до Бобра. Большая часть дивизии Домбровского была уничтожена.
Вечером, когда бой закончился, стал подходить корпус Ланжерона, а 10 ноября у Борисова были главные силы 3 армии, имея отряды на реке выше и ниже города. Во время движения к Березине, от главных сил был выделен отряд Чаплица, который и прибыл в Зембин тоже 10 ноября.
Итого в этот день армия адмирала занимала Березину от Зембина до Унги, имея главную массу у Борисова.
Удалось занять выгоднейшую оборонительную линию на пути отступления французов. Чичагов верил в неизбежность гибели французской армии настолько, что разослал старшим начальникам приметы Наполеона, который не мог избежать плена.
Наполеон приближался к Толочину, когда получил роковое донесение о потере Борисовских предмостных укреплений. Положение остатков французской армии становилось критическим. Реки Березина и Ула преграждали ей все пути отступления. На Березине наиболее доступным являлся участок между Борисовым и д. Веселово, где долина реки значительно суживается.
Ула представляется менее серьезной преградой как по ширине, так и по качествам своей долины, но к западу от Улы тянутся ряд лесов и озер, являющихся второй оборонительной линией. Промежуток между обеими реками заполнялся каналами и озерами, превращая всю местность в сплошную непрерывную преграду. Но сообщение вдоль правого берега Березины было неудобно; переброску войск надо было совершать кружным путем через Докшицы. Ближайшие к Борисову мостовые переправы находились в Веселове и м. Нижнее Березино. Для движения к Веселову надо было свернуть с большой дороги на Кострицу или идти от Борисова по левому берегу реки. По переправе через Березину путь этот вел на Зембин по длинному дефиле, образуемому мостами и гатями по болотистой р. Гайне, а у Молодечны выходил на большую дорогу из Минска в Вильно. К Нижнему Березино вела дорога от Бобра через Ухвалу; перейдя Березину, путь этот шел через Игумен в Минск.
К вечеру 10 ноября положение сторон было таково. Французы находились на середине между Днепром и Березиной; голова армии достигла Бобра; Наполеон с гвардией и главные силы прибыли в Толочин. Впереди у Лошницы был Удино, который с остатками дивизии Домбровского имел до 10 тыс. и представлял собой авангард армии: к северу, у Череи, располагался Виктор с 12 тыс.
Чичагов с 30 тыс. овладел переправой у Борисова и частью сил перешел на левый берег реки. Витгенштейн с 30 т. стоял против Виктора. Армия Кутузова приближалась к Днепру, имея отряды Платова и Ермолова в расстоянии перехода от хвоста французской армии. Наполеону грозило окружение вдвое превосходными силами; надежда на спасение заключалась в трудности установить связь и согласовать действия отдельных русских армий.
Предоставив Удино свободу действий, поставив ему лишь цель — овладеть где-либо переправой через Березину, Наполеон согласился с мнением Жомини — переправить армию вблизи Борисова и продолжать отступление на Вильну кратчайшим путем. Удино послано приказание овладеть бродом у Веселова, навести там мосты и обеспечить их укреплениями. Для прикрытия же переправы со стороны Витгенштейна, Виктору приказано занять дорогу из Лепеля в Борисов, для чего передвинуться из Холопеничей к Баранам.
Успех, одержанный русскими у Борисова, стоил недешево; начальник авангарда армии гр. Ламберт был ранен и выбыл из строя. С этой минуты несение всех обязанностей авангарда как-будто прекращается. Вечером 9 ноября гр. Ланжерон переводит корпус на левый берег Березины, посылает Витгенштейну известие о занятии Борисова, но не принимает мер для разведки к стороне Бобра.
На следующий день в Борисов прибывает Чичагов и назначает начальником авангарда гр. Палена 2 с приказанием — на рассвете 11 ноября выступить на Лошницу.
Это движение привело к поражению гр. Палена, отступившего к Борисову в полном расстройстве. Войска Удино преследовали его по пятам. Чичагов приказал очистить город. Можно себе представить картину этого отступления. «Все устремилось в беспорядке к мосту, который вскоре оказался загроможденным артиллерией, обозами, маркитантскими повозками и вьюками. Главнокомандующий поспешил перебраться на правый берег реки, и, чтобы очистить ему дорогу, с моста сталкивали повозки и лошадей в воду».
Потеря Борисова, отход на правый берег Березины свели задачу Чичагова на пассивную оборону реки. Кроме того, неудача 11 ноября лишила адмирала самоуверенности и, конечно, отразилась на его последующих действиях.
Предполагая, что французы постараются проложить себе дорогу на Минск переправой около Борисова, Чичагов оставался, с главными силами у тет-де-пона; отряд Чаплица перешел к Брили и занял Зембин. В Ушкевичи отправлен отряд гр. Орурка с целью противодействовать переправе противника у мест. Нижнее Березино. Оба отряда приняли указанное им распоряжение 12 ноября.
Удино определял численность противника в 20 тыс., к которым еще должен был присоединиться Витгенштейн. Успех переправы становился сомнительным. Оценивая броды у Ухолод, Стахова, Студенки и Веселова, Удино, конечно, остановился на переправе у Студенки[198]. Против Ухолод и Стахова решено было производить демонстрации. Однако разведка заставила Удино колебаться относительно переправы у Студенки, но Наполеон категорически приказал продолжать работы, послав в распоряжение Удино всех уцелевших понтонер, сапер, генералов Эбле и Шаслу.
С 11 на 12 ноября Виктор ночевал у Холопеничей; поэтому на другой день, слыша канонаду между Холопеничами и Батурами, Наполеон считал свою операцию обеспеченной. Донесение же Виктора об отступлении на Лошницу было полной неожиданностью и грозило крупной опасностью, открывая переправу у Студенки ударам Витгенштейна. В 5 ч. утра 13 ноября Наполеон посылает Виктору приказание — немедленно с 2 дивизиями перейти на Лепельскую дорогу к Кострице, оставив арьергард на дороге из Холопеничей в Лошницу для прикрытия движения французских войск по большой дороге.
Наполеон предполагал, что Виктор к полудню займет Кострицу. Намереваясь переправиться в ночь с 13 на 14 ноября, он хотел сосредоточить для этой операции Удино, Виктора и гвардию. Арьергарду Даву приказано удерживаться между Крупками и Начей, покуда переправа не закончится. Остальные войска должны эшелонировать между Начей и Неленицей. Наполеон все еще надеялся завершить кампанию удачной операцией.
14 ноября в 10 ч. утра на подходе к Борисову получилось донесение Виктора, разрушившее последние надежды великого полководца. Оказалось, что приказание занять Кострицу Виктор получил уже на марше к Лошнице и, найдя новое направление неприемлемым, продолжал отходить к Лошнице.
Гибель французской армии была неминуема. Простой взгляд на карту указывает, что Витгенштейн мог подойти к Студенке в самом начале перехода французами Березины. В сумерках вступил Наполеон в Борисов, а 2 французский корпус в это время стягивался к Студенке. Чтобы ввести в заблуждение Чичагова, одновременно с занятием Студенки, направили вниз по реке к Ухолодам батальон пехоты, которому сопутствовали толпы безоружных, принятые с противоположного берега за сильные колонны.
Отступление великой армии (Верещагина)
В ночь на 13 ноября Витгенштейн уведомил Чичагова об отходе Виктора от Череи и предполагалъ, что французская армия поворотит к Бобруйску, потому что иначе Виктор продолжал бы держаться у Череи. Прибавив ряд других более мелких соображений, Чичагов решил, что Наполеон намерен форсировать Березину в нижней части ее течения. Вопреки мнению старших генералов и начальника штаба, адмирал решил немедленно передвинуть свои силы к югу. Гр. Орурк, сделав 50-верстный зимний переход, к утру 14 ноября занял м. Нижнее Березино. У предмостных укреплений оставлен Ланжерон с 4–5 тыс. Адмирал с резервом в 14–16 тыс. к вечеру прибыл в с. Забашевичи; Чаплицу приказано наблюдать верхнее течение реки постами, а самому прибыть к Борисову. Такова была группировка сил адмирала Чичагова к утру 14 ноября, т. е. к тому времени, когда решалась судьба Наполеона и остатков великой армии к северу от Борисова у д. Студенки. Уже вечером 13 ноября в Забашевичах Чичагов получил уведомление Витгенштейна, изменявшее смысл прежних его соображений. Известие же о движении Витгенштейна на Холопеничи, без объяснения причин, Чичагов принял как указание на возможность переправы французов выше Борисова. Адмирал предписывает Чаплицу остаться в прежнем положении, а Ланжерону подкрепить его. Увы, эти распоряжения дошли по назначению, когда форсирование Березины французами закончилось.
Ночью отряд Чаплица добыл сведения, что вся французская армия сосредоточилась между Старым и Новым Борисовым, что строят мосты, которые могут быть наведены у Брили или Веселова. Одновременно гр. Ланжерон приказывает очистить Зембин, Веселово и Брили и идти к тет-де-пону. Чаплиц, сознавая важность сохранения своего положения, посылает адъютанта к Чичагову, доносит Ланжерону о происходящем у Студенки и приказывает своему отряду сосредоточиться напротив — у Брили. Очищая Зембин и Веселово, Чаплиц не сделал распоряжения уничтожить мосты и гати, образующие ряд трудных дефиле. Это упущение стало в ряд главнейших причин, позволивших остаткам французов ускользнуть от конечной гибели. Ночью же Чаплиц получает настойчивое приказание Ланжерона следовать к Борисову, что и исполняет перед рассветом, оставив у Брили отряд ген. Корнилова в составе: 1 егерского, 2 казачьих полков и 4 орудий.
Переход через Березину (Совр. гр.)
На рассвете Наполеон прибыл в Студенку. В это время Чичагов находился от переправы в двух переходах. В таком же положении был и Витгенштейн, который, заняв Бараны, выдвинул передовые войска к Янчине и Кострице. Кутузов значительно отстал. Только Платов и Ермолов ночевали в небольшом расстоянии от французского арьергарда. Французы могли окончательно сосредоточиться к переправе не ранее вечера 15 ноября.
Приступая к форсированию переправы, Наполеон имел 14 тыс., против которых стоял отряд Корнилова. В первый день к нему могли подойти: Чаплиц и частью Ланжерон. И при этом условии за Наполеоном было обеспечено двойное превосходство сил, т. е. на 14 ноября обстановка сложилась для французской армии благоприятно. Положение могло измениться лишь 15 ноября, с подходом сил Чичагова и Витгенштейна.
На рассвете 14 ноября началась постройка двух мостов в расстоянии 100 сажен один от другого.
Работы эти были обнаружены отрядом Корнилова, который пытался мешать им, покуда огонь его 4 орудий не был подавлен артиллерией гвардии и 2 корпуса. После полудня перешел по мосту корпус Удино и, переменив фронт на юг, стал наступать против Корнилова. Одновременно был выслан отряд к Зембину для захвата важных французам дефиле.
Корнилов постепенно отходил к Стахову, где был поддержан Чаплицем, вернувшимся по собственной инициативе. Чаплицу удалось остановить наступление французов, но он не мог их оттеснить, а потому переправа продолжалась беспрепятственно.
Только получив 14 ноября донесение Ланжерона о происходящем у Стахова, Чичагов понял положение дел и приступил к распоряжениям по сосредоточению своей армии к месту переправы французов. Исполнение встретило огромное затруднение, потому что войска лишь накануне совершили переход в Забашевичи, откуда теперь и выступили слишком поздно.
14 ноября Чаплиц был поддержан лишь двумя полками пехоты, а к вечеру, когда все было кончено, стали еще приходить подкрепления и прибыл Ланжерон. Витгенштейн в этот день перешел с главными силами из Баран в Кострицу; передовой отряд Альбрехта следовал на Немоницу и установил связь с Платовым, а авангард Властова перешел Жидонов.
В этот же день к вечеру французы имели на правом берегу Березины, между Брили и Стаховым, около 7 тыс. (Удино и Домбровский); все остальные были еще на левом берегу, занимая сильно растянутое расположение. Утром 15 ноября к переправе подошли 2 дивизии Виктора, а за ними войска вице-короля и Даву. Наполеон перешел на правый берег, перенеся главную квартиру в д. Занивки (в настоящее время не существует)[199]. В течение 15 ноября на правом берегу противники ограничились перестрелкой. Осмотрев позиции Чаплица, адмирал решил действовать оборонительно и перейти в наступление только в случае отхода французов на Зембин.
Между тем Витгенштейн 15 ноября продолжал наступление на Борисов, будучи уверен, что Наполеон намерен переправиться к югу от большой дороги, но обстановка выяснилась уже по подходе к Кострице. Оказывалось, что движение французов и переправа их были совершенно обнажены со стороны Витгенштейна, который и мог остановить всеми силами в любой точке между Борисовым и Студенкой. Только при движении на Студенку можно было рассчитывать достигнуть существенных результатов, но Витгенштейн выбрал направление на м. Ст. Борисов. Возможность стать лицом к лицу с Наполеоном оказала на Витгенштейна роковое влияние.
Согласно с принятым решением, авангард Властова (5 тыс.) двинут на Ст. Борисов; за ним следовали главные силы под начальством Витгенштейна, почему-то оставившего еще резерв Фока у Кострицы. Платову, Ермолову и Милорадовичу послана просьба атаковать французскую армию с тылу.
Властов, выйдя на опушку леса, которым пролегала дорога на Ст. Борисов, обнаружил движение французов на Студенку. Неожиданно открыл огонь. Артиллерия произвела у французов панику; часть бросилась бежать к Студенке, часть — к Борисову. На позицию, занятую против Борисова, прибыл Витгенштейн с главными силами и послал в город предложение оставшимся там французам сдаться. Это была дивизия Партуно. После отчаянного сопротивления остатки дивизии положили оружие[200]. За 15 ноября корпус Витгенштейна взял 7 тыс. пленных.
У Студенки, на левом берегу Березины, к вечеру 15 ноября осталась одна дивизия пехоты, 2 кавалерийские бригады, огромные толпы отсталых и многочисленные обозы. Наполеон хотел удерживать переправу 16 ноября, чтобы сохранить путь отступления для дивизии Партуно и отсталых. С этой целью еще одна дивизия перед рассветом перешла обратно на левый берег.
Тем временем Чичагов установил связь с передовыми частями Витгенштейна и Платова. Как только было замечено оставление Борисова дивизией Партуно, город был занят пехотным полком, перебравшимся через реку по остаткам моста. С другой стороны в город проник Сеславин и казаки Платова. Чичагов сосредоточился к Борисову, за исключением отряда гр. Орурка, остававшегося еще у д. Ушкеличи.
Решив атаковать противника, стоявшего против Чаплица, Чичагов назначил начало действий в 9 ч. утра и просил содействия Витгенштейна. У французов между Брили и Стаховым было 10 тыс., а у Студенки около 7 тыс. Общий резерв — гвардия (6.500) стояла у д. Занивки; наконец у Зембина были остатки 3 корпусов, силой до 2.500 человек.
Местность на правом берегу Березины слегка волниста, покрыта лесом, через который идет дорога из Борисова на Зембин. Лес значительно стеснял действия конницы, а артиллерия могла расположить лишь на дороге несколько орудий. У стоявших против Чаплица французов в первой линии был Удино и во второй — Ней. Молодая гвардия под начальством Мортье составила резерв. Чаплиц, построив свои войска в 3 линии, начал наступление с рассветом. Отбросив передовую французскую цепь, Чаплиц быстро подавался вперед, уверенный в поддержке главных сил, которые, по уверению адъютанта адмирала, следовали невдалеке. Встретив сопротивление на главной позиции, Чаплиц вынужден был несколько часов вести артиллерийский и ружейный огонь в ожидании подхода обещанной поддержки. Оказалось, что Чичагов выслал с этой целью 2 дивизии под командой своего начальника штаба Сабанеева. Дивизии шли по лесу в нескольких линиях густых стрелковых цепей, а сблизившись с Чаплицем они с барабанным боем и громким «ура» бросились вперед. Это наступление было остановлено стремительной атакой французских кирасир Думека. Замешательство достигло высокой степени, когда подходившие с тылу стрелковые цепи открыли огонь. Чаплицу удалось привести свои войска в порядок, но начатое наступление в этот день больше не продолжалось.
На левом берегу Березины, где французы имели всего 7 тыс. Виктора, разыгрался бой у Студенки с авангардом Витгенштейна. С рассветом Властов выступил, имея впереди генерала Родионова, и направился к Студенке. Из д. Бытчи Родионов выбил французские передовые части и разведал расположение Виктора. Наступая вдоль Березины, стрелки заняли перелесок, отстоявший на пушечный выстрел от нижнего места. Это дало возможность направить сюда огонь артиллерии, сосредоточив его против масс повозок и толпы людей. Тогда все в паническом ужасе бросились к мостам, где массы людей погибли задавленными или сброшенными в воду.
Однако вскоре части баденской бригады, направленные из Студенки, выбили русских из перелеска и с обеих сторон завязался горячий огневой бой. Замечая постепенное развертывание русского авангарда, Виктор направляет в атаку Бергскую бригаду и баденский гусарский полк. Атака встречена убийственным огнем и заканчивается неудачей, а подошедшие из главных сил егеря идут в штыки и преследуют французов. Положение Виктора становится критическим. Отступления нет, потому что мосты загромождены, а противник усиливается и переходит в наступление. Пущенной в дело коннице тоже не удается достигнуть успеха. Наступившая темнота приостановила атаку, но канонада продолжалась. Обе стороны понесли значительные потери.
Сидя в Борисове, Витгенштейн вечером 16 ноября узнал о результатах боя у Студенки. Предполагая, что французы продолжают удерживать левый берег значительными силами, он решил на следующий день не атаковать французов, оставаясь на своих позициях. Этим, по мнению Витгенштейна, обеспечивалось содействие приближавшихся войск Кутузова, а Платов мог выйти на путь отступления неприятеля и отразить его. Такое решение встретило полное сочувствие адмирала, и вот французы продолжают свое отступление совершенно беспрепятственно.
Около 4 ч. утра 17 октября Виктор закончил переправу и последовал за Наполеоном, выступившим из Брили в 6 ч. утра. Обязанности арьергарда нес Ней, занявший позицию на повороте дороги на Зембин. Тут Ней оставался, пока артиллерия и обозы миновали дефиле на р. Гайне. 8 ч. 30 м. утра Эбле зажег мосты, а на берегу появились казаки и передовые части Властова. В это время у Студенки пространство не менее квадратной полуверсты было заполнено всевозможными повозками с добычей, награбленной в Москве. Безоружная толпа, окружавшая обоз, пыталась спастись через пылающие мосты или по льду, ломавшемуся под людской тяжестью. Иные пробовали перебраться вплавь. Немногим удалось спастись; большинство погибло или взято в плен.
Невозможно дать точную цифру потерь французов при переправе, потому что неизвестна численность армии к началу переправы. Достаточно сказать, что в результате этой операции в боевом смысле от великой армии ничего не осталось; переправившиеся 9 тыс. спаслись бегством.
Однако, как ни ничтожна горсть французов, ушедших из России, но она имела огромное значение в последующей борьбе Наполеона с коалицией, дав кадр для сформирования новой армии. Поэтому план императора Александра удался лишь отчасти. В этом повинны недостатки самого плана, указанные в начале исследования, а также и исполнители. Впрочем, трудно винить Чичагова и Витгенштейна, заведомо ничтожных полководцев, в том, что у них не хватило мужества вступить в единоборство с Наполеоном. И ни в каком случае нельзя присоединиться к общественному мнению великой годины Отечественной войны, возложившему всю ответственность на Чичагова. Вспомним, что такие люди, как Ермолов, смели идти против общественного мнения. Поэтому немудрено, что в своих записках Ермолов говорит про Чичагова: «Чувствую с негодованием, насколько бессильно оправдание мое возлагаемых на него обвинений».
А. Н. Апухтин
«Варварское и бесчеловечное поведение Бонапарта, пожертвовавшего своими больными и ранеными при сожжении моста через Березину у Студенки» (Английское издание)
2. Переправа через Березину
В. П. Алексеева
В участниках похода этот момент оставил сильное впечатление. Момент, действительно, был полон торжественности и исторической важности. «Перед нами, — рассказывает один из очевидцев, — лежала деревня Студенка и виднелся только что наведенный мост. Несколько батальонов пехоты стояли у деревни, построившись колоннами. Вдруг из одной избы вышел император, окруженный толпой маршалов и генералов. Он был в серой шубе, но он отбросил одну ее полу левой рукой, так что можно было рассмотреть хорошо его блестящие сапоги и белые панталоны. Обычная маленькая шляпа была на его голове. На лице его не было заметно никакого движения; оно было холодно и бесстрастно, как всегда. Множество адъютантов, все в легких шинелях, стояли и сновали кругом, ожидая и разнося приказания. Жандармы в полном параде, но на исхудалых, тощих конях расположились полукругом у моста, не допуская к нему никого из безоружных. Погода была приятная. Небо разъяснялось понемногу; легкие клочья снега носились в воздухе, но температура поднялась значительно и около полудня ощущалась солнечная теплота».
Корпус Удино первый ступил на мост. Сооруженный наскоро, он оказался недостаточно прочным, скрепы рвались, бревна рассыпались, но все-таки Удино перевез с собой даже два орудия и зарядные ящики.
К четырем часам пополудни окончили постройку второго моста, и по нему, в первую очередь, переправилась гвардейская артиллерия и артиллерия корпуса Удино, а в ночь войска Нея и молодая гвардия. Этот мост два раза ломался, и починка его задержала переправу. Тем не менее, на другой день уже переправилась старая гвардия и сам император, вслед за ними остатки корпусов вице-короля, Даву и Жюно и одна дивизия Виктора, так что к 16 числу почти все войска находились на правом берегу. На левом остался со своим корпусом Виктор для прикрытия со стороны угрожавшего здесь Витгенштейна. И только тогда русские войска стянулись к месту переправы.
Заключительные сцены переправы разыгрались на левом берегу. Здесь 15 ноября сдался Партуно, а на другой день завязался бой с Виктором — упорный и кровопролитный бой, длившийся с утра до вечера, до полного истощения сил противника. Виктор, чтобы отстоять переправу и дать возможность перейти нестроевым, переходил несколько раз в наступление и не дал Витгенштейну отбросить себя. Ночь разняла дерущихся, и Виктор, убедившись в тщетности своих усилий, решил отступить на правый берег. На мостах образовалось скопление безоружных, переправа была загромождена повозками и телами замерзших и затонувших людей. И Виктору пришлось силой пробираться через эти заграждения из живых и мертвых людей, пуская в ход даже оружие против своих сотоварищей. После этого на левом берегу остался лишь арьергард Виктора для спасения безоружных. Но последнее оказалось трудно выполнимым делом.
Безоружным и отсталым представлялась несколько раз полная возможность перейти реку, но они не воспользовались ею и оказались сами виновниками своей гибели. Они могли переправиться ночью с 14 на 15 до боя с Витгенштейном. Но никакие силы не могли их поднять и вызвать из леса, где они расположились биваком. Когда же рассвело и стала переправляться гвардия, они явились к мосту и пожелали переправиться все разом. Получилось, конечно, страшное скопление и давка и многочисленные жертвы. «Первые ряды, теснимые теми, которые следовали за ними, или остановленные рекой, были раздавлены, смяты или сброшены на льдины, которые неслись по Березине. Из середины этой громадной и ужасной груды раздавалось то глухое ворчанье, то громкие крики, перемешанные со стонами и страшными проклятиями».
Только вооруженная сила водворила порядок. Несчастные были оттеснены, чтобы дать дорогу гвардии и императору, и вернулись в лес. Гром орудий Витгенштейна вновь вывел безоружных из оцепенения. В паническом страхе они ринулись к мостам, у которых произошла опять давка, смятение и наполняющие ужасом душу сцены. Уже все перемешались одни с другими, и эта громадная толпа, собравшаяся на берегу вперемежку с лошадьми и повозками, образовывала невероятное загромождение. Только к середине дня первые ядра неприятеля стали падать в самую середину этого хаоса; они послужили сигналом ко всеобщему отчаянию. В это время один мост рухнул, увлекая вместе со своими обломками людей и лошадей в воду, и толпа безоружных отхлынула к другому мосту, у которого вследствие давки и безумия людей, отчаявшихся в своем спасении, разыгрались еще более потрясающие сцены. Инстинкт самосохранения и животный страх не только заглушили в людях все человеческие чувства, но и лишили их рассудка. Сами того не сознавая, они толкали, топили друг друга и вместо спасения общими усилиями способствовали собственной гибели. «Женщины и матери тщетно призывали душераздирающим голосом своих мужей и своих детей, которых одно мгновение безвозвратно отделило от них; они протягивали к ним руки, они умоляли пропустить их пройти к ним, но увлеченные толпой, раздавленные этой живой волной, они падали, и этого даже не замечали. Среди этого ужасающего грохота, среди этого дикого стремления, пушечных выстрелов, рева бури, разрывающихся гранат, воплей, стонов, диких проклятий, эта беспорядочная толпа не слышала жалобных криков жертв, которых она поглощала». А в конечном итоге — бесполезные жертвы, упущение момента для переправы и возвращение вспять. На противоположном берегу — лишь немногие счастливцы, перешедшие по трупам своих товарищей и обломкам орудий и телег. Вся же остальная масса, за вычетом уже утонувших в Березине, — на этом берегу.
Между тем арьергард Виктора находился тоже на том берегу, и мосты, согласно распоряжению Наполеона, после этого надо было сжигать. Таким образом все неуспевшие переправиться, теперь обрекались на гибель, так как медлить было нельзя. Волю Наполеона выполнили в точности — мосты загорелись тотчас же, как арьергард Виктора ступил на правый берег Березины. «Тогда началось такое замешательство, которое трудно описать: пехота, конница, отсталые и все, что следовало за армией, женщины, дети, — все это бросилось толпой на мост, который уничтожили». Последствия были ужасны. Вместо спасения люди нашли себе здесь мучительную смерть.
«Ужасное зрелище представилось нам, — рассказывает в своих „Записках“ Чичагов, — когда мы 17 ноября пришли на то место, которое накануне занимал неприятель и которое он только что оставил: земля была покрыта трупами убитых и замерзших людей; они лежали в разных положениях. Крестьянские избы везде были ими переполнены, река была запружена множеством утонувших пехотинцев, женщин и детей; около мостов валялись целые эскадроны, которые бросились в реку. Среди этих трупов, возвышавшихся над поверхностью воды, видны были стоявшие, как статуи, окоченелые кавалеристы на лошадях в том положении, в каком застала их смерть». Среди этого поля мертвых попадались еще дышавшие, и наши казаки сумели отравить им последние минуты жизни. Не довольствуясь добычей с мертвых, они стаскивали платье с умирающих. «Эти несчастные громко кричали, им было очень холодно, и ночью, отдыхая в крестьянской избе, я слышал вопли их. Многие в борьбе со смертью силились перелезть ко мне через забор, но это последнее усилие окончательно убивало их, так что при выходе моем я нашел их замерзшими: одних с поднятыми руками, других с поднятыми ногами»… Впоследствии по распоряжению минского губернатора здесь было сожжено до 24.000 трупов.
В. Алексеев
Наполеон в Вильне (Музей П. И. Щукина)
V. Бегство Наполеона
В. П. Алексеева
Перегон от Березины до Ковно был последним испытанием для французской армии и вместе с тем концом ее уже не в военном только отношении, но и в физическом.
Ночной привал (Верещагина)
О порядке, о дисциплине в эту минуту, конечно, не могло быть никакой серьезной речи. «Все шли, как попало, кавалерия, пехота, артиллерия, французы и немцы; не было больше ни крыла ни центра. Артиллерия и обоз двигались сквозь эту нестройную толпу, не повинуясь никаким приказам, кроме одного: двигаться, как можно быстрее». И действительно, двигались быстро, точнее бежали, сколько хватало сил, не чуя под собой земли. «Мы спешили вперед, — говорит Фезензак, — не обращая внимания ни на нашу усталость, ни на скользкую почву под нашими ногами». Сто верст пути от Вильны до Ковно они прошли в три дня. По словам Сегюра, у солдат теперь даже «не было желания бороться с неприятелем — они стремились только победить голод и холод» (203).
Отступление французской армии через Вильну (Дамель)
Между тем враг следовал за ними по пятам, неотступно, безостановочно и притом двойной враг — в виде стихии и в виде русских войск. Особенно неумолим, неотступен и беспощаден был первый враг. Как раз после переправы погода переменилась, стало быстро холодать, и морозы достигли 27о. «Холод, по словам очевидца, проникал через кожу, мускулы, до мозга костей. Поверхность кожи становилась бела, как снег, а члены хрупки, как алебастр. Удароподобный припадок поражал нередко внезапно все тело, и труп, еще дышащий, делался неподвижным. Тогда можно было отламывать от него руки и ноги без малейшего усилия, и живой мертвец не чувствовал при этом никакой боли». Непривычные к холоду, и не зная, как от него спасаться, французы делались жертвой своей неопытности. Замерзали на ходу, засыпали навеки у костров и устилали своими трупами дорогу.
Другой враг — русские войска, тоже не давал пощады французам. Они следовали за бегущими с неменьшей быстротой и возрастающей стремительностью. «В первые дни, — по словам Чичагова, — мы были остановлены немного мостами, которые он (враг) сжег и истребил; но несколько часов достаточны нам были для исправления их» (из рапорта Чичагова главнокомандующему от 29 ноября — «Северная Почта», 1812 г.). Затем Чичагов «пошел форсированными маршами; авангард ни на минуту не терял его (неприятеля) из виду и выбивал его несколько раз, принуждая идти ночью и забирая у него пушки и пленных». Уничтожались последние остатки когда-то «великой», а теперь «умирающей и дезорганизованной армии». Преследование, по признанию самих французов, шло так энергично и быстро, что являлось опасение за целость императора.
В погоню за французами русские бросились тотчас же после переправы их.
Не успел французский арьергард оставить Зембин, как налетели казаки с тыла и флангов и выхватили из строя несколько человек, а следом за ними появился Чаплиц и взял 7 пушек и 400 пленных. Тот же Чаплиц, который, по свидетельству Чичагова, «особенно отличался и по стремительности и по неутомимости» преследования, на другой день вместе с Платовым оттеснили Виктора из Плещеницы и гнали его до Хотович, отбив при этом еще 6 орудий и 400 пленных. В следующие дни — новые нападения и новые потери французов — 2.000 пленных, 10 орудий и 2 штандарта. В Молодечне Чаплиц и Платов опять настигли Виктора и заставили его отступить за р. Ушу, потеряв 500 пленных и 8 орудий. В это время подоспел отряд Ермолова и вся дунайская армия, и в трех верстах за Молодечной Виктор был разбит окончательно. Его солдаты сами бросали ружья и сдавались. Он потерял всю артиллерию в числе 20 орудий и 2.500 пленными, т. е. арьергард перестал существовать. В Бенницах и Ошмянах повторилось то же с возобновленным арьергардом, от которого при Медниках уже ничего не осталось. «Со времени переправы через Березину до Вильны нам досталось 150 орудий, более 700 зарядных ящиков, фургонов и такое большое количество обозов, что дорога во многих местах ими завалена, два штандарта, несколько генералов и несколько тысяч пленных» (из того же рапорта Чичагова). Потерю в людях французами за то же время Чичагов исчислял в 30.000 человек, «не менее».
В окрестностях Ошмян 23 ноября 1812 г. (Фабер-дю-Фор)
Сам Наполеон быстро шел впереди своей армии. Но мысли его были заняты не армией, а другим. Он видел ясно неминуемую гибель армии и, не желая рисковать, ради обреченных насмерть этих жалких остатков, собой и своим престолом, решил бросить войска и ехать в Париж, чтобы там напомнить о себе, о своей власти и набрать новые войска для новой кампании. Отныне он уже не генерал «умирающей армии», а император, спешащий в свою столицу; 23 ноября в Сморгони Наполеон, пригласив к себе Мюрата, вице-короля, Бертье и всех маршалов, объявил им о своем решении. «Оставляю вас, — сказал он им, — чтобы привести триста тысяч солдат. Необходимо стать в такое положение, чтобы мы могли вести вторую кампанию, потому что первая война не кончилась одной кампанией». Причину своих поражений император видел в стихийных бедствиях и ошибках своих полководцев. В том же смысле был составлен и последний 29 бюллетень, отосланный 21 ноября в Париж, только в более приподнятом тоне и со смягчением красок. Командование армией перешло к Мюрату, который в ожидании возвращения императора с новыми войсками должен был, в свою очередь, собирать войска в Вильне, а Шварценбергу было предписано прикрывать в случае отступления Мюрата за Неман Варшаву и Гродно. Дипломатический корпус и казна переместились в польскую столицу.
Из Сморгони Наполеон ехал в карете на полозьях в сопровождении Коленкура и небольшого конвоя. Быстро миновал он Ошмяны, повидался с военным министром в Медниках и утром 24 ноября был уже в Вильне. Неотступное преследование русских не дало ему возможности остаться некоторое время здесь. И он, не въезжая в город, переменил только лошадей и отбыл в Ковно. 26 прибыл в Варшаву, откуда, ободрив поляков новой кампанией, через Дрезден и Майнц добрался, наконец, в ночь с 6 по 7 декабря до Парижа — «в самом мрачном и печальном настроении».
Между тем оставленная своим вождем армия продолжала двигаться и гибнуть. Отъезд императора произвел здесь взрыв негодования. Когда узнали, что он передал начальство над армией Мюрату и уехал в Париж, то поднялся общий крик негодования. «Самые спокойные и умеренные люди выходили из себя; если бы кто-нибудь нашел в себе достаточно мужества, чтобы провозгласить низложение императора, то все признали бы этот факт».
Ближайшим же последствием оставления Наполеоном своей армии было еще большее разложение ее и быстрая гибель. Присутствие императора при всей дезорганизации и деморализации войск все же поддерживало хотя бы тень организации, спаивало их в «армию Наполеона». Одни испытывали страх перед императором, у других осталось обаяние личности его, в других теплилась надежда на гений великого полководца и таким образом они теснились около него и шли за ним. Когда же Наполеон бросил армию, объединяющий центр исчез, а вместе с ним исчез и последний нравственный ресурс. Никто из маршалов не мог заменить императора и не могущая теперь быть остановленной нравственным авторитетом деморализация и дезорганизация достигли быстро таких чудовищных размеров, до которых, кажется, не доходила ни одна армия.
«С тех пор, — рассказывает Сегюр, — не стало братства по оружию, не стало товарищества, все связи были порваны! Невыносимые страдания лишили всех разума. Голод, мучительный голод довел этих несчастных до такого состояния, что они знали только животный инстинкт самосохранения, единственное чувство самых свирепых животных; этому инстинкту они все готовы были принести в жертву. Казалось, что во всех проявилась яростная, дикая и варварская природа какого-то неведомого существа. Подобно дикарям более сильные грабили более слабых; они сбегались толпой к умирающему и часто не ждали даже его последнего вздоха. Когда падала лошадь, то казалось, что около нее собралась голодная стая волков; они окружали ее, разрывали ее на части и дрались из-за нее, как хищные звери».
Отъезд Наполеона из России (Гайон)
Ели друг друга. Сегюр был свидетелем сцены людоедства у костра. Он видел, как солдаты «подтащили к себе обезображенные, обугленные пламенем трупы (своих погибших в огне товарищей) и… осмелились поднести к своему рту эту отвратительную пищу».
Сараи и лачуги брались с боя закоченевшими людьми, и из-за ночлега в них разыгрывались ужасные по своей дикости сцены. «Там, как звери, они лезли один на другого, стараясь пробиться к огню; живые, не имея возможности удалить мертвых от очага, садились на них и погибали в свою очередь, чтобы послужить смертным одром для новых жертв! Скоро появлялись новые толпы отставших, и, не имея возможности проникнуть в это убежище скорби, они начинали его осаждать».
Наполеон покидает армию (Розен)
Суровей стала с отъездом Наполеона и погода. Усилились морозы. «Сам воздух, казалось, замерзал: птицы падали на лету замерзшими. Атмосфера была неподвижной и немой; казалось, все, что двигалось и жило в природе, даже ветер, было подавлено и скомкано, как льдом, среди этой мировой смерти. Не слышалось больше слов, не слышалось ропота, всюду царило угрюмое молчание».
«Все двигались в этом царстве смерти подобно жалким призракам. Глухой и монотонный гул наших шагов, треск снега и слабые стоны умирающих, — одни прерывали это глубокое, гробовое безмолвие».
Люди шли и тут же на ходу умирали, смерть их была ужасна. «От сильного мороза, — по словам Сегюра, — кровь замерзала, как вода, деятельность сердца слабела, люди начинали шататься, как пьяные, делая неимоверные усилия, чтобы удержаться на ногах».
«Из их глаз, красных и воспаленных, благодаря отсутствию солнечного света и влиянию бивачного дыма, вытекали настоящие кровавые слезы; глубокие вздохи вырывались из их груди; они смотрели на небо, на нас и на землю взором ужасным, неподвижным и свирепым; это было их последним прощанием с этой варварской природой, которая их подвергала таким пыткам и, быть может, — их упреком! Скоро они начинали ползти на коленях, потом становились на четвереньки; их голова покачивалась еще несколько минут направо и налево, и из их раскрытого рта вырывались еще какие-то предсмертные звуки; потом, в свою очередь, они падали на снег, который тотчас же окрашивался их жидкой кровью, и их страдания кончались».
До такого состояния дошла армия Наполеона в последние дни своего существования.
Конец похода, прекращение преследования и отдых составлял их самое главное желание. Ноги отказывались двигаться, бегство делалось невозможным, переставало быть спасением, и, когда показалась Вильна, у всех из груди вырвался вздох облегчения. Французы думали, что здесь русские остановят свое преследование и мучения их прекратятся. В Вильне много запасов — они отдохнут и подкрепятся перед тем, как вернуться домой.
Действительность, однако, жестоко разбила мечты этих несчастных, обессилевших людей. Конец преследования и их испытаний был дальше, чем они предполагали, и в Вильне им не удалось ни подкрепиться, ни отдохнуть.
«Десять часов были мы в пути, — рассказывает один из участников похода, — и ощущали невероятную усталость. Холод был невыносим. Я узнал после, что мороз доходил до 20 градусов. Мы спешили войти в город, но каково же было наше удивление, когда вооруженные люди останавливают нас у ворот и объявляют нам, что вход разрешается только стройным отрядам. Толпа останавливалась и росла с минуты на минуту. Тот, кто попадал в нее, не в состоянии был уже выбраться. Солнце начинало садиться; становилось все холоднее и холоднее. То и дело прибывали новые массы. Умирающие и мертвецы мешались с живыми. Мы решились, наконец, пробраться в город окольными путями».
Но и проникновение в город не принесло ничего утешительного. Прием, оказанный жителями Вильны воинам «великой армии», далеко не соответствовал их ожиданиям. Здесь не знали об участи наполеоновской армии, и, когда увидали оборванцев с отмороженными руками и ногами и исступленным взором, запрудивших улицы, то с ужасом отвернулись от них. Из опасения грабежа и насилия виленцы спешно запирали магазины и укрывались в домах. «Было грустно видеть тогда, как эти несчастные солдаты бродили по улицам, одни полные ярости; другие отчаяния, угрожая, умоляя, стараясь войти в двери домов, или магазинов, или медленно направляясь в больницы, и отовсюду их гнали!»
При своих огромных запасах, Вильна могла бы всех одеть и накормить. Но вместо этого пришедшие сюда нашли себе здесь смерть от холода и голода. А те, которых еще пощадила смерть, должны были, собрав последние силы, продолжать бегство.
Неприятель был близко. Французы едва только вступили в Вильну (26 ноября), как раздались пушечные выстрелы. Оставаться в городе было немыслимо, сопротивляться тем более. И Мюрат отступил со штабом из Вильны в ковенское предместье. Нею же приказал все-таки держаться. Ней, действительно, продержался несколько часов, но потом так быстро отступил, что не успел уничтожить припасов и бросил на произвол судьбы всех больных и раненых. По подсчету, сделанному Кутузовым после вступления в Вильну, здесь в разных магазинах оказалось ржи 14.000 четвертей, сухарей и муки 50.000 четвертей и «весьма значущие запасы мундиров, ружей, сум, седел, шинелей, киверов и прочих комиссариатских вещей»[202]. Пленниками же достались по подсчету Кутузова же — 7 генералов, 18 штаб-офицеров, 224 обер-офицера, 9.517 нижних чинов и 5.139 больных в госпиталях. По подсчету других, полон простирался до 20.000 одних больных и раненых.
Отъезд Наполеона (Шельминский)
Крики «казаки» моментально подняли на ноги всех, и следом за быстро отступившими французами появился Платов со своим отрядом. Французы устремились на ковенскую дорогу, чтобы укрыться от преследования в этом городе. Но в 6 верстах от Вильны их задержала Понарская гора, и здесь был уничтожен совершенно арьергард Нея — четвертый уже после Вязьмы.
Гора сама по себе была невелика, но она обледенела, а обойти ее в первый момент обезумевшие от страха французы не догадались. И, прежде чем гору, наконец, обошли, здесь образовалось страшное скопление и давка, напоминавшая очевидцам Березинскую переправу. Гора была вся «покрыта разбитыми и опрокинувшимися повозками и пушками, упавшими лошадьми и людьми, умиравшими одни на других». Пятнадцать часов бились около этой горы, чтобы перейти ее, и, только убедившись на опыте в тщетности усилий, решили обойти ее. Но идти со всем обозом, со всем имуществом, когда неприятель шел по пятам, было немыслимо. Ради спасения пришлось пожертвовать всем, что еще уцелело из вывезенного из Москвы.
И здесь была брошена последняя артиллерия, почти все обозы, императорские экипажи, армейская казна, знамена и все драгоценности, захваченные в Москве.
Бросили с тем, чтобы поскорей уйти от неприятеля. Но вместо этого произошла задержка, и неприятель настиг французов у Понарской горы. Вид брошенных на произвол судьбы драгоценностей пробудил в самих же французах-солдатах и безоружных корыстные чувства, они бросились на вещи, и, перед лицом смерти, начался грабеж. «Раскрывшийся денежный ящик послужил сигналом; все бросились к повозкам; их разбили, вытащили оттуда самые дорогие предметы. Солдаты арьергарда, проходившие около этой сутолоки, бросили свое оружие, чтобы завладеть добычей; они дрались из-за нее с таким ожесточением, что не слыхали свиста пуль и криков казаков, которые их преследовали».
Преследователи при этом присоединились к преследуемым и приняли участие в грабеже. «Видели русских и французов, забывших о войне и грабивших вместе один и тот же ящик. Пропало на 10.000.000 золота и серебра!»
Платов, чтобы отрезать французам отступление, занял ковенскую дорогу и открыл убийственный артиллерийский огонь. Совершенно этим он не преградил пути отступавшим, — французы все-таки добрались до Ковно. Но казаки, согласно донесению Кутузова, захватили 1 генерала, до 30 офицеров и более тысячи нижних чинов, 28 пушек и очень много обозов. Командир же арьергарда Ней явился в Ковно только с небольшой горстью солдат.
Малоотрадная картина ждала здесь Нея.
«Несколько тысяч солдат было на площади и на прилегавших улицах, но они лежали замерзшими перед винными магазинами, которые они разгромили; они нашли смерть там, где они искали жизни! Это было единственное подкрепление, которое было ему доставлено Мюратом».
Сам Мюрат оставил Ковно 1 декабря и того же числа подошел сюда Платов.
Новая паника, бегство и скопление на неманском мосту солдат было следствием вступления казаков в Ковно. Нею, которому Мюрат опять поручил, как и в Вильне, держаться, предстояла неразрешимая задача — отстоять город в виду превосходного неприятеля с обессилевшими и опьяневшими солдатами. Он, однако, не остановился перед этой задачей и обнаружил необыкновенное мужество и твердость.
Отряд партизанов (Столетие Военного Министерства)
Поставив на Алексотенских высотах орудия, он с остатком арьергарда стал отстаивать свою позицию. Солдаты плохо слушали своего командира, не проникались его героизмом и одушевлением. Часть солдат даже бросилась бежать при первых пушечных выстрелах неприятеля.
Тогда Ней, выхватив ружье у одного из бежавших солдат, повел сам их в наступление, и казаки даже отступили.
Но Платов послал два отряда казаков в обход французской позиции. И когда Ней, оставив Алексотен, стал по льду переходить Неман на другую сторону, то солдаты передовой колонны, уже взобравшиеся на подъем, вдруг повернули и с криком бросились бежать назад. Они наткнулись там на казаков. Таким образом путь отступления оказался неожиданно отрезанным, и панический страх охватил солдат, считавших себя уже в безопасности.
Только сам Ней не потерялся, сохранил твердость и бился, пока была возможность, до ночи. С наступлением же ночи он, пользуясь темнотой, с оставшимися солдатами пробрался вдоль берега Немана и укрылся в лесу. Бегство для них было единственным спасением. И они бежали «так поспешно в течение целого дня и ночи, что многие солдаты, выбившись из сил, падали в пути».
В Вильковишки, где находился Мюрат, Ней явился почти в единственном числе.
3 декабря Ковно было в руках русских, и Платов отслужил благодарственный молебен на городской площади.
Теперь французы, бежавшие из Ковно частью к Тильзиту, частью к Вильковишкам, были за пределами русского государства, и цель кампании — изгнание врага из России, была достигнута.
Через границу перешло из 600.000 человек «великой армии» от 400 до 450 старой гвардии, 600 гвардейской кавалерии и 9 орудий артиллерии, т. е. ничтожная горсть.
Русская армия тоже понесла значительные потери. Из ста тысяч человек и 622 орудий главной армии в момент выступления из Тарутина через два месяца к приходу в Вильну, осталось 27.464 человека и 200 орудий (не считая войск непоказанных в ведомостях), всего же около 42.000. Из дунайской армии, прибывшей к Березине в числе 32.000, к Вильне подошло 17.454 чел. с 156 орудиями. Из корпуса Витгенштейна к тому же времени вместо 40–42 тысяч было 34.483 чел. и 177 орудий.
30 ноября прибыл в Вильну главнокомандующий. Чичагов встретил его рапортом и поднес городские ключи. А 11 декабря сюда же приехал Александр I и в тот же день наградил Кутузова Георгием 1-й степени. 12 декабря победа над французами была отпразднована обедом, за которым палили из французских пушек, и балом, на котором Кутузов поверг к ногам императора два отбитых Платовым французских знамени.
В. Алексеев
Медальоны гр. Ф. П. Толстого
Вожди Русской армии (Портреты в Зимнем дворце)
Галерея портретов деятелей 1812 г. в Зимнем дворце
Г.-л. А. И. Альбрехт
Г.-л. М. А. Арсеньев
Г.-л. И. И. Алексеев
Г.-л. П. И. Балабин
Г.-л. И. А. Аргамаков
Г.-л. М. Д. Балк
Г.-от-инф. А. Н. Бахметев
Г.-от-инф. Г. М. Берг
Г.-от-инф. К. И. Бистром
Г.-л. А. И. Бистром
Г.-от-кав. Н. М. Бороздин
Г.-л. барон К. В. Будберг
Г.-м. А. П. Великопольский
Г.-л. Г. П. Веселитский
Г.-от-инф. И. А. Вельминов
Г.-л. Е. И. Властов
Г.-м. А. В. Воейков
Г.-м. М. М. Волков
Г.-л. Н. В. Вуич
Г.-л. Ф. Г. Гоголь
Г.-л. А. Ю. Гамен
Г.-м. С. Г. Гангеблов
Г.-м. В. И. Гарпе
Г.-л. Б. Б. Гельфрейх
Г.-от-кав. П. В. Голенищев-Кутузов
Г.-от-кав. Д. В. Голицын
Г.-м. Н. В. Дехтерев
Г.-л. Ф. Ф. Довре
Г.-м. гр. О. Ф. Долон
Г.-от-кав. бар. И. М. Дука
Г.-м. И. Н. Дурново
Г.-л. И. З. Ершов
Г.-м. А. А. Ефимович
Г.-м. В. В. Ешин
Г.-от-инф. граф А. А. Закревский
Г.-л. А. П. Засс 1-й
Г.-л. А. П. Засс
Г.-м. Т. И. Збиевский
Г.-м. Ф. В. Зварыкин
Г.-л. С. Ф. Желтухин 1-й
Г.-л. П. Ф. Желтухин 2-й
Г.-л. А. С. Жемчужников
Г.-м. Д. Л. Игнатьев
Г.-л. В. Д. Иловайский 12-й
Г.-от-инф. И. Н. Инзов
Г.-л. П. И. Каблуков
Г.-л. К. Ф. Казачковский
Г.-л. Е. Ф. Керн
Г.-м. бар. К. Ф. Клод фон-Юргенсбург
Г.-л. П. Я. Корнилов
Г.-л. Ф. К. Корф
Г.-л. В. Г. Костенецкий
Г.-л. А. Я. Княжнин
Г.-от-инф. Б. Я. Княжнин
Г.-л. И. В. Кретов
Г.-л. М. К. Крыжановский
Г.-м. А. П. Кутузов
Г.-от-кав. гр. К. О. де-Ламберт
Г.-от-кав. А. П. Никитин
Г.-л. З. Д. Олсуфьев 1-й
Г.-м. Н. Д. Олсуфьев 2-й
Г.-м. К. Ф. Ольдекоп
Г.-л. А. Е. Пейкер
Г.-м. И. Л. Поль
Г.-от-инф. Б. В. Полуэктов
Г.-л. М. И. Понсет
Г.-л. Я. А. Потемкин
Г.-м. А. А. Протасов
Г.-м. Р. Е. Репин
Г.-л. барон Ф. Ф. Розен
Г.-м. И. П. де-Росси
Г.-м. В. Д. Рыков
Г.-л. М. Н. Рылеев 1-й
Г.-м. А. Н. Рылеев
Г.-от-арт. барон К. Ф. Левенштерн
Г.-м. Ф. Ф. Левиз
Г.-л. Г. И. Лисаневич
Г.-м. П. Г. Лихачев
Г.-м. Г. А. Луковкин
Г.-м. Д. В. Лялин
Г.-л. кн. В. Г. Мадатов
Г.-м. А. Т. Маслов
Г.-м. Ф. И. Маслов
Г.-м. М. Н. Манцев
Г.-м. В. П. Мезенцов
Г.-л. А. П. Мелисино
Г.-м. П. И. Мерлин
Тайн. сов. Д. М. Мордвинов
Г.-м. М. Ф. Наумов
Д. т. с. П. И. Нейдгарт
Г.-от-кав. Ф. П. Уваров
Г.-м. И. Ф. Удом 1-й
Г.-л. Е. Е. Удом 2-й
Г.-л. А. С. Уманец
Г.-от-инф. П. Н. Ушаков
Г.-м. П. А. Филисов
Г.-л. А. Б. Фок
Г.-л. князь С. А. Хилков
Г.-от-инф. князь Н. И. Хованский
Г.-от-инф. М. Е. Храповицкий
Г.-л. А. И. Цвиленев
Г.-л. П. Н. Чокглоков
Г.-м. Г. К. Шеле
Г.-м. П. П. Шрейдер
Г.-м. Д. М. Юзефович
Г.-от-инф. Ф. Ф. Эртель
Г.-от-инф. А. Я. Рудзевич
Г.-от-инф. И. В. Сабанеев
Г.-от-инф. Е. Я. Савоини
Г.-л. И. Т. Сазонов
Г.-м. Ф. В. Сазонов
Г.-л. Ф. И. Сандерс
Г.-л. Н. М. Свечин
Г.-л. Н. И. Селявин
Г.-л. Н. М. Сипягин
Г.-м. А. А. Скалон
Г.-м. М. Ф. Ставицкий
Г.-м. С. Х. Ставраков
Г.-л. Н. С. Сулима
Г.-л. гр. П. П. Сухтелен 2-й
Г.-от-кав. князь В. С. Трубецкой
Г.-л. П. П. Турчанинов 1-й