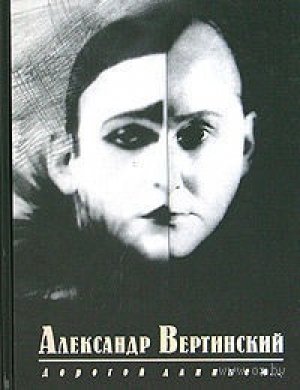
В Киеве
Было это в Киеве, в дни моей юности. Был я тогда худ и светловолос необыкновенно. Прямо был до жалости блондин. А виски зачесывал не как все, а «из протеста» — наружу, к носу.
Знавал я в те годы одного симпатичного парня. Фамилия его была, кажется, Ковальчук. Писал он ладные вывески, малярил, но в душе считал себя художником и не понятым слепой и завистливой толпой талантом. Был Ковальчук громадного роста и такой же силы, а жену имел маленькую, щупленькую, но ядовитую, как стрихнин. Самое удивительное, что эта маленькая, худенькая женщина била гладиатора Ковальчука без всякой пощады, а он кротко подчинялся выходкам фурии. Иногда только, когда вконец исчерпывалась его воловья кротость, Ковальчук переходил в наступление. Тогда он усаживал свою крохотную жену на верхушку высокого шкафа и держал ее там до тех пор, пока она не просила прощения.
Случилось как-то, что я долго, несколько месяцев, не встречал Ковальчука. И вот однажды в нежный весенний день бреду я по Крещатику и слышу, что меня окликают. Поворачиваю голову и вижу перед собой здоровенного парнюгу с узелком в руке. Из узелка заманчиво выглядывают горлышки двух бутылок.
— Ковальчук! Какими судьбами?
— Саня! — говорит он упавшим голосом. — Саня, друг, пойдем.
— Куда пойдем?
— К ней… — Взор Ковальчука заволакивается слезой, рот кривится в горькую гримасу. — К ней… К Дунечке моей… Помянуть ее…
— Как помянуть?.. Да ты что? С утра, что ли, еле можахом?
Краткий разговор выясняет, однако, что Дунечка действительно уже три месяца как умерла. Заболела, слегла и умерла. Бог дал, Бог и взял.
— Жалко, — говорю я. — Очень жалко. А что это у тебя в узелке?
— Водка… И закуска… Сегодня ведь поминальный день. Пойдем помянем.
Дело было молодое, времени свободного у меня было больше всего, и мы пошли. Пришли на кладбище, пришли к указанной Ковальчуком могилке, сели. Развязали узелок, вынули две бутылки водки. Вся закуска оказалась всего-навсего из двух кусков сахару. Стали выпивать. Опрокинем стаканчик, куснем или лизнем сахару и — опять.
— Дунечка… — стонет Ковальчук, — Дуняша, цветик мой… Кохана моя… Саня, Саня, ты помнишь, как я любив, как я обожав?
— Угу… — неопределенно отвечаю я, вспоминая сцены со шкафом. — А ты что ж, сам, что ли, памятник-то поставил?
— Сам, — всхлипывает Ковальчук. — Сам… Все своими вот этими руками. Выпьем, Саня!
Тем временем первая бутылка подходит к концу и открывается вторая.
— Я тебя прошу… — надрывно стонет Ковальчук. — Я тебя прошу, Санька, копни ты дырочку в могиле… Копни пальцем, я тебя прошу… Уважь!
— Да зачем?
— А мы ей водочки нальем… Ей… Дуняше… Коханочке… Пусть и она выпьет… Пусть…
Я выкапываю ямку, Ковальчук наливает водку. Сухая земля быстро впитывает влагу.
— Ишь ты! — вдруг восхищенно восклицает приятель. — Как выпила, а? Всегда горилку, стерва, любила…
Но ничто не вечно под луной, и вторая бутылка подходит к концу. Скепсис, сомнение закрадывались в мою душу.
— Не может быть… — замечаю я. — Неужели ты все сам сделал — и памятник, и оградку?
— Все! Все! — кричит Ковальчук со страшным рыданием в голосе. — Усе сам зробыв! И могилку, и оградку. И здесь усе мое творчество! И дощечку сам своими руками напысав. Читай! Смотри!..
Я поднимаюсь, приближаю глаза к дощечке и читаю:
Здесь покоится прах
действительного статского
советника Никифора
Серапионови…
— Ковальчук?.. В чем же дело?!
Мой приятель выдерживает длинную мастерскую паузу, которой бы позавидовали даже в Московском Художественном театре. Потом чешет в затылке. Поводит мутным взглядом. И говорит:
— Господа-а!.. Так это ж нэ та могыла…
Картина.
Концерт в городишке Килия
Во время гастролей по Румынии заехал я в крохотный захолустный городишко, который найдешь разве на редкой карте, — Килия. Принадлежала эта замечательная Килия до революции России, а поэтому и сейчас господствующий язык там русский, хотя господствующее население — еврейское.
Петь мне в этом городишке пришлось в ветхом деревянном бараке, подслеповато освещавшемся керосиновыми лампами, но гордо именовавшемся «театром».
Вышел я в своем фраке на не очень прочные подмостки, и первое, что бросилось мне не только в глаза, но и в нос, — это десяток небольших керосиновых лампочек, расставленных вдоль рампы. Лампы коптят, и от едкой копоти нестерпимо свербит в носу и хочется чихать.
В зале от публики — черно. В первом ряду около дамы с на редкость обширными и выдающимися формами жмется рахитичный ребенок с плаксивым выражением лица.
— Ма-а-ма-а-а! — нудным голосом тянет он. — Ма-ама-а! Я хочу-у-у…
Вы понимаете, какое прекрасное сразу создается у меня настроение.
Из зала кричат:
— «Песню за короля»! «Ваши пальцы пахнут ладаном»!..
Я не могу больше переносить угара от ламп, присаживаюсь на корточки, прикручиваю фитили.
— «Ваши пальцы пахнут ладаном»! — настаивает неизвестный из темноты. А другой, обладатель гнусавого козлиного тенорка, замечает:
— Нет… Теперь они уже пахнут из керосином!
— Мамааа-а!.. — Тянет нудный мальчик. — Я хочу-у-у…
Но делать нечего. Контракт подписан. Сбор сделан. Надо петь. Я пою одну, другую, третью свою песенку. Зал кричит, шумит, рукоплещет. И вдруг… И вдруг я замечаю, что зал постепенно начинает пустеть. Ряды слушателей редеют больше и больше. Что такое? Я ничего не понимаю. А публика все убывает. Но я пою. Контракт подписан. Контракт должен быть выполнен. Я пою и замечаю, что куда-то исчезавшая публика начинает возвращаться. Еще пять, десять мину и опять перед мною полный зал. Опять от публики черно. Я подхожу к своей последней песенке, а публика не желает меня отпускать.
— За короля… Спойте за короля!.. — ревут сотни голосов. И среди них я все так же различаю тоненький и нудный голос мальчика:
— Мама-а-а, я хочу-у…
Я очень редко говорю со сцены с публикой, но тут я решаюсь на разговор:
— Господа, — говорю я, — у меня нет «Песни за короля», у меня есть «Песня о короле». Но я ее уже пел сегодня.
Тогда происходит следующий диалог:
— Позвольте, — кричат из публики, — но мы же ее не слышали.
— Почему вы не слышали?
— Так мы же уходили.
— А почему уходили?
— Ой, он спрашивает, почему мы уходили! Так это же все знают! Так мы уходили на пожар…
— Какой пожар?
— Ой, посмотрите на него, он не знает, какой пожар! Конечно, у Мунделевича пожар. У Доди Мунделевича в аптекарском магазине, что за углом.
— Но зачем вы бегали на пожар?
Общий вопль потрясает старый барак:
— Ха!.. Зачем!.. Так вы-то еще поете, а Мунделевич уже сгорел. Так Мунделевич же не каждый день горит. А?.. Ясно?
Уступая темпераментным килийцам, я спел им еще раз «Песню о короле». Но перед этим не удержался и сказал:
— Хорошо. Я спою. И в последний раз… Слышишь, мальчик? А потом ты пойдешь туда, куда тебе так хочется…
О Ю. Морфесси
За границей, в эмиграции, было много наших русских актеров, но я не помню ни одного, который бы в искусстве двинулся вперед, оторвался бы от того, чему он выучился когда-то.
Мой приятель — Юра Морфесси — в свое время имел большой успех в Петербурге как исполнитель цыганских романсов. Но, попав в эмиграцию, он никак не мог сдвинуться с мертвой точки прошлого.
— Гони, ямщик!
— Ямщик, не гони лошадей!
— Песня ямщика!
— Ну быстрей летите, кони!
— Гай-да тройка!
— Эй, ямщик, гони-ка к Яру! и т. д.
— Юра, — говорил я ему, — слезай ты, ради Бога, с этих троек… Ведь их уже давно и в помине нет. Кругом асфальт. Снег в Москве убирают машины…
Куда там! Он и слышать не хотел. И меня он откровенно презирал за мои песни, в которых, по его выражению, ни черта нельзя было понять. И ненавидел моих поклонников. В остальном мы с ним были как будто в неплохих отношениях. Я всегда по-товарищески устраивал и рекомендовал его в те места, где пел сам, и часто мы выступали в одном и том же учреждении. Как только во время своего выступления я открывал рот, он вставал и демонстративно выходил из зала. При нем нельзя было даже говорить о моем творчестве, а уж тем более хвалить меня. Помню, однажды в «Эрмитаж», где я пел, пришел Федор Иванович Шаляпин с инженером Махониным (который изобрел какой-то «карбурант» — нечто вроде синтетического бензина), богатым и неглупым человеком. Федор Иванович заказал себе солянку с расстегаями и ждал, пока ее приготовят. Увидев Шаляпина, я отчаянно перетрусил: петь в его присутствии у меня не хватило бы наглости — поэтому я убежал и спрятался, извините за выражение, в туалете. Каков же был мой ужас, когда открылась дверь и Федор Иванович громовым голосом сказал:
— А! Вот вы куда от меня спрятались! Нет, дорогой, дудки! Пожалуйте петь! Я из-за вас сюда приехал!
Юра стоял тут же и видел эту сцену. Он позеленел. А Федор Иванович бесцеремонно взял меня за руку и повел на эстраду. Что было делать? Пришлось петь.
Первой песней моей было «Письмо Есенина», «До свиданья, друг мой, до свиданья!», написанное в том году.
Шаляпин слушал и… вытирал слезы платком (клянусь вам, что это не актерское бахвальство, а чистая правда). Инженер Махонин сказал ему (так, что я слышал):
— Федор Иванович, солянка остынет.
Шаляпин отмахнулся от него и вдруг, совсем отодвинув стул от своего стола, попросил:
— Еще, дорогой. Пой еще!
Девять песен вместо положенных трех я спел ему в этот вечер. Солянку унесли подогревать. Потом я сидел с ним до закрытия, и с этого началась наша дружба с Федором Ивановичем, если я смею назвать это дружбой.
Юра не мог пережить этого и совсем не пел от злости в этот вечер. Он ушел домой, сославшись на расстройства желудка.
А однажды ко мне в «Эрмитаж» пришел знаменитый шахматист Алехин. Он любил мои песни и не скрывал этого. У него были все мои пластинки. Пригласив меня за свой столик, он позвал также Юру, предварительно спросив меня не имею ли я чего-нибудь против. Я, конечно, ничего не имел. Разговор зашел обо мне и о моей последней песне только что напетой в «Колумбии», — «В степи молдаванской». Алехин говорил, что самое ценное в моем творчестве — это неугасимая любовь к родине, которой пропитаны все мое песни, ну и еще кое-что, что я опускаю. Юра долго терпел все это, потом, не выдержав, обрушился на меня таким потоком злобы, ненависти, зависти и негодования, что даже покраснел и начал задыхаться. Алехин опешил. Я молчал. Мне неудобно было говорить о самом себе. И притом никто не обязал любить мое искусство. У каждого свой вкус. Но Алехин возмутился.
— Вы позволяете себе обливать грязью моего друга, — сказал он ему и встал при этом. — Я попрошу вас немедленно покинуть мой стол!
Юре ничего не оставалось, как только встать и уйти. Что он и сделал. В дальнейшем мы продолжали служить вместе. Он вел себя так, как будто этого не было. Я тоже делал вид, что ничего не случилось. Но однажды в откровенной беседе с ним, где-то в кафе, куда мы ходили после работы, я сказал ему:
— Ты не понимаешь моих песен потому, что, во-первых, ты необразован; во-вторых, ты никогда ничего не переживал в своей жизни, ты не знаешь, ни что такое боль, ни что такое страдания, ни что такое печаль, тоска, душевные муки. Ты не знаешь, что такое родина и тоска по ней. — И постепенно обозлеваясь, вероятно, не без влияния алкоголя, я сказал ему: — Ты, Юрочка, старый «супник»! У тебя всегда можно было купить любовницу, «встретиться» с женщиной на твоей квартире. Ты всю жизнь пел по «отдельным кабинетам» и получал «в руку» — «на чай» — от богатых людей. Ты человек, воспитанный, так сказать, «при чужой рюмке водки». Откуда тебе понимать человеческие чувства? Вот когда с тобой случится беда, горе какое-нибудь, ты, может быть, тогда и поймешь что-нибудь во мне!
Он чуть не убил меня за эти жестокие слова, замахнувшись бутылкой. Но нас развела публика. На этом наши отношения как будто прекратились. Но окончились они все же иначе.
Однажды, съездив в Белград на гастроли, Юра познакомился с девицей огромного роста (выше меня на голову), которая была участницей белого движения. Звали ее по-военному — «Танька-Пулемет». Она была намного моложе Юры и была женщиной решительной и энергичной. Она сразу прибрала его к рукам. Юра влюбился в нее. Влюбился «жестоко и сразу» — он любил «большие куски», как в еде, так, очевидно, и в любви. Уже сильно постаревший к тому времени, этот бывший «лев» был весьма быстро «перестрижен» ею в смирного «пуделя». Она командовала им и третировала его. Женившись на ней в Белграде, где он отбил ее у богатого серба, не пожелавшего жениться на ней, он привез ее в Париж. Это был ход со стороны женщины, которая сыграла на самолюбии своего богатого любовника. А Юра был козлом отпущения. Любовник взвыл. Она нанесла сильный удар! В конце концов он приехал за ней в Париж, они, по-видимому, встретились, и… эта особа, которую, кстати, мы называли «молодая лестница», в один прекрасный день, когда Юра был в поездке, бросила его и уехала в Белград, предварительно начисто ограбив, продав все его имущество, даже квартиру со всей мебелью. Юра затосковал… И как! Он даже похудел от горя… Это было его первое душевное потрясение.
Как-то вечером он пришел в то место, где я пел. Заказав себе вина, он волей-неволей вынужден был слушать столь ненавистное ему мое пение.
Я пел довольно безобидный вальс — «Дни бегут». Там есть такие слова:
Наконец я кончил. Юра встал и подошел ко мне. По лицу его ручьями текли слезы.
— Прости меня! — только и мог произнести он.
Я простил.
История с собакой
…Три события потрясли Париж. О них, захлебываясь, писали газеты, не щадя красок, фантазии и темперамента. Первым был «Полет Икара», как его окрестили парижане. Однажды утром поезд президента республики подходил к дебаркадеру какой-то небольшой станции. Президент стоял у окна, высунувшись из него до пояса. По-видимому, машинист паровоза неудачно затормозил состав, и… президент вылетел на платформу как был — в полном «дезабилье», т. е. в одних подштанниках, — прямо на руки ожидавших его приезда депутатов. Три недели все куплетисты Монмартра и Монпарнаса воспевали этот изумительный полет главы правительства.
Поэт Дон Аминадо, отдавая дань этой божественно легкомысленной расе, патетически восклицал:
Событие сие надолго оттеснило на второй план политические события того времени.
Вторым сенсационным событием было возвращение знаменитой парижской «ведетты» Мистангет, ездившей на гастроли в Америку. Уехав туда на три года, она вернулась через три месяца. По-видимому, ее там «не поняли». Кстати, в это время ей шел 75-й год, что, впрочем, не мешало ей блистать на сцене. В Париже женщина не имеет возраста и до сорока лет вообще считается «подростком». Молодых женщин парижане не любят.
Парижане — прирожденные конферансье. Стоя на углу бульвара Распай, я однажды слышал следующий разговор двух уличных продавцов, из которых один продавал подтяжки, а другой — пятновыводчик. Каждый из них расхваливал свой товар, ловко пересыпая свою речь злободневными остротами на политические и иные темы.
— Ты слышал, Жан, — кричал один из них другому, — американцы с нас требуют военные долги? А? Что ты на это скажешь?
— Хороши союзнички! — не переставая освежать пятновыводчиком чью-то грязную фуражку, отвечал Жан. — Чего они от нас хотят в конце концов, эти янки? Мы же им послали Мистангет! — возмущался он.
— Да, но ведь они ее нам вернули! — добросовестно пояснял первый.
— Ну и что же из этого? Мы ведь их об этом не просили, — спокойно парировал Жан.
Толпа грохотала, французы любят шутку. Товар распродавался легко.
А третьим событием была «История бедного Фифиса». Это уже — мировая сенсация. Дело в том, что одному профессору медицины — крупному французскому ученому, проводившему опыты над животными, — понадобилось испробовать свою вновь изобретенную сыворотку на собаке. Поймав где-то на улице приблудившегося фокстерьера, «рассеянный» профессор привел его в свою лабораторию и сделал ему прививку. До сих пор все шло благополучно, однако безутешная владелица пропавшего фокстерьера вскоре разнюхала эту историю и подала на профессора в суд. Парижане заволновались. Эдак каждой собаке может грозить подобная опасность! Сердобольные хозяйки всех этих «жужу» и «бижу» проливали горючие слезы над судьбой фокстерьера, прижимая к сердцу своих любимцев.
— «Повр фифис» — бедный Фифис! — рыдая, восклицали они.
Поймав профессора где-то на улице, они забросали его камнями. В письмах откровенно угрожали его жизни, консьержки, лавочницы, молочницы и домашние хозяйки требовали для него суда Линча.
За профессора вступилась пресса. Ведь это же на пользу человечества! Газеты раздували мировой пожар. Печатались статьи знаменитых собаковедов, собаководов и собакопромышленников. Лучшие умы Франции в течение целого месяца были заняты этим вопросом. Газеты давали интервью с самыми неожиданными лицами, вплоть до владельцев колбасных фабрик. Опрос был всенародный, как плебисцит. В кино показывались картины, воспроизводившие опыты над собаками, причем посетители делились на два лагеря — «за» и «против». Показы этих картин обычно заканчивались драками.
Парижане были возмущены до предела. Собирались огромные средства для Общества защиты животных. Какой-то старый маркиз пожертвовал собакам свое огромное поместье с особняком в 46 комнат.
Если бы половина этих слез, пролитых над судьбой Фифиса, была пролита над судьбой «ля гелль кассе», если бы четверть этих «собачьих» денег была отдана в распоряжение тех несчастных, бедные инвалиды войны, проливавшие свою кровь за отчизну, были бы до самой своей смерти обеспечены материально.
Но… таков Париж. И в день взятия Бастилии — 14-го июля, — когда народ танцует на всех площадях и по Шан Зализе утром двигается обычная в этот день демонстрация, ее и на этот раз торжественно открывали везомые в колясочках и ведомые под руки слепые, изуродованные инвалиды «ля гелль кассе».
Эту историю с Фифисом я рассказал специально для того чтобы дать понять моему читателю ту особую «прособачью» атмосферу, которая царила в Париже в те дни, когда со мной случилось это весьма незначительное происшествие. Впрочем, все по порядку.
Я в это время жил в Пасси. Рядом со мной, буквально за моим домом, начинался знаменитый Булонский лес — краса и гордость парижан. Бесконечные пространства хвойного и лиственного леса в самом центре города, где можно укрыться от летнего зноя в тени деревьев, гулять, кататься верхом или в собственной машине, десятки и сотни километров асфальтированных прекрасных дорог, рестораны, дансинги, старинные замки французской аристократии, обедневшей и вымирающей (почти все уже давно проданное американцам), — словом, все удовольствия мира, вплоть до «фавнов», блуждающих в чаще леса и пугающих непристойными жестами замечтавшихся гувернанток и бонн!
У меня была собака. Это была белая красавица — боксер с единственным пятном в виде коричневого «монокля» вокруг правого глаза. Звали ее Долли. У нее был, в общем, спокойный характер, и, когда мы с ней приходили в кафе и садились за столик прямо на улице, она непринужденно вскакивала на стул и сидела, окидывая публику полным достоинства взглядом. Когда к нам подходил гарсон, чтобы принять заказ, я неизменно сперва обращался к ней, как к даме:
— Что вы хотите, Долли? — спрашивал я.
— Гав! — коротко и выразительно отвечала она.
На собачьем языке это означало «бриош», то есть сдобную булочку. Я заказывал, гарсон подавал. Долли скромно съедала свой бриош и продолжала спокойно сидеть, разглядывая соседей. Ее уже хорошо знали в Пасси. У нее были кой-какие недостатки. Она не выносила кошек, крыс, мотоциклистов и верховых лошадей. Во всем остальном она была «настоящая леди». В Париже собак надо держать на «лэсс», то есть на ошейнике и ремне или цепочке, и ни в коем случае нельзя отпускать их от своей ноги. А ведь собаки как дети, им тоже хочется побегать по душистой траве, покувыркаться, погоняться за птицами или — не дай Бог! — за лебедями в прудах, где дремлют в воде жирные ручные карпы. Вот тут-то и начинаются трудности. Булонский лес кишит ажанами — строгими полицейскими в синих кепи и пелеринах, которым совершенно нечего делать среди свободолюбивых парижан и которые всю свою служебную энергию, направляют на борьбу с собаками, осмелившимися дать волю своей звериной жизнерадостности.
Каждое утро я брал Долли на лэсс и мы шли гулять в Булонский лес. Там, выбрав местечко поглуше, где совсем не видно ажанов, я спускал ее с привязи, и она устраивала такие собачьи бега со случайными подругами, что у меня захватывало дух от восхищения. Когда вдалеке показывался ажан, я свистел ей, и в одну секунду она уже сидела рядом со мной, привязанная на лэсс, и с нескрываемым презрением разглядывала приближающегося ажана. Ажан окидывал ее подозрительным взглядом и проходил дальше: придраться ему было не к чему. Тем не менее он все прекрасно понимал и собаку мою держал, так сказать, «на учете» в своей профессиональной памяти.
Однажды я сидел на скамейке в самом уединенном уголке Булонского леса и читал газету. Вокруг меня на дорожках и полянках резвились десятки собак разных пород и мастей, спущенные с лэсс своими сердобольными хозяевами, которые также читали газеты, курили или рассуждали о трагической судьбе «бедного Фифиса». Ко мне подошел ажан.
— Мсье, — корректно сказал он, приложив руку к козырьку, — я попросил бы вас взять вашу собаку на лэсс!
Я отрицательно покачал головой.
— Это невозможно, мсье! — отвечал я.
Владельцы «фифисов» заволновались и стали спешно собирать своих питомцев. Образовалась кучка людей, из нее слышались негодующие замечания:
— Какой осел придумал эти правила! Бедные животные не могут даже побегать полчаса!
Подошел еще один ажан.
— Ваш префект Кьяпп, г-н лейтенант, — старый корсиканский осел! Его самого надо посадить на цепь, чтобы он поменьше самовольничал у нас в Париже! — злобно ворчал какой-то старичок с ленточкой Почетного легиона в петлице. — Это ему не Корсика…
Лейтенант был глух и нем. Он был олицетворением закона. Во Франции можно ругать правительство сколько угодно, это никому не возбраняется, и поэтому до ушей лейтенанта подобные речи просто не доходили.
— Я еще раз прошу вас, мсье, взять вашу собаку на лэсс, иначе мне придется принять другие меры! — настойчиво и строго повторил он.
— Увы, я не могу этого сделать, — отвечал я.
Лейтенант засвистел. Подошли еще трое ажанов.
— Этот мсье не желает взять свою собаку на лэсс, — заявил он пришедшим. Ажаны строго переглянулись и потребовали, чтобы я следовал за ними в префектуру.
Мрачно скрестив руки на груди, я твердо заявил:
— Никуда не пойду! — и демонстративно уткнулся в газету.
Образовалась уже довольно большая толпа, из которой, как из грозовой тучи, временами сверкали молнии гнева и сочувствия мне.
— Я вас заставлю повиноваться французским законам! — вскипел лейтенант. Один из ажанов подошел к телеграфному столбу, открыл ключом ящичек полицейского телефона и позвонил куда-то. Через пять минут передо мной стояла каретка полиции с решетками на окнах. Дело принимало дурной оборот. Толпа уже свистела и улюлюкала.
— Мор, сюр ля ваш! — Смерть коровам! — неслись из нее бешеные возгласы.
Ажаны были неумолимы. Сомкнутым строем они двинулись ко мне, чтобы, связав меня в случае сопротивления, засунуть в каретку и, доставив в префектуру, закатить штраф в пятьсот франков, а попутно намять мне бока — для порядка.
Я понял, что сопротивление бесполезно. Тогда я встал со скамьи, подошел к старшему из них и спокойно спросил:
— Что вам от меня угодно, мсье?
— Нам угодно, чтобы вы немедленно взяли на лэсс вашу собаку, которая гоняется в данную минуту за породистыми утками на показательном пруду.
Я пристально взглянул ему в глаза и с невозмутимостью англичанина еще раз твердо произнес:
— Я не стану этого делать!
— Почему? — в бешенстве крикнул ажан.
— Потому, что это… не моя собака!
В это утро Долли со мной действительно не было.
Толпа завыла от восторга. Меня обнимали, целовали, жали мне руки и хохотали, как сумасшедшие, пытаясь даже качать меня. Они улюлюкали вслед уходящим сконфуженным ажанам. И были в восторге, французы умеют ценить шутку.
Обед с Чаплином
Когда в Париж приехал Чарли Чаплин, леди Детердинг, русская по происхождению, решила устроить ему прием у себя в апартаментах отеля «Криион», на плас Вандом. Желая показать ему русских артистов, она пригласила к обеду тех, кто был в Париже в то время. Меня и Лифаря она посадила рядом с Чаплином. За обедом мы разговорились с ним и даже успели подружиться. Американцы сходятся очень быстро за дринком.
После обеда начались наши выступления. Лифарь танцевал, я пел, Жан Гулеско играл «Две гитары», Настя Полякова пела старые цыганские песни и «чарочки» гостям. Чаплин был в восторге. Когда стали пить шампанское, метрдотель «Крииона» мсье Альбер подал свои знаменитые наполеоновские фужеры старого венецианского стекла с коронами и наполеоновским «N» — сервиз, которым гордился отель «Криион», личный сервиз императора, оставшийся еще с тех пор, как Наполеон останавливался в этом отеле.
Цыгане запели «чарочки». Первую они поднесли Чаплину.
Чаплин выпил бокал до дна и, к моему ужасу, разбил его об пол.
Все молчали. Через несколько минут он выпил второй бокал и тоже разбил. Метрдотеля переворачивало. Альбер сделал умоляющие глаза и подошел ко мне. На глазах у него были слезы.
— Мсье Вертинский, — шепотом сказал он, — ради Бога, скажите этому «парвеню», чтобы он не бил бокалов. Мало того что мы поставили леди Детердинг в счет по 15 тысяч франков за каждый фужер. Это сервиз исторический. Заменить его нечем.
Он искренне волновался.
Я подождал, пока Чаплин нальет вина, и когда, осушив бокал, он собирался кокнуть его об пол, я удержал его руку.
— Чарли, — спросил я, — зачем вы бьете бокалы?
Он ужасно смутился.
— Мне сказали, что это русская привычка — каждый бокал разбивать, — отвечал он.
— Если она и «русская», — сказал я, — то, во всяком случае, дурная привычка. И в обществе она не принята. Тем более что это наполеоновский сервиз и второго нет даже в музеях.
Он извинялся и горевал как ребенок, но больше посуды не бил.
Черная лихорадка
Они сходятся к десяти.
Быстрые, взволнованные, решительные.
Кафе ДД, маленькое и уютное, набито ими до отказу. Но столы пусты. Они ничего не заказывают. Не до этого. Тут миллионные перспективы, а вы хотите, чтобы они чай с пирожными пили. Никогда!
— Что? Вы угощаете? В таком случае я присяду на минутку.
Он садится.
— Мылом интересуетесь?
— Нет.
— А «Кэмэл»?
— Не надо.
— Есть бюстгальтеры.
— Тоже нет.
— А виски?
— Да мне ничего не надо.
— Как это ничего? Что вам, пару тысяч заработка мешают?
— Да видите ли… я не коммерсант.
— А вы думаете, я коммерсант? Я парикмахер. Я же вас стриг в субботу.
— Ну конечно, я помню. Вас зовут Моня.
— Вот-вот. Чем же вы интересуетесь?
— Бытом.
— Быт? Что это? Можно достать. Сколько вам надо?
— Сто ящиков.
— Подождите меня здесь. Я приведу одного человека, у него есть. Мои 15 %. О'кей?
— О'кей.
Нет, лучше выйти на улицу.
— Ого, как здесь кипит, как бурлит… — говорю я.
— Суп из супников, — брезгливо острит один из приятелей.
— Почему?
— Да ты посмотри на этих парней в клетчатых голубых пиджаках с розовыми галстучками. Это же все супники.
— А что такое супники? — наивно спрашиваю я.
— Ну… Альфонсы. Их бабы содержат.
Народу здесь великое множество. Они собираются группами и парами, перекликаются через улицу, забегают в подворотню, подъезжают на рикшах. Неожиданно выворачиваются из-за вашей спины. И так же быстро исчезают куда-то…
— Драфт? — Головы? — Джон Хэйг? — Сколько? — Липа!
— Почему липа?
— Потому что беженцы из Хонкью делают это виски.
— Да нет! Я говорю за бисквиты. Вы же только что бисквиты предлагали?
— Это не я. У меня ножи для бритья. А что вам надо?
— У меня кремни для зажигалок. Я сам продаю.
Страшные галицийские евреи, рыжие и веснушчатые, в круглых широкополых шляпах, точно сошедшие со старых гравюр, изображающих гетто. Они задумчиво крутят свои длинные библейские пейсы и, наматывая их на пальцы, тихо журчат, собираясь кучками. «Нашим» они не верят. Они держатся особняком и делают дела только между собой. Их интересует «голд». Драфты. Переводы. Валюта. Деньги. Они торгуют только деньгами.
— Идзь до дзябла…
— Не заврачай мне гловы.
Это поляки. Польские евреи. Они говорят охотно и вежливо. Кланяясь, снимают шляпу, улыбаются. Одеты они бедно, но тщательно. Из добрых лодзинских материалов в немного длинных пиджаках, по тогдашней берлинской моде, уже изношенных, но еще полных достоинства. Их глаза горят голодным блеском, но обращаются они очень мягко.
— Извиняюсь, я слыхал, что пану требуется мыло?
— Нет, благодарю вас.
— В таком разе, может быть, коньяк?
— Нет, не надо.
— А дзыгарек пан не купит?
— Что это?
— Ну, часы по-русску.
— Нет, не надо.
— Пшепрашим!
Он отходит. А волна катится, бежит неустанно. Кого только здесь нет… Музыканты, приказчики из бакалеек, комиссионеры пароходов, бармены из Циндао, содержатели притонов, парикмахеры, «стукачи», героинисты, чуть подлеченные вынужденным сиденьем в тюрьме, хозяева пивных, скупщики краденого, просто молодые люди, попробовавшие первых «легких» денег и уже истратившие их, уже отсидевшие сроки наказания за проданную «липу». Португальцы, китайцы… женщины…
Да, и женщины. Тоже. Что они делают здесь?
Вон та, старая, толстая тетя Фанни. Коротко, по-мужски остриженная, она со всеми «на ты». Она продает далеко не женские вещи. Название товара не упоминается вслух, но все смеются.
— Почем?
— Только по десять дюжин, — отвечает она. — Триста си ар би.
А эти кто? Девчонки из знакомых баров. Что они здесь делают?
Я подхожу к их группе.
— Халло, Тамара. Вы чего здесь? Продаете? Покупаете?
— Да нет. Мне вчера один фрайер тут назначил свиданье. Сказал, приходи на биржу, если у меня пройдет одно дело, я тебе пол косых дам.
— А вы, Люся?
— Я одному типу морду набить пришла.
— За что?
— Взял мой браслет продать, и ни его, ни браслета.
— Гуд лак!
Веселая стайка моих молодых приятелей показывается из-за угла. Они ничего не продают. Они уже продали в свое время и уже заработали и теперь приходят сюда развлекаться.
— Дед! — кричат они мне (у нас такая игра: я — «наш великий вечно юный дед», а они — «любимые внуки»). Теперь они спрашивают:
— Ты что здесь делаешь?
— Продаю разницу.
— Какую?
— Большую.
— А маленьких нет?
— Нет.
— Это две большие разницы, — говорят они.
На углу, в грязном подъезде серого высокого дома, ничком в сырой нише лежит прокаженный. Он раздирает на себе ногтями страшные лиловые струпья и с воем ест землю. Иногда он садится и начинает собирать вшей с лохмотьев своей одежды. Набрав полную горсть, он со злобными проклятьями кидает их на проходящих мимо. Его трясет. У него черная лихорадка. Люди равнодушно проходят мимо. А он корчится, воет и долго грозит им вслед. И страшные обрубки его почернелых ног еще долго торчат, словно обгоревшие ветви деревьев после пожара.
Он кричит и кричит без конца.
Это голос Китая.
ХЛАМ
Раз в неделю, по средам, в «Ренессансе» проходили вечера ХЛАМа. Слово «ХЛАМ» означало: Художники, Литераторы, Артисты и Музыканты. Конечно, ни художников, ни артистов, ни литераторов там не бывало по той простой причине, что таковых в Шанхае просто не было. Музыкантов было немного, но они по вечерам играли в дансингах и поэтому отсутствовали. Но зато бывала та публика, которая имела какое-то отношение к тому маленькому артистическому миру, который все же был в Шанхае. Ходили маникюрши, портнихи, парикмахеры, мелкие репортеры, спекулянты и жулики.
«Душой» этих вечеров был некий Гвадалквивиров — театральный паразит, приехавший еще в 30-м году с балетной труппой в Харбин администратором и оставшийся там. Он должен был на что-то жить и поэтому был неистощим на всякие театральные затеи, от которых ему перепадали немалые деньги. Артистам он обыкновенно платил мало или совсем не платил, уговаривая сделать это «для искусства» и прельщая интересной ролью. А всю выручку кассы клал в карман.
В Шанхае было много скучающих дам, которые «пели для себя» и даже учились у кого-то «для себя», но все они горели желанием показать себя на сцене и даже готовы были заплатить за это сколько угодно. Билеты обычно распространялись «по знакомым» или раздавались бесплатно. Эдуард Иванович Гвадалквивиров «делал прессу», т. е. помещал фото будущих звезд в местных двух газетках и писал «от руки» заметки о них. Костюмы брались у старого харбинского костюмера, у которого было все что угодно. Выпускались саженные афиши, где кровавыми буквами пламенело никому не известное имя какой-нибудь жены аптекаря или зубного врача. И дело было сделано. Гастролерша месяца за два до спектакля уже ни с кем не разговаривала, показывая рукой на горло, куталась в шелковые платки и горжетки и шепотом говорила знакомым: «Пою Травиату».
Некоторые вообще переставали разговаривать и объяснялись даже с мужьями письменно. Мужья жаловались. Это было совсем неудобно и сложно в семейной жизни. И, наконец, не всегда же есть чернила и перо. И не при всех обстоятельствах. И есть такие моменты, когда просто невозможно поставить между собой и женой чернильницу.
Но… терпели.
К дню спектакля дама окончательно теряла остатки голоса и объяснялась со сцены жестами. Но зато туалеты были умопомрачающие. Что и требовалось доказать.
В газетах появлялась рецензия вроде такой: «Хорошо пела госпожа Канарик, чего нельзя сказать о декорациях».
Действительно, декорации помалкивали.
Эдуард Иванович, получив солидную сумму с мужа этой дамы и забрав все, что было в кассе, скорбно вздыхал и говорил о том, как трудно внедрять в инертную шанхайскую публику святое искусство.
В ХЛАМе местные поэты читали стихи, дамы пели цыганские романсы вроде:
Причем слово «запуржило» выпевали, сложив губы бантиком, так, что получалось «запюржило». А по-французски слово «пюрж» означает «слабительное», поэтому впечатление было особо сильное.
Редкие музыканты иногда что-то играли. Но дело было не в программе. В зале всегда находились «таланты из публики», которые, подвыпив, жаждали успеха на сцене.
Кто-то садился в оркестре за барабан и нещадно терзал уши присутствовавших. Кто-то «свистел» из «Сильвы» пронзительным воровским свистом «форточника», стоящего «на стреме», кто-то соло танцевал «танго» времен девятьсот четырнадцатого года, когда его привезли в Россию беженцы из Варшавы. Словом, недостатка в исполнителях не было. Шанхайцы любили ходить в кабаре «со своей программой», как ходят в театр немцы со своими бутербродами. За вход была установлена плата, которую Эдуард Иванович клал к себе в карман «за организацию», да еще получал небольшой процент с торговли от хозяина.
Раз в год Гвадалквивиров устраивал в большом летнем саду «Аркадия» выборы «Мисс Шанхай». Это дельце уже покрупнее. В Шанхае было много девиц, имевших богатых покровителей и жаждавших славы. Подготовку к этому событию он начинал задолго. За то, чтобы только включить девицу в конкурсную группу, он уже брал деньги, и немалые. Тут уж была сплошная «лавочка». В назначенный день сад наполнялся публикой, и на паркетный круг для танцев, посреди сада, выводили «красавиц» всех стилей, оттенков и типов. Кого только тут не было! Девушки из офисов, баров, ресторанов, балеринки, приказчицы, менекенши из «домов платья», кельнерши, кассирши, белошвейки, проститутки, которые на вопрос «чем вы занимаетесь?» отвечали: «Живу с человеком».
Вся эта масса девиц проходила гуськом перед сидящей вокруг публикой, блистая туалетами и прическами, неся на груди соответствующий номер, и публика, получившая при входе «талоны», должна была сдавать их «жюри», написав на них сверху номер своей избранницы. На каждого из публики полагался один талон, и часто вкус публики сходился на какой-нибудь из них. Тем не менее это не значило, что она будет избрана. Потому что «талонов» можно было купить за деньги сколько угодно в кассе. И какой-нибудь поклонник, купив сразу их на большую сумму, добивался избрания своей «дамы» вопреки всему…
— Жулики! Арапы! Мошенники! — вопила возмущенная публика.
Девицы рыдали, сидя в уборной, а Гвадалквивирова уже не было в саду. Он незаметно «смывался» с деньгами от греха подальше.
Каждый раз его собирались бить, и каждый раз он ускользал от этого.
А на следующий год вся история повторялась снова.
Шанхай, 1941-й год
Русские совсем осатанели. Все заняты спекуляцией. Очень быстро создаются целые состояния. И так же быстро тают от одной неудачной комбинации или от капризов биржи. Какой-нибудь Яша — маленький агент по распространению пива «Ю-би» в кабаках на Банде, — который еще вчера не имел ни гроша за душой, сегодня покупает особняк. Он «заработал» на черной бирже! Шанхай кишит жуликами. Кто служит в контрразведках, кто «работает с японцами», кто просто шарит по карманам.
У меня два «внука». Это у нас такая игра. Я — Великий, вечно юный Дед, а они мои внуки. Старший-любимый и Младший-любимый, чтоб никого не обидеть. Оба бездельники. Шалопаи. Младший хоть на гитаре играет. А старший занимается только спортом. Оба драчуны и скандалисты и, к сожалению, самые сильные из ребят. Их все боятся, и тронуть их не решается никто. Оба красавцы. Младший — грузин. Старший — русский. Вид у них необычайно приветливый. Обаяния хоть отбавляй. Младший — шатен, у него разные глаза. Один — карий, золотой, другой — голубой, небесного цвета. Иногда это встречается у породистых кошек. Старший — такой же стройный и с такой же ослепительной улыбкой, но весь седой. Глаза у него по детски голубые. Оба чудные парни. Если не вдумываться. Они и обожают меня, своего «Великого Деда», и ходят за мной по пятам, как борзые. Боже сохрани меня тронуть! Они просто убьют такого человека. С утра они уже у меня. Мы завтракаем в «Ренессансе». Внуки выбирают самые дорогие блюда.
— Дед, выдержишь филе с шампиньонами? — из вежливости спрашивают они.
Я зову кельнершу и строго говорю:
— Две порции манной каши!
Почему-то она приносит им филе. После этого они пьют вино, потом кофе с ликером. Я задумчиво говорю:
— За эти деньги, что вы мне стоите, я бы мог угощать ежедневно двух чудных девочек 18-ти и 19-ти лет! Возможно, что какая-нибудь из них мне понравилась бы и я, быть может, женился бы на ней.
— Не надо было плодить внуков! — говорят они.
— И притом молоденькая за тебя не пойдет. Тебе уже, слава Богу…
Назвать мой возраст они не решаются. Мне еще нет пятидесяти, а им за тридцать каждому. После обеда выходим на улицу. Я люблю спать после обеда. Но на улице дождь. До моего отеля два шага. Однако огромная лужа преграждает нам путь.
— Я не пойду дальше! — заявляю я.
Посовещавшись, внуки делают из своих рук кресло, сажают меня и несут по авеню Жоффр до моего отеля. Прохожие шарахаются. Знакомые хохочут. У дверей отеля разыгрывается ежедневно одна и та же сцена:
— Дед, ты будешь дрыхнуть? Дай нам на кино.
— Не дам!
— Тебе же хуже. Мы пойдем просить милостыню и опозорим твое имя.
Прижатый к стене, я говорю:
— Я дам вам два доллара, но… как нищим!
И я бросаю на тротуар две скомканных бумажки. Они бросаются поднимать и дерутся из-за них. Вечером та же картина. Пока я работаю, т. е. пою, они сидят за моим столиком и что-нибудь пьют. Боже сохрани, если кто-нибудь не желает меня слушать. Старший, любимый, кивком головы вызовет его в коридор и убьет.
— Я пришел сюда ужинать, а не слушать песни! — говорит клиент. И он прав по-своему.
— Бери свой ужин и иди с ним в сортир, — любезно предлагает ему старший.
— А пока Дед поет, я тебе заткну глотку твоим бифштексом!
Редко кто решается продолжать этот разговор. Иногда завязывается драка. Все равно из-за чего. Они никому ничего не прощают. Зацепил ли кто-нибудь их во время танцев или нечаянно толкнул их даму — скандал. Но какой! Все летит. Столы, блюда, посуда. Потерпевший, весь в крови, уже лежит на полу. Никто и ничто не может удержать их.
Я жду, пока все кончится и они снова сядут за стол.
Если скандал затеял Младший, я строго говорю:
— За это ты на неделю останешься без сладкого.
Если виноват Старший, я говорю ему:
— Выйди сейчас же из-за стола и стань в угол!
Он покорно встает и идет в гардероб, где и становится в угол лицом к стене.
Но сердце не камень. Через две минуты я его прощаю.
— Шалопаи! Бездельники! — сержусь я. А что им делать здесь, в Шанхае? Здесь нет ни высших техникумов, ни университетов, ни школ специального назначения. В конце концов они не виноваты в том, что их родители покинули родину в свое время и они родились на чужой земле.
Это тоже надо учитывать. Они ненавидят англичан и американцев, и, если кто-нибудь при них дурно отзовется о Советском Союзе, они бьют его без предупреждения, совершенно не считаясь ни с тем, кого они бьют, ни с количеством врагов.
Меня это восхищает.
— Босяки! — ворчу я. — Скандалисты!
Но они прекрасно знают, что в душе я ими горжусь. Чудные парни!
Наши достижения
У каждого, конечно, свои странности. У меня их четыре. Я ненавижу:
— сидеть в кино,
— слушать радио,
— ждать поезда,
— и давать интервью.
От этих вещей меня размаривает сон. И особенно последнее.
Но, увы, интервью неизбежны. В особенности перед концертом.
Мой интервьюер оказался простым и симпатичным человеком. Он позвонил мне по телефону и сказал:
— Послушайте! Мне надо от вас интервью брать. А у меня тут, того… свояченица замуж выходит! Да вы еще, говорят, живете где-то у черта на куличках! Знаете что? Будьте «спорт»: напишите сами. А?..
Я подумал, как Розанов в «Уединенном»:
«Принимая во внимание, что он любит мои стихи и что у него свояченица — девственница…»
Напишу сам.
Я взял карандаш и бумагу, сел перед зеркалом, чтобы лучше видеть своего собеседника, и решил начать прямо с главного.
— Александр Николаевич, — сказал я, — что вас больше всего волнует? На сцене, конечно.
Вопрос был задан очень умно и тонко. Я сразу попался на эту удочку.
— Как вам сказать?.. На сцене, — сказал я, — мне всегда было страшно! Я думал: вот сейчас кто-то вскочит, кто-то крикнет: «Господа! Да ведь это же ложь! Это обман! Этого не бывает! О чем он поет? Любовь? Какая любовь? Сказки! К черту! Долой его!..»
И все полетит в бездну. Ноты, цветы, рояль… Все завертится… Люди, звери — все сольется в одно. Кто-то будет топтать меня ногами и кричать:
— Вот тебе! Вот тебе! Вот тебе!
И сердце зазвенит и лопнет, как мыльный пузырь! А ведь, если подумать, что такое актер? Человек, который претендует на внимание и время публики. Он как бы говорит:
— Смотрите на меня! Слушайте меня! Покоритесь мне!
Но для того, чтобы занимать своей персоной внимание деловых, занятых и серьезных людей, надо быть неисчерпаемо интересным, значительным, многогранным.
А что мы, актеры, знаем наверное?
Ничего.
Что знает укротитель, входя в клетку со львами?
Он надеется остаться в живых!
Вот и все.
Как-то в Нью-Йорке я ехал в такси с Шаляпиным на его концерт. Зал «Карнеги» — на четыре тысячи человек — был распродан задолго. В такси мы молчали.
Перед самым театром Ф. И. обернулся ко мне:
— Послушайте, — сказал он. — А вдруг они скажут: «Чего эта старая лошадь вылезла на сцену?»
Я сразу не понял.
— Кто «они»?
— Ну публика!
Я искренне возмутился:
— Ну как вы можете говорить такие вещи, Федор Иванович? Вы — Шаляпин! Вы не имеете права так говорить о себе!
Ф. И. грустно улыбнулся:
— Подожди, они тебя еще разорвут когда-нибудь…
И я понял его. Потом. Подумав.
Но как мало актеров, понимающих это! Обычно самые большие самолюбия бывают у маленьких актеров. А у парикмахеров и еще больше.
Я помню, за кулисами перед спектаклем премьер капризничал. Парикмахеру приходилось переделывать парик несколько раз.
— Не то! — злился премьер. — Не годится! К черту! — И он швырнул парик на пол.
Парикмахер обиделся.
— Что вы мне говорите «не годится»! Что я, вчера начал работать с париками? Я, слава Богу, уже двадцать лет на болванах работаю!
Ответ был потрясающий. Премьер стал добрее…
Мы покурили. Дальше беседа не клеилась.
Чтобы помочь интервьюеру, я задал вопрос Вертинскому:
— Ну а как вам нравится наш театральный Шанхай, Александр Николаевич?
Вертинский оживился.
— О, чудный город! Я нигде не видел такого количества поющих, играющих, танцующих, взывающих и глаголющих людей, как здесь. Обратите внимание: если в ресторане, например, сидят 20 человек, то четверо из них — певцы, двое — конферансье, пятеро — танцоры или танцовщицы, а остальные — театральные критики.
— А где же публика? — спросил собеседник.
— Публика? Она приходит в кабаре уже со своей программой. Публики нет. Есть актеры. Как немцы со своими бутербродами ходят в театр.
Они сами — программа! И актеры им не нужны.
В Шанхае все — актеры. Правда, многим в эмиграции пришлось уйти от любимого дела и заняться торговлей, коммерцией и еще чем Бог послал, но все — играли, все — «занимали положение».
Когда-то Балиев, рассердившись на своих актеров, сказал:
— Пусть уходит вся труппа! Мне не нужно актеров. Если я захочу, у меня пожарные будут играть!
— Я думаю, что если Шанхай захочет…
Он перебил меня:
— Вы говорите только о мужчинах?
— Нет, о дамах тоже. Пример? Ну вот выйдите на Жоффр в хорошую погоду:
— Моничка, — услышите вы, — как тебе нравится? Соня хочет петь «Травиату». Ну? Не нахальство? У меня же эта партия выучена наизусть! Я же могу ее во сне петь! Хоть даже без дирижера…
«И без публики», — злобно думает Моничка, но говорит другое:
— Странно. Она мне еще за лисицы не заплатила, а уже лезет в «Лайсеум»!
А иногда разговор бывает другим.
— Вы знаете, Галочка, что надо поставить на Рождество у нас в кружке? — говорит юноша ковбойского типа.
— Что?
— «Хижину дяди Тома».
Галочка, которая играет небольшие роли, презрительно поводит плечами:
— Все равно здесь некому сыграть «Хижину».
Идея умерла.
Мой друг Копочка, который все знает задолго и наверняка, иногда таинственно говорит мне:
— Вы видите эту даму с нотами?
— Вижу.
— Как вы думаете, что она сейчас делает?
— Не знаю.
— Подкапывается под Лакме!..
Через месяц — бац: афиша!
Из проклятого актерского любопытства я иду в театр. Через 10 минут я уже вылетаю обратно. На глазах у меня слезы бешенства.
— Копочка, — говорю я. — Не хочу быть актером. Не хочу! Не хочу! Почему я не академик, не герой, не мореплаватель, не плотник? За что, за что я, несчастливый, уродился актером?! Копочка, возьмите меня из этой жизни, отдайте меня в солдаты или зубные врачи! Я не могу…
Копочка пугается:
— Только не делайте мне здесь истерику! — шипит он. — Люди слушают… Дойдет до нее! А я у ее мужа зубы лечу!
Замолкаю.
— А мне она нравится! — громко говорит он — так, чтоб все слышали. И добавляет тихо: — Ей-богу!..
— Вы паршивый неврастеник! — говорит он мне на другой день. — Вам нельзя ходить в театры! Вот читайте: газеты же ее хвалят!
Я читаю: «Хорошо пела Булкина, чего нельзя сказать о декорациях».
Действительно нельзя.
Борьба бесполезна.
А с прессой тем более. Во-первых, пресса всесильна. Меня учили, что это шестая держава. А во-вторых, им и карты в руки. Они-то знают лучше нас.
Пресса у нас, конечно, добрая, очень добрая. И внимательная к актерам. Маленькие дарования она тоже не забывает отметить.
Как-то читаю:
«Очень хорош г-н Бабушкин в роли лакея. Артист, видимо, проделал большую работу над собой».
— Копочка, — говорю я, — так это же расклейщик афиш!
— А что, по-вашему, это не работа?
Молчу.
Как-то в Ревеле я встретился с моим другом — большим критиком Петром Пильским. В это время в Ригу, которая была рядом с Ревелем, приехала Карсавина.
Рижская газета «Сегодня» заказывает Пильскому статью о ней.
— Петр, — говорю я, — что же это «Сегодня» тебя просит писать о ней? Газета большая, что у них там, написать некому, что ли?
Пильский смеется.
— Дело в том, — говорит он, — что у них там, в Риге, произошла, если так можно выразиться, «растрата эпитетов».
— Что это значит?
— Ну, понимаешь, они там на своих доморощенных балерин, на разных там Олечек и Танечек истратили все восторги, и уже о Карсавиной им сказать нечего. Слов нет. Вот они и просят меня написать!
Мы замолчали. Мой собеседник в зеркале уже зевал.
— Да… — задумчиво сказал он. — Вы действительно того… Неврастеник.
Он встал и откланялся.
— Привет свояченице! — крикнул я ему вслед.
Моим заграничным друзьям
Сегодня меня слушают русские люди. Многих я знал. Еще больше знали меня. Я никогда не лгал. 30 лет в эмиграции я пел о том, что Родина прежде всего. Вспомните мои «Степи молдаванские», мои «Чужие города», мое «О нас и о Родине», «Молись, кунак» и др. Я пел о Родине тогда, когда кругом были одни враги, когда если вы говорили, что в Москве хорошая погода, вас считали «большевиком», т. е. своим врагом. Я пел, и ни у кого из вас не было сил «бросить в меня камень». И сегодня вы так же слушаете меня…
В июне прошлого года, обращаясь к эмиграции и перемещенным лицам по радио, я по мере своих способностей старался нарисовать картину жизни нашей страны в военные и послевоенные годы, а попутно рассказать и о своей скромной работе. Тогда я руководствовался только одним соображением — ответить на то огромное количество писем, которые я получал и продолжаю получать сейчас со всех концов мира от наших русских людей, как знакомых, так и незнакомых.
Это мое выступление было использовано реакционной зарубежной печатью, а также теми из белоэмигрантских журналистов, которые продали свое перо, честь и совесть и стали служить врагам нашей Родины, тем самым навеки заклеймили себя как изменники и предатели.
Время от времени до меня долетают отголоски той грязной, лживой и крикливой шумихи, которую поднимают за рубежом наши враги в своих попытках оплевать и оклеветать нашу великую Советскую Социалистическую Родину.
В этих попытках они не брезгуют ничем. Все средства для них хороши, если они ведут к цели.
С этой точки зрения даже мое скромное имя используется ими как материал для гнусной антисоветской пропаганды. Так, например, за эти пять лет, что я живу в Советском Союзе, меня уже трижды «хоронили». То меня «расстреляли» на первой же станции советской при возвращении из Китая, то я «умер в концлагере» от изнурительного труда, где-то в Магадане, то «покончил с собой» в Москве, как утверждали нью-йоркские газеты.
Не далее как в прошлом году корреспондент Ассошиэйтед Пресс (Эдди Гильмор) со смехом просил меня по телефону сообщить ему подробности моей «смерти» — в ответ на запросы нью-йоркских газет.
Каждый раз мне, так называемому покойнику, приходилось кряхтя вылезать из гроба и любезно отвечать иностранным журналистам словами бессмертного Марка Твена о том, что «слухи о моей смерти несколько преувеличены». Нет, друзья мои, как себе хотите, а в дальнейшем я категорически отказываюсь хорониться. Мне положительно некогда заниматься этим.
Все это говорит о необыкновенном скудоумии и отсутствии всякой фантазии у авторов этих наивных и однообразных инсинуаций.
Так, комментируя мое первое выступление по радио, газеты американской зоны из Берлина писали, что «это поет не Вертинский, а старые пластинки, что говорил слова к эмиграции кто-то другой, а сам Вертинский, мол, голодает и торгует газетами в Москве у Моссовета».
Все было бы замечательно, если бы не одна маленькая неточность. Дело в том, что у нас в Союзе нет частной торговли. Ни газетами, ни чем-либо другим. Поэтому у нас и нет миллионеров, как, например, в Америке, где каждый гангстер обязательно начинал свою карьеру с торговли газетами. У нас для этого есть государственные киоски Союзпечати, которые и занимаются этим.
Нет, я не торгую ни газетами, ни собой, как торгуют некоторые зарубежные «патриоты» в кавычках. Я творю и пою своему народу и получаю за это такую благодарность и любовь, которой за границей не купишь ни за какие деньги. Потому что там искусство существует только для развлечения, а у нас это насущная необходимость. В этом я вижу свою миссию, в этом моя великая награда за плоды моего скромного творчества. И так живу не я один — так живут все. Мы трудимся, мы «помогаем» матери по хозяйству, как любящие дети.
И сегодня, находясь на чужбине, закройте руками лицо, русские люди, и плачьте и не стесняйтесь ваших слез, так же плакал я когда-то от одного случайно произнесенного кем-либо слова «Россия», от звука русской народной песни.
Что же переменилось за это время? А случилось то, что я уже дома, а вы еще нет. Я, хорошо зная вкус того сорта хлеба, который называется «чужим», пою у себя на Родине, а вы все еще в отсутствии. У чужих людей.
История шагает огромными шагами. То, что было вчера важно и нужно, сегодня смешно и непонятно. 15 лет тому назад из Европы осенью летели ласточки в теплые страны. Неожиданная перемена погоды — буран, мороз и снег — остановила их полет в пути. В Бухаресте, Будапеште и Вене они падают обессиленные на площадях и улицах городов. И тогда сердобольные люди и их правительства распорядились собирать ласточек, отогревать и потом в особых закрытых самолетах отправили их в Италию, к солнцу и теплу.
Помню, как это радовало тогда сердца людей, как гордились мы своей гуманностью. А с тех пор утекло не так уж много воды. И вот в печах-крематориях Майданека и Освенцима взбесившиеся «покорители мира» — фашисты — сожгли миллионы живых людей. Какой жалкой и глупой детской сказкой показалась бы вам эта «история с ласточками», если бы кто-либо вспомнил о ней теперь.
Я уже говорил вам, что у меня просторная светлая квартира в центре Москвы, на улице Горького (бывшая Тверская). У меня прекрасная мебель, которую я купил на свои заработанные деньги, заработанные не спекуляцией на бирже, не эксплуатацией людей, а честным трудом актера высшей квалификации, который оплачивается очень высоко, как всякий квалифицированный труд в нашей стране. Никто не мешает нам зарабатывать сколько угодно, но только одним способом — трудом.
Я живу со всем комфортом, который может себе позволить человек. У меня есть и радио, и рефрижератор, и рояль Бехштейна, который мне подарило правительство, на котором я работаю и занимаюсь. Скоро у меня будет собственная дача.
У меня растут дети. Сейчас они еще крошки — старшей 6 лет, младшей 4 года, но я спокоен за их судьбу.
Они не будут «манекеншами» парижских «домов мод», которые показывают иностранцам дорогие модели чужих платьев, а сами ходят в рваных чулках и голодают или продаются покупателям этих платьев, они не будут «дансинг-гёрл», или, как их называют в Америке, «такси-гёрл», т. е. «девушки такси», которые ночи напролет танцуют в барах с любыми мужчинами, купившими на них книжку «тикетов», т. е. билетов на танцы, наживая чахотку и отравляясь алкоголем. Они не будут содержанками старых банкиров и спекулянтов и не будут с юных лет мечтать о том, кому бы повыгоднее «сесть на шею» и как продать себя подороже.
Они могут быть докторами, инженерами, юристами, архитекторами, артистками, учителями, даже учеными — все зависит только от собственного желания. Во всем и всегда они, как и все советские дети, получат поддержку и помощь государства…
Повторяю вам, я считаю себя абсолютно счастливым человеком. У меня есть Родина, семья и благородный любимый труд. Чего же мне еще желать?
Впервые за всю свою длинную бродячую жизнь я узнал, что такое «свой собственный угол», что такое свой честно заработанный кусок хлеба, хлеба моей Родины. Это не тот хлеб, который зарабатываешь в чужой стране, все время чувствуя себя иностранцем. Нет, это мой собственный хлеб, не тот, которым давится человек со слезами на глазах. Вот вам вкратце все о моей жизни на Родине.
Советские граждане, находящиеся еще за рубежом на положении перемещенных лиц, не верьте нашим врагам, которые стараются отравить вас ядом клеветы, лжи и ненависти к Советскому Союзу.
Верьте своему чувству патриотов, помните, что вы дети своей Великой Родины, что вы должны вернуться в свой отчий дом для того, чтобы жить и помогать своей дорогой и любимой матери.
Я не могу ответить всем, кто обращается ко мне с письмами из-за рубежа, потому что тогда мне бы пришлось бросить все и заняться только этим, но я охотно отвечу любому из тех, кого я знал лично и кто знал меня. Таким образом и эта очередная ложь наших и ваших врагов будет разоблачена.
«Русский голос», 11 августа 1949 г.
Великий воин Албании Скандербег
В прошедшем году мне пришлось интересно поработать над новым фильмом, приуроченным к 500-летнему юбилею освобождения Албании от турецкого ига, — «Скандербегом». Мы ставили этот фильм совместно с молодой албанской кинематографией, и половина актеров в нем были албанцы. Надо было хорошо изучить эпоху, быт и дух этого свободолюбивого, непокорного и смелого народа и показать его историю, не сделав ни одной ошибки. Задача была трудная, и С. Юткевич подошел к ней со всем своим опытом большого мастера и талантом художника-декоратора, который так удачно сочетается в нем с талантом режиссера. Были собраны все нужные материалы, и мы, т. е. наш коллектив, с трепетом взялись за работу. В помощь нам из Албании приехал профессор историк-искусствовед Алек Буда, с которым мы консультировались во все время работы. Отснятый по частям материал просматривал сам премьер Албании во время своих приездов в СССР, а затем во время съемок в самой Албании. Все это нас очень волновало и возлагало на нас большую ответственность. Показывать чужому народу его историю — задача нелегкая, конечно. Албания — молодая страна и в основном была страной земледельческой. Только теперь, после своего освобождения, она становится на ноги, и ее кинематография в зачаточном состоянии. Мы помогаем ее становлению, как помогаем всем дружественным нам демократическим странам. К нам из Тираны приехали молодые албанские актеры: Наим Фрашери, играющий Паля, Адеене Алибали, играющая Мамицу — сестру Скандербега, Беса Имами, играющая Донику — его жену, и другие. Мы с интересом разглядывали этих скромных и застенчивых молодых актеров и, по правде говоря, боялись за них. Хватит ли у них опыта справиться с такими ролями? Но это продолжалось недолго. Вскоре мы были очарованы непосредственностью их переживаний и какой-то особенной свежестью, которую принесли с собой эти люди гор. По вечерам в Ялте, где снималась часть этой картины, после съемок мы сидели с ними часто на берегу моря, и они пели нам песни своей родины. Песни их были грустные — остатки турецкой неволи сквозили в них, но очарованье их покоряло нас. Через месяц вся студия наша уже пела по-албански.
Мои сцены ограничивались Москвой и Ялтой, и мне не нужно было ехать в Албанию. Я расстался с ними в октябре. Съемочный коллектив уехал в Албанию. Там происходили все исторические битвы Скандербега, и вся страна принимала в них участие. Албанские композиторы предоставили нам подлинные народные песни и танцы того времени, крестьяне спускались с гор, чтобы передать нам свои подлинные народные костюмы той эпохи, хранимые как святыня в дедовских сундуках… В массовых сценах не было ни одного статиста, ни одной фигурантки. Рука гримера не прикоснулась ни к одному лицу, костюмеры не сшили ни одного костюма — все дал сам народ. В этом была большая победа С. Юткевича. Таким образом он избежал «опереточности» всех костюмных постановок. Все было подлинное. Нечего и говорить о том, что отношение правительства и всего народа было самое внимательное и искреннее. Сейчас картина 3-й месяц не сходит с экранов Албании, и отзывы о ней сверхвосторженные. Скандербега играет народный артист Грузинской ССР Акакий Хорава. Это блестящий трагический актер типа Мамонта Дальского. Он отлил Скандербега из бронзы и подарил его Албании. И теперь люди, смотрящие на памятник Скандербегу который стоит в столице Албании — Тиране — на площади, уже не могут отделить его от образа, созданного Хоравой.
Мне пришлось играть роль Великого Дожа Венеции, и во внешнем облике я исходил из портрета «Дож Венеции» Джиовани Беллини. Вы увидите его на экране. К сожалению, при монтаже картины роль была сильно обрезана, и лично меня это не удовлетворяет. Но материала оказалось слишком много и весь он не вмещался в те 2 часа, которые полагаются на демонстрацию всей картины. Картина, на мой взгляд снята безукоризненно. Выбор натуры, сама композиция кадров поражают. В цветовом плане она превосходит все до сих пор виденное мною. Оператор картины Е. Андриканис воистину показал чудеса в этой работе. Недаром наши газеты называют его «чудесным». Музыку писали албанский композитор Ческ Задея и наш Юрий Свиридов. <…>
После этой картины я уже сыграл новую роль. К юбилею А. П. Чехова мы ставили ряд его произведений, инсценированных для экрана. В числе их будет сделан полнометражный цветной фильм из его рассказа «Анна на шее». В этом фильме я играю роль губернатора-князя. Картина еще не закончена, но я уже отснялся в ней.
А сейчас я вылетаю в Киев на пробу в Киевскую киностудию. Там готовится большой фильм, приуроченный к дате воссоединения Украины с Россией, — «Богдан Хмельницкий».
Мне предлагают роль Коронного Гетмана Польши — Потоцкого. Роль мне нравится, но все зависит от того, как пройдет проба. Киноработа очень увлекает меня своим разнообразием и возможностью пробовать себя в различных образах, потому что в моем концертном искусстве мне все же тесновато. Ведь любая песня длится от 3-х до 5-ти минут, и за это время много не создашь. В песне все должно быть сжато, конкретно и коротко. А в фильме есть где развернуться в любой роли. <… >
Москва, 10 февраля 1954 г.
О спектакле «На дне» в Ленинградском театре драмы им. А. С. Пушкина
Недавно я смотрел «На дне» — с ленинградцами. Боже, как я не согласен с ними! Какой нажим! Какая педаль! Какое фортиссимо!
Сатин — шулер, сухой и твердый в своей работе, высушенный на огне своего опасного и напряженного ремесла, каждую минуту рискующий, где-то глубоко запрятавший свой протест, — не может и не смеет так благодушно рассуждать с видом загулявшего архиерея, которому надоело бормотать молитвы и притворяться! Он выезжает на темпераменте. Но это не убеждает или убеждает тех, кому этого достаточно. У Сатина каждое слово вынуто из-под спуда. Из глубины души, в которую он сам никогда не заглядывает и не дает никому заглянуть в нее. И это только великий маг и волшебник — «священный алкоголь» — заставляет его так говорить! Говорить «недозволенное — самому себе». Каждое слово, каждое мнение этого человека — сокровенно и несвойственно ему в жизни, об этом надо помнить актеру! И что же? Вместо этого — актерский темперамент и пафос!
Барон — Фрейндлих — неубедителен, рассудочен, излишне умен! Барон — это все же какая-то «линия в нужнике». Он и сентиментален, и беспомощен, и добр (увы, добр, несмотря на свои грозные выкрики по адресу Насти), и вот он идет все-таки за ней: «Пойду посмотрю, что она там». Потому что он жалеет и, может быть, даже по-своему любит Настю и, погорячившись, тут же идет на попятный.
Актер вообще играет на втором плане и поэтому не доходит до зрителя. А жаль! Татарин хорош, не бездушен. Единственный, кто держится в образе с самого начала и до конца, — это Толубеев. Он безукоризнен, хорош и точен в своем типаже загулявшего человека. Этот актер никогда не ошибается. У него блестящее, я бы сказал, чувство «шкуры» того, кого он играет, и главное — великолепное чувство меры! Как важно иногда актеру помолчать. Дать публике за тебя подумать, за тебя поиграть. Этого актеры не любят, а между тем это нужно. Настя говорит, как будто вколачивает свои реплики, как сваи в землю. Зачем это? Ведь она же только женщина. Слабая женщина. Ее протест — это протест слез, а не гнева! А она уходит так, как будто через пять минут она сделает революцию! Не надо этого. Неверно. Не надо этого страшного надрыва!
Ведь она же любит все-таки этого несчастного барона и только дразнит его, вымещая на нем свои обиды и муки!
И песня спета слишком звонко, надо тише, они уже все пьяны…
Это мука и боль поют их устами. Тихо… безнадежно… И тогда на этом фоне, как удар грома, звучит фраза:
— Братцы… там… на косогоре Актер… удавился!
Огромная пауза. И только после этого:
— Эх, дурак… Песню испортил…
Вот где сила Горького.
Какой потрясающий финал!
Но этого не было…
О кинокартине режиссера Кристиана-Жака «Кармен» (Франция)
В кино, как ни в одном из видов искусства, необходимо совершенство. Тончайшее и глубочайшее чувство меры. Потому что аппарат — это безжалостный и, увы, абсолютно объективный свидетель всего происходящего. В картине, виденной нами сегодня, очень много «нажима». Кармен не мешало бы поменьше «вихляться» и больше задумываться над своими поступками, жестами и поведением. Это чудесная актриса, играющая Кармен, но не Кармен! Она ни на секунду не задумывается над тем, что делает. А в жизни так не бывает. Даже преступник, убивающий своего врага, в какой-то момент задумывается, прежде чем его убить. Обреченность Кармен она не выявила, ее почти физическую жажду смерти, как расплаты за большие страсти, она не показала. Это, несомненно, «клиническая» Кармен. И притом весьма поверхностная. Ее охлаждение к Дон Хозе поверхностно и внутренне не оправдано. Неясно и непонятно, почему она его разлюбила. Разочарование в предмете своей любви — неубедительно. А заметно наклеенные ресницы делают ее «примадонной». Надо было играть тише, и глубже, и проще… Притом вся картина дурно пахнет мелодрамой и театром в самом обычном смысле этого слова. Человеческих чувств в ней нет. Хозе — тоже слишком красив и статуарен. Лучше всех, пожалуй, «кривой», и то относительно.
Надо было демократизировать картину — приблизить ее к простоте, к поту, к правде. Это им не удалось. Впрочем, они и не умеют этого делать. Больше загара, пыли, пота и грязи — и меньше «кабаре».
Таково мое мнение.
Мои дочери
У меня их двое. Одной семь, другой восемь лет. Одну зовут Биби, другую Настенька. Биби родилась в Шанхае, Настя — в Москве.
В это утро они сидели в пижамках на подоконниках, считая танки, проходившие по улице Горького, и, как всегда, ссорились.
— Ты китайка противная! — говорила Настя. — Ты родилась в Шанхае!
— Ну и что из этого? — спокойно возразила Биби. — Ну и родилась…
— А я — москвичка! Я родилась в Москве.
— Ну?
— Вот тебя на Красную площадь не пустят, а я могу пойти!
— Почему?
— Потому что я москвичка, а это праздник только для москвичей!
Я нахожу, что пора вмешаться.
— Это праздник для всех трудящихся, — говорю я.
— Для всех?
— Да, для всех!
Но Биби защищается по-своему.
— Никакая ты еще не москвичка, — говорит она.
— Почему?
— Потому. Если голубь родился в конюшне, значит, он лошадь? Москвичи — это те, которые живут 800 лет в Москве.
Настя потрясена. Она считает, сколько лет ей еще надо жить, чтобы считаться москвичкой.
Я снова вмешиваюсь и разъясняю вопрос. Разговор переходит на другую тему.
— Папа, — спрашивает Настя, — а детям можно ходить с демонстрацией?
— Можно.
— С мамами или одним?
— Лучше с мамами.
— Почему?
— Ну мало чего… вдруг им чего-нибудь захочется… по надобности…
— Можно взять с собой горшочек, — задумчиво говорит она.
Бибка не пропускает случая поднять на смех эту идею.
— Что же это получится? — презрительно говорит она. — Тысячу ребят — и все с горшками? Маленькие должны сидеть дома!
— А ты?
— Я другое дело. Я — пионерка! Мне даже милиционер честь отдает.
Настя вздыхает. Она только в первом классе, и в пионеры ее пока не берут.
— Когда я буду пионеркой, — говорит она, — я даже спать буду в красном галстуке! И прежде всего я… знаешь, что сделаю?
— Что?
— Отколочу тебя!
— Пионерам нельзя драться, — замечаю я.
— Тогда я отколочу ее раньше, за полчаса до этого.
Чтобы их примирить, я спрашиваю:
— Ты стишки выучила?
— Да.
— Какие?
— А шар ты нам купишь? — неожиданно заканчивает она.
— Куплю.
— А новые платья нам наденут?
— Да.
— И новые банты?
— Да.
Через полчаса мы выходим на улицу. Сколько радости, смеха, улыбок, знамена, флаги, цветы в руках у молодых девушек, музыка, песни…
И я вспоминаю 1 Мая в Париже: пустые улицы, дома с закрытыми ставнями, целые кварталы, оцепленные полицией. Хмурые лица рабочих, нездоровые лица детей. И серое парижское небо…
— Папа, сегодня у всех праздник? И у немцев и у французов? — спрашивает Настя.
— У всех, кто трудится и работает, — отвечаю я.
— А что делают те, которые не работают?
— Они делают все, чтобы испортить рабочим этот праздник.
Девочки на минуту задумываются.
Размышления
Нас не надо хвалить и не надо ругать. Я представляю себе нашу театральную жизнь как огромную табельную доску. Если вам понравилось что-либо в нас, подойдите и молча повесьте на гвоздик жетончик. Если нет — не делайте этого. Восхищаться, благодарить и облизывать нас не надо! Это портит нас и раздражает умнейших из нас. Мы святые и преступные, страшные в своем жестоком и непонятном познании того, что не дано другим. Нас не надо трогать руками, как не надо трогать ядовитых змей и богов!
Стихи должны быть интересные по содержанию, радостные по ощущению, умные и неожиданные в смысле оборотов речи, свежие в красках, и, кроме всего, они должны быть впору каждому, т. е. каждый, примерив их на себя, должен быть уверен, что они написаны о нем и про него.
Жить! Жить очень трудно!
Пока ты молод, ты не замечаешь этой трудности. Твое внимание отвлекают тысячи мелочей, тебя очаровывают всевозможные земные развлечения и «недосягаемости», тебя манят к себе планы и мечты, «победы» — такие трудные и такие ненужные — отвлекают твое внимание от главного — от того, что ты ЖИВЕШЬ! То есть ты тратишь положенное тебе весьма ограниченное время на эти второстепенные вещи. Сколько времени мы тратим на так называемую любовь, на борьбу за свое существование, на желание достигнуть каких-то успехов, чем-то выдвинуться, обратить на себя внимание и прочее! Тут нам не до «итогов», тут мы широко и безоглядно тратим себя, свои лучшие силы, свое Божие дарование, расточаем себя, как моты и кутилы. Незаметно в этих вечных хлопотах, исканиях, победах и поражениях проходит главный кусок времени. Проходит жизнь! И когда все это проходит, и тебе уже за 60 лет, и ты чего-то добился, а чего-то не добился; и когда уже нет сил и ты поздно спохватился, подсчитав свои ресурсы… а ты еще живешь, но уже промотался и в кармане у тебя «последние гроши»… а жить еще надо, и главное — неизвестно, сколько лет надо еще жить, — то тут встает во всей своей простоте и неумолимости вопрос: а чем жить? Ведь почти все растрачено, израсходовано… И сколько жить?
Тишина. Молчание. Никто не знает сколько. Вот тут начинаешь понимать, что ты — банкрот! Что надо жить, а жить нечем! Все уже истрачено. Самое трудное — это жить!
Просто жить!
Так, все хорошо. И номер приличен, и кровать ничего. И коньячку выпьешь, и книжка интересная под рукой… Только холодно… Мерзнут ноги, мерзнет душа — подмерзает «искусство», которого я являюсь «сеятелем».
«Сейте разумное, доброе, вечное» (Некрасов).
Нетопленые театры с полузамерзшими зрителями напоминают музей восковых фигур, которые мне поручено растопить «глаголом» своего «полупризнанного» искусства и превратить в людей. При напряженном труде (выше темпы!), при сверхдозволенной медициной затрате сил я получаю сомнительное удовольствие от удовольствия зрителей или слушателей, которые мимоходом послушали какой-то наивный бред о «красивых чувствах» и разошлись, под шумок покачивая головами и добродушно улыбаясь — есть же, мол, еще такие чудаки! — чтобы приступить опять к своим примусам, авоськам и разговорам, завистливым, злобным и мелочным. А я… получаю взамен холод номера и холод одиночества.
Таким образом мне платят «продуктами из рефрижератора» — свежезамороженной и потому безвкусной дрянью.
Океан равнодушия захлестывает меня. Чем больше живет человек, тем яснее становится ему, в какую ловушку он попал, имея неосторожность родиться!
говорит поэт Георгий Иванов.
И, увы, это так. Мы живем трудно, неустанно боремся за каждое препятствие, напрягаем все силы для преодоления сволочных мелочей, учимся, постигаем, добиваемся побед…
1
Не полный вариант. — Тут комментарий верстальщика fb2